Аркадий Кудря
Валентин Серов
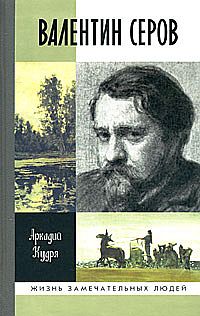
Талант знаменитого отца, композитора и музыкального критика, по-своему отразился и в творчестве сына – Валентина Серова. Неслучайно чуткие критики находили в его полотнах нечто созвучное музыке. Так, Александр Бенуа, производя генеральный смотр молодым силам и надеждам русского художества, писал: «Впечатление от серовских картин чисто живописного и, пожалуй, музыкального свойства – недаром он сын двух даровитых музыкантов и сам чутко понимает музыку».
Сыну-художнику был дорог образ отца, Александра Николаевича Серова, сумевшего, несмотря на множество жизненных преград, осуществить свою мечту – стать музыкантом и композитором, создать оперы и романсы, принесшие ему всероссийскую славу, выразить в ярких полемических статьях собственное понимание путей развития отечественной и мировой музыки.
«Муза, – писал А. Н. Серов, – инкогнито бродит по земному шару и подбирает себе любимцев в тех редких существах, которые в изящном видят абсолютную цель человеческого бытия». Комментируя эти строки, друг юности Александра Николаевича Владимир Стасов добавлял: «Одним из таких редких людей был Серов. Вся жизнь его была служением искусству, и ему он принес в жертву все остальное, что других манит и радует».
И потому закономерно, что славную галерею портретов подвижников русской культуры Валентин Серов начал с портрета отца.
Атмосфера родительского дома, в которой Валентин рос, не могла не влиять на развитие его как творческой личности. Вот что писал об этом близко знавший его семью Илья Ефимович Репин: «Исключительной, огромной просвещенностью в деле искусства обладал весь тот круг, где Серову посчастливилось с детства вращаться. И то значение, которое имел для искусства его отец, и та среда, где жила его мать, – все способствовало выработке в нем безупречного вкуса. Серов отец дружил с Рихардом Вагнером и еще с правоведческой скамьи, вместе с тогдашним закадычным своим другом Владимиром Стасовым, знал весь наш музыкальный мир – Глинку и других. Словом, не бестактность сказать хоть вкратце, какая традиция высот искусства окружала В. А. Серова уже с колыбели; и все это бессознательно и глубоко сидело в его мозгу и светилось оттуда вещею мыслью».
Высококультурная среда, чрезвычайно благоприятная для развития разнообразных талантов, в роду Серовых формировалась постепенно, и решительный толчок в этом направлении был дан дедом будущего художника, который происходил из московских купцов, Николаем Ивановичем Серовым. «И по уму, и по образованию, – вспоминал о нем В. В. Стасов, – он был одним из самых замечательных, выходящих из ряду вон людей, каких мне только случалось встречать на своем веку».
Упорство и блестящие способности позволили Николаю Ивановичу Серову добиться положения видного чиновника Министерства финансов. Продвижению на более высокие этажи карьеры помешали и его характер, отмеченный вспыльчивостью, и «вольтерьянские» взгляды.
Чиновник-финансист питал любовь к музыке и на этой почве сдружился с дирижером петербургского хора и учителем пения в хоре придворной певческой капеллы Петром Ивановичем Турчаниновым. Протоиерей Турчанинов, о коем говорили, что он «учился музыке у Господа Бога», не только пел, но и сочинял музыку и, по мнению знатоков, входил, наряду с Бортнянским и Львовым, в число самых выдающихся духовных композиторов России.
В долгие зимние вечера в петербургском доме Серовых на Лиговке нередко собирался блестящий струнный квартет с участием первых скрипок оркестра столичной оперы Семенова и Лабазина. В. В. Стасов предполагал, что инициатором таких музыкальных вечеров в доме Серовых был «великий приятель Николая Ивановича» протоиерей, который любил петь, аккомпанируя себе на фортепиано. Маленькие Александр и его сестра Софья, чутко воспринимавшие музыку, опрометью бежали к матери, чтобы сообщить: «Бог тата-та!» – в детском сознании служитель церкви Турчанинов был равнозначен Богу.
Их мать, Анна Карловна, в противовес крутому нравом мужу, была женщиной доброй и кроткой, нежно любила детей и пыталась, как могла, защитить их от вспыльчивости мужа. Дети платили ей нежной привязанностью.
Отец Анны Карловны, Карл Людвиг (позднее – Карл Иванович) Таблиц, происходил из семьи немецких евреев, переселившихся в середине XVIII века из Пруссии в Россию. Карл Людвиг, талантливый естествоиспытатель, принимал участие в нескольких научных экспедициях – в Южной России, в Персии, в районе Каспийского моря. С 1783 года помогал светлейшему князю Потемкину обустраивать Крым, что нашло отражение и в его научных трудах – «Физическое описание Таврической области», «Географические известия о Тавриде», переведенных на несколько иностранных языков. Восемь лет, с 1788 по 1796 год, Карл Таблиц служил вице-губернатором Таврического наместничества, а позднее, в начале 1800-х годов, был назначен директором государственных лесов в лесном департаменте Министерства финансов. Заслуги его перед Россией были отмечены званием почетного члена Петербургской академии наук, чином тайного советника, должностью сенатора.
И если любовь к музыке Александру Серову, как и его сестре Софье, привил отец, то другая страсть мальчика – к книгам по естественной истории, особенно к сочинениям Бюффона, передалась, вероятно, от естествоиспытателядеда.
Благодаря частным урокам с талантливой пианисткой Александр Серов в восемь-девять лет уже свободно читал ноты с листа. Но отец отнюдь не стремился воспитать из него профессионального музыканта. Николай Иванович хотел, чтобы сын пошел по его стопам и сделал государственную карьеру.
В пятнадцать лет, успев поучиться в гимназии, Серов по велению отца поступает в весьма престижное Училище правоведения, только что открывшееся под эгидой принца Ольденбургского. В стенах училища интерес к музыке всячески поощрялся, и здесь состоялась встреча двух музыкально одаренных юношей, определившая их дружбу на долгие годы. Александру Серову было тогда шестнадцать лет, Владимиру Стасову – двенадцать. Сближению способствовало и то, что знакомы друг с другом были и их отцы; они входили в комиссию по постройке Смольного собора: архитектор Василий Петрович Стасов проектировал собор, а отец Серова представлял в комиссии Министерство финансов.
Вспоминая впоследствии друга юности, Стасов писал: «С Серовым можно было прожить сто лет и никогда не соскучиться. Я был в великом восторге от всей вообще даровитости и многоспособности его. Быть с ним – это было для меня постоянно истинным наслаждением».
По окончании училища двадцатилетний Александр Серов зачисляется в канцелярию 5-го уголовного департамента Сената в чине IX класса (титулярный советник). Отец его, Николай Иванович, вполне доволен сыном: конечно, чиновничья служба непроста, но при упорном труде в конце концов приносит неплохие дивиденды.
Между тем сам Александр Серов думает только о музыке. В Сенат и обратно он ходит пешком и по пути проигрывает возникающие в голове мелодии.
Его первые опыты музыкальной композиции заслуживают одобрение принца П. Г. Ольденбургского, который покровительствует одаренному юноше.
Стасов и Серов, такие разные и внешне и по характерам, еще больше сближаются. Обмен мыслями и впечатлениями от всего прочитанного, увиденного и услышанного не прекращается между друзьями почти ни на один день – в эпистолярной форме. Оба не пропускают ни одного концерта заезжих знаменитостей, и много лет спустя Стасов вспоминал, как в 1842 году они с замиранием сердца слушали выступление приехавшего в Петербург Листа и, покоренные, очарованные искусством великого пианиста и композитора, долго бродили, не чувствуя усталости, по улицам, пока не решились пойти к Листу и лично выразить ему свои восторги.
В начале 1842 года состоялась судьбоносная встреча Серова с М. И. Глинкой, о чем Александр сообщает в письме Стасову: «О, я в него верую, как в Божество!» Факт их знакомства и дарование юного музыканта отметил в своих «Записках» и Глинка. Серов после смерти великого композитора написал «Воспоминания о Глинке», проникнутые чувством восхищения его музыкальным гением.
Во второй половине 1840-х годов перипетии чиновничьей службы заносят А. Н. Серова в Крым: он назначается товарищем (заместителем) председателя симферопольского уголовного суда. Лет 60 назад в том же симферопольском уголовном суде служил советником и дед А. Н. Серова Карл Иванович Габлиц.
Приехавший из Петербурга чиновник, блестяще играющий на фортепиано, вскоре становится душою местного светского общества. Его друг Константин Званцев писал: «Натура Серова светлая, счастливая!.. Кто лично знал Серова, тот может себе представить, какое беспокойство и возня происходили везде, куда он ни являлся: шум, хохот, пение, бренчание на фортепиано не умолкали». Среди поклонниц Александра Серова – красавица греческого происхождения Мария Павловна Анастасьева (в девичестве Мавромихали). Молодой правовед и композитор увлечен ею. Весной 1846 года Серов сообщает в письме Стасову, что познакомился с женщиной, «стоящей всей его искренности, красивой и пламенной», из того известного в Крыму семейства Мавромихали, которому принадлежит теперь бывшее имение его деда Чоргун. Она, пишет Серов, старше его (ей – «с небольшим за тридцать лет») и в разводе с мужем, служащим где-то в Севастополе.
Красота М. П. Мавромихали и двух ее сестер оставила след в истории русского искусства: именно они позировали Карлу Брюллову для картины на сюжет поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
В Крыму А. Н. Серов знакомится со знаменитым живописцем Айвазовским, посещает его мастерскую в Феодосии. В Симферополе присутствует на званом обеде в честь приезда в город актера М. С. Щепкина. На торжестве был и блестящий критик В. Г. Белинский.
Но служба, признается он в письме Стасову, угнетает его: «Кончится ли эта пытка хождения каждый день на службу, чтоб терять невозвратно лучшие часы в дне?.. Вот теперь едут к нам ревизоры, пожалуй, вздумают и мне дать нахлобучку, что я мало карабкаюсь в этой грязи». На досуге начинающий композитор пишет романсы на слова И. Тургенева и пробует сочинять оперу.
В отсутствие друга Вольдемар не забывает заходить в знакомый ему дом на Лиговке. «Меня чрезвычайно порадовало, – пишет Александр любимой сестре Софье, – что Вольдемар опять с вами: я знаю, что это необходимо и для него, и для вас, и знаю, что он сделался как будто членом нашего семейства».
Сестра Софья талантами не уступала брату, прекрасно играла на фортепиано и пела, и не Стасов ли назвал ее «второй Жорж Санд»? Вероятно, Серову было известно, что близкий друг его неравнодушен к сестре Софье. Но предложения руки и сердца от Вольдемара так и не последовало; Софья замуж вышла за другого – за подпоручика лесного департамента, француза по происхождению, Пьера Дютура. Их свадьба состоялась в конце апреля 1848 года. Находившийся в то время в Симферополе Серов глубоко сожалел, что ему не довелось лично поздравить молодоженов.
К тому времени Александр Николаевич твердо решил перебираться обратно в Петербург, тем более что туда же собиралась переезжать и М. П. Анастасьева со своими двумя уже подросшими сыновьями. Но сразу порвать с порядком опостылевшей службой не удалось: из Симферополя его перевели в Псков, где еще около года Серов прослужил в уголовной палате.
И как он завидует в это время сестре Софье, навещающей в сопровождении Стасова вернувшегося из Варшавы Глинку! Из писем он узнает, что сестра разучивает новые романсы Глинки и заслуживает полного одобрения маэстро. Стасов же позднее подтверждал, что Глинка восхищался талантом Софьи Дютур, присущими ее вокальному исполнению драматизмом и страстностью выражения чувств.
Вернувшись в отчий дом из Пскова в 1850 году, Серов заявляет отцу, что служить более не намерен и хочет посвятить себя музыке. Следует тяжелое для обоих объяснение. Николай Иванович взбешен своеволием сына и в гневе объявляет ему: раз так, то дорога в этот дом ему отныне закрыта и он лишает сына всякой материальной поддержки.
Но Александр Николаевич не меняет своего решения: он уже достаточно искушен в мировой музыкальной литературе, чему способствует и знание с детства нескольких иностранных языков. Мысли в голове есть, и худо-бедно он сможет прокормить себя писанием музыкально-критических статей в периодические издания. Со статей и рецензий, опубликованных Серовым в 1851 году в журналах «Современник» и «Библиотека для чтения», началась приобретавшая все больший размах его деятельность в области русского музыкального просветительства. Он пишет статьи об «Иване Сусанине» («Жизнь за царя»), «Русалке» Даргомыжского, о Моцарте, Бетховене, Листе…
В 50-е годы отношения с другом юности В. В. Стасовым становятся постепенно все прохладнее, и причина тому – скептическое отношение «Вольдемара» к опытам Серова в области музыкальной композиции. А на рубеже 50—60-х годов это охлаждение завершается окончательным разрывом отношений, и поводом к тому стали уже не столько разногласия в оценке тех или иных явлений в музыке, сколько дела сугубо интимные. С некоторым запозданием А. Н. Серов узнал, что Надежда, вторая дочь его сестры Софьи, рождена не от ее законного мужа Петра (Пьера) Федоровича Дютура, дослужившегося в Екатеринбурге, где жили супруги, до звания штабс-капитана корпуса лесничих, а от Владимира Стасова. Серов не одобряет тайную связь друга с Софьей и расценивает поступок Вольдемара как личное оскорбление. Он пишет Стасову очень резкое письмо. Так былая горячая дружба перешла в ожесточенную вражду. И с тех пор два ведущих музыкальных критика России не уставали пускать друг в друга ядовитые стрелы.
Еще в начале 50-х годов, когда переписка со Стасовым сохраняла прежнюю интенсивность, Серов признавался, что находится под сильнейшим впечатлением музыковедческих работ Рихарда Вагнера. Непосредственное знакомство с оперным творчеством Вагнера и с самим композитором произошло в 1859 году во время заграничной поездки Серова. Тогда его русский почитатель услышал несколько опер немецкого композитора, в том числе «Лоэнгрина», и высказал восторженные слова автору. Вагнер, убедившись, что имеет дело с тонким знатоком музыки, сыграл и спел Серову целый акт своего нового творения – «Тристана и Изольды». Рассказывая русским читателям об операх покорившего его немца, Серов назвал его «музыкальным Шекспиром».
В это время Серов пишет сестре Софье: «Вагнер не знает, какого он себе приобрел приверженца в России. А приверженность эта ни для меня, ни для Вагнера, ни для России бесполезною не останется».
Серов усиленно пропагандирует творчество Вагнера в своих статьях, лекциях, беседах с музыкальными деятелями. Он убеждает их поставить на русской сцене одну из опер композитора, а самого Вагнера пригласить с концертами в Россию. Вероятно, личное знакомство с Вагнером дало мощный толчок и собственному оперному творчеству Серова. В начале 60-х годов он завершает работу над оперой «Юдифь» на библейский сюжет и проигрывает ее своему новому другу, литературному критику Аполлону Григорьеву. О произведенном на Григорьева впечатлении сообщает Марии Павловне Анастасьевой: «Я его пронял с первой же сцены до слез, и он после в обществе литераторов (у Достоевских) говорил так: „Герцен врет, что искусство в наше время умерло. Хороша смерть искусства, когда пишутся такие вещи, как драмы Островского и 'Юдифь'“».
Между тем настойчивые хлопоты Серова относительно приглашения Вагнера в Россию увенчались успехом. Весной 1863 года Вагнер приезжает в Петербург по приглашению местного Филармонического общества. Серия концертов, которые Вагнер, дирижер и исполнитель собственных сочинений, дал в Петербурге и Москве, не только обеспечила ему успех в России, но и позволила значительно поправить материальное положение. Немалую роль в пропаганде творчества Вагнера сыграл в это время и Серов, откликаясь в печати на каждое выступление немецкого музыканта и композитора. Впоследствии в мемуарах «Моя жизнь» Вагнер писал о пребывании в России: «Моим частым гостем был Александр Серов, с которым я познакомился еще в Люцерне. Он посетил меня, как только я приехал в Петербург… (Он) заслужил мое уважение большой независимостью своего образа мыслей и своей правдивостью, которые в связи с выдающимся умом доставили ему, как я скоро узнал, положение одного из наиболее влиятельных и внушавших страх критиков».
Вагнер оценил незаменимую помощь Серова в организации концертов в России. В своих мемуарах немецкий композитор писал: «Он хлопотал о переводе на русский язык… отрывков моих опер, а также моих объяснительных программ. Он оказал мне чрезвычайно полезное содействие при выборе подходящих певцов… Между мною и Серовым существовало полное согласие. Меня самого, все мои стремления он понимал с такой ясностью, что нам оставалось беседовать только в шутливом тоне, так как в серьезных вопросах мы были с ним одного мнения».
16 мая 1863 года состоялась премьера «Юдифи» на сцене Мариинского театра. Воспользовавшись предстоящим событием, Серов сделал попытку помириться со Стасовым и послал ему приглашение на генеральную репетицию. Но тот приглашение проигнорировал. Хотя на премьеру все же пришел. И то, что он наблюдал в театре, повергло его в шок. Успех оперы был полный и впечатляющий. Стасов же воспринял этот успех как оглушительную пощечину себе лично. На следующий день в подробном письме находившемуся на Кавказе М. А. Балакиреву он делится впечатлениями от увиденного и услышанного: «Вы не можете иметь понятия о том, что вчера было. Все без памяти, все в восхищении, какого не запомнят, все твердят, что у нас ничего подобного никогда еще не бывало… что после Глинки Серов первый… Мне кажется, если б кто-нибудь сморкнулся или кашлянул, его бы без всякой жалости тут повесили».
Далее в письме следует взрыв упреков и обвинений в тупости петербургской публики, которую Серов, по словам Стасова, своей оперой принудил «путаться в дремучем лесу». Письмо завершается воплем отчаяния: «Милый, я просто погибаю, я задыхаюсь. Куда пойти, с кем говорить?»
Несомненный успех «Юдифи» вызвал у одной из юных поклонниц Серова, которая, кстати, следила за всеми выступлениями этого яркого полемиста в печати, желание познакомиться с ним. Это была Валентина Бергман, студентка Петербургской консерватории, недавно изгнанная из музыкального пансиона за «свободомыслие». Происходила она из весьма скромной еврейской семьи: ее отец держал в Москве небольшой магазинчик аптекарских товаров. В консерваторию девушка, обладавшая ярко выраженными способностями, попала по стипендии недавно образованного Русского музыкального общества.
Молодой музыкант Славинский, «вхожий к Серову» и знакомый Валентины Бергман, согласился представить ее композитору. Вскоре на квартире Серова состоялась в присутствии Славинского встреча юной студентки со своим кумиром, и впоследствии она подробно описала знаменательный для нее день в воспоминаниях. Завязать беседу поначалу не очень удавалось, и тогда маэстро предложил девушке сыграть ее любимое произведение. Она сыграла фугу Баха и услышала неожиданное замечание: «Так молода и уже так много пережила!» Потом, по предложению Серова, они сыграли баховскую четырехручную фугу, уже вдвоем, на органе. После чего догадливый Славинский, посчитав свою миссию выполненной, откланялся.
Совместная игра тут же перешла в разговор о музыке. Польщенный восхищенным вниманием девушки, Серов заговорил о девятой симфонии Бетховена, о «Тассо» Листа и был весьма красноречив. За увлекательной беседой время бежало незаметно, уже наступил вечер. В ответ на вопрос юной поклонницы, что подтолкнуло его к созданию оперы, Серов, остановившись у окна, из которого была видна консерватория, сказал (и в его словах за шуткой чувствовалась серьезная обида):
– Меня очень обозлила вот эта синагога. – К этому моменту беседы Валентина уже знала, что Серов называл консерваторию «синагогой» не только из-за национального состава преподавателей, но из-за несогласия с принципами обучения. – Ни одного русского не пригласили, хотя знают, что русские не хуже образованы. Я же попал туда, потому что только критики пишу. Ну, теперь я показал им, что и оперы писать умею.
Критические слова по поводу консерватории имели неожиданный эффект, который заставил музыканта более пристально всмотреться в увлеченную им девушку. При новой встрече она заявила ему, что бросила консерваторию и возвращаться туда не намерена. Серов улыбнулся и воскликнул: «Вот мы какие прыткие! Люблю я такие решительные натуры». Однако после некоторого раздумья Александр Николаевич объяснил девушке, что это ее решение налагает на него некоторые обязанности по ее музыкальному образованию: не он ли сам дал к этому толчок?
Во время занятий с девушкой квартира Серова была закрыта для посторонних. Исключение делалось лишь для близкого друга Аполлона Григорьева, и тот, как-то застав у друга молодую девицу, спросил у него в коридоре:
– Это кто такая будет?
– Ученица моя, – ответил Серов.
Но Аполлона объяснение не вполне удовлетворило. Он наставительно погрозил кулаком и шутливо пригрозил:
– Ученица?! Какая такая ученица?! Ты у меня, Сашка, смотри!
Слишком хорошо знал Григорьев увлекающийся, склонный к романтическим авантюрам характер своего приятеля. Хотел, видимо, предостеречь его от необдуманных действий. Слишком дорог ему был Александр, недаром в одном из писем другому лучшему другу, Н. Н. Страхову, Аполлон Григорьев признавался, что во всем Петербурге он, Страхов, да еще Серов – две единственные души, наиболее ему близкие, «в одно со мной верующие».
Вести о том, что дочь бросила консерваторию и занимается ныне у музыканта и композитора Серова, дошли до родителей Валентины. Отец в письме ей выразил опасения, что сей Серов, совративший ее с пути истинного, вероятно, политический интриган и хочет впутать ее в свои дела. Видимо, отец хорошо знал собственную дочь, если был уверен, что «совратить» ее можно прежде всего политической проповедью. Серова же такие предположения чрезвычайно позабавили.
– Я политический интриган! – с наигранной веселостью воскликнул он. – Чудесно! Я вожак революционеров на баррикадах, а вы мой оруженосец!
Мысли о том, что он поставил себя и доверившуюся ему девушку в двусмысленное положение, подвигли композитора к более решительным действиям. Серов предложил девушке стать его женой. Но Валентина предложение решительно отвергла, заявив, что общество не простит ей этого мезальянса и женой она будет отвратительной. Тому виной ее воспитание: оно шло как-то не по-женски. В результате она ненавидит всё, напоминающее семейную обстановку. «Нет, – заключила Валентина, – вы будете со мной несчастны!»
На некоторое время разговоры о будущем отложены. Пусть та, решил Серов, кого бы он хотел назвать своей женой, больше узнает о нем. И он рассказывает ей о семье, в которой вырос, о братьях и сестрах, о том, как много связывало его с любимой сестрой Софьей, о былой дружбе со Стасовым, не касаясь причин их разрыва. Наконец – о службе в Крыму, о юношеской любви к красавице гречанке Марии Павловне («Я ей обязан весьма многим») и о реакции отца, когда сын заявил о своем намерении посвятить жизнь музыке: «Умрешь в кабаке на рогожке!»
Его искренность принесла желанный результат – Валентина согласилась на предложение Серова. Вскоре он представил свою невесту матери. Анне Карловне (отца в живых уже не было) избранница сына приглянулась, и, заключая теплый разговор, она сказала гостье, что надеется стать для нее «доброй свекровью».
Обговорили и поездку в Москву, и представление жениха родителям Валентины. Но с венчанием вышла заминка. Священник на просьбу совершить церемонию как можно скорее изумленно спросил: «Вы православные?» Услышав от жениха подтверждение (невеста ответила, что она «реформатка»), напомнил, что в Рождественский пост у православных бракосочетания воспрещаются. Венчание состоялось, но уже по возвращении в Петербург, в церкви Вознесения.
Вероятно, первое появление четы Серовых «в свете» состоялось на Рождество 1863 года на благотворительном литературно-музыкальном вечере, устроенном писателем Слепцовым в организованной им коммуне. Помимо писателей (Василий Курочкин, Иван Горбунов) и актеров были приглашены и супруги Серовы, и они исполнили в четыре руки переложение для фортепиано оркестровой увертюры французского композитора Анри Литольфа «Робеспьер», в которой использовались мотивы французских революционных песен. Стоит заметить, что позже, в 70-е годы, исполнение увертюры Литольфа было запрещено приказом петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова.
Юная супруга оказалась убежденной нигилисткой. Известный революционный публицист Дмитрий Писарев был ее кумиром. Позднее, немного повзрослев, от нигилизма она перешла к народничеству. «Яд 60-х годов, – писала Валентина в своих воспоминаниях, – сидел глубоко во мне, несмотря на мою молодость и артистическую натуру». Она сознательно отвергала роскошный, по ее понятиям, образ жизни. Так однажды Серов решил угостить жену устрицами с рейнвейном в небольшом кафе, но Валентина к угощению не притронулась, объяснив, что не может позволить себе лакомиться такими дорогими деликатесами, когда многие простые люди недоедают.
Совместная жизнь выявила и другие несовпадения их мнений и интересов. Например, среда, в которой привык вращаться Серов, вызывала неприязнь у молодой супруги. Ее мужа, талантливого музыканта и композитора, часто приглашали на разного рода вечера и торжественные обеды в высшем обществе, и он с удовольствием там бывал. Александр Николаевич и у себя нередко принимал литераторов, которые, по мнению его жены, являлись «заклятыми врагами всего молодого, передового общества». Бывало, она «выражала протест деспотически, резко, почти грубо»… Но вместе с тем она многому училась у многомудрого и темпераментного мужа. Как музыкант и яркий полемист Александр Николаевич ее восхищал и безусловно влиял на ее развитие.
В это время Серов начал работу над новой оперой, теперь уже на сюжет из русской истории, подсказанный поэтом Я. Полонским: в основе – древнеславянское предание о киевской княгине Рогнеде. За либретто взялся драматург и театральный критик Д. Аверкиев, сотрудник журнала братьев Достоевских «Эпоха». В том же журнале публиковал статьи и Аполлон Григорьев. При посредничестве Григорьева для «Эпохи» стал писать статьи на музыкально-образовательные темы и А. Н. Серов. И здесь проявились его незаурядный талант музыкального критика и общественный темперамент.
Весной 1864 года супруги Серовы отправились в заграничное путешествие. В Вене в весьма скромном гостиничном номере их навестил знаменитый Рихард Вагнер. В Баден-Бадене молодожены встретились с И. С. Тургеневым и Полиной Виардо. Александр Серов познакомил знаменитую певицу с необычным для европейской культуры сюжетом «Рогнеды», показал ей наброски будущей музыки и выслушал ее замечания.
В Карлсруэ чета навестила Ференца Листа. Александр Николаевич захватил с собой ноты «Юдифи». Однако Лист, проиграв несколько отрывков, откровенно заявил, что эта опера не кажется ему интересной. Мнение мэтра, казавшееся несправедливым, больно задело Серова. Впрочем, ненадолго. Слишком сильны были новые радостные впечатления от Европы, которую с удовольствием открывал для молодой супруги Серов. Деньги таяли на глазах, они вынуждены были жестко экономить и снимать убогие номера, вид которых шокировал навещавших их Вагнера и Тургенева. И вот наступил финансовый кризис. Пришлось срочно обратиться за помощью в Петербург, где Серов уже несколько лет служил без жалованья чиновником особых поручений, по существу, цензором иностранных журналов в Министерстве почт. После нескольких дней томительного ожидания на просьбу о помощи откликнулись, и деньги из министерства все же пришли. В поездке Валентина Семеновна, почувствовав недомогание, вынуждена была обратиться к врачу, и тот объявил, что молодая женщина беременна. Известие осчастливило будущего отца. Но осень была омрачена горестным событием: в сентябре скончался Аполлон Григорьев. В этот последний год жизни Григорьев обратил внимание Александра Николаевича на драму Островского «Не так живи, как хочется». Незадолго до смерти супруги Серовы навещали Григорьева в долговой тюрьме, и он горячо призывал друга: «Пиши, Сашка, народную оперу. У тебя хватит на это таланту. Народное, свое, более живуче, чем все иностранное». Этот совет друга Александр Николаевич воспринял особенно заинтересованно, так как и сам чувствовал, что нужно писать оперу на сюжет из русской истории, близкую и понятную народу.
А. Григорьев умер в нищете. В его похоронах приняли участие лишь близкие ему друзья и коллеги – Н. Страхов, А. Серов, Ф. Достоевский, Д. Аверкиев, Вс. Крестовский…
Омрачавшее заграничное путешествие безденежье преследовало семью Серовых до конца года. Между тем приближалось важнейшее для супругов событие – появление на свет малыша, а это предполагало дополнительные расходы.
И вот в конце ноября, после личной встречи с Достоевским, в журнале которого он сотрудничал, А. Н. Серов пишет ему письмо: «…Еще вчера хотел я Вам заявить, что крайне нуждаюсь в деньжонках – „Юдифи“ нет на репертуаре, а дома в настоящую минуту – два рубля и полученья ни откуда не предвидится недели на две. Не откажите мне в убедительной просьбе в счет заработка прислать мне хоть 50 рублей (нечем и за квартиру заплатить), заработаю я Вам это скоренько. Статью, начало которой вручил Вам вчера, окончу дня через два и тотчас доставлю Вам. Жду от Вас спасения в самой крутой невзгоде».
Серов, вероятно, не знал, что обратился к Достоевскому в тяжелейший для писателя момент, когда после смерти брата Михаила Федор Михайлович взял на себя все его немалые долги и обязательства по изданию «Эпохи» и потому тоже испытывал жесточайшие материальные проблемы. И все же Достоевский не мог не откликнуться на просьбу Серова.
Однако в конце декабря семейство Серовых вновь на мели, и к Достоевскому летит очередное письмо: «Препровождаю Вам кончик статьи, которая, полагаю, уже давно у Вас в типографии набирается и, вероятно, на днях выйдет в свет… Не знаю, как наши расчеты, думаю, что мы уже сквитались, – но во всяком случае опять докучаю Вам просьбицей. Сижу буквально без гроша и буду несказанно благодарен, если Вы мне сегодня пришлете хоть 25 р. – Простите за надоедливость. Что же мне делать?» Достоевский помог вновь.
Десять дней спустя, в ночь с 6 на 7 января 1865 года, квартиру Серовых огласил долгожданный крик младенца. Александр Николаевич не спал; стоя у конторки, за которой привык работать, занимался оркестровкой своей второй оперы «Рогнеда». Так кто же там, мальчик, девочка? Рука непроизвольно поставила на партитуре вопросительный знак.
Появившемуся на свет мальчику уже было выбрано имя Валентин, в честь матери. А если бы родилась дочь, назвали бы Александрой – в честь отца. Так порешили родители. Отец малыша приближался к своему 45-летию, а матери не было еще и восемнадцати лет.
И вновь, через пару дней после рождения сына, А. Н. Серов пишет письмо Достоевскому и просит прислать, «если возможно, сегодня 25 рублей». «…Опять крайне нуждаюсь. Расходов теперь больше прежнего. Я на „Эпоху“ работник буду постоянный – лишь бы находилось место для моих излияний, – очень обяжете».
В то время Серов не знал, как, вероятно, и сам Достоевский, что дни журнала «Эпоха» из-за тех же материальных проблем уже сочтены.
Итак, сын появился на свет в условиях хронической нехватки денег, и это был плохой знак для него.
Младенец развивался медленно, почти до двух лет не хотел говорить. А материальные дела семьи постепенно поправлялись. В конце октября в Мариинском театре состоялось первое представление «Рогнеды», и на нем, прервав долгое затворничество, вызванное напряженной работой, присутствует Достоевский. Позднее, в «Летописи моей музыкальной жизни», Н. Римский-Корсаков с торжеством подытожит: «„Рогнеда“ произвела фурор. Серов вырос на целую голову».
В течение первых трех месяцев опера выдержала около двадцати представлений, и это был ошеломляющий успех. Автор был удостоен личного одобрения императора Александра II. В письме, отправленном в январе 1866 года своей давней знакомой М. П. Анастасьевой, А. Н. Серов писал: «Великий князь Константин Николаевич и Великая княгиня Александра Иосифовна были в моей опере пять раз кряду почти. Государь император был два раза. В первый раз, 10-го декабря, придя на сцену, велел позвать к себе автора и говорил со мною очень любезно минут с десять. Во второй раз тоже приходил на сцену и, заметив меня в толпе артистов, изволил сказать мне несколько милостивых слов».
Помимо положенных процентов от сборов автор «Рогнеды» поощрен и своего рода премиальными лично от императора. И об этом A. Н. Серова извещает его начальник по службе министр почт и телеграфов И. М. Толстой, зачитав бумагу от министра двора: «Государь император во внимание к отличному таланту и замечательным музыкальным произведениям композитора, статского советника Александра Серова, Всемилостивейше повелеть соизволил производить ему в пенсион по тысяче рублей серебром в год из капитала его Величества».
Так что умиреть в кабаке на рогожке, как гневно предсказывал покойный отец, сыну, к счастью, не грозило.
Что же касается молодой мамы, то ей самой возиться с малышом было несколько обременительно, и она отдает сына в частный детский сад. Такое решение обеспечивало ей свободное время для общения с друзьями, тем более что круг ее знакомств в это время интенсивно расширяется. Среди них преобладают разного рода «нигилисты» и сторонники «хождения в народ». По собственному признанию Валентины Семеновны, она, не умея увлекаться наполовину, примкнула сначала к «салонному» нигилизму, а затем с энтузиазмом увлеченности перешла и к «нигилистам-пролетариям» и близким к ним «труженицам науки», относившимся с враждой к нигилистам салонного пошиба.
Иногда очередная ее подруга на время исчезала, потом выяснялось, что девушка была под арестом, а когда, освободившись, она снова появлялась у Серовых, композитор в шутку говорил, что уже собирался сочинять траурный марш. Но шутками дело не ограничивалось, и он пытался серьезно объясниться с женой по поводу ее окружения. Он недоумевал: «Чего я не выношу в них, это чувства „недовольства“, которого я постичь не могу. Ну, чем недовольна молодежь? Неужели вы встретите какую-нибудь историческую эпоху без пятен, во всех отношениях идеальную? Есть исторические приливы и отливы – наше время бесспорно одна из самых блестящих эпох в России. Чем же вы недовольны, скажи мне по совести?»
Жена отвечала на его вопрос, объясняя причины недовольства властью молодежи. И А. Н. Серов вновь горячо опровергал ее: «Пустяки, вот допляшутся до реакции, тогда будут вздыхать о нашем времени… Недовольство молодежи меня раздражает. Вот еще одно явление, которого я не понимаю: что значит уйти в народ, служить народу?»
Однако, несмотря на огромную разницу в возрасте и жизненном опыте, а может, именно поэтому, переубедить жену он не смог. И вот уже Н. Н. Страхов в письме Ф. М. Достоевскому, отдыхавшему в Италии (ноябрь 1868 года), с досадой упоминает о нигилистических убеждениях жены А. Н. Серова, которые, по его мнению, вредят и мужу.
Мать никак не могла определиться с сокращенным именем сына. Звали его сначала «Валентошей», потом остановились на «Тоше».
А сынок все рос, начал наконец говорить, и родители уже могли иногда брать его в театр. Однажды, когда они вместе слушали «Рогнеду» и Серова стали вызывать после третьего действия, он предложил жене: «Пойдем вместе, ты влево, я направо». С родителями увязался и сын, но, когда отец вышел на сцену, на весь театр раздался жалобный голос мальчика: «Ой, боюсь, папу медведь съест!»
Серов, воодушевленный теплым приемом «Рогнеды» публикой, уже продумывает музыку на сюжет, подсказанный ему Аполлоном Григорьевым по пьесе Островского. И в то же время не перестает хлопотать о продвижении опер Вагнера на российскую сцену. И вот, во многом благодаря его усилиям, дирекция Петербургских императорских театров принимает в 1868 году решение о постановке в Мариинском театре «Лоэнгрина». По желанию Вагнера, Серов, как его личный представитель, должен осуществлять контроль за разучиванием оперы и ее сценическим воплощением. Премьера состоялась в октябре того же года, и, давая отчет Вагнеру через «Журнал Санкт-Петербурга», Серов писал: «Ваш успех в России, хоть он и пришел с опозданием, является событием высшей важности».
Летом следующего, 1869 года Серов с женой и сыном выезжает в зарубежную поездку. Основная ее цель – новая встреча с Рихардом Вагнером. В Мюнхене супруги посещают Всемирную художественную выставку, развернутую в «Хрустальном дворце», и здесь А. Н. Серов, заметив, что в соседних залах бродят братья Владимир и Дмитрий Стасовы, общение с которыми давно прекращено, старательно избегает встречи с ними. Выставка – это попутно. Основное же – местный оперный театр, где под руководством дирижера Ганса фон Бюлова дают представление новой оперы Вагнера «Тристан и Изольда» и «Мейстерзингеров». «Тристан» потрясает Серова до слез.
А затем – Люцерн, где на берегу живописного озера в роскошной вилле, арендованной для Вагнера молодым баварским королем Людвигом II, проживает со своей семьей создатель нового оперного представления. И сам этот домзамок, окруженный тополями, и его интерьер – стены внутри декорированы фиолетовым бархатом, вдоль узкой галереи установлены небольшие статуи героев опер Вагнера и здесь же гобелены с изображением сцен из «Кольца нибелунга» – все говорит о том, как много готов сделать для Вагнера его поклонник и высокий покровитель, король Людвиг. Обед для гостей из России сервирован в зале, украшенном по стенам портретами Бетховена, Гёте и Шиллера. Что ж, восхищенно думают русские паломники, в этом доме сразу проникаешься мистическим духом немецких мифов.
Пока взрослые ведут умные разговоры, Серов-младший, четырехлетний Тоша, препровожден горничной в сад – поиграть в компании сверстниц, дочерей Вагнеров Изольды и Евы. Там же кормилица выгуливает и их сына – еще грудного малыша Зигфрида. Русская пара уже знает, что в Мюнхене многие осуждают Вагнера за «похищение» жены его друга Ганса фон Бюлова Козимы, дочери Ференца Листа. Сам же Вагнер, отпивая из бокала небольшим глотком выдержанный рейнвейн, рассказывает во время застолья, как его тяготит неопределенность семейного положения и как ждет он развода Козимы, чтобы оформить их брак честь по чести. Серову же советует перебираться на жительство в Европу, где, на взгляд Вагнера, условия для творчества более подходящие.
После обеда Серовы находят сына в парке в окружении девочек, лихо катающегося на спине огромного ньюфаундленда по кличке Рус.
Прощаются затемно, так что слуге Вагнера Иоганну приходится с фонарем в руках освещать гостям дорогу, когда они спускаются с холма вниз, к озеру, где их ждет лодка.
«О, русские – энергичный народ!» – Неутомимость гостей из России невольно вызывает восхищение у маэстро.
Серовы специально нашли жилье недалеко от виллы Трибшен, чтобы чаще встречаться с Вагнером. Во время очередных визитов немецкий композитор делится замыслами новых опер, иногда проигрывает отрывки, напевая хрипловатым голосом только что сочиненные арии.
Эти дни, насыщенные тонкими беседами о тайнах творчества и музыки, были слегка омрачены для Серова обострившимися приступами стеснения в груди и болей в сердце.
В то лето Вагнер делил свое внимание к русским гостям с поклонницей из Франции – Юдит Готье, дочерью известного французского поэта. А на тропинках вблизи озера, где на холме стояла вилла Трибшен, Серовы вполне могли повстречать другого горячего поклонника музыки Вагнера – 24-летнего немецкого профессора филологии, начавшего свой курс в Базельском университете, Фридриха Ницше. Двадцать лет спустя, в своем последнем произведении «Ecce Homo», Ницше напишет об общении с Рихардом Вагнером в Трибшене: «Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей – глубоких мгновений… Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, – на нашем небе никогда не было облаков».
Подобные же чувства, надо полагать, вызывали встречи с Вагнером и у Александра Серова.
После возвращения из-за границы случилось приятное для A. Н. Серова событие: его избрали председателем комитета Русского музыкального общества. Серов с удвоенной энергией берется за продолжение работы над оперой «Вражья сила» на сюжет пьесы Островского «Не так живи, как хочется». Для написания либретто композитор установил контакт с автором пьесы, но сотрудничество с Островским не вполне заладилось, и завершать текст либретто пришлось уже без помощи драматурга.
Выразителен словесный портрет А. Н. Серова в пору создания им «Вражьей силы», принадлежащий молодому Репину: «Серов остановился, заинтересованный ребенком на углу, и так нежно склонился и участливо старался быть ему полезным. Во всем – как распахнулась меховая шуба, в повороте шеи, в руке, положенной мягко на плечико ребенка, – был виден артист высшего порядка, с внешностью гения, вроде Листа, Гёте, Вагнера или Бетховена».
Вскоре Репину представился случай побывать на одном из «четвергов» в квартире Серовых на Пятнадцатой линии Васильевского острова. Познакомить художника с композитором и его супругой взялся друг Репина скульптор Марк Антокольский, вхожий в этот дом.
И вот они явились и видят, что просторная квартира Серовых уже заполнена гостями и сам Александр Николаевич окружен известными артистами, певцами, сановниками. И. Е. Репина, представленного Антокольским, он приветствует радушно: «Если он ваш друг, то и наш друг».
Пора знакомиться и с дамами и прежде всего – с хозяйкой дома. В дамском обществе Антокольский указывает Репину на дочь знаменитой певицы Полины Виардо Элизу Эритт-Виардо, тоже певицу, и на модно одетую княжну Друцкую, приятельницу хозяйки дома, «нигилистку», жертвующую, по слухам, немалые деньги «на дело».
В отличие от приветливого хозяина дома его супруга, имевшая, как зорко подметил Репин, «много дерзости и насмешки во взгляде и манерах», в сторону нового гостя, когда Антокольский знакомил их, едва кивнула.
Осмотревшись, Репин обратил внимание, что, помимо «нигилисток», в круг которых входила и певица Эритт-Виардо, компанию Серовой составляло «лохматое студенчество», и эти молодые люди, одетые в косоворотки и сапоги, держали себя весьма развязно.
Да, поистине любопытное собрание очень разных людей представлял из себя этот дом, где бывали И. С. Тургенев, художник Николай Ге, Н. А. Островский, размышлял Репин.
После приезда директора императорских театров С. А. Гедеонова А. Н. Серов присел к роялю и начал наигрывать отрывки из «Вражьей силы», выразительно выкрикивая речитативы действующих лиц. И тут Репина неприятно покоробило, что в соседней, изрядно прокуренной, комнате, где вместе с хозяйкой дома собрались ее друзья, студенты и «нигилистки», шум и споры не прекращались. Наконец это заметил и композитор и, перестав играть, призвал эту компанию к порядку.
В тот вечер Серов рассказывал гостям о недавней поездке от Русского музыкального общества в Вену на торжества по случаю столетия со дня рождения Бетховена. Его рассказ был радужным и безоблачным: гостям не обязательно было знать о том, что поездка в Вену обострила его болезнь, боли в области сердца усилились.
Примерно через месяц после памятного вечера Репин пришел в гости к М. М. Антокольскому послушать новые стихотворения поэта Аполлона Майкова, помогавшего Серову писать либретто оперы «Юдифь». Среди слушателей собрались также историк искусства Мстислав Прахов и историк литературы профессор П. А. Висковатов. Ждали прихода В. С. Серовой с ее приятельницей Друцкой, но они задерживались, и решено было начинать без них. В разгар чтения раздался звонок. Хозяин дома пошел встретить дам, вернулся один и скорбно сообщил, что Александр Николаевич Серов скончался.
В тот траурный день, помимо гостей М. М. Антокольского, почтить память умершего композитора пришли, как упоминает биограф А. Н. Серова музыковед Н. Ф. Финдейзен, и близкие к овдовевшей супруге Луиза Эритт-Виардо и Софья Перовская – в то время начинающая «народница», она впоследствии, как известно, была приговорена к смертной казни за участие в покушении на Александра II.
Хоронили А. Н. Серова на кладбище Александро-Невской лавры. На торжественном отпевании присутствовал известный поклонник таланта покойного композитора великий князь Константин Николаевич.
Незадолго до смерти А. Н. Серову, совмещавшему сочинение опер и романсов со службой отечеству в почтовом ведомстве, был присвоен чин действительного статского советника, что в Табели о рангах Российской империи соответствовало званию генерала. Теперь по закону, принятому еще в 1856 году, сын покойного считался потомственным дворянином.
Через некоторое время после похорон Илья Репин вновь побывал в доме вдовы композитора: М. М. Антокольский передал ему ее просьбу исполнить посмертный портрет А. Н. Серова. В доме царила обычная траурная атмосфера. Валентина Семеновна извинилась, что, кажется, напрасно побеспокоила Репина, поскольку портрет покойного мужа уже взялся писать близкий к нему Николай Николаевич Ге.
Репин уже хотел откланяться. Но внимание его привлек мальчик, сын Серовых. Малыш никак не хотел мириться с царившей в доме атмосферой тоски и печали. Вот он, с румянцем на щеках, пышными белокурыми локонами, подскочил к художнику и прямо, весело и дерзко взглянул на него ясными серыми глазами. «Какой знакомый взгляд, – мысленно изумился Репин, – как, вот этими глазами, он похож на отца!»
На известие о смерти Серова, полученное, вероятно, через общего знакомого П. А. Висковатого, откликнулся письмом Рихард Вагнер. «Кончина, – писал он, – именно этого нашего друга очень ясно вызывает у меня мысль, что смерть не может похитить от нас окончательно человека истинно благородного и горячо любимого. Для меня Серов не умер, его образ живет для меня неизменно, только тревожным заботам моим суждено прекратиться. Он остается и всегда останется тем, чем был, – одним из благороднейших людей, каких я только могу себе представить; его нежная душа, его чистое чувство, его ум, оживленный и просвещенный, сделали искреннюю дружбу, с которою относился ко мне этот человек, драгоценнейшим достоянием всей моей жизни».
Благодарность Вагнера самому горячему пропагандисту его музыки в России этим не ограничилась. Он, используя свой уже международный авторитет, выступил заграничным ходатаем назначения пенсии, которую стала получать вдова А. Н. Серова.
Похоронив мужа, молодая вдова сидеть сложа руки не собиралась и поторопилась с помощью профессионального музыканта Н. Ф. Соловьева закончить незавершенную мужем оперу «Вражья сила». Удалось решить вопрос и о ее постановке. Премьера в Мариинском театре состоялась 19 апреля 1871 года. Полученные за постановку средства позволяли ей осуществить кое-какие личные планы.
Все же покойный муж, занятый в основном творческими делами, музыкально-критической журналистикой и чтением популярных лекций о музыке, так и не смог, как собирался, восполнить пробелы в ее музыкальном образовании, возникшие после ухода из консерватории. А пример мужа зародил у Валентины Семеновны страстное желание тоже попробовать сочинять музыку. Почему бы и ей не стать композитором? Вот только сначала необходимо вновь вернуться к учебе, ликвидировать белые пятна в музыкальной грамоте. Сделать это Валентина Семеновна решила за границей, в Мюнхене, с помощью капельмейстера Германа Леви, дирижера придворного оперного оркестра. Знакомство с ним Серовы, вероятно, установили во время последнего пребывания в Мюнхене в 1869 году.
Но как быть с сыном? Брать его с собой? Но какие уж там занятия, когда на руках малый ребенок?! С кем-то его надо оставить в России. Но с кем? Из рассказов мужа Валентина Семеновна знала, что в его семье было шестеро детей и более всего Александр был близок со старшей сестрой Софьей, столь же талантливой и разделявшей его интерес к музыке. Но она скончалась еще раньше брата. С двумя другими сестрами, Олимпиадой и Лизой, у А. Н. Серова подобной близости не было: если в Липочке (Олимпиаде) проблески просвещенности, считал Серов, все же наблюдались, то Лиза, по его мнению, была «совершенной наседкой, равнодушной ко всем высшим проявлениям духовной жизни».
Не было близости и с двумя братьями – Сергеем, служившим офицером в Третьем отделении, и уж подавно с Юрием, который, по характеристике Серова, был горьким пьяницей и совсем негодным человеком, позорившим семейную репутацию.
Валентина Семеновна и сама выросла в многодетной семье и наиболее близка была с сестрой Аделаидой, двумя годами старше ее. Если бы приютить сына Тошу согласилась Аделаида, размышляла Серова, это был бы наилучший вариант. Все же она педагог по призванию, специалист по воспитанию малых детей, в год рождения Тоши стажировалась в Швейцарии, в Женеве, где изучила новейшие педагогические методики. Но беда в том, что Аделаида, которую Валентина более всех уважала из своей родни, ее брак с A. Н. Серовым не одобрила и их былая дружба с тех пор завяла, всякие контакты прекратились.
После томительных размышлений Валентина Семеновна остановилась на своей близкой подруге княжне Друцкой. Наталья Николаевна Друцкая вместе с врачом Коганом, с которым она познакомилась на одном из серовских «четвергов», собиралась основать трудовую коммуну в своем имении Никольское в Смоленской губернии. Если планы эти к лету осуществятся, то к ним в коммуну можно и сыночка определить.
Переговорив с Талечкой, как по-приятельски называла B. С. Серова свою подругу, она убедилась, что Друцкая действительно, как и намечала, организует коммуну и с радостью готова взять под свою опеку Тошу.
И вот все решено, на душе легче. Передав сына на попечение Друцкой, В. С. Серова уезжает заниматься музыкальным образованием в Мюнхен.
Почти годичное пребывание Валентина Серова в деревенской коммуне, обосновавшейся в селе Никольском, известно из двух основных источников. Во-первых, этому периоду в жизни сына уделила место в своих воспоминаниях мать, написавшая о Никольском со слов Друцкой и на основе писем Талечки, которые приходили в Мюнхен. Другой же источник – это воспоминания самого В. А. Серова, которыми впоследствии он поделился с близкими ему людьми – художественным критиком Сергеем Голоушевым и коллегой по объединению «Мир искусства» Дмитрием Философовым. В чем-то эти рассказы дополняют друг друга, но в некоторых деталях существенно расходятся.
Итак, коммуна состояла из шести молодых людей, мужчин и женщин. Кроме самой Друцкой-Соколинской в нее входил также ставший мужем Талечки доктор Коган и еще один общинник по фамилии Фронштейн. Имена трех других коммунаров канули в Лету.
Быт их был устроен во многом по образцу коммуны, описанной Чернышевским. И мужчины, и женщины ходили в одинаковых костюмах. Пищу употребляли в основном грубую, поскольку главная цель была опрощение, чтобы быть ближе к народу. Товарищем Тоши, как с легкой руки матери называли его в коммуне, была крестьянская девочка, немного младше его. И он как старший должен был о ней заботиться и воспитывать ее. Природная наблюдательность мальчика искала выражения на листах бумаги и в альбомчиках с помощью карандашей и красок. И опекунша Талечка Друцкая (к тому времени уже Коган) эти его занятия поощряла, объясняла ему кое-что про перспективу, то есть как должны выглядеть на рисунке предметы, находящиеся ближе и дальше от нас. Купила и краски. Приобщение мальчика к художественному творчеству Талечка в письмах матери ставила себе в особую заслугу.
Но здесь можно вспомнить о том, что страсть к рисованию у Серовых была в крови. Такого рода способностями обладал и дед мальчика, ответственный чиновник Министерства финансов Николай Иванович Серов, о чем сохранилось свидетельство Владимира Стасова. Побывав в Лондоне в 1851 году, Стасов писал брату Дмитрию, что у англичан в моде женские прически, какие когда-то были у девушек в Петербурге: коса, уложенная вокруг головы. И именно так, вспоминал в письме Стасов, нарисовал дочерей Николай Иванович – их портреты висели на втором этаже в доме Серовых.
Неплохим рисовальщиком и аквалеристом проявил себя и Александр Николаевич Серов. Находясь в Крыму во время симферопольской службы, он вместе с письмами посылал сестре Софье и свои рисунки – пейзажи, сценки с татарами. Его рисунки с натуры ценил и Стасов, предрекая, что если тот не отличится на музыкальном поприще, так вполне сможет добиться успехов на художественном.
Пробудившаяся в Никольском страсть к рисованию обернулась одной скандальной историей, и о причиненной ему обиде В. А. Серов с негодованием вспоминал до последних лет жизни. Как-то ему очень похоже удалось изобразить лошадку. Но в тот же день, по словам Талечки, он «крупно провинился»: почему-то, из обычного озорства, изрезал на кусочки детское платье. И тогда в воспитательных целях опекунша отобрала у него рисунок с лошадкой и тоже его порвала на куски. История умалчивает, плакал мальчик или нет, но подобное посягательство на первые опыты своего художества простить он не мог и люто, навсегда возненавидел свою обидчицу.
В этом эпизоде, если допустить, что Талечкин рассказ вполне правдив, непонятна немотивированность поступка подростка: «почему-то изрезал». Но сам Серов излагал Голоушеву суть происшествия несколько иначе. В колонии (или в коммуне) его наказывали, если плохо мыл посуду или плохо делал другую работу. Вот и в тот день рисунки с коровами или оленями (он точно не помнил, что именно рисовал тогда) были в наказание отобраны у него и сожжены. И тогда он незаметно пробрался в дом и в отместку искромсал ножницами платье, отнюдь, разумеется, не детское, особы, которая сожгла его рисунки.
Мать считала, что, несмотря на регламентированность жизни в коммуне и деспотизм некоторых требований, ее сыну там нравилось и потому он не хотел уезжать из Никольского. Возможно, если забыть злополучный конфликт, так оно и было. Мальчик впервые проводил весну и лето на природе и с интересом наблюдал все сезонные изменения: буйное, с прибавлением тепла и света, пробуждение жизни, разлив рек, теплые летние дожди, радугу над полями, в пронизанном влагой воздухе. Он особенно любил наблюдать, как корчуют пни под пашню и потом жгут до полуночи костры.
Коммуна в конце концов распалась, и Н. Н. Коган отвезла Валентина к матери, в Мюнхен. Педагогический эксперимент был позади.
Так мать и сын вновь воссоединились. Но, очевидно, жить вместе с сыном в дешевой меблированной квартире, которую она снимала в Мюнхене, Валентине Семеновне, при ее частых отлучках на музыкальные занятия, показалось не вполне удобным для обоих. После консультаций со знакомыми насчет того, куда лучше пристроить Тошу, в двух часах езды от Мюнхена, в баварской деревушке, была найдена зажиточная семья, готовая за умеренную плату приютить у себя мальчика из России. Одновременно решался вопрос быстрого овладения им немецким языком. Так Тоша был отвезен в баварскую деревушку. «В месяц, – вспоминала мать, – был забыт родной язык, живопись отодвинута на задний план, и школьный вопрос был решен… Тоша обратился в истого баварца: в охотничьей куртке, в баварской шляпе с зеленым пером».
Вскоре талант к рисованию русского мальчика заметили в народной школе, которую он посещал, сыновья мюнхенского фабриканта братья Риммершмидт. Их мать однажды нанесла визит Серовой, чтобы выразить удивление и восхищение способностями ее сына. Фрау Риммершмидт предложила Серовой запросто посещать с сыном их дом, стоявший рядом с городским парком на реке Изаре. И этот вполне буржуазный особняк с картинами на стенах, выдававшими неравнодушие хозяев к искусству, казался русской семье чуть ли не дворцом. Проводить там время в компании пышущих здоровьем рыжеволосых сверстников для Валентина истинный праздник. «Впервые попал Тоша к семейному очагу, столь гармонично сложившемуся под влиянием женщины образованной, умной, любящей. Именно этого не доставало Тоше». В этом признании матери неожиданно для нее самой сквозит, пожалуй, самокритичный оттенок.
Наступило лето, и Валентина Семеновна с сыном выехала на отдых в живописное местечко Мюльталь под Мюнхеном. Холмы, поросшие лесом, близость Штарнбергского озера со средневековым замком на его берегу – все это привлекало сюда мюнхенских художников. Серову увлекла в Мюльталь ее новая русская подруга, любительница писать этюды на пленэре. Вместе и поселились: Серова справедливо полагала, что «маркизенька» – так называла она в шутку новую подругу, с ее страстью к живописи, быстро найдет общий язык с сыном. Что ж, так оно и получилось. Но Валентина заинтриговал еще один постоялец небольшой гостиницы, где они жили. Он тоже выходил из дома с этюдником и иногда шел в том же направлении, куда отправлялся мальчик вместе с «маркизенькой». Случалось, и располагались они недалеко друг от друга и писали (или рисовали) одни и те же виды. Мальчик, слегка тяготившийся исключительно женским обществом, стал искать повода познакомиться, и усилия его увенчались успехом.
Мужчина лет двадцати пяти, с внимательным и добрым прищуром глаз, на вопрос мальчугана: «Как вас зовут?» – охотно ответил, что зовут его Карл Кёппинг и он вообще-то не столько живописец, сколько гравер, но приехал сюда, чтобы написать этюды к задуманной картине. Он тоже обратил внимание на то, что мальчик неравнодушен к рисованию, посмотрел его работы и сдержанно похвалил их.
Знакомство это оказалось весьма на руку и Валентине Семеновне. Она как раз подумывала, что пора найти для сына наставника, который помог бы развить его художественный дар. Побеседовав с Кёппингом, она нашла в нем понимание этого ее намерения. Договорились, что с осени, после возвращения из Мюльталя, Карл Кёппинг начнет с мальчиком регулярные занятия.
Но лето в Мюльтале оказалось памятным не только этим новым знакомством. В той же деревушке отдыхала колония русских студентов, обучавшихся в мюнхенском политехникуме. С одним из них, Константином Арцыбушевым, Серовы вскоре сдружились. И с ним Валентин совершает увлекательные экскурсии к Штарнбергскому озеру. Студент Арцыбушев заметил, что мальчик несколько изнежен «бабским воспитанием», и потому считал своим мужским долгом научить его плавать, нырять, грести и управлять лодкой. И мальчик был благодарен ему за эту науку.
Постепенно, в те дни, когда Константину было не до него, Валентин приохотился, с дозволения матери, ходить к озеру в одиночестве или вместе с деревенскими ребятами. И вот в связи с этими прогулками, которые часто сопровождались купанием в озере, произошло нечто наподобие случившегося в Никольском. И этот случай дал повод теперь и матери продемонстрировать сыну эффективность ее воспитательных методов. Ее собственная «педагогика», поясняла в воспоминаниях Валентина Семеновна, «была слишком прямолинейна, своеобразна, иногда жестока, но всегда целесообразна».
Важнейшее требование, которое мать предъявляла сыну, – «безусловная правдивость». И она строго предупреждала его, что если он когда-либо солжет ей, то она с ним «жить не будет». И однажды наступил день, когда матери, верящей в свои педагогические методы, представился случай доказать, что слов на ветер она не бросает. Как-то, отправившись купаться, Валентин вернулся раньше обычного и слишком старательно стал развешивать на просушку мокрую купальную простыню. С материи капала вода, и это насторожило Валентину Семеновну. Подойдя к сыну, она заметила, что волосы у него сухие, и учинила допрос. Изрядно сконфуженный, сын вскоре признался, что до озера не дошел, но, чтобы мать не сомневалась, что он купался, простыню, по совету приятелей-мальчишек, намочил в колодце.
Последовало тягостное для обоих молчание. Матери было важно, чтобы сын прочувствовал всю серьезность своего проступка. Наконец она объявила, что после обеда он должен собрать свои вещи и она отвезет его в Мюнхен, где устроит жить в знакомой ему семье Иегер. Это была рабочая семья. С г-жой Иегер, «симпатичной социал-демократкой», по описанию Серовой, Валентина Семеновна встретилась на одном из митингов в Мюнхене, где молодая женщина приглянулась ей своей убежденностью борца «за мировую идею». Впрочем, муж социал-демократки, по профессии слесарь, не разделял ее убеждений и, по словам Серовой, «всячески отравлял ей существование». И вот в этот дом, где супружеским миром, по-видимому, не пахло, мать поселила сына, перед отъездом заявив, что тот ей стал «просто противен». Однако, вспоминала Валентина Семеновна, сын «держался твердо, не размокал».
Когда через неделю, решив, что педагогической науки с него достаточно, мать приехала, чтобы взять сына обратно в Мюльталь, он поинтересовался: «Теперь я тебе не противен?» – «Нет, – успокоила мать, – все прошло!»
На время, подытожила эту историю В. С. Серова, «педагогика» отошла на задний план, но у сына остались «какаято мнительность, осторожность».
Тем же летом другой эпизод побудил мать вновь испытать на практике эффективность и целесообразность ее воспитательных приемов. Недалеко от дома, где они жили, в пивном погребке, излюбленном месте отдыха местных жителей, выступала группа заезжих музыкантов. Их игра на цитрах, как и сама обстановка веселого кабачка, так полюбились Тоше, что, несмотря на предупреждения матери, он нередко засиживался там допоздна. С ее стороны последовала угроза: «Не придешь вовремя, замкну дверь на замок». Сказано – сделано. На робкий стук в дверь мать не отвечала. Ждала, что дальше. Потом на цыпочках подошла к окну и увидела, что сын, осознав, что ему не откроют, присел на крыльцо. Там же и уснул, склонив голову на грудь. Лишь на рассвете, когда похолодало, мать, сжалившись, открыла дверь и «унесла его в комнаты».
Проявленная ею твердость духа принесла плоды, и к ужину сын отныне не опаздывал. Увы, приучая сына не нарушать ее предписания и используя в этих целях радикальные воспитательные меры, Валентина Семеновна не замечала, что постепенно сын все больше и больше отдаляется от нее, и глубину этого сыновьего охлаждения она осознала лишь через десять-пятнадцать лет.
По возвращении к осени в Мюнхен возобновились уже привычные занятия мальчика в народной школе, радующие его воскресные посещения семьи Риммершмидт. Одновременно начались регулярные занятия с гравером Кёппингом. Вместе с наставником мальчик посещает богатую картинную галерею Мюнхена – Старую Пинакотеку, ателье современных художников, выставки, и Карл Кёппинг сопровождает эти походы доступными разуму мальчика пояснениями.
О пробудившемся у сына интересе к рисованию Валентина Семеновна писала жившему и работавшему в Риме Марку Антокольскому. В доказательство даже послала один из рисунков сына, изображавший льва в клетке. В конце концов на Рождество решила сама съездить в Рим, чтобы подробно поговорить с Антокольским, как дальше развивать талант сына.
Покидая на несколько недель Мюнхен (заодно хотелось как следует осмотреть Рим и, быть может, и другие итальянские города), Валентина Семеновна оставила сына на попечение доброго знакомого из обучавшихся там российских студентов, некоего Шварцмана, и попросила Карла Кёппинга не забывать навещать ребенка.
Визит в Рим прошел вполне успешно. Антокольскому были показаны последние рисунки сына, и он их одобрил. Талант мальчика, по его мнению, стоило развивать и дальше, и с этой целью лучшего всего определить его на выучку к уже сложившемуся даровитому художнику. Например, к его другу времен учебы в Академии художеств Илье Репину, находившемуся в то время в Париже.
Суждение Марка Антокольского для Валентины Семеновны стало решающим. Она помнила, как еще с покойным мужем посещали они его мастерскую в Петербурге и восхищались только что законченной скульптурой «Иван Грозный». А уже после кончины А. Н. Серова мастерскую Марка Матвеевича посетил приехавший из Франции Иван Тургенев и написал об «Иване Грозном» восторженную статью в «Санкт-Петербургских ведомостях». Мнение просвещенного писателя совпало с мнением об этой статуе Александра II. «Высочайшая» похвала императора подвигла к действиям руководство Академии художеств, и вот – случай беспрецедентный! – еще не закончивший учебу студент Марк Антокольский удостаивается звания академика. Все бы хорошо, но скульптора подводит здоровье, и по совету врачей он переезжает на юг, в Рим, где и живет уже несколько лет, радуясь общению с другими членами местной русской колонии.
Среди его новых знакомых – семья предпринимателя и любителя искусств Саввы Ивановича Мамонтова. Сам Мамонтов, находясь в Риме, сблизился с Антокольским, брал у него уроки лепки. В Италии Мамонтовы появляются регулярно: одному из их сыновей, Андрею, врачи рекомендовали, как и Антокольскому, южный климат. А Савва Иванович, из-за множества дел на родине, вынужден был колесить между Россией и Италией.
И вот на Рождество 1873 года, почти в одно время с Серовой, в Риме в очередной раз появился Савва Мамонтов. Узнав о его приезде, Антокольский посчитал полезным познакомить В. С. Серову с этой русской семьей. Надо полагать, и предпринимателю, увлекавшемуся оперой, знакомство с вдовой известного композитора было небезразличным. Установившиеся в Риме дружеские отношения оказались чрезвычайно важными, поскольку через два года, после возвращения матери с сыном в Россию, семейство Мамонтовых будет долгие годы играть значительную роль в жизни Валентина Серова.
Пребыванию в Риме Валентины Семеновны уделено внимание в «Записках», которые вела для себя супруга Саввы Ивановича Елизавета Григорьевна. «Она, – писала о В. С. Серовой Е. Г. Мамонтова, – для меня была очень интересным человеком, я таких еще не встречала. Типичная шестидесятница, в полном смысле этого слова, она сама участвовала в Петербурге в движении крайних партий этого горячего времени, сама переживала то, о чем до меня доходили только смутные слухи, она и теперь спокойно сидеть не могла, всех тормошила, поднимала самые животрепещущие вопросы, убеждала, спорила, не сообразуясь с тем, кому это приятно, кому – нет. Говорила подчас резко и бестактно, что многих коробило. Мне вопросы, которые она затрагивала, настолько были интересны сами по себе, что я не замечала тогда всех ее шероховатостей. Наружность ее тоже не могла не остановить внимание человека, видевшего ее в первый раз. Небольшого роста, плотно сложенная, с очень определенным еврейским типом, крупными чертами, большими зубами, резким голосом. Все вместе это как-то не вязалось с ее музыкальной специальностью. Но, как музыкант, она внесла тоже много оживления в наши музыкальные собрания».
После отъезда Саввы Ивановича в начале января в Москву шумные «музыкальные собрания», до которых он был большой охотник, прекратились, и опять, фиксирует в записках Е. Г. Мамонтова, «пошла покойная римская жизнь, нарушаемая только вспышками Серовой».
Последняя запись о заинтересовавшей Мамонтову гостье относится к 15 (27) января 1874 года: «Серова все здесь, действует на всех подталкивающим и освежающим образом. Славная личность. Завтра она едет в Неаполь, нас не дожидается, потому что поскорее стремится в Мюнхен».
Пройдет время, и в сердце Валентина Серова Елизавета Григорьевна Мамонтова постепенно будет вытеснять то место, которое обычно занимает образ родной матери, и потому об этой женщине стоит сказать чуть подробнее уже сейчас. Елизавета Григорьевна была на два года старше Валентины Семеновны. Она выросла в семье московских предпринимателей Сапожниковых. Ее мать после смерти мужа сама толково управляла шелкопрядильной фабрикой. С Саввой Ивановичем Елизавета Григорьевна познакомилась во время поездки с матерью в Милан, когда там же для обучения шелковому производству и одновременно пению находился Савва Мамонтов. Обвенчались они в 1865 году, а к 1873 году, когда Е. Г. Мамонтова встретилась в Риме с В. С. Серовой, она была уже матерью трех сыновей, шестилетнего Сергея, четырехлетнего Андрея и трехлетнего Всеволода.
Как и муж, Елизавета Григорьевна любила музыку и сама неплохо играла на фортепиано. Ее отличали сдержанность чувств, самоуглубленность и истинная религиозность. От политики она была весьма далека и только потому, вероятно, восприняла Серову после ее рассказов о своих друзьях – нигилистах как представительницу «крайних партий». Рассказы же Валентины Семеновны о своей бурной петербургской молодости можно расценить, при некоторых свойствах ее характера, как желание чуть-чуть эпатировать состоятельных соотечественников.
Вернувшись в Мюнхен, Валентина Семеновна рассказала сыну о результатах своей поездки, о том, что во Франции, в Париже, живет и работает сейчас русский художник Илья Ефимович Репин, который может многому его научить. Вероятно, предложение перебраться в Париж сын встретил без особого энтузиазма. Все же к Мюнхену он уже привык, здесь у него есть друзья, мальчики Риммершмидты, а там неизвестно что будет. Но если уж мать что-то решила, понимал он, спорить с ней бесполезно.
А Валентину Семеновну идея перебраться в Париж уже воодушевляет. Музыкой, в конце концов, можно заниматься и там. Надо лишь запастись впрок некоторыми рекомендательными письмами. Но уезжать сразу смысла не было. Сыну надо закончить очередной класс в народной школе. Летом – вновь отдохнуть, хоть в том же Мюльтале. Да и Карл Кёппинг привязался к мальчику, и не стоит сейчас прерывать их занятия. Отправиться же во Францию осенью будет самое время.
В Париже, помимо Репина, обосновалась целая колония русских художников во главе с академиком живописи, весьма уважаемом не только в кругах творческих, но и придворных, Алексеем Петровичем Боголюбовым. Ее составляли маринист, как и Боголюбов, Александр Беггров, Константин Савицкий, Алексей Харламов… Студенческий друг Антокольского Репин после окончания Академии художеств с золотой медалью, полученной за конкурсную картину «Воскрешение дочери Иаира», заслужил право на оплаченную государством шестилетнюю стажировку за границей. На тех же основаниях стажироваться за рубеж выехал и другой золотой медалист Академии, Василий Дмитриевич Поленов. Поначалу коллеги двинулись в Италию, но, пожив там некоторое время, решили перебраться в Париж, где художественная жизнь, по слухам, была интенсивнее.
Готовясь к отъезду из Мюнхена, Валентина Семеновна вспомнила и о живущем в Париже Тургеневе. Кое в чем может посодействовать и он. Все же Иван Сергеевич ценил музыку покойного А. Н. Серова, неоднократно бывал в их доме еще при жизни Александра Николаевича. Да и после его кончины, приехав в Петербург в 1871 году, посетил знакомый ему дом на Пятнадцатой линии, где в то время жила и подруга Валентины Семеновны, дочь Полины Виардо Луиза Эритт, выступавшая в «Рогнеде». В тот приезд Иван Сергеевич, по приглашению Серовой, присутствовал в Мариинском театре на репетиции оперы Александра Николаевича «Вражья сила». Словом, почему бы ему не помочь старым знакомым?
В один из октябрьских дней 1874 года мать и сын Серовы прибыли мюнхенским поездом в Париж. Имея от Антокольского адрес Репина, Валентина Семеновна прямо с вокзала поехала в район Монмартра, где жил, на улице Лепик, и снимал мастерскую по соседству, на улице Верон, Илья Ефимович Репин. Там же, на бульваре Клиши, подыскала комнату и Валентина Семеновна. Едва успев привести себя в порядок с дороги, она поспешила с сыном к Репину. Ей пришлось сразу рассказать художнику о случившемся на вокзале досадном происшествии. О том, что при посадке в Мюнхен ей продали билет на сына за половину стоимости, но здесь, в Париже, контролеры заявили ей, что девятилетний мальчик не имел права на льготный билет, и потребовали оплатить полную стоимость. На ее сетования, что денег сейчас нет, поиздержалась, порекомендовали срочно найти деньги в городе, если там есть знакомые, а сына пока оставить на вокзале «под залог». Одним словом, скандал. Пришлось предъявить им в доказательство, что она не рядовая путешественница, рекомендательные письма – Полине Виардо, музыкальному педагогу Сарвади, наконец, композитору Сен-Сансу. В конце концов, договорились, что под залог она оставит ценные для нее ноты – партитуры только что вышедших из печати опер Вагнера из цикла «Кольцо нибелунга».
Выслушав ее взволнованный рассказ, Репин тут же предложил гостье отдохнуть с сыном в мастерской, пока он съездит на вокзал и уладит конфликт с тамошними чиновниками. Уплатив требуемые ими деньги, он скоро вернулся с кипой нот Вагнера, и теперь можно было спокойно побеседовать.
Илья Ефимович, взглянув на заметно подросшего мальчугана, которого запомнил непоседливым шалуном, попросил Валентину Семеновну показать рисунки сына. Изучив отдельные листы и альбомы, заявил, что способности у мальчика налицо и он готов позаниматься с ним. И так вопрос, весьма волновавший Валентину Семеновну, был решен.
С Ильей Ефимовичем договорились, что он будет давать уроки Тоше дважды в неделю, и если поначалу мать провожала сына до мастерской, то довольно скоро сын заявил ей, что дорогу запомнил и будет ходить на занятия сам. Так было проще и матери, тем более что круг ее новых знакомых в парижском музыкальном мире быстро расширялся. Вероятно по рекомендации известного музыкального педагога Сарвади, Валентина Семеновна довольно быстро определилась, кто в Париже будет ее музыкальным наставником. Теперь не только днем, но и вечерами время ее было расписано: надо посещать и оперу, и концерты выдающихся исполнителей.
С помощью учившихся в Париже соотечественниц удалось наладить и общее образование сына, найдены преподаватели русского, математики и французского языка. Одна из преподавателей приходила на дом, но к другой Тоше надо было ездить через город на дилижансе.
С учителями Валентин занимался без особой охоты, но штудий у Репина ждал нетерпеливо, как праздника. Обычно Илья Ефимович просил его рисовать с натуры какие-либо предметы – кувшин, вазы с цветами, а то и гипсовую маску. Поставив задание своему подопечному, Репин брался за собственную работу: той осенью и зимой он трудился над большой картиной, изображающей посетителей в парижском кафе, и был очень увлечен ею. В ателье художника можно было видеть готовые этюды к ней – портрет бородатого мужчины, сидящей на стуле молодой женщины. Какоето время учитель и ученик работали каждый сам по себе. Потом Илья Ефимович подходил к мальчику, изучал сделанное им, поправлял ошибки. «Его беспощадность в ломке не совсем верных, законченных уже им деталей приводила меня в восхищение, – вспоминал Репин. – Он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить ее и освежиться на балконе перед моим большим окном».
Занятия с преподавательницами – это другое дело, и особенно тягостны Валентину поездки к даме, учившей его русскому языку и математике. Большой город, при плохом знании французского языка, кажется ему враждебным, люди неприветливыми, и сам он иногда чувствует себя потерянным в чуждом ему мире.
Вечерами, если мать опять пропадает на «проклятой музыке», как именует сын ее любимое времяпровождение, еще тоскливее. Грустно, одиноко, друзей-сверстников нет, не с кем и словом перемолвиться. В один из таких вечеров, когда Валентины Семеновны не было дома, в квартиру заглянул гость, высокий седовласый мужчина, недолго поговорил с мальчиком. Прощаясь, оставил записку для матери. Из записки та узнала, что из-за неосведомленности поселилась в доме, пользующемся сомнительной репутацией. Автор записки рекомендовал переехать в пансион, где обычно проживают ученицы м-м Виардо, далее следовали адрес пансиона и подпись «Ваш Тургенев».
Изрядно сконфуженная, что совершила такой промах, Валентина Семеновна не преминула воспользоваться советом. Вскоре мать с сыном переселились в рекомендованный пансион. Мальчик быстро оценил его преимущества перед прежним жильем. Основными постояльцами пансиона были молоденькие девушки из провинции, приехавшие на учебу или работу в Париж. Жили они дружно, как одна большая семья. Вечерами собирались в гостиной за общим чаепитием, обменивались новостями, кто-то пел, кто-то занимался рукоделием, а Валентин, пристроившись где-нибудь в укромном уголке, увлеченно рисовал в своем альбомчике: в нем все больше и больше появлялось сценок, увиденных на парижских улицах и в парках.
По воскресным дням мать вывозила сына погулять в Люксембургский сад, в Булонский лес, и он с интересом наблюдал зверей в расположенном там зоопарке. В его альбомчике – двухколесная повозка, которую тянет пара лошадей, запряженных цугом, рисунки птиц, кроликов, лошадей, львов.
В музеи Валентин предпочитал ходить вместе со своим наставником, Репиным. Характеризуя отношения, сложившиеся между учителем и учеником, и то влияние, которое оказывал на мальчика его старший друг, Валентина Семеновна писала: «Главное – отношение Ильи Ефимовича к ребенку-художнику было самое идеальное, он нашел надлежащий тон – заставил себя уважать и сам уважал мальчика. Быстро развернулись способности ученика. Теперь не только коровки и лошадки красовались в альбомчиках: стали появляться и портретики, поразительно верно схваченные; также попытки, хотя и робкие, неумелые, копировать с репинских картин; появились целые сценки из жизни животных. Это были уже смелые, правдивые воспроизведения природы».
С некоторых пор в сопровождении матери или Репина Валентин стал посещать еженедельные собрания в просторной квартире Боголюбова, на которые сходились жившие в Париже русские художники. На большом столе стелили ватманскую бумагу, и каждый рисовал что хочется. Осмелев, и Валентин стал упражняться вместе со взрослыми, и один из его рисунков, изображавший русскую тройку, вызвал одобрительные возгласы. А Валентина Семеновна обычно присаживалась к роялю и наигрывала что-нибудь любимое ею, иногда и известные ей новые сочинения русских композиторов.
Наступление 1875 года было отмечено у Боголюбова праздничным представлением, на которое пригласили почетных гостей, среди них Тургенева и поэта Алексея Константиновича Толстого. Вначале исполнили величальное пение в честь хозяина дома, Боголюбова, с подношением ему хлеба и соли. Задорный хор спел популярную «Ах вы, сени, мои сени…». Были и зажигательные пляски, и ряженые, изображавшие косолапого медведя с поводырем. После чего, вместе с вспыхнувшими бенгальскими огнями, открылась живая картина «Апофеоз искусств»: художники и их жены загримировались под великих творцов – Гомера, Шекспира, Рафаэля, Микельанджело…
Валентин, самый маленький из участников, стоя на верху пирамиды и раскинув руки с прикрепленными к ним матерчатыми крыльями, изображал ангела, парящего над всей этой группой. Вот это ему нравилось, эта творческая игра вызывала в его сердце сдержанный восторг. Да и не только у него: представление заставило просиять лицо сидевшего в первом ряду Тургенева; восхищенно восклицал: «Ну, молодцы, ну уважили!» – хозяин дома Боголюбов.
Впрочем, веселились и устраивали концерты не только у Боголюбова. В эту зиму, как и раньше, члены русской колонии и приезжие из России собирались на вечера в доме Полины Виардо, где жил и Тургенев. В декабре 1874 года Репин писал В. В. Стасову: «…Сумасшедшие французы… так веселятся!.. Всего перепробовали: начали с пения, музыки, потом импровизировали маленькие пьески… Всех превзошел композитор Сен-Санс (чуть ли не на голове ходил, танцы играл)».
А в феврале 1875 года в доме Виардо состоялся благотворительный литературно-музыкальный утренник в пользу организуемой Тургеневым русской библиотеки в Париже и неимущих студентов. На нем выступали сама Полина Виардо, виолончелист К. Давыдов, пианистка А. Есипова. Тургенев читал свой рассказ «Стучит!», гостивший в Париже поэт Н. Курочкин свои стихи. Среди гостей, большинство которых составляли пожелавшие материально подкрепить благое дело состоятельные люди, присутствовали также писатель Глеб Успенский, революционер Герман Лопатин, знаменитый польский скрипач-виртуоз и композитор Генрих Венявский.
Однако никаких упоминаний о присутствии на этих литературно-музыкальных собраниях в доме Виардо В. С. Серовой не имеется, хотя она, без сомнения, не отказалась бы и от участия в концертах, и от встреч в этом доме с Тургеневым, Камилем Сен-Сансом, Генрихом Венявским. Вероятно, Полина Виардо знала, что ее дочь Луиза Эритт, сойдясь в России с Серовой, под ее влиянием и по примеру близкого окружения Серовой, увлеклась «нигилизмом» и даже во внешнем облике старалась копировать новых подруг: коротко стриглась и одевалась, как подметил Репин, по установленной среди нигилисток моде («черное короткое платье и сапоги с голенищами»)… Усвоенные ею «нигилистические» взгляды составляли кодекс поведения эмансипированной женщины и требовали самой зарабатывать на жизнь. Поэтому Луиза Эритт отказалась от 10 тысяч франков, которые регулярно высылал ей муж. По совету Серовой она стала петь в «концертах для народа». От зоркого взгляда И. С. Тургенева еще во время его приездов в Петербург не могли ускользнуть перемены в образе мыслей и поведении Луизы Эритт, о чем он, конечно, информировал ее мать. Полине Виардо все это, разумеется, не нравилось.
Пришла весна, на Монмартре зацвели яблони. Подходя к мастерской Репина, Валентин с завистью провожает глазами играющих в мяч на тротуаре мальчишек и девчонок. Как хотел бы и он поиграть с ними! Часто вспоминаются рыжеволосые баварские мальчишки из семьи Риммершмидт. С ними он никогда не скучал.
Мальчик не спеша поднимается в мансарду, где работает Репин. Учитель приветливо и уважительно, как со взрослым, здоровается с ним за руку. У стены мастерской – портрет знакомой Валентину девушки. Это Вера Ге, племянница известного художника. Здесь, в Париже, Вера тоже учится живописи, берет уроки у друга Репина Василия Дмитриевича Поленова. А недавно она позировала Илье Ефимовичу для его новой картины на тему о былинном Садко, выбирающем себе невесту в подводном царстве.
Валентин знает, что за эту зиму он весьма продвинулся под руководством Репина в технике рисунка. Пытался рисовать и самого учителя, и его дочь Верочку, когда сам Илья Ефимович писал в мастерской ее портрет. Удался ему и натюрморт маслом на фоне гобелена. А как бывает приятно, когда наставник отмечает его успехи!
Но на этот раз Репин пребывал в дурном настроении, и причиной были только что объявленные итоги большой художественной выставки в Париже, Салона, на которую Репин с Поленовым представили свои работы. Илья Ефимович был явно раздосадован, что, вопреки надеждам, никакой награды его «Парижское кафе» не удостоилось. Та же участь постигла и выставленные в Салоне работы Василия Дмитриевича Поленова.
С приближением лета Валентина Семеновна засобиралась на родину. Она все яснее сознавала, что в Париже, занимаясь с малоподготовленными преподавателями, сын, а ему уже десять, полноценного общего образования не получит. Пора ему учиться в русской школе. К тому же заканчивались и денежные накопления, позволившие ей несколько лет жить за границей.
Незадолго до отъезда Валентина Семеновна с сыном зашли попрощаться с Репиным и его семьей. Пока жена Ильи Ефимовича, Вера Алексеевна, накрывала на стол, Репин заговорил о волновавшей его теме – об итогах парижского Салона и посетовал, что все награды достались лишь французским художникам, a Салон-то все же международный. В нем участвовали немецкие, бельгийские, американские художники и кое-кто из русских…
Валентина Семеновна с характерной для нее горячностью ответила:
– Я же предупреждала вас, Илья Ефимович, что вы избрали не вполне удачную тему для своей картины «Кафе». Вы сделали главной героиней, поместив в центр, женщину легкого поведения, кокотку, и чуть ли не возвели ее на пьедестал. И кто же после этого поверит, что вы тот самый художник, который написал «Бурлаков на Волге»? Разве я вам не говорила, что с моральной точки зрения ваш сюжет весьма уязвим?
– А я вам, – с напором защищался Репин, – отвечал, что пишу типичную парижскую сцену и решаю при этом не только жанровые, но и чисто живописные задачи. Право, очень жаль, что в своем мнении вы, Валентина Семеновна, по существу, выражаете примерно то же, что и члены реакционного, как всем известно, жюри.
– Я, – с вызовом ответила В. С. Серова, – ничьи мнения напрокат не беру. У меня есть свое мнение и свои нравственные принципы.
Накалявшуюся атмосферу разрядила зашедшая в комнату Вера Алексеевна:
– Ну, время ли ссориться? И чего ради? Чай готов, прошу к столу.
За чаепитием Валентина Семеновна, делясь ближайшими планами, рассказала, что летом собирается погостить в подмосковном имении Мамонтовых, в Абрамцеве: во время их встречи в Риме приглашали и Савва Иванович, и Елизавета Григорьевна, и как не воспользоваться таким приглашением?
Репин подхватывает, что уговаривать Савва Иванович действительно умеет. Будучи в Париже, и их с Поленовым приглашал заезжать к нему в Абрамцево: есть у него заманчивый план создать своего рода художественно-артистический кружок.
Когда чаепитие закончилось и гости стали прощаться, Илья Ефимович сказал подростку:
– Не бросай, Тоша, рисование. Вернусь сам в Россию – непременно тебя разыщу и посмотрю, как ты там преуспел. Ты теперь от меня никуда не скроешься!
Мальчик, слегка пожимая протянутую ему руку, с благодарностью взглянул на своего наставника. Теперь, после нескольких месяцев знакомства с Репиным, он обрел в нем не только замечательного учителя, но и старшего друга.
Летом 1875 года Валентина Семеновна с сыном приехали в Абрамцево, в подмосковную усадьбу Мамонтовых, почти пустовавшую последние годы. Эта усадьба, расположенная неподалеку от Хотьковского монастыря, в 57 верстах по Ярославской дороге, четверть века принадлежала семье известного русского писателя С. Т. Аксакова. У хлебосольного хозяина в прежние времена гостили Гоголь, Щепкин, Хомяков. Столь славное прошлое одухотворяло и само место, ко многому обязывало новых хозяев, приехавших сюда в 1870 году.
Здесь были и обширный парк, и тенистые пруды, и быстрая речка Воря – Валентин дни напролет проводит в играх и забавах со своими новыми приятелями, братьями Сергеем, Андреем и Всеволодом Мамонтовыми. Хочешь – изображай разбойников, надоест – катайся по прудам на лодке, а можно и по парку на лошадях: в мамонтовской конюшне есть смирные лошадки, специально отобранные для подростков. Словом, столько всего интересного, что какое уж там рисование, не до этого!
Много позже Валентин вспоминал об увлекательных путешествиях на покрытых коврами плотах по реке Воре или верхом – до Троице-Сергиевой лавры. Подростку нравился энергичный, любящий во всем брать командование на себя Савва Иванович. И еще более был он покорен Елизаветой Григорьевной Мамонтовой. И как не похожа она на его мать, это видно даже в фортепианной игре. Мать предпочитает быстрые, шумные пьесы, а Елизавета Григорьевна любит музыку неторопливую, вдумчиво-созерцательную. И лицо у нее милое, доброе. Особенно он ощутил теплоту ее души и заботливость, когда в то лето угораздило его простудиться и несколько дней пролежать в постели.
Двенадцать лет спустя, находясь с друзьями в Италии, Валентин Серов напишет Е. Г. Мамонтовой из Флоренции: «Вспоминаю Вас часто, очень часто, и во сне вижу Вас тоже очень часто. Крепко люблю я Вас. А люблю Вас с тех самых пор, как Вас увидел в первый раз десятилетним мальчиком, когда лежа больным в дамской комнате, думал, отчего у Вас такое хорошее лицо».
Это лето и теплота семейных отношений в подмосковной усадьбе Мамонтовых так подействовали на Валентина, что он покидал ее с огромным сожалением: мать напомнила, что ему пора поступать в гимназию и поэтому они должны вернуться в Петербург.
В Северной столице в журнале «Русская старина» начали публикацию переписки В. В. Стасова с А. Н. Серовым. За пятнадцать лет, прошедших после смерти композитора, разногласия между ними ушли на второй план. Теперь Стасов вспоминал о другом, об их живом и полном молодых горячих мыслей общении, когда они только-только начинали свой путь в искусстве.
Публикацию в сентябрьском номере журнала предваряла вступительная статья Стасова о А. Н. Серове, в которой он сказал о нем немало добрых слов. «Перед читателем, – писал Стасов, – является исповедь души, запечатленная день за днем, исповедь юноши, полного блестящих дарований, сил, лучших стремлений, борющегося с трудною действительностью, то полного уныния, недоверия к самому себе, иногда даже отчаяния, то снова одушевленного, бодро и смело идущего к своей цели»…
В. С. Серова хотела, чтобы сын был достоин своего отца, и при выборе учебного заведения она остановилась на частной гимназии Мая: там хорошо преподавали иностранные языки, и Валентина Семеновна надеялась, что Тоша, при его навыках в немецком и французском, укрепит то, что освоил за границей. К тому же программа обучения в гимназии имела художественный уклон, рисование преподавали опытные педагоги, а учеников водили на экскурсии в Эрмитаж и другие музеи.
И вот осенью Валентин Серов начал посещать гимназию Мая. Стоит заметить, что несколько позже в той же гимназии учились будущие коллеги Серова по объединению «Мир искусства» – А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, В. Ф. Нувель, Д. В. Философов, Н. К. Рерих. Один из ее воспитанников, А. Н. Бенуа, посвятил гимназии Мая несколько страниц в своих мемуарах, описал и самого Карла Ивановича Мая и некоторых преподавателей и признался, рассказывая об учебе там, что он испытывает сердечную благодарность – и за ту атмосферу, которая царила в ней, и за известную свободу, за теплоту общения педагогов с учениками и уважение к личности учеников.
Но Валентину Серову оценить достоинства гимназии Мая почти не довелось. В тот год, когда сын начал учебу там, вспоминала Валентина Семеновна, состоялось ее знакомство с людьми, музыкально образованными и увлеченными, ставшими ее верными друзьями и единомышленниками, семейной четой Бларамберг. Павел Иванович был композитором, автором музыки к «Демону» Лермонтова. Его супруга Вильгельмина (для друзей Мина) Карловна, актриса и певица, обучалась пению в Брюсселе у Элизы Эритт-Виардо, давней приятельницы Серовой. Они часто навещали Серову, и вновь, свидетельствует Валентина Семеновна, «музыкальная волна захлестнула мою жизнь». При этом «материнские обязанности несколько отошли на второй план: музыка, музыка во всех ее видах оглашала мои стены… музицировали утром, вечером, ночью». Надо полагать, что ее сыну готовить домашние задания в такой обстановке было отнюдь не просто. Косвенно это подтверждает и сама Валентина Семеновна. «Где уж пансиону Мая, – вспоминала она, – было тягаться с нами».
Так прошла зима, а весной в личной жизни В. С. Серовой наступили перемены. Напомнил о себе человек, с которым Валентина Семеновна познакомилась в Абрамцеве, Василий Иванович Немчинов, студент Киевского университета. Летом Василий Иванович подрабатывал у Мамонтовых репетитором их детей. Взаимная симпатия положила начало их переписке после отъезда из Абрамцева. И вот, в ответ на одно из писем Серовой, Василий Иванович пригласил ее переехать в Киев. И мать с сыном вновь двинулись в путь.
Вскоре после приезда в Киев B. C. Серова стала жить с Немчиновым гражданским браком.
В университете наступила пора каникул, и Василий Иванович предложил Валентине Семеновне с сыном погостить на его хуторе Ахтырка в Харьковской губернии. С отчимом у Валентина сложились самые лучшие отношения. Подростку явно не хватало мужского общества, и отчим, по-видимому, сумел пробудить в подростке чувства, которые дремали в нем. Впоследствии, вспоминая жизнь на Украине, Валентин Александрович с большой теплотой рассказывал о Немчинове, о том, каким искусным он был чтецом, о поездках на охоту.
В одном из писем, посланных из Ахтырки своей подруге, Елене Ивановне Бларамберг, [1] Валентина Семеновна, делясь украинскими новостями, упоминает сына Тоньку: «Ну, про того и говорить нечего. Он кроме лошадей да ружья ничего знать не хочет…»
Осенью вместе с Немчиновым они возвращаются в Киев. Василий Иванович устраивает жену с пасынком в доме своего знакомого – инспектора народных училищ. Поступать в киевскую гимназию, считает Немчинов, Валентину еще рано, и потому в течение года он сам будет готовить подростка по необходимым предметам.
Пока же, по совету Репина, Валентин был определен в Киевскую рисовальную школу, руководимую художником Николаем Ивановичем Мурашко. В письме Мурашко Илья Ефимович рекомендовал ему обратить внимание на «Тоню Серова»: «очень талантливый мальчик, „божьею милостью“ художник».
В 1885 году, когда эта школа праздновала десятилетний юбилей своей деятельности, Н. И. Мурашко отметил среди наиболее отличившихся ее питомцев, удостоенных за успехи малых серебряных медалей, и Серова. Впрочем, известный украинский художник Пимоненко был награжден в той же школе большой серебряной медалью, а Крыжицкий золотой. Более скромные успехи Серова объяснялись тем, что он учился там значительно более короткое время.
Система преподавания в школе строилась в основном на рисовании с натуры. Но в художественном наследии Серова, относящемся к периоду обучения у Мурашко, сохранились и другие работы – копии рисунков Ф. П. Толстого, его иллюстраций к поэме «Душенька» Богдановича, копия головы Иоанна Крестителя по картине Рафаэля «Мадонна с покрывалом» и др.
Рассказывая в письме Елизавете Григорьевне Мамонтовой об их житье-бытье, В. С. Серова в конце лета 1877 года с похвалой пишет о сыне: «Мой сорванец сделался просто гигантом, большущий, толстый, загорелый, скачет козлом с самой беззаботной физиономией и в невероятно прекрасном расположении духа. Веселость его меня самую заражает. Говорит уже с некоторым диалектом еврейски-хохлацким. Сегодня отправился экзаменоваться в прогимназию, что-то будет?..»
В гимназию сына приняли, началась учеба и вновь, как в Петербурге, продлилась всего один учебный год. За участие в студенческих волнениях в Киевском университете Василий Иванович был выслан в Харьковскую губернию под негласный надзор полиции. Туда же отправилась за мужем Валентина Семеновна с детьми: у нее родился от Немчинова второй сын, названный Сашей. Но и там жить вместе долго не удалось. Причиной отъезда стала разразившаяся в губернии эпидемия дифтерии. Как врач (он обучался на медицинском факультете) Василий Иванович принял участие в борьбе с эпидемией. В этой опасной обстановке Валентина Семеновна предпочла уехать с детьми в Москву, где к тому времени обосновался Репин.
В Москве, по воспоминаниям Валентины Семеновны, как только они устроились на новой квартире, сын поспешил в гости к Илье Ефимовичу, поселившемуся в Хамовниках.
После возвращения из Парижа Репин испытывал угрызения совести, что не вполне оправдал надежды тех людей, мнению которых доверял. Самые крупные его картины парижского периода, «Парижское кафе» и «Садко», были прохладно встречены критиками. Суть упреков во многом сводилась к сюжетам его работ: не такие, мол, полотна нужны сейчас России. И тогда, огорченный, он уединился на Харьковщине, в родном Чугуеве, где прошли его детские и юношеские годы. Репин написал там несколько полотен. В них он запечатлел солдат, которые вернулись с Русско-турецкой войны. Эта война затронула в России почти каждую семью и пробудила в обществе настроения славянской взаимопомощи. Однако полное удовлетворение он испытал лишь от написанных им портретов земляков, таких разных и таких колоритных. Вот под этими работами, «Мужичок с дурным взглядом», «Мужичок из робких», «Протодиакон», исполненных в лучших традициях мастеров прошлого, можно было с чистой совестью поставить подпись «И. Репин».
Летом Илья Ефимович воспользовался приглашением И. С. Мамонтова поработать в его усадьбе Абрамцево. Репин приехал со всем семейством, с женой, дочерьми и сыном Юрием. Им был предоставлен отдельный новый дом. Вскоре закипела работа. Илья Ефимович писал и окрестные пейзажи, и портрет хозяина усадьбы, и портрет своей старшей дочери Веры на лесной поляне с букетом цветов в руках. Кроме того, он задумал большую картину на тему проводов новобранца в крестьянской семье и начал набрасывать эскизы к ней.
Самым значительным событием лета стал приезд в Абрамцево Ивана Сергеевича Тургенева, которого сопровождала одна из его страстных почитательниц – Е. И. Бларамберг. Долгожданного гостя встретили с большим почетом. Гуляя по усадьбе, знаменитый писатель предавался воспоминаниям и указывал Савве Ивановичу и Репину места, где он любил рыбачить с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым.
И вот осенью, когда Репины вернулись в Москву, их внезапно навестил подросший и возмужавший Валентин Серов. Мальчика, после радостной для всех встречи, усадили пить чай, начались расспросы: когда вернулись из Киева, как жизнь там, посещал ли школу Мурашко? И мальчик терпеливо рассказывал обо всем, что интересовало Илью Ефимовича и Веру Алексеевну, упоминая и о том, что на Украине у него родился младший брат, названный Сашей, и что вернулись они в Москву втроем, а отчим остался на родине, в Харьковской губернии, где сейчас эпидемия. Вероятно, Валентин не знал, что Немчинову, находившемуся под негласным надзором полиции, жить в Москве, как и в Киеве, отныне было запрещено.
Но Репин из рассказа мальчика понял лишь то, что у Валентины Семеновны вновь какие-то семейные проблемы, а теперь еще и малыш на руках, и все это не лучшим образом сказывается на жизни Валентина. И потому, когда мальчик с надеждой спросил: «А мне можно будет опять ходить к вам на уроки?» – Репин, торопясь ободрить его, бодро ответил:
– Конечно, Тоша, можно и нужно. Будем учиться дальше. А пройдет зима, может быть, вместе поедем летом в Абрамцево. Ты ведь там был, понравилось?
В сознании подростка мгновенно возникло всё, что сохранила память о посещении усадьбы Мамонтовых, – и верховые прогулки, и катание на плотах и лодках, и веселые игры в парке и на лугах. Из глубин памяти донеслись обращенные к нему участливые слова Елизаветы Григорьевны: «Милый мальчик, да ты весь горишь…»
– Да, – сдержанно ответил он, – мне там понравилось.
Для продолжения образования Валентина Семеновна определила сына в третий класс первой московской прогимназии. С Ильей Ефимовичем договорились, что в субботу, сразу из гимназии, Валентин отправляется к нему домой, занимается рисунком, там же, у Репиных, ночует. В воскресенье к рисунку добавляются занятия живописью.
В новой школе на тех уроках, которые вызывали у него скуку, Серов исподтишка рисовал забавные портреты преподавателей. И не так уж, оказывается, это сложно. Стоит лишь отыскать в физиономии или в жестах «натуры» особенно отличительную черту и комически преувеличить ее, сохранив в остальном портретное сходство. Длинен нос – сделаем его в два раза длиннее. Если печальные глаза – так пусть из них текут слезы. В лице дамы-наставницы что-то ангельское – изобразим на ее спине крылышки.
Когда однажды он не без внутренней гордости показал эти рисунки Репину, Илья Ефимович добродушно посмеялся и объяснил, что это особый жанр и называется шарж. Одновременно предупредил, что если он попадется с такими рисунками, то последствия могут быть невеселыми. И дал совет: «Смех в рисунке должен быть легким, беззлобным, чтобы не обидеть человека и чтобы самому герою шаржа стало смешно».
Как когда-то в Париже, Валентин и в Москве с интересом наблюдал в зоопарке за повадками зверей и птиц. И просто поразительно, подмечал он, как часто животные и пернатые напоминают людей. Страус вышагивает с важностью богатого купца. Петухи уморительны франтоватым гонором. В глазах льва – чувство собственного достоинства. В глазах волка – скрытая злоба. Обезьяны же почесываются с таким видом, словно делают самое серьезное дело на свете. Он старался запомнить многоголосую симфонию этого царства: резкие крики обезьян, монотонное икание осла, оттенки и модуляции петушиного пения.
Однажды, не застав Илью Ефимовича дома, Валентин решил позабавить его детишек. Нахохлился, как петух, и стал мелкими шажками, угрожающе клокоча, приближаться к ним, словно вызывал соперника на жестокий бой. Потом встал, как китайский истукан, и, исподлобья печально глядя на детей, страдальчески заикал по-ишачьи, слегка покачивая склоненной головой. Войдя в раж, подрыгал ножкой и радостно заржал, изображая лошадь. Видя, что детям нравится эта игра, напоследок издал грозное, как нарастающий рокот грома, рыкание льва. Восхищенно наблюдавшие за ним девочки и малыш Юра зашлись от звонкого смеха. Никто не заметил появления в детской хозяйки дома. «Артист» смущенно замолчал, а Вера Алексеевна от души похвалила его:
– Да ты, Тоша, настоящий комик!
Но матери эти свои таланты он не демонстрировал: хватит с него упреков за лень в учебе. К тому же то, что способны оценить дети, не всегда доступно пониманию некоторых взрослых.
Той зимой Илья Ефимович трудился в своей мастерской над историческим полотном «Царевна Софья». Репин задумал изобразить заточенную в монастырь, непримиримую в своих убеждениях сестру Петра Великого. Среди знакомых он настойчиво искал необходимый ему типаж, просил позировать то одну даму, то другую. И с досадой видел: не то! Но однажды, словно впервые, уперся взглядом в волевое лицо заглянувшей в мастерскую Серовой. Твердое выражение, почти мужские скулы, мрачно горящий взгляд – это как раз то, что ему нужно, это и есть царевна Софья! Не согласится ли она попозировать? После некоторого колебания Валентина Семеновна дала согласие.
– Представьте, – говорил Репин, – что вы в тюрьме, вас уговаривают отречься от своих убеждений, но вы не уступаете, вы верите в свою правоту.
– Мне это и представлять не надо, – гордо ответила Валентина Семеновна. – Уверяю вас, Илья Ефимович, всё, о чем вы говорите, мне тоже присуще.
При этом, словно призывая подтвердить справедливость ее слов, она выразительно посмотрела на находившегося в мастерской сына. Когда рисунок был завершен, Валентина Семеновна внимательно изучила его.
– Мне кажется, всё схвачено верно. Так вы считаете, Илья Ефимович, что мое лицо подойдет для портрета царевны Софьи? Не слишком ли грубовато. Говорите прямо, я не обижусь.
– Уверен, что подойдет, – ответил Репин. – Как раз то, что мне надо. И мне приятно, Валентина Семеновна, что вы видите себя такой, какая вы есть. В женщинах это встречается редко.
– Поздравляю, Илья Ефимович, – с иронией парировала Серова. – Наконец-то вы заметили, что я, в некотором роде, редкая женщина.
– Для нас, портретистов, подобное трезвое отношение моделей к себе – это подарок, – задумчиво сказал Репин и, будто вспомнив что-то важное, заговорил с растущим воодушевлением: – В нашем ремесле случается, что невольно открываешь в своей модели черты, которые портретируемый хотел бы скрыть от других. Правда изображения не всем нравится. Многие дамы, да и мужчины тоже, предпочитают, чтобы их писали такими, какими они сами хотели бы себя видеть. Разумеется, всегда найдутся мастеровитые халтурщики, готовые во всем потрафить заказчику. Но уважающий себя мастер на компромисс не пойдет. Он будет писать так, как считает нужным, как видит свою модель. Именно в этом, по большому счету, и состоит разница между подлинным художником и беспринципным ремесленником.
Словно не замечая устремленный на него взгляд Валентина Серова, в котором отразилась глубокая заинтересованность всем, что он сейчас слышал, Репин увлеченно продолжал, обращаясь больше, конечно, к мальчику, для которого его слова представляли и педагогический смысл, и в чем-то даже откровение:
– Я вспоминаю, как Иван Николаевич Крамской, портретист от Бога, отозвался однажды об одном моем портрете на выставке передвижников. Признаться, я не считал его особенно удачным. Мне самому больше нравились другие мои работы на той же выставке – портрет Стасова, монаха в пустыне. А Крамской обратил внимание именно на эту вещь и написал мне в Париж замечательное письмо, призывая всегда следовать в искусстве правде жизни. Он увидел в женском портрете характер, обнаженный и выявленный до предельной глубины, когда тайна о человеке вдруг раскрыта. Он разглядел на полотне и рот ее, подобный змеиному, и глаза – будто бы ласковые, но коварные, необычайно страстные. И сквозящее во всем ее облике губительное кокетство. Крамской заметил в письме, что такой портрет служит беспощадным обличением модели, потому что изображена женщина крайне практичная, с самыми порочными наклонностями, способная довести любовника до грабежа, до смертельной дуэли, до виселицы, способная мучить его своими прихотями, не дав ему в жизни ни одной счастливой минуты. Прочитав всё это, я был ошеломлен. Мне казалось, что я лишь пытался запечатлеть образ модели и не стремился заглянуть в ее душу. А он разглядел суть и объяснил ее мне. И как изумил меня его отзыв! Кто же как не собрат по ремеслу лучше сможет просветить и оценить нас?
– Слушай, Тоша, и мотай на ус, – нравоучительно сказала Валентина Семеновна, но сын почувствовал лишь неловкость от ее банальной реплики. Неужели она не понимает, какой исключительный пример привел сейчас Репин? Тут раскрылась одна из тайн искусства, о которой он и не подозревал.
Учеба в прогимназии, несмотря на увещевания и матери, и Репина, шла плохо, и особенно ненавистны были Валентину предметы, пользу и необходимость которых для себя лично он совершенно не признавал, и это в первую очередь относилось к латыни. У него даже выработалось отвращение к школе – черта, которой иногда страдают одаренные натуры. Результат подобного небрежения к занятиям был неизбежен: к весне Валентину, из-за плохих оценок, пришлось оставить гимназию. И совершенно был прав учившийся в той же прогимназии журналист и театральный критик Николай Эфрос, написавший в воспоминаниях о Серове: «Педагоги и не подозревали, что не с леностью имеют они дело, а с властным призванием, которое поглощало всего мальчика, владело всеми его мыслями и мечтами и не оставляло ему сил и досуга заниматься гимназической премудростью. Уже тогда Серов… был художником, кроме карандашей и красок ничего не хотел знать».
Но Валентина Семеновна никак не могла смириться, даже допустить самой этой мысли, что сын останется «неучем». Ему как-никак, по достижении шестнадцати лет, – и это решено при полном одобрении Репина – предстояло сдавать экзамены в Академию художеств. Пришлось искать частных преподавателей по общим предметам, чтобы продолжать с ними занятия по гимназической программе. Хотя бы для успокоения собственной совести.
А в семейной жизни Валентины Семеновны, волей судьбы разлученной с мужем, Василием Ивановичем Немчиновым, случилось между тем важное событие: в начале апреля 1879 года появилась на свет дочь, названная Надей. И вскоре Валентина Семеновна, забрав с собой двух младших детей, уехала с ними жить под Новгород, в деревню Сябринцы. По ее убеждению, с малыми детьми в деревне жить было проще: легче можно найти дешевую помощницу по хозяйству, няньку. А Сябринцы были выбраны потому, что там поселился писатель Глеб Иванович Успенский, творчество которого за правдивое, без прикрас, изображение крестьянской жизни Валентина Семеновна высоко ценила. Хотелось быть поближе к своему кумиру, чтобы иметь возможность общаться с ним. Относительно старшего сына она договорилась с Репиным, чтобы он взял Валентина в свою семью.
К этому времени относится первое из дошедших до нас писем Валентина Серова, адресованное четырнадцатилетним подростком своей сверстнице и кузине Маше Симанович. С ней и с ее сестрой Надей, дочерьми старшей сестры В. С. Серовой, Аделаиды Семеновны Симанович-Бергман, жившими в Петербурге, Валентин познакомился, когда учился в гимназии Мая. Маша недавно гостила в Москве, встречалась со своим двоюродным братом, рассказала новости о петербургской жизни и о том, что в прошлом году в их семье появилась приемная русская девочка Оля, или Лёля, как они зовут ее, тихая и милая. Их отец, врач Яков Миронович Симанович, лечил серьезно болевшую мать Оли Трубниковой, но она все же умерла от туберкулеза, и тогда отец с матерью решили взять осиротевшую девочку в свою семью.
Валентин признается в письме кузине, что девочек он плохо знает, мало видел их и они ему в основном не нравились. «Ты вот да Надя (Лёлю я не знаю), – пишет он, – первая простая девочка… с которой можно говорить по душе». О себе сообщает: «Живу я, как и прежде, занятия идут обычным порядком, рисую довольно много и с охотой, и если теперь поеду с художником Репиным в деревню, то за лето сделаю огромные успехи».
В этой оговорке об «огромных успехах», которые подросток собирается достичь летом в рисовании, безусловно чувствуется вера в собственные силы. Упоминаемая в письме «деревня» – это мамонтовское Абрамцево. А девочка, появившаяся в семье Симановичей, кажется, чуть-чуть заинтересовала автора письма, хотя он и не мог подозревать, что эта загадочная пока Лёля со временем станет его женой.
В мае по приглашению Мамонтовых семья Репина вновь приехала на отдых в Абрамцево. Первой прибыла Вера Алексеевна с детьми. Им был предоставлен уже знакомый «Яшкин дом», как назвали его в Абрамцеве с легкой руки старшей дочери Мамонтовых Веры. Несколько позже подъехал со своим питомцем Серовым Илья Ефимович. Тепло, по-родному, встретила мальчика Елизавета Григорьевна: «Как ты вырос, окреп, как мы все рады опять видеть тебя!» Разве он так уж и вырос? Мамонтовские мальчики помладше, а кое-кто из них его даже перерос.
В первые дни после приезда Валентину не до рисования. Надо с веселой мальчишеской компанией снова облазить все окрестности, навестить конюхов и их лошадей. Старший из детей Мамонтовых, Сергей Саввич, вспоминал о подростке Серове, что он был смелым наездником: «Гуляя вместе или катаясь верхом, мы всегда предавались мечтам, и главной мечтой Серова было откопать где-нибудь клад и завести всевозможных лошадей, и английских, и арабских, ездить на этих лошадях и, главное, их рисовать».
Погода поначалу установилась теплая, но ненадолго, вскоре похолодало, и Валентин был благодарен предусмотрительности Репина, посоветовавшего прихватить с собой на всякий случай гимназическую шинель. В ней Серов и ходил на этюды с учителем: рисовали пейзажи, дома и крестьян в соседних селах, работников на полях и фермах.
Гости в Абрамцево всё подъезжали. Появился друг Саввы Ивановича, такой же любитель пения, как и он, хирург Петр Антонович Спиро. За ним – художники братья Виктор Михайлович и Аполлинарий Михайлович Васнецовы. А потом приехал и уже знакомый Серову по парижской жизни Василий Дмитриевич Поленов. Он сразу взял мальчишеское население Абрамцева под свою твердую руку, заставил привести в порядок лодочный флот на прудах и приучил коллективно работать на веслах. Всем им стали привычны решительные команды «капитана» Поленова: «Налегай!», «Весла сушить!», «Табань правым!».
Лодочные экскурсии по прудам сменились плаванием по реке Воря. Ставили парус на самой быстроходной лодке и отправлялись за несколько верст к железнодорожной станции встречать поезд, на котором возвращался из Москвы Мамонтов.
Тем летом Репин написал в Абрамцеве несколько пейзажей. На одном из них в женщине, стоящей у расположенного на холме дома, угадывается по характерной прическе Елизавета Григорьевна Мамонтова. Но особенно удачным получился вид деревянного мостика в парке с молодой женщиной (позировала жена Вера).
Усердно рисовал и Серов – виды деревень Мутовки и Быково, портрет юной племянницы Мамонтова, дочери его брата Анатолия, Татьяны. К этому лету относится и много других портретов наезжавших в Абрамцево гостей – Софьи Федоровны Мамонтовой, супругов Праховых, историка искусств Адриана Викторовича Прахова и его жены Эмилии Львовны, хозяйки усадьбы Елизаветы Григорьевны.
В конце лета учитель и ученик устроили соревнование, кто лучше нарисует позировавшего им Савву Ивановича. Когда сеанс был окончен, Мамонтов тщательно изучил оба рисунка и высказал свой приговор:
– А у Антона-то, Илья Ефимович, лучше вышло, жизненнее, острее.
– Значит, не зря я с ним занимаюсь, – несколько обескураженно ответил Репин и, признавая поражение, деловито посоветовал: – Что ж, Антон, распишись и дату поставь.
Маменькино имя Тоша в Абрамцеве не прижилось. И не важно, кто первый, Савва Иванович или один из его сыновей, стал называть Валентина Антоном – сам юный художник не возражал: имя Антон ему нравилось гораздо больше, чем Тоша.
Первый день сентября совпал в Абрамцеве с семейным праздником – днем рождения Елизаветы Григорьевны. Вечером в приусадебном парке собрались мальчики и девочки из патронируемой ею деревенской школы. На поляне горел костер. Кто-то поднес зажженную лучину, и в руках Мамонтовой вспыхнул факел. Подняв его перед собой, Елизавета Григорьевна торжественно провозгласила: «Пусть вечно светит вам в жизни, дорогие мои дети, неугасимый огонь знаний!» – и медленно двинулась с факелом вперед, навстречу расступившемуся перед его светом мраку ночи. Завороженные ребятишки дружно двинулись за наставницей, словно она вела их в таинственно прекрасный мир.
Как и все, собравшиеся на поляне, Серов с волнением наблюдал за этой сценой. Он поймал себя на мысли, что Елизавета Григорьевна становится ему все ближе, все дороже, быть может, даже ближе, чем мать.
Той же осенью, после возвращения из Абрамцева, Валентин Серов съездил вместе с Репиным в Петербург. Ходили по музеям, и в Эрмитаже учитель попросил ученика скопировать картину Рембрандта «Старушка с очками в руках». Поскольку представилась такая возможность, Серов заглянул в гости к родственникам, Симановичам. И уверенно, в один присест, сделал графический портрет наиболее близкой ему из кузин, пятнадцатилетней Маши. Вероятно, тогда же он познакомился с воспитанницей Симановичей, своей сверстницей Олей Трубниковой, и образ скромной, светловолосой девушки запал ему в душу.
После отчисления за неуспеваемость из гимназии Валентин начал занятия с наставницами, которых перед отъездом в деревню подыскала ему мать. Репин, вспоминая эту зиму, проведенную в их доме талантливым учеником, писал: «На уроки по наукам (за что надо принести благодарность заботам его матери В. С. Серовой) ему надо было ходить почти от Девичьего поля (Зубово) к Каменному мосту на Замоскворечье». Путь действительно отнюдь не близкий, и понятна ирония Репина по поводу «забот» Валентины Семеновны о сыне.
Но и в долгой зимней прогулке есть свои плюсы: можно наблюдать разные стороны жизни большого города и выделить что-то особо интересное. На Москве-реке, у Каменного моста, Валентин заметил постоянное скопление подвод. Мужики колют там лед, грузят на телеги и отвозят в город. Сценка эта показалась любопытной, и несколько раз, на обратном пути после занятий, когда уже можно не торопиться, Серов задерживался под мостом, чтобы сделать наброски мужиков в теплых тулупах и терпеливо ждущих их лошадей, впряженных в телеги.
На святки в московском доме Мамонтовых, на Садовой-Спасской, состоялся домашний спектакль «Иосиф», сочиненный Саввой Ивановичем специально для исполнения детьми, и в нем блеснул пробудившимся актерским дарованием Валентин Серов. Он великолепно, вспоминал Сергей Мамонтов, «сыграл измаильтянского купца – вложил в воплощенную им фигуру мельчайшие бытовые черты Востока, которые мог тогда угадать только инстинктом». В той же пьесе Валентин изображал египетского царедворца, и таким, по убеждению Сергея Мамонтова, как будто он сошел с барельефов Мемфиса или Фив: «Даже центральная роль фараона, исполнявшаяся очень красивой девушкой, побледнела рядом с характерной фигурой Серова».
В мастерской Репина Серов общается с его коллегамихудожниками – Суриковым, Виктором Васнецовым, Поленовым. С большим интересом он наблюдает, как Илья Ефимович напряженно работает над многофигурным полотном «Крестный ход в Курской губернии».
Как-то поблизости от дома, где жили Репины, случился пожар и обгорело соседнее деревянное строение. Валентин не удержался и, сидя у окна мастерской, исполнил превосходный рисунок, запечатлевший полуразвалившийся от пожара дом, слегка присыпанный снегом, маковку церкви на заднем плане, сидящую на дереве ворону. И по этой композиции, и по другим работам, особенно портретного характера, Илья Ефимович с удовлетворением видит, как крепнет рука его подопечного, и, стало быть, не зря уделяет он ему время и силы.
Для Валентины Семеновны эта зима тоже ознаменовалась творческими успехами. Она значительно продвинулась в сочинении оперы «Уриэль Акоста» – о вольнодумце Акосте, восставшем против догм иудаизма и отлученном за свои взгляды от еврейской религиозной общины. Сюжет, основанный на реальных событиях в Амстердаме XVII века, строился на основе одноименной пьесы немецкого драматурга Карла Гуцкова.
В начале марта 1880 года В. С. Серова обратилась с письмом к дирижеру и композитору Э. Ф. Направнику с просьбой включить отрывки из ее оперы в программу концерта с оркестром под его управлением. «Я не прошу ничьей протекции, – писала Серова, – не хочу также возбуждать Вашей жалости, напоминая Вам, как трудно пробиться в России человеку трудящемуся… Но я должна себя слышать хоть раз в оркестре, потому что я буду учиться еще долго и упорно. Ведь я сама понимаю, как много мне нужно приобрести уменья».
Надо заметить, что момент для такого обращения к Направнику, о чем, разумеется, не знала Серова, был выбран не самый благоприятный. Примерно за неделю до того, как он получил письмо Серовой, Эдуард Францевич дал отрицательный отзыв на оперу с тем же названием «Уриэль Акоста» А. Фамицина, представленную на рассмотрение в дирекцию петербургских императорских театров. Не усмотрев никаких признаков таланта в опере Фамицина, Направник столь же критически отнесся к сочинению В. С. Серовой («…Без мыслей нет формы, без того и другого нет сочинения»). Однако энергичная Валентина Семеновна на этом не успокоилась, разыскала в Петербурге гостившего на родине И. С. Тургенева и ознакомила его со своим творением. Отзыв Тургенева оказался более благожелательным, и в марте того же года Иван Сергеевич писал из Петербурга одной из дочерей Полины Виардо Марианне: «В этой музыке то там, то здесь попадается немало хороших мест. Я думаю, что эта почтенная женщина не слишком-то сильна как музыкант (она инструментовала только два действия), ее мысли куцы и плохо развиты, но она ввела в свою оперу старые еврейские мелодии с оригинальной и причудливой окраской, она не лишена воодушевления и драматического пыла, и весь акт в синагоге (унижение Акосты) хорош (именно там протяжные еврейские напевы)… Я пожелал г-же Серовой удачи в постановке ее сочинения, и если представится слишком много затруднений – сюжет революционный… я посоветовал ей перевести своего „Акосту“ на немецкий язык и попытаться поставить его в Мюнхене».
Тургенев также напомнил Серовой, что в Мюнхене она может рассчитывать на содействие дирижера местного оперного театра, хорошо знакомого ей Германа Леви. Надо полагать, мнение Тургенева наложило бальзам на рану, которую нанес Серовой своим суровым отзывом Направник.
Весной и летом Валентин Серов и Репин путешествовали по Крыму и Украине, по местам, связанным с Запорожской Сечью. Илья Ефимович собирался сделать ряд этюдов и собрать кое-какой историко-этнографический материал, необходимый для задуманной им большой картины о запорожцах.
Два года назад в Абрамцеве Илью Ефимовича восхитил колоритный рассказ приехавшего в гости к Мамонтову историка Николая Ивановича Костомарова. Историк тогда зачитал письмо турецкого султана Махмута IV и издевательски веселое ответное послание запорожцев, проникнутое духом свободолюбивой вольницы, бьющего через край озорства и меткого народного слова. В тот же вечер, в едином порыве вдохновения, Репин набросал рисунок сгрудившихся вокруг стола запорожцев, сообща сочиняющих ответ сиятельному турку. Да в таком сюжете – весь народ запорожский с его идеалами равенства, братства, презрения к угрозам и посулам врага! Однако серьезное воплощение этого замысла требовало и специальных знаний, и большой подготовительной работы. Пришло время начать ее.
В совместный путь Репин и Серов двинулись в мае. В единственном дошедшем до нас письме Серова матери из Крыма юный художник выдает свое превосходное настроение во время путешествия с Репиным на поезде в Севастополь, упоминает скалы при приближении к Севастополю, которые, пишет юноша, «точно огромные головы чудовищ… глядели и лезли на нас». Валентин описывает своеобразную красоту затопленных Днепром низин с отсвечивающей синевой водой, по которой плавают сотни уток с утятами. В Бахчисарае на него яркое впечатление произвели татары, чем-то похожие, по мнению Репина, на запорожцев.
Несколько месяцев учитель и ученик работали бок о бок, сделали массу эскизов. Серов рисовал виды Бахчисарая, танец живущих в городке татарок, пейзажи под Никополем, интерьер церкви со знаменами запорожцев в ней, степные просторы и могилы в степи, лошадей, портреты казаков, всевозможное оружие запорожских времен – кинжалы, сабли, ружья, топоры, пороховницы, как и разные предметы старины XVII века – кружки, чепраки, булавы, лошадиные седла – словом, всё, что удалось увидеть у тамошних коллекционеров.
Венцом поездки стало посещение острова Хортица на Днепре, где некогда располагались главные укрепления Запорожской Сечи. Именно там, рассказывали коллекционеры, удалось найти при раскопках некоторые замечательные образцы оружия запорожцев. Двое паломников, исследователей старины, зачарованно бродят по опаленной солнцем земле, осматривают развалины запорожских крепостей, любуются знаменитыми порогами вблизи острова. Волны там нахлестывают друг на друга, в клокочущих валах открываются стремительно крутящиеся воронки, готовые поглотить и плот, и дерево, и неосторожного гребца. Жутко становится при виде дикого разгула стихии. Отважным должно быть сердце путника, дерзнувшего бросить вызов реке. Легка здесь добыча воинов, поджидающих вблизи скал врага.
– Знали же запорожские «лыцари», где строить свои укрепления! – не отрывая глаз от реки, говорит Репин. И думает, что сам буйный нрав днепровских порогов вскормил своей неукротимой мощью поселившихся на этих берегах казаков. И пороги, и виденное ими оружие, как и остатки земляных укреплений, и рассказы встреченных в прибрежных деревнях жителей о будто бы всплывающих иногда, по большой воде, старинных запорожских судах, поднятых течением со дна реки, – кто ж разберет, где быль, где легенда, – и всё это, вместе взятое, служит надежной путеводной нитью в далекое и славное прошлое.
Одной из последних значительных работ, исполненных Серовым в Москве, стал сделанный им еще до отъезда на Украину рисунок «Горбун». Этого мальчика на костылях Илья Ефимович заметил в толпе паломников близ Хотьковского монастыря и был поражен острой характерностью юного страдальца. B Хотькове Репин подыскивал подходящие типажи для картины «Крестный ход в Курской губернии», и горбун на костылях мог стать заметной фигурой задуманного полотна. Его удалось зазвать в Москву, и паренек-калека даже прожил несколько дней в доме Репина. Тогда его нарисовал и Серов. Взглянув на мастерски исполненный этюд, Репин заявил: «Всё, Антон, пора тебе поступать в Академию» – по привычке всех обитателей Абрамцева Илья Ефимович теперь предпочитал называть своего подопечного Антоном.
И вот, после возвращения из украинского путешествия, Серов по совету Репина написал заявление в Академию художеств с просьбой допустить его к экзамену для зачисления вольнослушателем. В августе Серов едет в Петербург, и Репин дает ему письмо на имя лучшего, на его взгляд, преподавателя Академии, Павла Петровича Чистякова, а если вопрос с поступлением решится благополучно, советует во всем следовать рекомендациям Чистякова, какими бы странными они ни казались. В Петербурге Серов остановился в знакомом ему доме на Кирочной улице, где жила семья тетки по матери Аделаиды Семеновны Симанович. Не мешкая он идет в Академию, где находилась квартира профессора Чистякова. От робости не сразу решился позвонить. Но, вопреки страхам, Чистяков принял его радушно, заговорил по-своему, шутками-прибаутками, и Серову вдруг стало легко с ним. В письме Чистякову Репин характеризовал своего подопечного самым лучшим образом, как большой талант, и просил известного педагога допустить Серова работать, помимо общих классов Академии, в своей частной мастерской.
Вскоре последовал экзамен по рисованию. Выполнив задание, Серов из любопытства прошелся по рядам, чтобы взглянуть на листы других экзаменующихся. Они казались слабее его собственного, и лишь один рисунок остановил на себе внимание необычностью штриховки и общей манеры. После экзамена Серов подошел к заинтересовавшему его автору рисунка и предложил познакомиться. Этого конкурсанта звали Михаил Врубель. Он был лет на десять старше Серова. В первый год в Академии их знакомство не получило развития, но спустя некоторое время они подружились.
В Петербург Серов привез копию небольшой картины исторического живописца В. Г. Шварца «Патриарх Никон в Новом Иерусалиме». Этот заказ поступил от Д. В. Стасова, брата известного художественного и музыкального критика. Передав заказчику исполненную им копию, Серов получил за нее 50 рублей – свой первый заработок. «Эта копия, – писал о работе Серова Репин, – лучше оригинала, потому что Серов любил искусство больше, чем Шварц, и кисть его более художественна».
В свою мастерскую Чистяков допускал лишь лучших учеников и наставлял их безвозмездно, лишь из желания дать подопечным более глубокие знания. А начались штудии для Серова с небольшого конфуза. Чистяков, чтобы испытать его силы, бросил на пол скомканный лист бумаги и попросил нарисовать. Увы, несмотря на все усилия Серова, выполнить задание должным образом он не сумел. Самооценка его была несколько поколеблена, и таким образом он был утвержден учителем в необходимости настойчивой тренировки глаза и руки. Однако несколько месяцев занятий убедили Чистякова, что Репин, расхваливая способности Серова, был все же прав, и доказательством этому служил сделанный в конце марта 1881 года портретный рисунок головы Чистякова, в котором Павел Петрович увидел уверенное владение той техникой рисунка, которую он развивал в учениках.
На академических уроках Серов рисовал натурщиковмужчин в разных позах, гипсовые копии античных авторов.
Значительно больший интерес имела для него работа карандашом и кистью в приютившей его семье Симановичей. Семья большая. Глава семейства, Яков Миронович, выпускник Петербургской медико-хирургической академии, работал заведующим тифозной палатой в Александровской больнице, а по совместительству, уже безвозмездно, – и в детской больнице (Елизаветинской). Его жена, Аделаида Семеновна Симанович-Бергман, – педагог, организовала свою школу. Своих детей у супругов семеро: шесть дочерей и самый младший – сын, Коля. С ними росла и воспитанница семьи Оля Трубникова. И теперь присоединился приехавший из Москвы племянник Аделаиды Семеновны.
Появление сына в семье Симановичей и его совместную жизнь с ними в первые годы академической учебы Валентина Семеновна комментировала следующим образом: «До своей женитьбы, до семейного собственного очага Тоша искал уюта, теплоты в чужих семьях, отогревался у чужих очагов. Я не могла ему создать постоянной семейной обстановки; кратковременно, непродолжительно мы переживали вместе недолгие хорошие моменты; но отсутствие дара, необходимого для поддержания священного огня на алтаре семейственности, и склад всей моей жизни лишили моего сына этой основы детского счастья… Между тем Тоша неуклонно льнул к семейственности». Признание, отдадим должное, весьма самокритичное.
Уже в первую учебную зиму Серов перерисовал всех членов большой семьи Симановичей, начиная с самого Якова Мироновича. Некоторых из кузин он написал на холсте маслом. Исключение до поры до времени делалось лишь для одной «модели» – Оли Трубниковой: по-видимому, действовал неизбежный в отношениях еще недостаточно знакомых молодых людей барьер стеснительности. Но пройдет несколько лет, и именно ее он будет писать и рисовать чаще других.
В одном из рисунков Валентин запечатлел и как-то заехавшую в Петербург из своей деревенской глуши мать, Валентину Семеновну. Она изображена за роялем – быть может, в момент исполнения отрывков из оперы, которую сочиняла.
Третий год академической учебы отмечен для Серова сближением с двумя сокурсниками, надолго ставшими его друзьями. Хотя Михаил Врубель поступал в Академию одновременно с Серовым, но мастерскую Чистякова он начал посещать лишь в 1882 году. Той осенью Серов встречался с Врубелем не только у Чистякова, но и у переехавшего в Петербург Репина. По воскресеньям Репин устраивал у себя акварельные классы, о чем сообщает в письме В. Д. Поленову в начале октября: «Какой молодец Антон! Как он рисует! Талант и выдержка чертовские! По воскресеньям утром у меня собираются человек шесть молодежи – акварелью. Антон да еще Врубель – вот тоже таланты. Сколько любви и чувства изящного! Чистяков хорошие семена посеял, да и молодежь эта золотая!!! Я у них учусь».
Разумеется, и для академической молодежи общение с таким мастером, как Репин, не могло остаться бесследным. В письме наиболее близкому ему человеку, сестре Анне, Врубель пишет о Репине: «Сильное он имеет на меня влияние: так ясны и просты его взгляды на задачу художника и на способы подготовки к ней… так, наконец, строго и блестяще отражаются в его жизни. Обещал по субботам устраивать рисовальные собрания. Искренне радуюсь этому…»
А Серов в это время, чем лучше узнает Врубеля, тем большей симпатией и уважением проникается к нему. До поступления в Академию тот успел закончить юридический факультет Петербургского университета. Талантлив не только в области изящных искусств. Знает несколько иностранных языков и латынью, над которой Серов безуспешно мучился, владеет в такой степени, что преподает ее детям сенатора Берха, женатого на близкой родственнице Михаила Глинки. Да и сам Врубель неравнодушен к музыке и на светских музыкальных вечерах, до коих он большой охотник, иногда поет вместе с одной из дочерей Чистякова и с другим, близким к Чистякову академистом, Савинским, трио и дуэты из русских и зарубежных опер. А уж начнет рассуждать о любимых писателях, о Гёте, Шекспире, Пушкине, Лермонтове, то лучше самому помолчать и послушать его – до того говорит умно.
Но и Серов, хотя намного моложе, своей преданностью искусству привлек сердце Врубеля, о чем весной 1883 года Врубель писал сестре, которую ласково называл Анютой: «Очень мне хотелось бы за лето заработать столько, чтобы на зиму эмансипироваться и жить в комнатке на Васильевском, хотя бы вместе с Серовым. Мы очень сошлись. Дороги наши одинаковые, и взгляды как-то вырабатываются параллельно».
Другой приятель Серова, Владимир фон Дервиз, в отличие от большинства коллег-академистов от безденежья никогда не страдал, потому как родом из весьма состоятельной семьи: отец – член Государственного совета, дядя, Павел Григорьевич, – известный концессионер, строитель железных дорог, прозванный за свое огромное богатство «русским Монте-Кристо». Сам же Владимир – парень простой и славный, до Академии тоже, как и Врубель, учился – окончил курс в Училище правоведения. Он старше Серова на шесть лет и носит для солидности окладистую бороду.
На традиционную, одиннадцатую по счету, Передвижную выставку друзья-академисты отправляются вместе. Внимательно осматривают полотна, развешанные в залах Петербургской Академии наук. Как обычно, тут было на что посмотреть. Порадовал Суриков картиной на тему русской истории «Меншиков в Березове». Ярошенко в полотне «Курсистка» запечатлел новый тип современных молодых женщин, судя по одежде, из разночинной среды, стремящихся к знаниям и увлеченных «новыми идеями». Но больше зрителей толпится у картины И. Н. Крамского «Неизвестная». Женщина, изображенная на ней, очень хороша собой, и взглядом темных глаз словно призывает зрителей оценить ее красоту. Два франтоватой внешности господина остановились у полотна, и слышна восхищенная реплика одного из них: «Какая, однако, камелия!» Серов, не отрывая взгляда от полотна, смущенно спрашивает Врубеля: «А что значит – камелия?» Тот, усмехнувшись, вполголоса отвечает: «Кокотка, женщина легкого поведения». Теперь понятно, почему полотно вызывает скандальный интерес, а некоторые и осуждают Крамского за то, что он написал и выставил его здесь.
Серов вспомнил рассказ Репина о том, как Крамской реагировал на репинский портрет женщины, способной довести до смертельной дуэли, до виселицы влюбленного в нее. Что ж, теперь и сам Иван Николаевич запечатлел примерно такой же тип роковой красоты.
А вот и знакомое личико – «Верочка Мамонтова». Автор портрета – Н. Д. Кузнецов. Впрочем, шалунью Верочку можно было написать и получше.
Наконец подошли к большому полотну Репина «Крестный ход в Курской губернии», и Серов вспомнил, как жил вместе с Репиным в Хотькове, когда Илья Ефимович писал этюды к картине, и горбуна, которого вместе с Репиным они рисовали в мастерской. Врубель, рассматривая полотно, пока помалкивает, но на улице, когда выходят из здания, где экспонировались картины, вдруг резко и бескомпромиссно высказывает свое мнение:
– Ну и что, этот «Крестный ход», это то, к чему мы должны стремиться в живописи? Да к чему все это – показывать убожество нашей провинциальной жизни? И где же глубокое изучение натуры, формы? Где же культ прекрасного? Ни одного лица, вызывающего симпатию. Не живопись, а публицистика, желание навязать зрителю определенную тенденцию. Нет, к прекрасному в живописи ведет совсем иной путь. И зачем только Илья Ефимович потчует почтенную публику рожами всех этих калек, урядников и бедных наших богомольцев?!
Серов, сознавая, что в чем-то Врубель и прав, все же не мог согласиться с такой резкой критикой картины, в которую его учитель вложил немало сил и художественной страсти. Попробовал спорить, но вышло не очень убедительно.
В тот же вечер им вместе довелось быть на очередном акварельном сеансе у Репина, и Илья Ефимович, уже осведомленный о посещении выставки, спросил Врубеля, что он думает о его картине «Крестный ход». Видимо, ожидал заслуженных похвал, но Врубель выразительно промолчал. Репин догадался, что комплиментов ждать не приходится, и акварельный сеанс был безнадежно испорчен. Этот инцидент сказался и на дальнейших отношениях художника с молодыми коллегами. Впрочем, приближалось лето, и уже в апреле Репин уехал вместе с В. В. Стасовым в продолжительную поездку по Европе.
Часть прошлого лета Серов провел в деревне Сябринцы Новгородской губернии, где обосновалась мать. Теперь она жила там одна, отправив детей от второго брака в район Сочи, где ее хорошая знакомая, Мария Арсеньевна Быкова, организовала земледельческую общину. На вопрос сына, почему эта Быкова забралась со своей общиной так далеко, Валентина Семеновна с обычной для нее горячностью ответила, что там Быковой спокойнее, а беспокойства от полиции начались у нее давно, когда открылась ее близость к кружку Чернышевского, и в результате ей, замечательному педагогу, запретили всякую деятельность на этой ниве, как и проживание в Москве и Петербурге.
Прошедший год для Валентины Семеновны был омрачен неожиданной смертью на Украине заразившегося тифом Василия Ивановича Немчинова. Серов тогда приехал к матери в Сябринцы, чтобы как-то утешить ее в горе. Захотелось написать ее портрет, и Валентина Семеновна согласилась. Но все же момент для портретирования был избран не самый удачный, и в процессе позирования что-то с ней произошло. Она как-то надломилась, вскрикнула:
– Не смотри на меня так. Твой взор словно душу мою обнажает. Не надо! – и зарыдала, склонив голову на стол.
Летом 1883 года Валентина Семеновна решила навестить Быкову и детей в местечке под Сочи, где они жили, и, узнав, что старший сын тоже собрался путешествовать по Кавказу вместе со своим приятелем Дервизом, стала уговаривать ехать до Тифлиса вместе. Однако друзья-академисты предпочли ехать на Кавказ через Крым, сами по себе. Из этой длившейся примерно месяц поездки Серов привез альбом рисунков: фигуры крымских татар на лошадях и без лошадей, монаха в Симеизе, виды побережья, моря в Крыму и близ Сочи, пещеры в районе Гори, снежную вершину Эльбруса на фоне окружающих гор… Очевидно, в тот период охлаждение между матерью и сыном нарастало. Из письма В. С. Серовой сестре А. С. Симанович-Бергман, направленного в конце июня из Сочи: «…Тоша поступает со мной безжалостно. Не пишет и не хочет писать, – я просто измучилась, думая о нем. Я так умоляла его писать. Месяц прошел без известия».
Стремление несколько разнообразить уже порядком надоевшие штудии натуры в академических классах навело Серова и Дервиза на мысль написать натурщицу в роскошной обстановке, вызывающей в памяти времена Возрождения. Дервиз взялся доставить из дома родителей подходящую для этюда обстановку. Совместно подыскали натурщицу, согласившуюся позировать полуобнаженной. Возник вопрос: где же работать? Но решение пришло само собой, поскольку и Врубель в эту зиму был одержим творческими идеями и для воплощения их арендовал помещение для мастерской. Друзья предложили объединиться: вклад Серова и Дервиза в общий проект – антураж и натурщица, а Михаил Александрович предоставляет мастерскую. И работа закипела. Об этой творческой поре сохранилось свидетельство Врубеля в письме сестре Анюте: «…Задетый за живое соревнованием с достойными соперниками (мы трое единственные понимающие серьезную акварель в Академии), – я прильнул, если можно так выразиться, к работе; переделывал по десяти раз одно и то же место, и вот с неделю тому назад вышел первый живой кусок, который меня привел в восторг… Я считаю, что переживаю момент сильного шага вперед…»
Что ж, и Серов с Дервизом признают успехи и первенство Врубеля в акварельной технике. От его картины, запечатлевшей сидящую в кресле, на пышной атласной подушке, полуобнаженную женщину на фоне ковров, с маленькой статуэткой в руке, трудно оторвать взгляд. Акварель воспринимается как изысканный драгоценный камень.
Очередной сеанс окончен, и натурщица Агафья, прикрывшись тканью, драпирующей во время позирования нижнюю часть ее тела, уходит за ширму одеваться. Вновь выйдя в комнату, уже одетая в пальто, прощается до следующей встречи. Разговор от живописи, – Серов и Дервиз признают, что в акварельной технике Врубель их все же обскакал и явно вне конкуренции, – постепенно переходил к досугу, и Врубель внимательно слушает рассказ друзей, как отлично провели они воскресный день на Кирочной, в семье родственников Серова Симановичей: шарады, романсы, веселые игры с очаровательными девушками, кузинами Серова. «Романсы? – задумчиво переспрашивает Врубель. – Это интригует».
А друзья подзадоривают его:
– Не пора ли, Михаил, присоединиться? Мы им все уши прожужжали, какой ты у нас талант и эрудит.
Но Врубель медлит с ответом. Упоминание об очаровательных девушках навело его на иные мысли. Почти одновременно с «Натурщицей в обстановке Ренессанса» он работал в мастерской над другой композицией, изображающей Гамлета и Офелию. Позировали коллеги по академической учебе – Федор Бруни и Мария Диллон. Но получилось, на его взгляд, не то, что надо.
– Я хочу сделать новый вариант «Гамлета и Офелии», – сказал он. – Быть может, на сей раз маслом. Той акварелью я не доволен. И Гамлет вышел размазней, и Офелия – кисейная барышня, а не героиня жестокой драмы. Может, ты, Валентин, поможешь с позированием в роли Гамлета?
– Могу, – подтвердил согласие Серов, – только подхожу ли?
– Да почему же нет! – уверил Врубель. – И гораздо больше, чем Бруни. У тебя бывает жестковатое лицо человека, которого мучают горькие, отравляющие жизнь мысли. Хотя ты и сам, наверное, этого не замечаешь. Где бы еще найти иную Офелию, миловидную и с романтической душой?
– Как раз такие у Симановичей и есть, – ввернул Дервиз.
– Без шуток? – усомнился Врубель.
– Сам убедишься, – подтвердил Серов.
Так Врубель в компании друзей появился у Симановичей и был радушно принят в этом кругу. Лишь одно волновало Серова: как бы Врубель, с его умением вести светские беседы, походя демонстрируя искушенность в вопросах литературы и искусства, не увлекся всерьез Лелей Трубниковой. Валентин уже чувствовал, что влюблен в эту миниатюрную тихую девушку, и по некоторым признакам догадывался, что и она отвечает ему взаимностью. Но эти опасения оказались напрасными. Напротив, с приходом нового гостя Лёля деликатно старалась подчеркнуть, что на ее внимание Михаилу Александровичу особенно рассчитывать не стоит. Но и Врубелю грех было обижаться, поскольку старшая из девиц Симановичей, Маша, свое расположение к новому знакомому не скрывала, да и сам Михаил Александрович сразу выделил ее из других.
Музыка и пение в этом доме – любимое развлечение. Любят петь дуэтом Владимир фон Дервиз и Надя Симанович. Иногда и Врубель присоединяется к ним, и другие. Лишь Серов помалкивает, отшучиваясь, что ему медведь на ухо наступил. Ноту оживления вносит и появление в доме приехавшей из деревни Валентины Семеновны. Она сразу же садится к роялю. Помимо известных музыкальных пьес, какие она любит, звучат и отрывки из ее собственной, уже завершенной оперы «Уриэль Акоста».
Далее были и танцы, и веселое представление. Специально для него кузины выполнили просьбу Серова – сшили из простыней клоунский наряд. Он набелил лицо, натянул на ноги турецкие туфли с загнутыми носками и развлекал общество пантомимой, изображая Пьеро. И сожалел, что Лёля постеснялась и не захотела присоединиться к нему в этой пантомиме. Но так заразительно смеялась, словно понимала, что он придумал всю эту сцену для нее, чтобы понравиться ей, заслужить ее одобрение, показать, что ему отнюдь не чужды юмор и эксцентрическое актерство.
Веселый вечер заканчивается. Девушки вышли на улицу, чтобы проводить гостей. На мостовой и тротуарах лежал свежий снег, и это побудило начать играть в снежки. Дервиз же пообещал, что в следующий раз пригласит всех покататься на санях.
Врубель был благодарен друзьям за новое знакомство, и в письме сестре Анюте сообщает об этих вечерах у «тетушки Серова, где богатейший запас симпатичных лиц», и о том, что мать Серова уговаривает его написать эскиз декорации к последней сцене ее оперы «Уриэль Акоста», которую собираются ставить в Москве.
Во время очередного визита к Симановичам Врубель сделал карандашный головной портрет Маши и тут же вручил ей к нескрываемой радости девушки. Но относительно Маши у него были и иные планы. Он рассказал девушке, что работает над композицией на тему Гамлета и Офелии и ему очень нужны модели, с которых можно писать шекспировских героев. Ее кузен, Серов, уже согласился изображать Гамлета. Так не согласится ли и Маша попозировать для полотна в паре с ним? Согласие Маши было получено, и вновь в мастерской закипела работа. Михаил Александрович, как заправский режиссер задуманной им сцены, указывал «Гамлету» и «Офелии», какие позы они должны принять и что именно изображать. В результате совместных трудов художника и моделей новая композиция Врубеля вышла глубже по содержанию и сумрачнее по колориту. Но Михаил Александрович, похоже, был недоволен и ею.
Вскоре после завершения работы над полотном Врубель и Маша Симанович, а с ними как провожатый и Серов поехали поездом в Сябринцы навестить Валентину Семеновну. Из воспоминаний М. Я. Симанович известно, что дорогой Врубель делал ей смутные намеки на свое чувство к ней, сравнивая свое состояние с состоянием героя Льва Толстого Левина в одной из сцен романа. Однако смысл его намеков до нее тогда не дошел, и она не нашлась, как можно поддержать такой разговор.
Чувство Серова к Лёле Трубниковой более определенно, и он уже признался ей в своей любви и услышал в ответ, что и она его любит. Им по девятнадцать лет, и оба понимают, что торопить события пока не стоит.
Немного погостив в Сябринцах, расположенных вблизи железнодорожной станции Чудово, Врубель с Машей возвращаются в Петербург, а Серов остается пожить с матерью в деревне. С поселившимся в Сябринцах писателем Глебом Успенским Валентин познакомился еще два года назад, а в эту зиму представилась возможность съездить по приглашению Глеба Ивановича к жившему неподалеку родственнику писателя А. В. Каменскому, издателю дешевых общедоступных книжек для народа. Валентина Семеновна с радостью приняла приглашение и убедила сына, что и ему эта поездка будет интересна.
В воспоминаниях о сыне Валентина Семеновна описала эту поездку в усадьбу Лядно, отстоявшую от Сябринцов на 18 верст. «Мороз был лютый… Замерзшие болота, как стекло, разбивались о тяжелые полозья… Глеб Иванович ямщиков подзадоривал перегонять друг друга…
Поездки в Лядно в былые времена имели свою специфическую прелесть. Там, в болотах, среди леса… вдруг нежданно-негаданно очутишься в приветливом помещичьем домике с прекрасным роялем, со множеством рисунков, с туго набитыми библиотечными шкафами.
Хозяин был глубоко просвещенный человек, отзывчивый ко всем культурным проявлениям жизни…
Меня особенно привлекала жена его – прекрасная музыкантша, ласковая гостеприимная хозяйка. И кто только не бывал в этом укромном уголочке, ютившемся в непроходимых болотах, описанных Глебом Ивановичем в его знаменитых рассказах!»
Валентина Семеновна упоминает, что тогда, на рождественские каникулы, к Каменским приехала учащаяся молодежь, было шумно, весело, и после застолья ее попросили сыграть «Руслана и Людмилу» и что Глеб Иванович увлеченно, но невпопад пытался дирижировать ее игрой. При всей любви Глеба Успенского к музыке, замечает в тех же воспоминаниях Валентина Семеновна, писатель критически относился к ее попыткам музыкально образовать крестьян, «насадить музыку в мужицкой сфере». Ее огорчало, что Глеб Иванович разделял взгляды тех современников, кто считал, что мужику нужен прежде всего хлеб, а не музыка.
И еще кое-что очень не нравилось Глебу Успенскому в B. C. Серовой, о чем свидетельствуют его письма, – ее стремление по любому поводу и без оного вести антиправительственные разговоры. Так, зная, что Валентина Семеновна выехала по своим музыкальным делам в Москву, он пишет московской знакомой, писательнице Л. Ф. Ломовской: «…Вот просьба: Вы, вероятно, видите в Москве Серову, композиторшу. Играет она хорошо, а говорит плохо, мне всегда не нравится ее разговор: обратите и Вы на это ее внимание, а то после ее отъезда от нас из деревни идут у старосты о ней справки, приезжал какой-то агент и т. д., словом, „болтают“… да и сама она мастерица по болтальной части, а ведь в нынешние времена за разговоры, тем паче пустые, начальство не хвалит. Вообще не может ли она сообразовываться с духом времени и позабыть, что были какие-то 60-е годы, когда что громче орешь, то превосходней…»
Опасения Успенского, как бы излишняя «болтливость» соседки не навредила ему, понятны, если иметь в виду, что он еще с начала 70-х годов находился под негласным надзором полиции. После 1881 года, когда народовольцы убили Александра II и начались массовые аресты подозреваемых, наблюдение за писателем усилилось, были арестованы учитель его сына и одна из его московских знакомых, а у других его знакомых были произведены обыски и отобраны письма писателя к ним.
Всё, о чем просил Ломовскую Г. И. Успенский, она Серовой передала и сообщила писателю, что «услышала в ответ от м-м С. заявление о полном бесстрашии». Разговор с Серовой, по словам Ломовской, не привел ни к чему: «композиторша» заявила собеседнице, что даже если «дело завершится каким-нибудь инцидентом», то эта история послужит сюжетом для ее новой оперы.
В мае Серов неожиданно узнал, что Врубель покидает Академию и уезжает работать в Киев – участвовать в росписи и реставрации Кирилловской церкви. А пригласил его туда друг Чистякова киевский профессор истории искусств Адриан Викторович Прахов, которого Серов некогда рисовал в Абрамцеве. Получилось, рассказывал Врубель, так, что Прахов зашел к Чистякову и спросил, нет ли у него толкового ученика-академиста, которого Павел Петрович мог бы рекомендовать для реставрационной работы в церкви. И Чистяков без раздумий ответил: «Есть, Врубель». И показал академические рисунки Врубеля Прахову.
– Мне дали понять, – продолжал рассказ Врубель, – когда я явился к Прахову, что работа не только серьезная, но и хорошо оплачиваемая. И тут уж – сомнения и колебания в сторону. Сколько ж можно жить с пустым карманом и просить о денежной помощи родственников? Пора самому на ноги вставать. И там – живое дело, к которому мы себя готовили.
– А как же учеба? – спросил Серов.
– Павел Петрович говорит, что не забудет про меня. Поработаю сколько надо в Киеве и вернусь, чтобы закончить академический курс.
Расставаться с Врубелем Серову было грустно, все же немало связывало их друг с другом. Но и его аргументы были не поняты. Пора бы и ему тоже «встать на ноги».
В конце мая Врубель уехал в Киев.
Лето Серов проводил в Абрамцеве, и при встрече Елизавета Григорьевна Мамонтова рассказала ему о новом увлечении всей их семьи. В рождественские каникулы, в их московском доме на Садовой-Спасской, в присутствии многих столичных знаменитостей, состоялась премьера оперы «Алая роза». Либретто ее написал Савва Иванович, а музыку по его заказу сочинил ученик Н. Рубинштейна композитор Н. Кротков. Декорации же, по просьбе Мамонтова, написал Василий Дмитриевич Поленов. И вот даже знатоки театра, видевшие их спектакль, признали, что поставлен он был вполне профессионально. И хотя, продолжала рассказ Елизавета Григорьевна, очень боялась она, как бы певцы, тот же Савва Иванович и друг его Спиро, не подвели, но, слава богу, все обошлось.
А после «Алой розы» ставили «Снегурочку» Островского, и с этой постановкой ждал их еще больший успех. Особенно хорош был Петр Антонович Спиро в роли царя Берендея.
Кроме радостно встретившей его компании мамонтовских детей, племянников и племянниц, Серов застал в Абрамцеве Виктора Михайловича Васнецова и приехавшего из Парижа уже очень известного скульптора Марка Матвеевича Антокольского. Васнецова, слышал Серов, Елизавета Григорьевна стала особенно ценить с тех пор, как создал он проект украсившей усадьбу церкви во имя Спаса Нерукотворного и сам же написал для церкви два образа – «Преподобного Сергия» и «Богоматери с младенцем». Другие образа для той же церкви писали Репин с женой, Верой Алексеевной, и В. Д. Поленов. Совместная работа над храмом стала тем общим делом, которое объединило близких С. И. Мамонтову людей.
В этот приезд Серов обратил внимание на нового члена мамонтовского кружка – высокого и худого Илью Остроухова, шутливо прозванного в Абрамцеве Ильюханцией. Начинающий художник-пейзажист, он, как подметили, не любил ходить на этюды в одиночестве и нередко просил служившую у Мамонтовых гувернантку Акулину Петровну составить ему компанию. Однако ни для кого в Абрамцеве не было секретом, что застенчивый Ильюханция увлечен отнюдь не Акулиной, а племянницей Мамонтовых Татьяной. Со своей сверстницей Татьяной Серов подружился еще в детстве. Теперь же некто Остроухов, по слухам, посвящает Тане Мамонтовой пламенные вирши. Неплохой пианист, вечерами Илья Остроухов, по просьбе Елизаветы Григорьевны, исполнял вместе с ней в четыре руки произведения Бетховена.
Серов же нередко пропадал в «Яшкином доме», где жил Виктор Михайлович Васнецов. В той же пристроенной к дому просторной мастерской, где несколько лет назад Васнецов начинал работу над картиной «Богатыри», художник ныне писал огромный фриз для Исторического музея «Каменный век». Во время их прошлой встречи в Абрамцеве Васнецов уговорил Серова позировать для задуманных им фигур первобытных людей. Серов согласился, и Виктор Михайлович сделал с его фигуры несколько рисунков. И вот сейчас Серов с изумлением наблюдал, как этот замысел воплощается в гигантское полотно. Здесь и сцены у пещеры: кто-то из воинов тащит добычу на плечах, кто-то разводит огонь, видна фигура гиганта с палицей и копьем в руках. Поражала воображение картина охоты на мамонта у приготовленной для него ловушки. Со сценой охоты соседствовала картина радостного пиршества.
– Не узнаешь себя? – задорно спросил Васнецов.
– Где же я? – силился отыскать себя в многофигурной композиции Серов.
– Да вон там, – показал художник, – среди пирующих, обгладываешь кость.
– Вроде лицо другое, – усомнился Серов.
– Так ты ж тогда еще дикарем первобытным был, – шутливо ответил художник. – А фигура, Антон, точно твоя, с тебя писал.
Несколько дней, по совету Антокольского, Серов не брал в руки ни карандаша, ни кисти, но незадолго до отъезда Марка Матвеевича решил, что отдыхать хватит, и пристроился рядом с Васнецовым, когда тот взялся писать портрет скульптора, и тоже начал рисовать его. Сравнив обе работы, Антокольский отдал предпочтение рисунку Серова, отметив в нем и большее сходство с оригиналом, и более строгую манеру исполнения, и заключил словами похвалы Серову:
– Тут и видно, что ученик Чистякова.
Так кратковременный отдых от работы завершился, и Серов увлеченно рисует и лошадей, и портрет Саввы Ивановича, склонившегося над рукописью, и портреты других гостей Абрамцева. Особенно удался ему рисунок мамонтовской родственницы Марии Якунчиковой – в виде «амазонки», сидящей на лошади в длинном черном платье и изящной шляпке.
Из Абрамцева Серов пишет письмо Лёле Трубниковой. Рассказывает о Васнецове и Антокольском, о их горячих спорах об искусстве. Касаясь их с Лелей отношений, мягко упрекает девушку: хоть она и признается, что любит его, но «за будущее не может поручиться». И это повод для его иронии: «какая предупредительность, право, мне очень нравится». Прощаясь, пишет: «обнимаю и целую тебя».
В первый день августа в Абрамцеве состоялась премьера пьесы Саввы Ивановича – автор считал, что получилась не то оперетка, не то водевиль – под названием «Черный тюрбан». Разучиванию ролей и выбору актеров предшествовало публичное чтение «Восточной фантазии с музыкой и танцами», навеянной, как догадались некоторые из гостей, давним путешествием Мамонтова в Персию. Мамонтов был опытным и даровитым чтецом, умевшим интонацией голоса подчеркнуть и комически-пародийный настрой пьесы, и характеры главных героев – грозного хана Намыка и страстной Фатимы, из-за которой хан утратил покой, и отважного возлюбленного Фатимы, ханского сына Селима. Серов, как и другие слушатели, от души смеялся, когда Савва Иванович, молодецки расправив плечи и даже изобразив перестуком пальцев по столу четкую поступь ханских стражников – феррашей, декламировал их воинственную песню. Придав свирепость взгляду, Мамонтов прочитал сцену, где впервые появляется хан:
Я тот самый хан Намык,
Что здесь властвовать привык.
Если только захочу,
Всех в бараний рог скручу!
Но свирепость сменилась сладостью во взоре и речи, как только Намык заговорил о той, что мучает и сводит его с ума:
Я прекрасно окружен,
У меня сто тридцать жен!
Но на днях мне ясно стало,
Что и этого мне мало.
Здесь девица есть Фатима,
Чрезвычайно мной любима, —
И решил я назло всем
Взять ее к себе в гарем.
После чтения пьесы, имевшей большой успех, тут же перешли к распределению ролей. Хана Намыка должен был исполнить Спиро, и Мамонтов признался, что и писал эту роль в расчете на своего друга. Фатиму взялась сыграть племянница Саввы Ивановича Татьяна, Селима – Сергей Мамонтов, а смотрителя гарема – его младший брат Андрей. Серов попросил не самую простую роль воспитателя ханского сына Моллы, которая требовала по ходу действия и некоторых превращений. В одной из сцен он должен был участвовать в розыгрыше хана, появиться перед ним в женском платье и чадре и станцевать сладострастный восточный танец. Валентин одновременно взялся сыграть и одного из пятерки самоуверенных феррашей: уж очень полюбилась ему их хвастливая песенка.
Афишу спектакля сделал Виктор Васнецов, а исполнение декораций поручили Серову и Остроухову. И началась подготовка к премьере. Елизавета Григорьевна с Еленой Дмитриевной Поленовой, сестрой художника, шили костюмы. Дом оглашался репликами заучивающих роли артистов. Представление, устроенное на лужайке перед домом, весьма позабавило публику. Танец Серова, переодетого женщиной, в чадре и легких шароварах из белого атласа, имел огромный успех. И чего никто не ожидал, так это немой выразительности Ильюханции Остроухова, когда, худой, долговязый, в красном костюме палача, он с мрачным видом, под звуки похоронного марша, выступил из-за кулисы с деревянной плахой в руках и, грозно взглянув на хана, поставил плаху на землю. Его обычная серьезность произвела в этой сцене неотразимо комическое впечатление.
В Петербурге Серов подыскал себе новое жилье, которое ему очень нравилось. Из письма Е. Г. Мамонтовой: «Комнатка у меня совсем как у немецкого композитора. Небольшая, но в три окна, светлая, чистенькая. Одно окно меня приводит в восторг: оно все почти сплошь заполнено готической кирхой очень милой архитектуры, стрельчатые окна, контрфорсы, флораны, шпиль, одним словом, готика, и я чувствую себя в Германии. Хозяйка у меня вдобавок чистая немка. Часто с ней говорю по-немецки».
Занятия в Академии шли своим чередом, да вот беда, что все реже посещал их Дервиз: признался, что устал от учебы, не видит в ней большой пользы для себя и всерьез подумывает бросить Академию. «Да что же вы со мной-то делаете? – сокрушался Серов. – Сначала Врубель, а теперь и ты».
Впрочем, как и Серов, Владимир Дмитриевич пока исправно вел уроки рисования в школе, организованной Аделаидой Семеновной Симанович. Там же преподавали старшие из кузин Серова, Маша и Надя, и Оля Трубникова, что дало возможность молодым людям видеть друг друга. Если начавшийся было роман Врубеля и Маши Симанович быстро завял с отъездом Врубеля в Киев, то отношения между Дервизом и Надей перешли, судя по всему, в глубокое чувство, и Серов радовался и за друга, и за себя: иногда ему казалось, что Лёля больше симпатизирует Дервизу, и летом, в одном из писем к ней, он даже рискнул легко пошутить по этому поводу.
А Валентина Семеновна этой осенью обосновалась в Москве: ей предстояло сотрудничество с театрами. В конце года намечалось возобновление постановки оперы А. Н. Серова «Вражья сила» в Частной опере, организованной С. И. Мамонтовым. Весной же следующего года на сцене Большого театра должна была состояться премьера ее собственной оперы «Уриэль Акоста». После завершения работы Валентина Семеновна в начале 1883 года пробовала добиться постановки своей оперы в Мариинском театре, но отрицательный отзыв Э. Ф. Направника закрыл перед ней этот путь. Тем не менее комиссия московского Большого театра одобрила пьесу, и театр решил ставить ее.
Одной из удачных находок оперы, подмеченных ознакомившимся с ней Тургеневым, было использование старинных еврейских мелодий. В этом Валентине Семеновне посодействовал М. М. Антокольский: по его совету она съездила в Вильно, где Марк Матвеевич, сам уроженец этого города, помог ей собрать много подлинных еврейских напевов.
С Антокольским встречается в Петербурге Валентин Серов, но, в отличие от матери, которой это общение помогло в творческом плане, юный академист особой для себя пользы от встреч с маститым скульптором не получил и в письме Е. Г. Мамонтовой, упоминая визиты к Антокольскому, сетовал, что Марк Матвеевич, кажется, и не знает, о чем с ним говорить. Видимо, в отличие от Репина, Антокольский был лишен педагогического дара, и, заключая эту тему, Серов пишет: «То, что он говорил мне еще в Абрамцеве об искусстве, я запомнил хорошо, нового он мне, я так думаю, не скажет, а кроме искусства, что же между нами… общего. Кажется, ничего».
В том же письме Мамонтовой, рассказывая ей о своих академических делах, Серов признается, что рисунки с натурщиков теперь доставляют ему большее удовольствие, нежели прежде, и о том, какое большое впечатление произвела на него книга И. Тэна «Философия искусства» о жизни и творчестве мастеров итальянского Возрождения и старых голландцев.
По доверительности тона письма Серова Е. Г. Мамонтовой можно сравнить лишь с его письмами Лёле Трубниковой. Особое удовольствие доставляют ему воспоминания об общих знакомых. После отъезда в Киев Врубеля и предвидя скорое расставание с Дервизом, уже решившим покинуть Академию, Серов все чаще думает, что мог бы сдружиться с Ильюханцией, и в письме Мамонтовой пишет: «Кланяйтесь ему крепко от меня, он довольно часто мне вспоминается, я почти всегда начинаю улыбаться, когда припоминаю его бесконечную фигуру». «Бесконечная фигура» – шутливое определение отличительной черты Остроухова – высокого роста.
Чем ближе намеченная на середину апреля премьера оперы «Уриэль Акоста» в Большом театре, тем больше нервничает и переживает Валентина Семеновна за судьбу своего детища. Это настроение отражают письма Серовой старшей сестре Аделаиде Семеновне Симанович: «…Вчера была первая оркестровка. Такого страха я в жизни не испытывала. У меня запрыгали какие-то круги темные перед глазами. Я замерла от первого звука оркестра. Все прошло благополучно…»
Из другого письма, в марте: «Я сижу над партиями и то одно, то другое выправляю: завалена нотной бумагой, карандашами, ролями и пр., пр. Наслаждения пока никакого не ощущаю – кроме усталости и отвращения к нотному шрифту – пока ничего не чувствую… Если же хоть кого встречу, сейчас вопрос: „вы, кажется, первая женщина, которая оперу написала?“ Тошнит меня от этого вопроса!!! Я вспоминаю Тошу, когда его мучат с вопросами, отчего он не музыкант?..»
А ее сын, Валентин Серов, в это время с тоской вспоминает уехавшую в Одессу в январе вместе с Машей Симанович Лёлю Трубникову. Врачи нашли, что Ольге при ее слабых легких сырой петербургский климат противопоказан, и рекомендовали пожить какое-то время на юге. Такие же проблемы со здоровьем обнаружились у Маши Симанович. Одесса же была выбрана, вероятно, потому, что там проживала родственница, Фанни Мироновна Симанович, сестра скончавшегося отца Маши, Якова Мироновича.
Рассказывая в письме Лёле о своей академической жизни, Серов признается, что равнодушен к медалям, которые выдает Академия («ты же знаешь, до чего пагубны эти ухищрения, эти погони за медалями»). Да и работа, которая часто не по душе, влияет на его настроение: «Могу работать, как сам хочу, вверяя себя только Репину и Чистякову. Но что за пытка работать, когда то, что делаешь, не нравится и то, с чего делаешь, надоело – все тогда становится несносным, противным, сам себе противен, товарищи противны, разговоры их пошлы, Академия – всё, решительно всё противно…»
В другом письме Серов сообщает Лёле, что наконец-то получил разрешение от руководства Академии художеств на копирование находящейся в ее коллекции картины испанского художника Мурильо, да вот беда: висит картина слишком высоко, и на таком расстоянии копировать ее невозможно. Здесь же – о сердечном: «Милая моя голубка (эх, не могу я тебя ни обнять, ни целовать, всё на словах приходится, как это скучно). Ну, все равно, хоть на словах тебе скажу, что крепко люблю тебя, что ты всех для меня дороже, что часто, очень часто тебя вспоминаю».
В феврале в Петербурге открылась очередная, тринадцатая по счету, Передвижная художественная выставка, и Серов торопится посетить ее. Хороши, как всегда, портреты Крамского. А сколько света и солнца в замечательных по живописи небольших пейзажах и этюдах Василия Дмитриевича Поленова, привезенных художником из путешествия по Ближнему Востоку. Но настоящее столпотворение – у большой картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Кажется, никогда прежде русская историческая живопись не достигала такой исключительной глубины и мощи выражения. Но главное в этой картине – репинское искусство психологической характеристики персонажей. Лица отца и сына передают чувства в движении – буквально дышат жизненной драмой. «Репин первенствует, – пишет Серов о выставке Лёле Трубниковой, – имеет огромный успех. Как публика полюбила эти ежегодные выставки, она валит туда тысячами!»
Среди других новостей сообщил, что приболевший Владимир Дмитриевич Дервиз понемногу выздоравливает и что в той частной школе, где они вместе с ним вели занятия, он продолжает преподавать, и за Дервиза тоже. А также дает уроки рисования мальчику в одной семье, за что регулярно каждую субботу получает по одному рублю, и «этот рубль очень смешит Аделаиду Семеновну».
В письме из Москвы, в ответ на предположения Лёли, что он, вероятно, там веселится до самозабвения, пишет, что, напротив, скучает. «Во мне, – признается Серов, – точно червяк какой-то, который постоянно сосет мне душу… Постоянное недовольство собой…»
К тому же идет Великий пост, и «здесь, у Мамонтовых, много молятся и постятся… Не понимаю я этого, я не осуждаю, не имею права осуждать религиозность и Елизавету Григорьевну, потому что слишком уважаю ее, – я только не понимаю всех этих обрядов. Я таким всегда дураком стою в церкви… совестно становится. Не умею молиться, да и невозможно, когда о Боге нет абсолютно никакого представления, стыд и срам… и в то же время страшусь думать о том, что будет за смертью».
Упоминает и о маме: «Она вся поглощена репетициями, которые идут хорошо, чему она, конечно, рада».
И вот наступил день, которого так долго ждала Валентина Семеновна, который так много значил для ее творческой судьбы – день премьеры «Уриэля Акосты» в Большом театре, назначенный на 15 апреля. По счастливому совпадению это был день ее рождения, и Валентина Семеновна надеялась, что звезды ей благоволят. Она позаботилась о том, чтобы на премьеру приехали из Петербурга и сын, и любимая сестра Аделаида Семеновна, и другие родственники и знакомые.
В то же время в Москве и Петербурге шли оперы Александра Николаевича Серова. На сцене Мариинского театра, как отмечала газета «Антракт», полные сборы делала возобновленная постановка «Рогнеды». В Москве на сцене Частной оперы Мамонтова давали «Вражью силу». Так что фамилия Серовых в музыкальном мире звучала достаточно громко.
Партию Уриэля Акосты исполнял в Большом весьма популярный баритон Богомил Корсов. И с ним, и с его женой Александрой Павловной, меццо-сопрано Большого театра, Валентина Семеновна была хорошо знакома. Одно время Корсова давала Валентину Серову уроки французского языка. Не исключено, что именно Корсовы помогли добиться постановки «Уриэля Акосты» на сцене Большого театра.
О том, как прошла премьера и оправдала ли она надежды любителей оперы, можно судить по рецензии на спектакль, опубликованной под псевдонимом Р. в газете «Театр и жизнь» 18 апреля. «15 апреля, – говорилось в ней, – публика Большого театра горячо приветствовала первую русскую женщину-композитора. Новая опера „Уриэль Акоста“ В. С. Серовой явилась при совершенно исключительных условиях. Во-первых, это первая опера, написанная в России женщиной, – и уже одного этого обстоятельства было достаточно, чтобы придать спектаклю особый характер. Вовторых, женщина эта – вдова одного из талантливейших русских композиторов, заслуги которого в сфере отечественного искусства знакомы всем и каждому. В-третьих, некоторые из сцен новой оперы обнаруживают несомненный музыкально-драматический талант. Сюда относятся прежде всего сцена в синагоге (весь 4-й акт): одна из хоровых фраз… может быть названа положительно вдохновенной… Далее следует отметить любовный дуэт второго акта – в нем есть искренность и теплота: обе эти сцены стяжали наиболее восторженные комплименты публики…»
На этом дифирамб опере заканчивался и начиналась нелицеприятная критика: «При всем том справедливость требует признать… общее впечатление далеко не в пользу новой оперы. Насколько несомненен талант г-жи Серовой, настолько же несомненно ее неумение пользоваться своим талантом. Печать дилетантства лежит на опере, с какой бы точки зрения мы ее ни рассматривали – с драматической, с музыкальной или, наконец, со сценической… Получилась скука: я по крайней мере признаюсь, что более скучного оперного произведения, чем первые три акта „Уриэля Акосты“, мне еще не приходилось видеть…»
Вероятно, разочарованы были не только музыкальные специалисты, но и публика. И в результате, после первых двух представлений, 15 и 18 апреля 1885 года, опера В. С. Серовой была снята с репертуара Большого театра. Настроение меломанов отражено в письме почитательницы и друга П. И. Чайковского Н. Ф. фон Мекк, направленном композитору 18 апреля: «Знакомы Вы, милый друг мой, с этой оперою г-жи Серовой, которую недавно давали в Москве, и как Вы ее находите? Говорят, она провалилась…»
Известен и ответ Чайковского на письмо Н. Ф. фон Мекк: «Оперу „Уриэль Акоста“ Серовой я знаю; она недавно прислала мне в дар экземпляр ее… Никогда еще я не видал в печати более неуклюжих, безобразных гармоний, такого отсутствия связанности, законченности, такого неизящного и неумелого письма. В беседе со мной она высказала недавно, что приписывает свои недостатки влиянию мужа, который из личной неприязни к А. Рубинштейну, основавшему консерваторию, доказывал, что консерватория и вообще всякое учение не только излишни, но вредны и губительны. Г-жа Серова уверовала в эту ложь и ничему никогда не училась; она даже и грамоты музыкальной не знает. И вот теперь она обратилась ко мне, прося давать ей уроки гармонии, контрапункта, инструментовки и т. д. Я решительно уклонился от этой чести и рекомендовал ей г. Аренского, с коим она собирается заниматься с будущей осени. Но, увы, ей уже за 40 лет, и трудно ожидать, чтобы она исправилась».
Между тем в кругах музыкальной общественности появился слух, что дирекцией театра В. С. Серовой предложено доработать оперу и исправить отмеченные критикой недостатки. В связи с этим рецензент газеты «Театр и жизнь» писал в номере от 5 мая: «Такой слух нам кажется очень маловероятным: вопрос о пересмотре может возникнуть лишь относительно такого произведения, которое в своих основных и существенных чертах несомненно удачно и имеет лишь частные недостатки. Но в „Уриэль Акосте“ выходит как раз наоборот: более или менее удачные частности при общем незнании оперной сцены и при дилетантской музыке».
И все же, вероятно, предложения о доработке оперы Серовой были высказаны. Не исключено также, что Валентина Семеновна вспомнила пятилетней давности совет Тургенева попробовать поставить оперу на немецкой сцене, в Мюнхене, при поддержке Германа Леви. Во всяком случае, она принимает решение выехать на лето в Германию и взять с собой сына с целью его художественного развития: ему обещано, что, вполне возможно, из Мюнхена он съездит в Италию для ознакомления с ее всемирно известными музеями.
Об этой новости Валентин пишет Лёле Трубниковой: «Едем с мамой в Мюнхен. Она будет заниматься своим – музыкой, я – своим. Но летом надеюсь переправиться через Альпы в Италию». Он сожалеет, что поездка надолго, примерно на четыре месяца, задерживает его встречу с Лелей.
В последнем перед поездкой письме Лёле в Крым Серов сообщает – писать ему в Мюнхен, почтамт, до востребования. И напоследок полушутливо-полусерьезно наставляет: «Не влюбись в кого-нибудь и в себя не влюби».
Следующее письмо ей – уже из Мюнхена, в конце мая, полторы недели спустя после прибытия туда. О собственных эмоциях – с извинительной оговоркой: «Ты знаешь, какой я старик и как я скуп на восторги». Итак, восторги – побоку, но описать, чем занимается, следует. И он сообщает, что с удовольствием ходит в прекрасную картинную галерею (Старую пинакотеку) и начал копировать там «чудный портрет» Веласкеса. Встретился с давним своим учителем рисования Кёппингом и вместе с ним посетил дачную местность под Мюнхеном, где они и жили два лета подряд. И что сходили к Штарнбергскому озеру, где когда-то он брал уроки плавания. Эмоции все же прорываются: «Славно мы там жили, сколько помнится!»
Однако туристу-художнику не повезло, он простыл, начался бронхит, и на лечение отправлен матерью в деревушку под Мюнхеном. Впрочем, Серову там нравится, и он с удовольствием описывает Лёле, что представляет из себя баварский постоялый двор с вековыми каштанами близ входа, в тени которых в жаркий день так приятно потягивать пиво («хотя я и небольшой охотник до пива»). А уж как сюда доставляется этот напиток – достойно отдельного упоминания: в огромных фурах, «с колоссальными лошадьми (таких лошадей у нас нет, это что-то поражающее), все увешано бочонками пива». Для наглядности письмо сопровождается рисунком.
Через пару недель, прикидывает Серов, он должен выехать с Кёппингом в Амстердам, где будет осматривать музеи и учиться делать офорты. Уже из Мюнхена, в предвкушении скорого отъезда в Голландию, пишет Лёле: «В Амстердаме мне готовится еще одно (и весьма для меня большое) удовольствие – там прекраснейший (второй после лондонского) зоологический сад – это меня, представь, почти столь же радует, как и чудные картины в галереях…» В середине письма вдруг прорываются призыв к любимой и опасение, которого, похоже, он и сам стыдится: «Пожалуйста, меня только не забывай – слышишь? Мне иногда кажется… что ты меня не любишь и письма пишешь только так…»
А далее – о новых и весьма неожиданных идеях Валентины Семеновны: «Мама все хочет, чтобы я свою Академию питерскую бросил и остался бы на зиму или здесь, в Мюнхене, или в Париже. Я еще не знаю, на что решиться. Собственно, Академии почти везде одинаковы, то есть везде есть свои недостатки, и, если я вздумаю бросить питерскую, то только потому, что надоела обстановка, одни и те же натурщики, стены, лица и т. д. Ну, об этом еще подумаю…»
Очевидно, что, уговаривая сына остаться, Валентина Семеновна преследовала прежде всего свои цели – она хотела добиться постановки своей оперы либо в Мюнхене, либо где-то еще в Европе. И пока сын путешествует по Голландии, Валентина Семеновна отправляется во Франкфурт-на-Майне, где обосновалась ее приятельница Луиза Эритт-Виардо. Там Валентина Семеновна продолжает работать над «Уриэлем Акостой», о чем свидетельствует ее письмо П. И. Чайковскому: «Получила я Ваше письмо, сидя за роялью во Франкфурте у Виардо и изображая „Акосту“. Ужасно я ему обрадовалась! В России меня не балуют вниманием… Буду надеяться, что и впредь Вы позволите мне прибегать к Вам за выслушиванием Вашего мнения…»
А Валентин Серов после недельного пребывания в Амстердаме пишет Ольге Трубниковой уже из Гааги и вновь для наглядности сопровождает текст рисунком с изображением типичной голландской улицы вдоль канала, с аллеей деревьев на набережной и силуэтом лодки на воде. Его восхищает голландская чистота повсюду, радует сходство Амстердама с Петербургом, и тут же – о Петре Великом, строившем Петербург по голландскому образцу, и о посещении местечка под Амстердамом, где Петр жил и изучал кораблестроение. Упомянул и о посещении амстердамской синагоги, той самой, где случилась история с Акостой: «Здание очень величественное и красивое». В заключение письма – радующее автора наблюдение: «…Между прочим, я все более и более убеждаюсь, что ты похожа на голландку, мне это очень нравится».
И вот путешествие по Голландии завершено, и очередное письмо Лёле Серов отправляет уже из Мюнхена, начинает с благодарности ей и делает признание об особенности своего характера: «Милая моя, дорогая девочка, не думал я, что ты меня так помнишь, как я это увидел в твоем письме. Странно, я прошу тебя любить, не забывать меня, сам же себя почти всегда не люблю». Его мучает, что они не видятся уже более полугода и он пока не знает, когда они встретятся и где она будет жить – вновь в Одессе или где-то еще. Не без оттенка горечи добавляет: «Одно я могу сказать про себя определенно, что я опять буду находиться при императорской Академии художеств в С.Петербурге». И это говорит о том, что Валентина Семеновна внесла в свои планы, которые затрагивали и сына, некоторые коррективы.
Отъезд уже близок, и в последнем письме из Мюнхена Серов сообщает Лёле, что они будут возвращаться в Россию через Дрезден и Берлин и что заехать по пути в то крымское местечко, где отдыхает Лёля вместе с Машей Симанович, не получится: слишком дорого. Из Голландии, упоминает Серов, он ехал через Бельгию с остановкой в Антверпене, где осмотрел развернутую там Всемирную выставку. Признается, что лицезрение всякого рода товаров, свезенных туда со всех концов света, навело на него порядочную тоску. Немного развеялся в художественном отделе, но и тот разочаровал, особенно экспозиция российской живописи, где красовался как последнее достижение «Боярский пир» Константина Маковского.
Попутно сообщает еще одну новость касательно предстоящей зимы: «Видишь ли, эту зиму мы, то есть я и мама, будем жить вместе в Питере у моей прежней хозяйки-немки».
И это желание его матери, по-видимому, угнетает: еще в первый год учебы в Академии Серов поставил как одно из условий своей свободы отдельное от нее проживание. Он, кажется, предвидит, что конфликт между ними неизбежен.
Итоги летнего путешествия Серов подвел уже по возвращении в Россию, в письме Трубниковой из Петербурга: «Вообще, время провел чудесно, и поездку заграничную можно считать очень удачной… Видел… по своей части, то есть картин, массу, и я знаю, чувствую, что через это работать буду смелей и, пожалуй, лучше. Насчет художества я, правда, стал смелей». Он не только смотрел, но и многое сделал этим летом. Исполненную в Мюнхене копию «Портрета молодого испанца» Веласкеса те, кто знал оригинал, считали удачной. В Голландии писал акварели – «Вид из окна отеля» (в Амстердаме) и внутренний вид амстердамской синагоги.
В Петербург Серов попал не сразу. Захотелось сделать остановку в Москве, повидаться с семьей Мамонтовых, съездить в Абрамцево. Там, в усадебном доме, он рисует Савву Ивановича; под рисунком дата – 29 августа.
А в московском доме Мамонтовых он повстречал португальца Антонио д'Андраде, певца, выступавшего вместе с братом в Частной опере. Внешне певец был весьма колоритен: с эффектной бородкой и пышными усами. Захотелось написать его портрет, и Савва Иванович уговорил певца позировать. Певица Надежда Васильевна Салина, тоже выступавшая в Частной опере, вспоминала в своих мемуарах «Жизнь и сцена» об Антонио: «Тенор же Антонио не представлял из себя ничего особенного с его большим глухим голосом и глуповатой смазливой физиономией». В серовском портрете улыбающегося Антонио д'Андраде выдает себя самодовольство модели, и недаром знаток творчества художника И. Э. Грабарь считал, что в этой работе уже заметна глубина психологического анализа, которая в будущем будет отличать портретное искусство Серова.
Приехав наконец в Петербург, Серов словно очнулся от захватившей его в Москве лихорадки работы, вспомнил, что уже месяц не писал Лёле, и сел за покаянное письмо: «Дорогая моя, прости меня, твоего лентяя. Когда увижу тебя, я встану на колени и буду целовать твои ножки, твое платье – и ты простишь меня». И тут же, чтобы задобрить ее, чутьчуть приоткрывает свои планы: «А что, если я тебя увижу гораздо скорей, чем ты думаешь, а? Я с ума сойду от радости.
Но, голубка моя, это секрет, то есть пока секрет, так что ты и не спрашивай».
Об этих планах дает представление написанное в тот же день, 8 сентября, письмо Остроухову. Серов обсуждает с ним план совместной поездки в Крым и оговаривает, что ему непременно надо попасть не столько в Крым, сколько в Одессу, повидать сестер и приятеля Врубеля. О том, что одна из девушек ему не сестра, а невеста, пока молчит. О Врубеле же добавляет, что тот советует ему совсем расстаться с Академией и переселиться в Одессу, где группа местных художников собирается организовать нечто вроде частной студии по западному образцу. После некоторых раздумий Остроухов от совместной поездки все же отказался, но по просьбе Серова выслал ему необходимые на поездку деньги – в счет оставленной ему для продажи копии портрета Веласкеса, сделанной Серовым в Мюнхене.
Отправляясь в Одессу, Серов ясно сознает, что ставит под удар свою академическую учебу, и признается в письме Остроухову: «Академия… я ее что-то крепко невзлюбил, т. е. с таким бы наслаждением бросил бы ее, если не навсегда, так хоть на время».
Уже на пути к Лёле, ненадолго остановившись в Москве, Серов шлет ей еще одно письмо и корит за то, что она безропотно принимает на себя слишком много обязанностей в той школе, где сейчас работает: «Может быть, они там и очень милые люди, но уж это всегда так: кто от работы не бегает, тому и взваливают побольше, тем более что ты с такой охотой принимаешь новые заботы и хлопоты. Огорчаешь ты меня».
И вот, после томительно-долгой, девятимесячной, разлуки, встреча в Одессе. За это время оба немного изменились. Валентин, находясь за границей, отпустил небольшую бородку, и Лёле это даже нравится, она находит, что он возмужал. Серов же видом любимой не вполне удовлетворен. Ему кажется, что следы летнего крымского отдыха уже стерлись и на лице ее обозначилась печать повышенных нагрузок, которыми отяготили девушку в канцелярии Одесской императорской музыкальной школы, где она трудится.
Вместе выходят на прогулку по бульвару, и Серов более подробно рассказывает о летнем путешествии. Сообщает, что хочет писать ее портрет.
Расставшись с Лелей, Серов спешит на Софийскую улицу, где снимает квартиру Врубель. С ним не виделись почти полтора года. За чашкой чая Михаил Александрович рассказывает о жизни в Венеции, куда прошлой осенью направил его Адриан Викторович Прахов писать иконы для иконостаса Кирилловской церкви в стиле мастеров Раннего Возрождения.
– Жил в самом центре Венеции, – вспоминал Врубель, – в огромной комнате, снял ее по дешевке. Но зимой было в ней холодновато, приходилось и в перчатках работать. Облазил, конечно, все палаццо и церкви, каждый зал галереи Академии. Видел дивные полотна – Беллини, Тинторетто, Чима де Канельяно. Особенно поразила «Мадонна» Беллини. Такая в ней красота, одухотворенность… Богоматерь с младенцем удачно вышла: беллиниевский образец вдохновлял. Подрядил позировать одну венецианку да вспомнил лицо жены Прахова, Эмилии Львовны, – ты ее, кажется, знаешь, – в выражении ее лица есть тоже что-то от Мадонны. И все же тосковал в Венеции ужасно. Город как сказка – каналы, гондолы, серенады, а поживешь несколько месяцев, и так домой тянет, что сил нет.
– И как Прахов, доволен остался образами? – поинтересовался Серов.
– Как будто доволен, все принял.
– А что с новыми заказами? Слышал, в Киеве большое дело Прахов возглавил – роспись Владимирского собора. Виктора Михайловича Васнецова на эту работу позвал. Неужто тебе поработать во Владимирском не предложили?
– Почему-то не предложили, – усмехнулся Врубель. – И тогда плюнул я на все и подался сюда, в Одессу. Привыкаю помаленьку. Вот образуется сообщество южнорусских художников, как о том Кузнецов с Костанди мечтают, тогда мы о себе и заявим. Ты не торопись обратно, поживи здесь, осмотрись, вдруг и к нам примкнешь – веселее будет.
Наступила очередь и Серова рассказать о новостях петербургской и своей жизни, о последней Передвижной выставке, на которой царил Репин со своим «Иваном Грозным», о «восточных» этюдах Поленова. Упомянул и о том, что Поленов исполнил очень удачный эскиз декорации, вид синагоги, для постановки в Большом театре «Уриэля Акосты».
– Как же, помню, – оживился Врубель, – и меня твоя мамаша пыталась втянуть в оформление ее оперы. Увы, грешен, не успел, Прахов дорогу перебежал. И как постановка, состоялась? Что газеты писали?
– Состоялась, а газеты писали разное, – уклончиво ответил Серов. – Но кое-что маму огорчило.
И тут же добавил, что эта постановка поправила их материальное положение и позволила совершить летом поездку в Европу.
Комнату себе Серов подыскал в том же доме, где жил Врубель. Окрестности – рядом дворец Потоцких, недалеко – море, порт – ему понравились.
Серову хотелось, используя благоприятный момент, начать писать портрет Оли Трубниковой, но девушка все отнекивалась: «Сейчас некогда позировать, как-нибудь позже». Пока Лёля пропадала в своей школе, он встретился с местными художниками, Кириллом Костанди, Николаем Кузнецовым, Леонидом Пастернаком… Кирилл Константинович тоже занимался у Чистякова и окончил Академию год назад. С Николаем Дмитриевичем Кузнецовым Серов познакомился как-то летом в Абрамцеве. Кузнецов, как и Костанди, был лет на пятнадцать старше Серова. Он отличался жизнелюбием, гордился роскошными черными усами, а его плотная приземистая фигура таила в себе невероятную физическую силу. Академию художеств Кузнецов окончил еще лет пять назад, учился и в Европе, в Париже, и уже несколько раз не без успеха показывал свои картины на передвижных выставках. Серову запомнился его портрет милой абрамцевской девочки, Верочки Мамонтовой, и особенно охотничья сценка «В отпуску». Сам любящий изображать животных, Серов отметил в этой картине мастерски написанных лошадей и гончих собак. В абрамцевском кругу говорили, что Кузнецов не из тех художников, кто зарабатывает себе ремеслом на хлеб насущный. Сын богатого херсонского помещика, он был весьма состоятелен, имел под Одессой обширное имение и живописью занимался исключительно ради удовольствия.
Друживший с Кузнецовым Л. О. Пастернак вспоминал, как роскошный экипаж Кузнецова, запряженный четверкой лошадей, появлялся на узкой одесской улочке, где жил Пастернак, и выходил из него красавец-брюнет, приглашая ехать к нему в деревню погостить. «Появление редкого здесь экипажа, – писал Л. О. Пастернак, – собирает вокруг него бедную еврейскую детвору из окрестных домов, и она провожает отъезд радостными криками „ура!“».
Дорога в кузнецовское имение идет почти все время берегом моря, и к вечеру подъезжают к просторному помещичьему дому, и со всех сторон тут же поднимается радостный лай охотничьих собак – и тех, кто заперт в сарае, и тех, кто бегает на свободе. При всей симпатии к Кузнецову, радушному и хлебосольному человеку, любившему принимать у себя коллег-художников, Пастернак в своих воспоминаниях не скрывал, как отзывалось в его душе сознание разделявшей их социальной пропасти. Вот Кузнецов стоит возле дома и с видимым удовольствием указывает рукой на необъятное, с темнеющим на горизонте леском, степное пространство. «Смысл и значение этой собственности – „эта земля моя“, – писал Пастернак, – не укладывались в мозгу у меня, выходца из бедной семьи, не имевшей прав на деревенскую собственность».
И вот в Одессе этот колоритный, любящий погулять с размахом художник приглашает Серова съездить на несколько дней в его усадьбу, обещает показать своих лошадей, собак, может, и на охоту вместе выберутся. Серов не против. Кузнецов ему нравится: их сближает и то, что оба прекрасно умеют подражать голосам разных животных и птиц.
Едва ли не в первый день приезда, когда Кузнецов с хозяйской гордостью показывал свои владения, Серов задержался на скотном дворе, у загона, где стояла, жуя сено, пара волов – черный и серый. Он невольно залюбовался их мощью, фиксируя в памяти неяркую, но по-своему привлекательную красочную гамму представшей перед ним картины, захотелось писать их маслом.
В отличие от Пастернака кузнецовское житье-бытье его не поразило: Мамонтовы в Абрамцеве жили с большим размахом, не говоря уже о художественной наполненности, отличавшей абрамцевскую жизнь.
На следующий день, расположившись возле загона, Серов с благословения Кузнецова взялся за работу. На вопрос Кузнецова, чем же привлекли его именно волы, а не красавицы-лошади, Серов, пожав плечами, ответил, что лошадей уже неоднократно рисовал раньше, а вот изображать волов не привелось.
Дело шло медленно. Уже завершался октябрь, начало холодать. Серов прерывал работу, чтобы съездить в Одессу, встретиться с Лелей и Врубелем, и, возвратясь, вновь терпеливо брался за работу. Кузнецов, чтобы гость-художник не мерз, разводил рядом с загоном костры.
Лёля в очередной приезд жениха в Одессу с шутливой ревностью спросила: «Неужели тебя держат там волы? А может, очаровала какая-нибудь селяночка?» Валентин журил ее: «Вот когда ты увидишь моих волов, тебе будет стыдно этих слов».
Наконец, в ноябре, месячный труд был завершен. Серов торжественно показал написанный этюд.
– И ради этого ты мерз столько дней? – изумленно спросила Лёля. – Что же ты в этих животных нашел?
– Они красивы, – упрямо твердил Серов. – Неужели ты этого не видишь?
Работа на природе, в ноябрьские холода, словно разогрела его. Он писал теперь быстро и уверенно: сделал два рисунка Лёли – головной портрет и – в профиль, слегка склонившуюся на стуле, словно под бременем забот. В несколько сеансов написал портрет маслом, запечатлевший задумчивость невесты, погруженность в какие-то неведомые ему, не очень веселые мысли.
Теперь часто встречались с Врубелем, и как-то Михаил Александрович показал свой автопортрет, сделанный резкими, угловатыми линиями. В горькой усмешке и изучающем взгляде исподлобья было что-то мистическое.
– Примеряешь маску Мефистофеля? – спросил Серов.
– Зачем? – пожал плечами Врубель. – Меня интересует сейчас другая фигура.
Врубель полез в стол, достал фотографию горной местности с резко обозначенной на ней игрой света и тени, протянул Серову:
– Вот, взгляни. Тут шел на днях мимо фотографии и увидел в витрине эти снимки Кавказских гор. Попросил напечатать для меня. От этого пейзажа веет холодом и нездешним, неземным покоем. И как мелко выглядел бы здесь обычный человек! Задумал я, Валентин, картину – изобразить лермонтовского Демона, а с ним рядом и Тамару.
В одну из встреч Врубель попросил Серова попозировать, нарисовал его головной портрет. При несомненном сходстве, он почему-то глаза оставил без зрачков.
– А зрачки? – недоуменно спросил Серов.
– А зачем они? – с вызовом ответил Врубель. – И без того видно, что ты смотришь. Видно или нет?
– Вроде, видно. – Голос Серова выдал его неуверенность.
– А ты говоришь – зрачки! На античных статуях зрачков тоже нет – но ведь они смотрят, – добавил Врубель.
В конце декабря Врубель неожиданно сообщил Серову, что возвращается в Киев.
– Здешняя жизнь все же не для нас. Здесь, в Одессе, царят торгаши, думающие только о наживе, – с той же решительностью, с какой недавно убеждал приятеля остаться в Одессе, говорил Врубель. – Костанди шумел, шумел об объединении художников, но вижу, весь этот шум мыльным пузырем обернется. Тебе здесь тоже оставаться нельзя. Это болото затягивает незаметно… В Киеве же – настоящее дело. Надеюсь, все же уговорю Прахова допустить меня к росписи собора. А тебе в Москву или в Абрамцево надо – там поднимешься. Об Академии, как и я, не тужи, обойдешься. Брось все сомнения, поцелуй на прощанье Лёлю – и в путь.
Серов и сам понимал, что возвращаться в Академию, пропустив несколько месяцев, смысла нет, и не реагировал на грозные письма матери, призывавшей его немедленно выехать в Петербург. У Лёли своя жизнь, работа, которую она пока не хочет менять ни на какую другую. С отъездом Врубеля ситуация меняется. Так стоит ли задерживаться в Одессе? Ехать же в Петербург, чтобы выслушивать грозные поучения матери, тоже не хотелось. Оставалась Москва с уже близкими рождественскими праздниками, которые так весело умеют отмечать у Мамонтовых. Прощаясь с Лелей, договорились встретиться летом, но уже не в Одессе.
О настроении Валентины Семеновны в это время красноречиво говорит письмо, направленное ею в конце декабря из Петербурга в Одессу Маше Симанович, близкой подруге Оли Трубниковой. «… Я боюсь, – писала она, – что и Тоня станет во враждебный лагерь. Машуточка, я ему написала жестокое письмо: помоги ему выбраться из невольной хандры… Я ему предлагаю два выбора: или строгую жизнь со мной и Академией, или дилетантскую, разгильдяйскую жизнь с разными погрешностями, которые его характеризуют, – тогда он пусть не живет со мной! Я не хочу нянчиться и не хочу прощать распущенности… Еще строже, еще неумолимее я стала и требую к себе уважения и требую исполнения обязанностей… Словом, поговори с Тоней, не уговаривай его ехать против его воли. Коли он слаб, так пусть не едет ко мне. Я все же его люблю, хотя теперь не уважаю, но он рискует потерять любовь. Ведь я теперь требую ласки, теплоты – а он груб со мной!..»
Этот крик отчаяния продиктован страшной для матери догадкой: битву за близость с сыном, за его любовь она, похоже, безнадежно проигрывает. И сама не понимает, почему же это произошло.
Серов понимал, что приезд в Москву еще более обостряет и без того непростые отношения с матерью. Он допускал, что она может ограничить материальную помощь. Значит, надо искать возможности для собственного заработка. Возможно, здесь ему посодействует Мамонтов.
Одним из первых возвращению Серова в Москву порадовался Илья Остроухов. Еще до встречи Серов получил от него шутливое стихотворное послание на немецком языке: Илья корил друга за долгое отсутствие и призывал немедленно встретиться. Илья был семью годами старше, но это отнюдь не мешало их сближению. Помимо живописи их объединяла любовь к музыке, Абрамцеву и особенно к хозяйке имения Елизавете Григорьевне Мамонтовой.
При встрече Илья сообщил приятную для Серова новость. Друзья послали написанный им портрет певца Антонио д'Андраде на открывшуюся в начале января очередную выставку Московского общества любителей художеств. Он был замечен критикой и получил одобрительные отзывы.
На сцене Частной оперы Серова особенно покорила зарубежная певица Мария Ван-Зандт, и своим восхищением он поделился с Саввой Ивановичем. Тот, весело сверкнув глазами, сказал: «А ты портрет ее напиши. И считай это моим заказом».
Ван-Зандт в ту пору восхищала не одного Серова. Уже упоминавшаяся Надежда Салина, тоже выступавшая в Частной опере, вспоминала: «Ван-Зандт любили все, начиная с музыкантов и кончая работниками сцены; она была хороша со всеми, всегда ласкова. Композитор Делиб написал для Ван-Зандт оперу „Лакме“… Разнообразное дарование помогало ей воплощаться в какой угодно сценический образ: у вас навертывались слезы, когда вы слышали ее молитву в последней сцене оперы „Миньон“; вы от души смеялись, когда она капризной девчонкой набрасывалась на Бартоло в „Севильском цирюльнике“ и поражала вас яростью тигренка при встрече с чужеземцем в „Лакме“. Это была богатая одухотворенная натура…»
Вероятно, богатство эмоций, которые переполняли певицу, мешало ей быть послушной моделью. Работу художника затрудняла и иная особенность Ван-Зандт: в личной жизни, по свидетельству той же Салиной, певица была несчастлива и потому по слухам прибегала к наркотикам. Сам Серов, позднее вспоминая об этой работе, рассказывал И. Э. Грабарю, что во время сеансов певица непрерывно пригубляла вино и в результате заметно пьянела. В конце концов позировать примадонне надоело, и, к огорчению Серова, считавшего портрет еще не вполне оконченным, Ван-Зандт заявила, что с нее довольно и больше позировать она не намерена. Тут уж ничего не поделаешь… Если на портрете удались внешние черты певицы, то душа ее не раскрылась перед художником.
Илья Остроухов, не желая отставать от приятеля, тоже дебютировал на выставке, правда, не в Москве, а в Петербурге: его пейзаж «Ранняя весна» приняли для показа у передвижников.
В конце февраля Серов пишет письмо Остроухову, уехавшему в Петербург к открытию выставки, и, сообщая о последних новостях, упоминает о возобновлении постановки в Большом театре «Уриэля Акосты» и свое мнение о спектакле: «Шел здесь „Акоста“ немножко вяло. Мне понравилось, и серьезно, она (опера) не хуже многих других. Насчет техники и разных контрапунктов я ничего не смыслю, говорят, она этим страдает. Еврейство, по-моему, выражено характерно и красиво. Декорация Василия Дмитриевича Поленова весьма нравится публике (мне тоже)».
Новая декорация четвертого действия (внутренность синагоги), выполненная по эскизу Поленова, отмечалась и в афише спектакля. Были ли в опере другие новшества и изменения, судить трудно, поскольку газета «Театр и жизнь» возобновление этой постановки проигнорировала.
В январе 1886 года опера «Уриэль Акоста» прошла на сцене Большого театра дважды, 6-го и 30-го числа. Но в том же месяце Большой театр трижды давал «Вражью силу» А. Н. Серова.
В эту зиму Валентин Серов, вероятно, по собственной инициативе, посещает классы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, вновь тренирует руку в этюдах карандашом с натурщиков. А когда ярко засиявшее солнце напомнило о приближении весны, он вместе с компанией художников (Остроухов, Левитан и сестра Поленова Елена Дмитриевна) выбрался на зимние этюды в Абрамцево, писал виды церкви и усадебного дома, каким он выглядел из засыпанного снегом парка.
В марте неожиданно подвернулся порадовавший Серова заказ. В то время он проживал на Тверском бульваре в доме знаменитого конезаводчика Н. П. Малютина, и тот, узнав, что новый жилец – художник, предложил при встрече исполнить портрет подававшего большие надежды жеребца Летучего, с успехом выступавшего на Московском ипподроме. Такую работу Серов, вероятно, сделал бы и даром, а тут еще обещаны деньги. По рассказам Сергея Мамонтова, Серов, получив заказ, спрашивал его: «Как думаешь, рублей 25 дадут?» В итоге же за портрет маслом Летучего и сделанные в конюшне Малютина два рисунка других лошадей получил 300 рублей и был счастлив.
Случившееся той же весной официальное отчисление из Академии художеств из-за пропуска занятий без уважительных причин Серов воспринял спокойно: внутренне он давно был готов к этому.
В конце минувшего года в Петербурге от скарлатины скоропостижно скончался девятилетний сводный брат Серова, Саша Немчинов. Он жил, как и его старшая сестра Надя, в семье Аделаиды Семеновны Симанович. Убитая горем, она, желая сменить обстановку, быстро собралась и выехала с детьми в Едимоново, большое село в Тверской губернии на Волге, где постоянно проживал ее давний хороший знакомый Николай Васильевич Верещагин, державший в селе известную на всю Россию сыроварню. Вскоре в Едимоново перебралась и мать Серова. В снятый ею дом зажиточного крестьянина Валентина Семеновна перевезла рояль, фисгармонию, библиотеку и рукописи покойного мужа, надеясь на досуге подготовить к изданию не известные публике музыкальные пьесы композитора. Туда же собирался и Владимир Дервиз: у него с Надей Симанович дело близилось к свадьбе. В Едимонове Серов с Ольгой Трубниковой наметил встречу. В мае здесь было уже тепло и зацветала сирень. Свои слезы по Саше Валентина Семеновна выплакала еще в Петербурге и теперь выглядела, как обычно, энергичной и полной разнообразных планов, которыми поспешила поделиться с сыном:
– Тоша, я списалась с Львом Николаевичем Толстым. Просила прислать его пьесу для народного театра «Первый винокур». Он был так мил, что выслал ее мне, и сейчас я сочиняю оперу на этот сюжет. Хочу поставить ее вместе с крестьянами. Напросилась как-то на их певческие посиделки – есть замечательные голоса.
Встретившись с Владимиром Дервизом, – он снимал комнату в доме местного священника, – Серов узнал, что они с Надей собираются обвенчаться здесь, в Едимонове. Владимир попросил друга быть шафером.
В ожидании Лёли Серов обследовал окрестности. Дни стояли ясные, и однажды, зайдя во двор, он залюбовался игрой солнечного света, узким лучом падавшего в полутемный сарай через дыру в крыше. Эффект был удивительный, и Валентин тут же взялся за работу. Там его и застала вскоре приехавшая Лёля Трубникова. Два дня они с утра до вечера гуляли по лугам и рощам. А на третий день художник объявил Лёле, что очень хочет написать ее портрет в белой кофте с длинными рукавами, которая очень ему нравится. Она позировала в доме, стоя у окна с виднеющимся за ним кустом цветущей сирени. Увлекшись замыслом, Серов писал портрет невесты, не замечая времени, стараясь запечатлеть на полотне дорогой ему облик – бесконечно милое, такое русское лицо с чуть курносым носиком, с опущенными вниз глазами, с трудноуловимым выражением хрупкой незащищенности девушки.
Портрет Ольги получился темноватым по колориту. Серову захотелось написать другой, и он изобразил невесту читающей в комнате, залитой ликующим солнечным светом.
И вот настал день венчания Нади Симанович и Владимира фон Дервиза. Стоя в церкви рядом с другом и радуясь его счастью, Серов ловил себя на горьких мыслях: когда же он будет зарабатывать на жизнь достаточно, чтобы содержать семью? Для Дервиза такой проблемы не существовало: бросив Академию, он мог безбедно прожить на причитающуюся ему долю родительского капитала. Теперь, после свадьбы, Дервиз собирался постоянно жить в деревне, приобрести имение и попробовать, как толстовский Левин, создать крепкое хозяйство. Он попросил Серова помочь ему в поисках имения. Недалеко от Едимонова, в шести верстах от железнодорожной станции, они наткнулись на обширное поместье Домотканово. Владелец его, стареющий холостяк, сам искал покупателей. Большой двухэтажный дом с окружающими его лужайками и рощами, как и соседствующие с рощами пруды, – все здесь настолько понравилось Серову, что он с жаром сказал приятелю:
– Чудное место, Володя! Покупай, если в цене сойдетесь, и не раздумывай!
Они вновь навестили Домотканово вместе с Надей и Лёлей, и молодые женщины одобрили их выбор. Перед отъездом Серов смог поздравить товарища с вступлением в права хозяина имения.
После открытия Частной оперы жизнь московского дома Мамонтовых на Садовой улице, где нередко бывал Серов, была подчинена обстоятельствам нового страстного увлечения Саввы Ивановича. Здесь появлялись приглашенные в труппу артисты оперы – знакомый Серову по участию в постановке «Черного тюрбана» Михаил Малинин, певицы Надежда Салина и Татьяна Любатович. Нередко звучала и певучая итальянская речь. Заметив, что московская публика не очень-то привечает малоизвестных ей отечественных певцов, Мамонтов все больше делал ставку на получивших известность в Европе иностранных исполнителей. Они, правда, были избалованы вниманием, капризны, настаивали на постановке тех опер, в которых наиболее ярко проявлялись их вокальные данные, и Мамонтову нередко приходилось уступать их требованиям.
Лихорадочная скорость подготовки спектаклей не могла не сказаться на их качестве. Случалось, хористы не успевали выучить свои партии, оркестр не находил общего языка с дирижером, да и заезжие звезды иногда демонстрировали такое отсутствие профессионализма, что Савва Иванович в растерянности руками разводил. Бывая на репетициях и наблюдая Мамонтова в его доме, Серов видел, как он дает выход эмоциям.
– Они, – негодовал Мамонтов, имея в виду зарубежных певцов, – думают, что для артиста голос – это все и публика может простить им и неумение двигаться на сцене, и нежелание вникнуть в сценический образ, показать страсть так, чтобы мы ей поверили. Считают, что в России публика все стерпит. Ан нет – наша публика в опере толк знает и, коли не понравится, освистать может, не поглядев на вашу европейскую славу.
К постановке отечественных опер Мамонтов подходил с особой тщательностью и уже в первый сезон, когда Частная опера заявила о себе зрителям, показал «Вражью силу» А. Н. Серова. «После „Вражьей силы“, – вспоминала Надежда Салина, – публика как будто начала прощать Мамонтову его „баловство“ и стала заглядывать и на наши русские оперы».
Воодушевленный этим успехом, как и успехом «Снегурочки» Римского-Корсакова, Мамонтов все силы отдал подготовке «Каменного гостя» Даргомыжского и, несмотря на сдержанный прием спектакля, был счастлив прочесть благожелательные отзывы рецензентов. «Каменный гость», по отзывам критиков, доказал, что Мамонтова волнует не только коммерческий успех, но и полное раскрытие художественных достоинств оперы.
Хорошему приему у зрителей спектаклей немало способствовали декорации. Еще с постановки «Аиды» Мамонтов заметил и оценил рекомендованного Поленовым выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества Константина Коровина. Постепенно Коровин выдвинулся в ведущие оформители Частной оперы. Черноглазый, с пышной шевелюрой темных волос, отличавшийся живым и общительным нравом, Костя Коровин быстро влюбил в себя и хористок оперы, и самого Мамонтова, имевшего особый нюх на художественно одаренных людей. Коровин умудрялся даже неприятные для него ситуации обернуть на пользу себе и окружить атмосферой веселого анекдота. В опере был популярен его рассказ о том, как неожиданно увенчали его лаврами при постановке «Лакме» за то, что он тонко и стильно отразил индийский колорит «в своих фантастических цветах». А дело-то, невозмутимо повествовал Коровин восторженно слушавшим его хористкам, с этими цветами случайно вышло. Умаялся, работая над декорацией, прилег соснуть и, потянувшись во сне, нечаянно толкнул ногой открытую банку с белой краской. Проснулся – батюшки, что же натворил! Краска-то на холст пролилась! Схватил кисть, подмалевал кое-что, будто бы цветы. Ну, словом, пропал, взбучки не избежать. А публика-то, едва декорацию открыли, – в восторге: как ново, необычно! Савва Иванович на радостях обниматься полез. Что мне оставалось делать? Потупившись, скромно говорю: «Да, пожалуй, картина с цветами мне удалась».
Встречаясь с ним в опере и в доме Мамонтова, где Коровин частенько оставался на ночлег, Серов испытывал растущее желание ближе сойтись с бесшабашным и талантливым коллегой. Но у Кости, кажется, и без него хватало друзей, он уже испытал сладкий вкус успеха, в то время как Серов с горечью думал, что еще ничем не отличился и, возможно, не достоин дружбы такого шармера и всеобщего любимца, как Костя Коровин.
К счастью, рядом был Илья Остроухов. Вместе с ним, – да еще присоединились любители живописи Михаил Мамонтов, племянник Саввы Ивановича, и Николай Третьяков, сын С. М. Третьякова, – сняли просторную мастерскую на Ленивке, которую ранее занимал известный художникпередвижник Владимир Маковский.
Товарищ Серова по Академии Н. А. Бруни в декабре писал Павлу Петровичу Чистякову, что повстречал на концерте в консерватории, где исполнялась Девятая симфония Бетховена, компанию художников, Поленова, Серова, Остроухова, Мамонтова и других, и что Серов с приятелями устраивают в мастерской вечернее рисование с натуры и у них бывают Поленов и Суриков. Об этой мастерской Серов в начале нового, 1887 года упоминает в письме Ольге Трубниковой, что они там не только пишут с натуры, но и завтракают, и занимаются с учителем фехтования, – словом, проводят почти целый день. И он работает там над портретом племянницы Мамонтова, Марии Федоровны Якунчиковой, той самой Марии, которую как-то нарисовал в Абрамцеве в костюме амазонки верхом на лошади.
В этих письмах невесте Серов выговаривает ей за невеселый тон ее посланий, призывает: «Будь бодра и весела. Скучны ноющие люди». Везде кругом, напоминает он, тяжело и грустно, но надо находить и другую, радостную сторону жизни.
Источник собственной «бодрости» Серов видит (и пишет об этом Трубниковой) в том, что его художественные дела складываются вполне успешно. Получил хороший заказ – на роспись плафона в доме одного тульского помещика. На четырехаршинном холсте будут изображены бог солнца Гелиос, взлетающий на золотой колеснице, и прислужник бога, сдерживающий четверку белых коней. Эскиз уже готов и одобрен заказчиком, а сам большой холст он будет писать в мастерской. За эту работу обещаны тысяча рублей(!) и аванс.
Упоминает также, что сильно болели уши, что случалось и прежде. Еще о своем житье-бытье: «Если спросишь, как живу – отвечу: живу я у Мамонтовых, положение мое, если хочешь, если сразу посмотреть – некрасивое. Почему? На каком основании я живу у них? Нахлебничаю? Но это не совсем так – я пишу Савву Ивановича, оканчиваю, и сей портрет будет, так сказать, оплатой за мое житье… Второе, я их так люблю, да и они меня, это я знаю, что живется мне у них легко сравнительно… что я прямо почувствовал, что я и принадлежу к их семье. Ты ведь знаешь, как я люблю Елизавету Григорьевну, то есть я влюблен в нее, ну, как можно быть влюбленным в мать. Право, у меня две матери…»
О родной матери, Валентине Семеновне, Серов упоминает, что в этот приезд она ближе сошлась с Елизаветой Григорьевной, вновь полна энергии и усиленно работает над новой оперой «Мария д'Орваль».
Часть гонорара, полученного за роспись плафона, Серов решил потратить на поездку в Италию. Инициатором ее выступил Илья Остроухов, уже успевший в прошлом году побывать в Испании, где писал эскизы декораций для постановки в Частной опере «Кармен», и по пути заехавший в Венецию. К ним пожелали присоединиться племянники Саввы Ивановича, Михаил Мамонтов и его младший брат Юрий. В дорогу двинулись в начале мая.
Тщательно составленный маршрут путешествия предусматривал и осмотр Вены. И тут довелось испытать первое приключение. По прибытии в город, после устройства в гостинице «Гранд-отель», молодые художники отправились на прогулку, и ноги почти сами собой привели их к величественному собору Святого Стефана. Зачарованно постояли, глядя на собор. Как бы хотелось написать его! Но на площади слишком людно, будут мешать. Кто-то заприметил объявление на окнах бельэтажа выходящего на площадь здания: «Сдается внаем». Зашли внутрь и разыскали портье, уполномоченного вести финансовые дела. Договорились с ним, что придут поработать к обеду, и оставили задаток.
С утра – в музей, к полотнам Тициана, Питера Брейгеля, Тинторетто, Веласкеса… А затем – в дом, из окон которого и намечалось рисовать собор. Тот же портье встречает радушно: «Не хотите ли кофе, пиво?» Все идет отлично, но за один день такую работу не завершить. Договорились с портье, что на следующий день придут поработать опять, а карандаши, кисти, краски, мольберты оставляют здесь, в помещении, чтобы не таскать с собой.
Но поработать больше не удалось. На следующий день, едва подошли к дому, из которого писали собор, вдруг, «словно из щелей», вспоминал об инциденте Остроухов, появились полицейские в штатском и после короткого разговора предложили проследовать с ними в участок. Там пришлось подробно отвечать: кто такие, откуда, с какой целью прибыли в Вену, для чего понадобилось рисовать собор Святого Стефана?
Серов кипятится, требует вызвать российского посла в Вене. Остроухов же, лучше товарищей говорящий по-немецки и избранный старшим группы, берет объяснения на себя. Поначалу ему не верят, но когда он достает записную книжку, где расписан весь их туристический маршрут и сделаны записи о том, что следует осмотреть в каждом городе, в том числе и в Вене, подозрения полицейских рассеиваются, следуют извинения, сопровождаемые просьбой не обращаться с жалобой в посольство.
Но у туристов настроение уже безнадежно испорчено, и утром они садятся на поезд, следующий в Венецию. Мучает вопрос: в чем же их вина, почему, испортив весь день, их доставили в полицию? За ответом обращаются к попутчикам – студентам из Вены. И один из них дает вполне правдоподобное объяснение:
– На днях, господа, на соседней с собором улице был обворован ювелирный магазин. Злоумышленники, то ли поляки, то ли англичане, проникли внутрь магазина со второго этажа, разобрав пол. Видимо, этот портье заподозрил, что вы из одной банды и тоже что-то замышляете… Но, поверьте, господа, такие подозрения просто возмутительны! Нельзя же, право, выставлять нас перед иностранцами в таком невыгодном свете!
В Венецию поезд прибыл вечером. Темнело. У крытого дебаркадера путешественников поджидают, и один из гондольеров приглашает их в свое суденышко. С того момента, как кормчий, тихо взмахивая длинным веслом, направил мрачную, как гроб, остроносую лодку по Большому каналу, мимо стоящих по берегам разностильных палаццо, Серов начал чувствовать, как этот дивный город, воздвигнутый на островах посреди моря, властно и неотступно берет его в свой плен. Не доезжая до моста Риальто, углом перекинутого через водную гладь, свернули в другой канал, узкий и темный, с мерцающими по его поверхности отблесками фонарных огней. И вот искомая гостиница, намеченная Остроуховым еще в Москве, по рекомендации Поленовых. Устроились в двух комнатах и, наскоро поужинав, поспешили в город, на площадь Святого Марка, благо она рядом (в чем и достоинство гостиницы!), стоит лишь пройти под аркой Прокураций.
Как здесь весело, многолюдно, откуда-то доносятся сладкозвучные песни, легендарный собор темнеет на фоне неба, и бронзовые стражники наверху поочередно бьют молотом по огромному колоколу, отбивая вечерний час.
Обратно вернулись усталые, но счастливые. Остроухов, пользуясь положением демократически избранного старшего группы, напомнил, что в его прошлый приезд сюда, год назад, он застал в городе холерную эпидемию, везде пахло карболкой, и не исключено, что источник инфекции кое-где сохранился. И потому он настоятельно советует всем не пить сырую воду, воздержаться от употребления фруктов и всяких там даров моря. Этот его совет встречен коллегами недовольным ропотом, а Серов с вызовом говорит: «Ты, Семеныч, как хочешь, но устрицы в Венеции я непременно попробую».
Приготовления ко сну вновь дают повод высказать Остроухову свое недовольство.
– Семеныч, – забравшись в кровать, задумчиво сказал Серов, – я вдруг вспомнил Абрамцево, купание в нижнем пруду: в моей постели так же сыро и пахнет лягушками и тиной. А ты как, доволен?
– Еще как! – буркнул Остроухов. – Простыни влажные, будто залез в болото.
– Так и будем в этом болоте жить?
– Еще чего! Завтра подыщем что-нибудь получше. Утром, выяснив, что и у братьев Мамонтовых ночлег не вызвал восторга, отправились на поиски и вскоре облюбовали другой отель, где было сухо, а из окон второго этажа открывался вид на набережную. Теперь со спокойным сердцем можно было вновь бродить по площади Святого Марка и по Дворцу дожей, постоять в церкви Сан-Дзакария возле «Мадонны» Беллини, которая, как помнил Серов, так пленила Врубеля.
За обедом в гостинице Серов попросил хозяина, пожилого тирольца, подать устриц. Но тот, потупив глаза, смущенно пробормотал, что он бы и рад услужить гостям, но с устрицами в городе проблема. Упоминание о какой-то «проблеме» лишь раздразнило аппетит Серова и поддержавших его братьев Мамонтовых. Сообща разыскали на следующий день ресторанчик, рекомендованный еще в Москве одним из приятелей. Расселись, заказали устриц, и вот счастье! – можно наконец отведать их.
– Не стесняйся, Семеныч, – весело подбадривал Серов, – великолепные устрицы, и они совсем не пахнут карболкой.
Поддавшись дружным уговорам, Остроухов тоже, хотя и не без опаски, съел несколько штук.
Однако вечером, на пути к отелю, сначала один, потом другой путешественник стали жаловаться на боли в желудке.
– Я вас предупреждал! – хмуро говорил Остроухов.
В фойе гостиницы он обратился к восседавшему за стойкой тирольцу:
– У нас неприятности, съели что-то не то.
– Свежие фрукты, устрицы?
– Устрицы.
Всерьез обеспокоенный тиролец, понизив голос, сообщил, что с эпидемией холеры еще не совсем покончено и по распоряжению местной власти в городе категорически запрещено торговать устрицами. На днях скончался один из туристов, австрийский офицер – по слухам, от последствий эпидемии. Вот беда так беда! Надо немедленно принять хорошую дозу коньяку, это помогает, и он сейчас же распорядится, чтобы им в номер прислали пару бутылок. Может, и обойдется.
В тот вечер путешественники улеглись спать изрядно пьяными, с тревогой на душе, и Серов повинился перед Остроуховым, что пренебрег его советами. Однако все обошлось. То ли устрицы были доброкачественными, то ли подействовал выпитый на ночь коньяк, но утром никто на живот уже не жаловался, и можно было вновь, отбросив тревожные мысли, спокойно бродить по Венеции. В этом приключении была своя прелесть: мелькнувший кое у кого страх позднее, когда тревоги миновали, способствовал обострению чувства красоты жизни.
Гондола вновь плавно и бесшумно несла их по темным водам каналов – и к палаццо Лабиа, где осмотрели фрески Тьеполо на тему истории Антония и Клеопатры, и к церкви Санта-Мария дель Орто, украшенной полотнами Тинторетто, и к возвышающемуся с горделивой статью на высоком постаменте отлитому из бронзы кондотьеру Коллеони.
По вечерам, после захода солнца, на черной глади каналов плясали огни, зажженные в кабинах гондол, луна преображала белый мрамор дворцов в декорации к романтическому спектаклю, а центр города – в театр под открытым небом. Но не каждый же вечер бродить по площадям, улицам и палаццо, можно пойти и в местную оперу, послушать неподражаемого Таманьо, певшего партию Отелло в новой опере Верди.
Устыдившись однажды своего счастья, которым он, лентяй, не удосужился до сих пор поделиться с тоскующей в Одессе Лелей, Серов сел за письмо к ней, упомянул историю с устрицами, поделился впечатлением от Венеции и от услышанной здесь новой оперы Верди, «страстной и кровавой», и закончил письмо важным умозаключением по поводу творивших в Венеции живописцев: «Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть – беззаботным; в нашем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу, – как заклинание повторил он, – отрадного и буду писать только отрадное…»
Венеция была так хороша, что хотелось сохранить ее облик на полотнах. Из окна гостиницы Серов написал этюд маслом с видом набережной Скьявони. На другом этюде изобразил площадь Святого Марка.
После Венеции путешественники переехали во Флоренцию, и этот город также потряс сердца русских ценителей прекрасного – прежде всего живописью и скульптурой. В галерее Питти один шедевр сменяется другим. Вот «Юдифь» Аллори – сюжет известный, думал Серов, который увлек и его отца. Но на это полотно итальянского мастера смотришь совсем иначе, когда знаешь, что в образе прелестной Юдифи Аллори изобразил свою возлюбленную, причинявшую ему немало мук. А отрубленная ею бородатая голова Олоферна, которую Юдифь небрежно держит за волосы, – это голова самого Аллори. Вот так, в аллегорических образах, художник обессмертил горестную историю своей любви.
Два полотна великого Рафаэля. Автопортрет – на нем гений живописи выглядит мечтательным, погруженным в грезы. И «Донья Велата», пышнотелая, цветущая, с влажными темными глазами. Знатоки искусства считают, что Рафаэль запечатлел свою возлюбленную, булочницу Форнарину, подарившую ему счастье взаимной любви.
«Портрет молодого патриция» кисти Тициана исполнен психологической глубины, это человек, знавший и тревоги, и опасные приключения, умудренный выпавшими на его долю испытаниями. И рядом – другой портрет, тоже работы Тициана, изображающий циничного поэта Пьетро Аретино, с грубым сластолюбивым лицом, с мясистыми губами, уверенным взглядом человека, перед которым трепетали монархи, – таков этот сын куртизанки, ставший олицетворением роскоши и пороков венецианской знати.
Неужели и в скульптуре можно создать что-то равное этим шедеврам? Тогда пора в капеллу Медичи, к статуям «Дня», «Ночи», к «Мадонне с младенцем», изваянным Микеланджело. Как же все-таки многолик итальянский гений!
В гостинице друзья рассуждали о том, на какую высоту было вознесено в те времена искусство, каким почетом окружало общество творцов прекрасного, какую поддержку оказывали им меценаты.
– Да и у нас, в России, такие есть, – напомнил Остроухову Серов. – И искать их долго не надо. Мало ли помощи оказывает нам Савва Иванович?
– Святой человек, – согласился Остроухов, – мы все ему обязаны.
Из Флоренции Серов отправил письмо Елизавете Григорьевне Мамонтовой. Вспомнил, что из всех итальянских городов этот город она особенно любила. Признался, что такого богатства, какое встретил здесь, и не мечтал найти. Высказал и еще одно признание, которое не мог сделать ей с глазу на глаз: «Крепко люблю я вас».
Перед отъездом друзья поднялись к Пьяцца Микеланджело, чтобы в последний раз окинуть взглядом панораму Флоренции. Оттуда были видны увенчанный огромным куполом собор с колокольней, и палаццо Веккио с его башней, и церковь Санта-Мария Новелла. Река Арно с перекинутыми через нее мостами сверкала прозрачно-голубыми водами. Кое-где в воде желтовато просвечивали извилистые полоски речных отмелей.
Непривычно тихо было этим летом в абрамцевском доме Мамонтовых. По утрам в открытое окно комнаты, где спал Серов, проникали запахи отцветающих лип, луговых трав и цветов, слышались бодрящие птичьи трели. Издалека, от Хотьковского монастыря, доносился приглушенный расстоянием колокольный звон.
После общего завтрака все расходились по своим делам. Савва Иванович уезжал на приготовленной для него бричке к железнодорожной станции, а оттуда, поездом, – в Москву. Двенадцатилетняя Верушка с младшей сестрой Шурой играли в парке. А Елизавета Григорьевна шла в мастерские посмотреть на своих подопечных: мальчики учились столярному ремеслу, а девочки – вышиванию. Однажды пригласила и Серова пойти вместе с ней.
В светлой избе, где еще не выветрился смоляной запах, сосредоточенно работали десятка два подростков. Одни обстругивали рубанками доски для изготовления мебели, другие старательно наносили на них затейливую резьбу.
Приучая деревенских подростков к полезным ремеслам, считала Елизавета Григорьевна, она воспитывала в них любовь к труду, к украшению своего быта. А впоследствии такая работа могла дать им источник заработка в деревне, уберечь многих от желания уехать в поисках работы в город, действующий, по убеждению Мамонтовой, на сельских парней и девушек тлетворным образом.
Вместе со своей подругой Еленой Дмитриевной Поленовой, сестрой художника Василия Поленова и тоже художницей, иллюстратором детских сказок, Елизавета Григорьевна увлеклась собиранием в деревнях и на ярмарках старинной утвари крестьянских хозяйств, и здесь, в Абрамцеве, они создали музей кустарного искусства, где были представлены и доски, украшающие задки телег, и подвесные кухонные шкафчики, и расписанные цветами, фигурами животных и птиц резные наличники. Собранные в музее кустарных промыслов предметы быта служили подросткам образцами для собственного творчества.
– И эти ваши изделия покупают? – спросил Серов, когда они осмотрели мастерские и музей.
– Очень даже покупают! – с энтузиазмом ответила Мамонтова. – И не только среди соседей, хозяев окрестных усадеб, но и в Москве. Мы собственный склад устроили, на Поварской, и продаем, помимо мебели, всякие бабьи рукоделия: вышивки, кружева, пестрядь, набойки… Спрос хороший. Даже не ожидали, что может быть такой интерес к исконно русским изделиям.
В гостиной усадебного дома висели на стенах картины и эскизы, подаренные хозяевам работавшими здесь художниками: портреты Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны, выполненные Репиным, лесной пейзаж с желтыми цветами-купавницами работы Елены Дмитриевны Поленовой, вид лесной абрамцевской речки со склоненными над нею деревьями – этюд ее брата, Василия Дмитриевича, пейзаж Виктора Васнецова и осенний этюд Остроухова.
Рассматривая эту коллекцию, Серов испытал укол творческой ревности: сам он представлен лишь небольшим рисунком. А ведь прошлой зимой выполнил портрет маслом Саввы Ивановича и подарил его Мамонтову. Должно быть, хозяева посчитали нескромным повесить в одной комнате два портрета одного и того же лица. И когда же он сможет наконец достойно заявить о себе в творчестве, показать, на что он способен?
Тренируя руку, Серов сделал два рисунка: на одном изобразил семейство Мамонтовых за обедом в столовой, а второй – портрет Елизаветы Григорьевны, в котором удалось схватить присущее ей выражение внутренней самоуглубленности. Но разве это те вещи, которыми можно гордиться? Как бы хотелось ему найти сюжет, который позволит выразить в живописи то, о чем он писал Лёле из Венеции, – «отрадное».
И вот однажды, в предвечерний час, когда солнце озаряло комнаты дома мягким и теплым светом, Серов мимоходом, собираясь на прогулку, вдруг увидел, как в столовую вбежала запыхавшаяся Верушка Мамонтова и, быстро схватив со стола один из оставленных для нее персиков, с удовольствием откусила сочную мякоть плода.
– Заигралась, – смущенно, словно стесняясь своего аппетита, сказала она.
– Во что играли? – задержавшись у двери, спросил Серов.
– В казаков-разбойников, – ответила Вера.
– С Шурой? – поинтересовался Серов.
– Да с целой ватагой деревенских, – словоохотливо пояснила Вера. – С одной Шурой разве интересно? Она еще маленькая.
Серов не мог оторвать от нее глаз. Право, странно, знает ее с детских лет, а как Верушка уже выросла, как пленительно смотрится в розовой блузе с пышным черным бантом у ворота, с коротко стриженными, чуть растрепавшимися темными волосами! Как разрумянилась от бега, как удачно падает на ее лицо свет из обрамленного зеленью окна. Еще не сознавая всей своей прелести, она уже чувствует себя взрослой по сравнению с младшей сестренкой. Да если б можно было запечатлеть ее за этим столом, в комнате, залитой солнцем, с устремленным на него доверчивым и чуть смущенным взглядом! Что же с большей полнотой может выразить «отрадное», как не эта упоенная радостью жизни Верушка Мамонтова? Только бы уговорить ее, только бы эта непоседа согласилась.
Уговорить Верушку помогли давно сложившиеся между ними дружеские отношения. Серов работал над полотном с упоением, но и безжалостно к себе, и, когда видел, что получается не то, что надо, счищал уже написанное и начинал вновь, стараясь передать на холсте свежесть первого впечатления, безмятежность и скрытое счастье во всем облике Верушки, игру солнечного света на стенах комнаты и на ее лице.
За работой он даже забыл, что давно не писал Лёле, и вот получил от нее еще одно письмо, в котором проступали обида невесты за его молчание, ревность, опасение, как бы он не увлекся другой.
«Полюбить, – писал в ответ Серов, – я никого не полюбил (ты ведь мне веришь, ты должна мне верить). Есть здесь девушки и женщины, к которым я привязан, ты их знаешь, но той любви, о которой ты говоришь или думаешь, здесь нет.
Дорогая моя, прости меня, я чувствую себя очень виноватым перед тобой за свое молчание. Оно возмутительно. Я тебе всегда говорил, что я жестокий негодяй, который кроме своей живописи ничего знать не желает, которого любить так, как ты любишь, не следует и тревожиться о нем так, право, не стоит…» Снижая серьезность тона, уже веселее добавил: «Когда ты меня возьмешь в руки и сделаешь порядочным человеком? Я рад – вижу, что ты меня любишь. Крепко, крепко целую тебя за это».
К осени портрет «девочки с персиками» был завершен, и Серов подарил его Елизавете Григорьевне Мамонтовой к дню ее рождения. Верушкин портрет ей очень понравился, и это было самой большой наградой автору. Он испытывал редкое чувство творческой победы. Ему все же удалось написать картину, которая украсит дом Мамонтовых.
Казавшаяся когда-то очень большой сумма в тысячу рублей, полученная за роспись плафона «Феб лучезарный», к осени превратилась в ничто. Пора было подумать о другом заработке. И тут помог Савва Иванович: предложил написать два заказных портрета – инженера Семена Петровича Чоколова и его супруги. Серов без особых раздумий согласился и в начале ноября уехал в Ярославль.
Инженера в городе он не застал. Тот уехал на Север, где участвовал в строительстве железной дороги от Вологды до Архангельска. И потому Серов начал работу с портрета Екатерины Николаевны Чоколовой. Она и сама оказалась любительницей художеств, делала рисунки ковров и вышивок, которые изготовлялись в ее кустарной мастерской. Серов предложил написать ее на фоне одного из таких ковров. Профессионального художественного образования Екатерина Николаевна не имела, и она попросила, если возможно, одновременно давать ей уроки рисования и живописи. И против этого Серов не возражал.
Работа над первым портретом растянулась почти на месяц. «Каждый портрет для меня целая болезнь», – пишет Серов в это время Лёле. В Ярославле ему скучно, тянет в Абрамцево. И он с подкупающей непосредственностью признается в письме Е. Г. Мамонтовой, что каждую ночь видит ее во сне и о многом собирается поговорить, когда «будет иметь счастье» видеть ее наяву.
Вырвавшись в Абрамцево на выходные дни, с удовольствием находит там, что исполненный им Верушкин портрет заключен в симпатичную дубовую раму и висит в усадебном доме на почетном месте, а потому, пишет Трубниковой, и сам он теперь в Абрамцеве встречает «почет и уважение».
Портрет Е. Н. Чоколовой наконец-то завершен. А тут и муж ее вернулся с Севера и готов позировать художнику. На досуге Серов с упоением читает одолженный ему Елизаветой Григорьевной томик С. Т. Аксакова, «Семейную хронику», и упоминает в письме, что теперь готов «прочитать все, что написал Аксаков, от доски до доски».
В то же время он работает над другим заказом, полученным от брата Саввы Ивановича, книгоиздателя Анатолия Ивановича, предложившего проиллюстрировать некоторые сюжеты Библии. И вот, не чувствуя в себе настоящего призвания для этой работы, Серов мучается то над фигурой Каина, то над композицией «Каин и Авель», рисует змея-искусителя, а потом «трудящегося Адама». И с досадой сознает, что все это не то, совсем не то, что надо. В письме Илье Остроухову высказывает спасительную для себя мысль: отчего бы не пригласить для иллюстрирования Врубеля? «Насколько я его знаю и знаю его способности, больше чем кого другого, – мне кажется, он мог бы сделать прекраснейшие рисунки и, думаю, участвовать в этом не отказался бы».
К семейным новостям Серова в это время, о чем он сообщал Ольге Трубниковой, относилась предстоящая постановка оперы «Уриэль Акоста» в Киеве. Премьера, на которой присутствовала автор Валентина Семеновна, состоялась в начале декабря. Местные рецензенты отмечали, что прослушать оперу до конца довольно утомительно, но «сама постановка приличная».
Зимой Серов работал в Москве, заканчивал начатый ранее портрет Марии Федоровны Якунчиковой. Увы, теперь он отнюдь не испытывал той вдохновенной легкости, которая когда-то, в Абрамцеве, позволила ему сделать удачный рисунок той же Маши Якунчиковой верхом на лошади. Впрочем, портрет получился вполне «светским», и его могли бы принять на какую-нибудь выставку. Заказчиками он оплачен, а значит, и на хлеб насущный заработано.
К лету, по приглашению Владимира Дервиза, Серов приехал в его имение Домотканово. Погостить в большое поместье, где открылась уже и школа для крестьянских детей, съехались сестры Симановичи, кузины Серова. Всем хотелось поглядеть на появившуюся на свет девочку, названную Марусей. Когда из Одессы приехали наконец Маша Симанович с Олей Трубниковой, Серову пришла в голову идея нарисовать шуточный проект «Семейного портрета Симановичей и Дервизов». В большой группе он запечатлел и Дервизов с малюткой на руках мамы Нади, и трех ее сестер, и Аделаиду Семеновну, и себя с Олей Трубниковой.
К огорчению Серова, Лёля пробыла в Домотканове недолго и, посетовав на дела, вновь уехала в Одессу. Но Маша Симанович осталась, и однажды, когда они вместе прогуливались по парку, он нашел простой и естественный сюжет для новой картины. А сюжет такой. Присела девушка на скамейку под дубом, прислонясь спиной к дереву, и спокойно смотрит перед собой, словно приглашает и нас в этот славный летний день, с шаловливой игрой света и тени на лесных лужайках, на белой блузе и руках отдыхающей девушки, – в тот мир, где человек и природа так органично слиты друг с другом.
Впоследствии Маша Симанович вспоминала, что, сознавая важность этой работы для двоюродного брата, терпеливо позировала ему в течение трех месяцев, а затем, объявив автору, что, на ее взгляд, картина завершена и дальше позировать смысла нет, стала собираться в Петербург, где она занималась скульптурой в школе Штиглица. В благодарность за совместную работу Серов подарил ей 3 рубля на дорогу, и эти деньги, вспоминала Маша, ей очень пригодились. Она знала, что «эта сумма представляла для него нечто… Он, как и многие художники того времени, страдал вечным безденежьем».
Работа над полотном, получившим название «Девушка, освещенная солнцем», прерывалась лишь в пасмурную погоду, и тогда Серов переключался на писание пейзажа, изображавшего один из домоткановских прудов, с деревьями, отраженными в воде, затянутой кое-где ряской и плавающими листьями. Год назад подобный же сюжет – «Заросший пруд» – написал Левитан. Впрочем, оба они имели в этом сюжете маститого предшественника, Василия Поленова. Он десять лет назад открыл в русском пейзаже печальную красоту и поэзию старинных, заброшенных прудов.
Тем же летом Серов написал в Домотканове этюд, изображающий стоящую на холме меж деревьев старую баню, и начал работать над портретом Надежды Дервиз с ребенком на руках.
В конце июля он уехал в Абрамцево, где его тут же уговорили сыграть Жевакина в комедии Гоголя «Женитьба». После этого спектакля в абрамцевском кружке окончательно утвердилась репутация Серова как актера преимущественно комического дара. О пребывании тем летом в Абрамцеве сохранилась фотография, на которой Серов запечатлен вместе с Саввой Ивановичем, Ильей Остроуховым, М. М. Антокольским, П. А. Спиро и В. Д. Поленовым.
В тот день, когда в усадьбе ставилась «Женитьба», 6 августа, Серов пишет Лёле, признается, что сильно тоскует по ней, просит ее приехать либо сюда, в Абрамцево, где ее «все хотят видеть», либо в Домотканово, к Дервизам, где она бы зимой могла преподавать в земской школе для сельских ребятишек. Серов добавляет, что и сам выехал бы на свидание с ней, но нет денег, а «должать боится». Немного – и о настроении: «Я опять прочел твое письмо, ты говоришь о счастье: поди, разбери, где счастье, где несчастье. Все мне говорят, что я счастливец, очень может быть, охотно верю, но сам себя счастливым не называю и никогда не назову, точно так же как и несчастным, хотя и об одном ухе и с вечной тяжестью на сердце».
В этих словах проскользнул намек на одну из причин обычной молчаливости и угрюмости Серова, которые многие отмечали в нем в более поздние годы. Мучившая его в детстве и юности болезнь ушей в конце концов вызвала глухоту на одно ухо, что затрудняло полноценное общение.
Уже из Москвы, получив очередное, довольно грустное и даже «ругательное» письмо от Лёли, и понимая, что ее тревожит вопрос об их будущей жизни, Серов вновь пишет ей, пытаясь рассеять все ее сомнения и беспочвенные подозрения: «…Лёля, милая, я помню тебя и думаю о тебе более чем часто. Лёля, мне хочется, чтобы ты была скорее моей. Мама, конечно, все знает и, конечно, довольна очень, она говорит, что если бы я полюбил и женился на другой, ей было бы это совершенно непонятно. Все вообще очень мило относятся к нашей затее. Даже девицы Мамонтовские, и Маша Якунчикова в особенности, встретили меня так радушно и ласково, давным-давно зная всё; вначале они, оказывается, были огорчены – кричали и вопили, но потом решили, что это собственно эгоизм с их стороны и что, пожалуй, будет для меня лучше».
Прикидывая варианты их будущего местожительства после свадьбы, Серов упоминает Домотканово, а затем Киев, где он мог бы получить работу по росписи Владимирского собора. Радует невесту известием, что скоро, дней через десять, он выедет к ней, в Одессу, и по дороге на пару дней задержится в Киеве, чтобы обговорить там возможность своего участия в росписи собора.
В его творческих планах – портрет отца в полный рост. Он собирается написать его по фотографиям. Этот портрет Серов задумал в связи с приближавшимся 25-летием постановки в Мариинском театре оперы «Юдифь». К юбилею постановки Валентина Семеновна подготовила публикацию в газетах отрывков из воспоминаний о покойном муже, написанных, по мнению Серова, «очень жизненно, удачно».
Предстоящий юбилей требовал присутствия вдовы и сына композитора в Петербурге.
В следующем письме невесте, отправленном 7 октября 1888 года, Серов сообщает, что намерен пробыть в Одессе недели две, а сейчас занят хлопотами, связанными с оформлением их брака. Поскольку он потомственный дворянин, ему надо получить, помимо «паспорта от полиции», «настоящий паспорт от дворянства петербургского». С надеждой уточняет: «Ты ведь тоже дворянка, Лёля? Ну, а у тебя этих бумаг достаточно?» Он прекрасно понимает, что дворянство в России дает права и привилегии, которыми пренебрегать не стоит.
В Киеве Серов в первую очередь встретился с профессором Адрианом Викторовичем Праховым, руководившим работами по живописному оформлению собора. Показал ему набросок акварельного эскиза «Рождество Христово» – к разговору о том, что хотел бы, если это возможно, принять участие в росписи собора. Однако Адриан Викторович посетовал, что эскиз должным образом не закончен, и предложил завершить его и только тогда представить на утверждение. Пока же он готов зарезервировать за Серовым роспись простенка южной запрестольной стороны на хорах собора.
Что ж, успокоил себя Серов, и это неплохо, есть надежда на получение работы.
С Виктором Михайловичем Васнецовым встретились радушно, поговорили об Абрамцеве, о Мамонтовых. Серов спросил о Врубеле, работает ли он в соборе. Васнецов замялся, словно раздумывал, все ли надо говорить. Потом все же рассказал, что Врубель в соборе работал, представил несколько эскизов для росписей, «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и свечой», «Воскресение», весьма оригинальных и по решению темы, и по живописи. Да вся беда в том, что по стилю своему совсем не сочетались они с другими росписями, с его, васнецовской, и с теми, что делали художники братья Сведомские и Котарбинский. И потому, с сожалением, но комиссия их все же отклонила, а Адриан Викторович Прахов сказал, что для такой росписи надо уже другую церковь строить.
А талант, признал Виктор Михайлович, у Врубеля действительно недюжинный. Как-то видели они с Праховым у Михаила Александровича в меблированных комнатах, где он живет, замечательное полотно на сюжет Христа в Гефсиманском саду и даже потом привезли к Врубелю киевского коллекционера Терещенко, чтобы и он тот холст посмотрел.
Иван Николыч лишь языком от восхищения поцокал и тут же выложил за картину 300 рублей: покупает, мол. Только попросил нижний угол полотна дописать. И что же? Врубель, в помрачении, должно быть, поверх Христа на том же холсте циркачку легкомысленную написал в кисейной юбочке и лишь в углу кусок Гефсиманского сада оставил. Устыдил я его, продолжал Васнецов, а он в ответ говорит, ничего, Терещенко, мол, еще лучше от него картину получит. Заключая рассказ о Врубеле, Васнецов упомянул, что, хотя росписи его и отвергнуты, но Прахов Михаилу Александровичу другую работу в соборе предложил – писать орнаменты для боковых нефов.
С тяжелым сердцем отправился Серов на Фундуклеевскую, где в дешевых меблирашках проживал Врубель. Увы, худшие опасения оправдались. И обстановка комнаты, и костюм Врубеля, его неряшливая внешность свидетельствовали об откровенной нищете. Но сам Врубель своим очевидным жизненным трудностям особого значения как будто не придавал, бодрился и рассказал, что подвизается в иконописной мастерской у брата Мурашки и недавно за два образа получил аж 80 рублей. А сделает роспись орнаментов в соборе – будет богат как Крез: за сию роспись обещано ему полторы тысячи рублей. Но для души-то другое дело делает. И тут же показал небольшой картон, на котором написал маслом новую вариацию на давно волновавшую его тему Гамлета и Офелии. В отличие от прежних композиций теперь Врубель изобразил своих героев на лоне природы, в саду. Левую руку Гамлет держал на упавшей к коленям правой руке Офелии. По платью девушки рассыпались лепестки цветов. Они не смотрели друг на друга. Каждый, казалось, был погружен в собственные мысли. Что-то в лице Гамлета напоминало самого Врубеля, и Серов вслух высказал эту догадку. «Прозорлив, – усмехнулся в ответ Врубель. – А если уж о прототипе Офелии, то она и сама не ведает, что здесь, на полотне, мы с ней вместе. Когда не можешь достичь чего-то в жизни, хочется воплотить это хоть в своей мечте».
От выпитого в честь встречи вина Врубель раскраснелся, заговорил возбужденно, и Серов понял, что пора уходить. Сам он говорил мало. Упомянул, как о самой главной новости, что собирается жениться на Трубниковой и едет сейчас к невесте в Одессу, а жить они, вероятно, будут в Киеве. По дороге он думал, что причиной разлаженного душевного состояния Врубеля, как подсказывал он сам, могла быть и неразделенная любовь. А, быть может, ближе к истине другое.
Врубель, с его повышенной нервной возбудимостью, вероятно, глубоко переживал отказ комиссии принять эскизы его росписей, крушение надежд на то, чтобы сказать свое, врубелевское, слово в храмовой живописи.
В Одессе Серов с Лелей договорились, что их венчание состоится через три месяца, в январе следующего года. К тому времени окончательно решат, где они будут жить, в Москве, в Киеве или в Петербурге. А пока она будет завершать свои одесские дела в музыкальной школе, а он – портрет отца, который неплохо было бы закончить к юбилейной постановке «Юдифи».
В Москве, после возвращения из Одессы, Серов довольно быстро написал портрет друга их семьи композитора Павла Ивановича Бларамберга. По мнению видевших его, портрет исключительно удался и отличался не только уверенной живописью, но и точной, психологически достоверной передачей натуры. Со слов самого Серова, И. Э. Грабарь писал о портрете, что он «один из немногих, доставивших удовлетворение даже непомерно взыскательному к себе автору».
Отъезд Серова в Петербург почти совпал с намечавшимся отъездом Елизаветы Григорьевны Мамонтовой вместе с дочерьми в Рим. Прощание с ней омрачилось для Серова просьбой одолжить ему некоторую сумму денег на первые дни жизни в Северной столице. Этот долг он возвратил ей в начале декабря через ее сына Всеволода. В письме Е. Г. Мамонтовой, посланном в Рим, Серов с горечью писал, что их прощальное свидание было отравлено для него просьбой этих денег. В связи с этим заметил: «Нет ничего отвратительнее таких просьб; сколько крови портится, является (совершенно ненужная) ненависть ко всем, начиная с того, у кого нужно просить, и себя и т. д. и т. д. Ну, довольно, деньги всегда останутся деньгами».
Горькое, от сердца идущее признание. Что ж, и в последующие годы, получив известность и вроде бы прочно встав на ноги, Серов, случалось, не мог прожить на собственный заработок и обращался к друзьям и знакомым с просьбой дать ему в долг. Из этого письма понятно, каких мук каждый раз стоили ему такие просьбы.
О своих с мамой делах, связанных с юбилеем «Юдифи», Серов сообщает Мамонтовой, что сам он работает над портретом отца и что Репину он нравится, «чему, конечно, я очень рад». А мама его хлопочет об издании музыкальнокритических произведений отца. Дело же это весьма сложное. «Мы решили с мамой эту зиму посвятить отцу, если не всю, то добрую часть ее». Издание музыковедческих работ А. Н. Серова, признанного современниками блестящим музыкальным критиком и одним из основоположников русской музыкальной литературы, было непростым потому, что стоило немалых денег. Для этого требовалось получить субсидию от государства либо от частных лиц. Но пока ее не было.
Помимо того, надо было собрать многочисленные статьи покойного критика и композитора, рассеянные по периодическим изданиям, российским и зарубежным, по возможности сверить их с оригиналами, отредактировать. Этим Валентина Семеновна занималась совместно с В. В. Стасовым. Работа осложнялась тем, что почти весь архив А. Н. Серова, в том числе письма к нему знаменитых современников, среди них Листа и Вагнера, свезенный Валентиной Семеновной в деревянный дом, который она снимала в деревне Едимоново, погиб в 1886 году, во время случившегося в деревне большого пожара.
В это же время, в письмах И. С. Остроухову, Серов сообщает, что старается внести свою лепту в подготовку декораций к «Юдифи», ходил в Публичную библиотеку и нашел там довольно много «ассирийского материала», необходимого для лучшего представления о костюмах тех времен. Встречался в связи с этим с декоратором Мариинского театра французским художником Генрихом Левотом, но полного взаимопонимания достичь пока не удалось.
Перед отъездом из Москвы Серов попросил Остроухова послать две его картины, портрет Верочки Мамонтовой («Девочка с персиками») и написанный в Домотканове «Заросший пруд», на ежегодный конкурс, который Московское общество любителей художеств проводило перед открытием очередной периодической выставки. Илья Семенович согласился и предложил пейзаж с изображением пруда представить на конкурс под названием «Сумерки», а портрет Веры Мамонтовой из соображений деликатности был назван «Портретом В. М.».
Остроухов, видевший все работы, поступившие на конкурс, сообщил Серову, что его портрету, вероятно, будет отдано предпочтение, серьезных конкурентов нет («твой портрет интереснее и свежее, талантливее в сто раз»). А что касается пейзажа, то в этой области конкурент есть, и серьезный – Левитан.
В третьей номинации, жанр, по мнению Остроухова, лучшей вещью была картина Константина Коровина «Чаепитие». Всего на конкурс было представлено тридцать две работы молодых художников.
В том же письме Илья Семенович упомянул, что на днях к нему зайдет Павел Михайлович Третьяков, чтобы взглянуть на исполненный Серовым портрет его кузины («Девушка, освещенная солнцем»).
Остроухов первым сообщил Серову о победе на конкурсе. «Портрет девочки» Серова удостоился единственной премии в этой номинации, в сумме 200 рублей. Первые премии за жанр и пейзаж не присудили никому, а вторых премий удостоились соответственно Константин Коровин («Чаепитие») и Исаак Левитан («Вечереет»).
Стоит заметить, что критика отнеслась к проведенному конкурсу весьма сдержанно, проявив поразительное непонимание путей развития русского искусства. Так, рецензент «Русских ведомостей» заключил свой обзор: «Конкурс на премию… отличался относительно количества и качества представленных картин замечательной бедностью». Ему вторил в номере от 17 декабря и рецензент «Нового времени»: «…Конкурс не богат и уж никоим образом не дает полного понятия о настоящем уровне русской живописи». И это было сказано о работах Серова, Левитана, Коровина – художников, составивших вскоре славу русского искусства.
Впрочем, были и другие мнения, тех людей, кто понимал искусство значительно глубже. М. В. Нестеров, увидевший портрет Веры Мамонтовой еще летом, в Абрамцеве, писал сестре, А. В. Нестеровой, о домашнем музее Мамонтовых: «Из картин и портретов самый заметный – это портрет, писанный Серовым (сыном композитора) с… Верушки Мамонтовой. Это последнее слово импрессионального искусства. Рядом висящие портреты работы Репина и Васнецова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему представляют совершенство».
Известен и отзыв П. М. Третьякова, увидевшего тот же портрет в доме родителей Веры Мамонтовой: «Большая дорога открыта перед этим художником». Павел Михайлович с удовольствием купил бы его для своей галереи, но владельцы, Мамонтовы, отнюдь не собирались с ним расставаться. Впрочем, Третьяков по рекомендации Остроухова, выступившего в роли коммерческого агента Серова, приобрел за 300 рублей портрет Маши Симанович, написанный в Домотканове («Девушка, освещенная солнцем»). И об этом И. С. Остроухов сообщил Серову: «Ну, вот и поздравляю тебя, наконец, милый Валентин Александрович, с получением, так сказать, патента: твое имя в Третьяковской галерее. Я так рад, что страсть!» Эта картина на московской выставке Общества любителей художеств экспонировалась под названием «Этюд». С той же выставки и тоже за 300 рублей был приобретен пейзаж Серова «Пруд» («Сумерки»). Его купили М. Ф. Якунчикова и ее муж Владимир Васильевич.
В конце года Оля Трубникова все же приехала в Петербург: решили, что там и будут венчаться, и Серов считал это своей победой. Жить на первых порах она устроилась вместе с лучшей своей подругой Машей Симанович. И все это очень радовало Серова. Огорчало другое: постановка «Юдифи» в Мариинском театре откладывалась до следующего театрального сезона. Валентину Семеновну эта плохая новость расстроила всерьез. О состоянии ее здоровья и, попутно, о своих взаимоотношениях с ней Серов подробно пишет в начале января Е. Г. Мамонтовой: «…Мама моя таки сильно расшатана нервами. Временами я просто не знаю, как мне с нею быть. Последние два года отняли у нее много сил, она прямо устала. Часто по какой-нибудь мелочной причине у нее вдруг является сильное сердцебиение, слезы и т. д. Припадком подобные минуты назвать нельзя, не думаю, чтоб это были болезненные явления, скорее всего, что нервнаяя усталость. Она слишком была потрясена пожаром… Теперь здесь ряд неудач, больших и малых, подорвали ее совершенно. В таком подавленном состоянии она бывает временами, в другое время она бодра и оживленна, и прежнее забывается ею и нами».
Серов далее выражает надежду, что восстановить нормальное самочувствие матери поможет издание критических работ отца. «…Эти… критики, действительно, весьма хороши, я их читаю теперь в Публичной библиотеке. В одном яя убежден – если удастся это последнее, то есть начнется, наконец, дело это успешно – то оно восстановит маму лучше всевозможных лекарств. Еще одно ее больное место: холодность моя к ней. Она права, нет во мне той теплоты, ласковости к ней, как ее сына. Это правда и очень горькая, но тут ничего не поделаешь. Я люблю и ценю ее очень как артиста, как крупную, горячую, справедливую натуру, таких немного, я это знаю. Но любви другой, той спокойной, мягкой, нежной любви нет во мне. Если хотите, она во мне есть, но не к ней – скорее к Вам. Странно, но это так. Мне кажется, Вы знаете это, Вы не можете этого не знать».
Среди других новостей сообщает, что выступление его «на свет божий как художника» прошло успешно. И премию получил, и две картины с выставки куплены. Упоминает также, что пишет, хотя и медленно, портрет отца и, быть может, по окончании покажет его на Передвижной выставке…
И – о главной новости: «Невеста моя… здесь теперь. Недели через три, по всей вероятности, свершится, наконец, торжественное наше бракосочетание».
В ожидании венчания Серов продолжает работать над портретом отца. Решил изобразить его в момент творчества, стоящего за конторкой с пером в руке, как любил работать Александр Николаевич. Сама конторка отца сгорела во время пожара в Едимонове, но на рынке удалось приобрести примерно такую же. Лицо отца Серов писал с фотографии, и Репин, хорошо помнивший Александра Николаевича, подтвердил несомненное сходство. С Ильей Ефимовичем, по приезде Серова в Петербург, возобновились прежние близкие отношения. Серов часто работает в его мастерской и регулярно бывает на званых вечерах, где собираются литераторы, артисты, художники. Да только атмосфера в доме Репина ныне совсем не та, что прежде. Вера Алексеевна увлеклась молодым поклонником, ушла из дома, и Илья Ефимович развелся с нею. Теперь сам гостям чай разливает. Дочери, пишет Серов Остроухову, «как взрослые, могли бы этим заняться, но они пренебрегают решительно всем, что исходит от отца, чем огорчают его несказанно». И далее: «Ему теперь очень грустно и тяжело… Жалко его, одинокий он – девочки его мне все больше и больше не нравятся». Упоминает и о Вере Алексеевне: «Я ее любил раньше и сокрушался об ней, но за последнее время перестал… нет во мне к ней ни симпатии, ни уважения».
Мысль о том, как бы предварительное соглашение относительно росписи в храме на тему «Рождества» не было аннулировано, все же тревожит Серова, и он пишет в Киев B. M. Васнецову и просит сообщить, когда приедет в Петербург А. В. Прахов: мол, надо еще раз встретиться с ним и все окончательно решить, в том числе и вопрос о цене работы, о чем в Киеве речь не шла. Накануне бракосочетания финансовый вопрос имел для него отнюдь не последнее значение.
Наконец, 29 января 1889 года, в церкви Семеновского полка в Петербурге состоялось венчание Серова с Ольгой Трубниковой. Все обстояло просто. Присутствовали одни родственники. Шафером Серов попросил выступить Сергеяя Мамонтова, а в свидетели пригласил И. Е. Репина. После торжественной церемонии в церкви все поехали в арендованную молодыми для жилья квартиру на Михайловской площади, где по этому случаю состоялось чаепитие.
О переменах в своей жизни Серов пишет И. С. Остроухову в начале февраля: «Итак, я женат, человек теперь степенный, со мной не шути». И подзадоривает следовать тому же славному примеру: «Чего ты, скажи, мешкаешь, отчего бы тебе не жениться? Право». И с легкой иронией по отношению к общепринятым нормам: «Свадьба моя была торжественна невероятно».
Остроухов смог повидаться с молодыми и лично поздравить их в начале марта, когда приехал в Петербург, чтобы вместе с Серовым сходить на представление оперы Вагнера «Валькирия» в Мариинском театре. Об этом визите Ильяя Семенович дал отчет Е. Г. Мамонтовой: «…Теперь об Антоне. Он нисколько не изменился после женитьбы… Его жена мне понравилась. Очень миленькая, маленькая блондинка с красивыми глазами, простая, очень скромная. Так как она, очевидно, стесняется говорить много при мне, то мне и не удалось выяснить ее духовную физиономию; но, по-видимому, она еще далеко не определилась, еще очень молода, несильна и потому влияния на мужа быть не может. Он же еще не чувствует, кажется, обязательств нового положения своего, я еще не заметил в нем озабоченности и хотел бы найти более положительного и твердого… В конце концов мне они оба очень понравились».
В то же примерно время Серов представил свою жену Павлу Петровичу Чистякову, с которым по-прежнему сохранялись теплые, дружеские отношения. Павел Петрович одобрил выбор своего талантливого ученика и сказал об Ольге Федоровне: «Ну, с такого лица только ангелов писать».
Ангельские черты лица сочетались в Ольге Федоровне с необыкновенной аккуратностью, культом чистоты, и этим она напоминала Серову, как и другим, голландку.
Отвечая Серову при встрече в Петербурге на совет тоже жениться, Остроухов признался, что и сам серьезно подумывает об этом и есть кое-кто на примете, дама во всех отношениях достойная, но пока лучше не спрашивать, кто она: время придет – сам скажет. И вот в мае, когда родители ее дали согласие на брак, открылось имя избранницы. Надежда Петровна Боткина выросла, как и сам Остроухов, в купеческой семье и была дочерью известного в Москве чаеторговцамиллионера П. П. Боткина. Переживания Остроухова стали Серову понятнее: вдруг сочтут, что он не пара ей, вдруг откажут? Но все завершилось благополучно, и в конце мая, в связи с помолвкой, Серовы направили поздравительную телеграмму Илье: «Радуемся за тебя, Семеныч, очень».
Иметь тестем миллионера, должно быть, приятно, размышлял Серов, но у него таких родственников не было и приходилось рассчитывать только на себя. В это время, в апреле—мае, он работает над акварельным портретом баронессы В. И. Икскуль фон Гильденбрандт и заказным портретом пастора Дальтона для реформатской немецкой церкви в Петербурге на Б. Морской.
О портрете пастора Дальтона, видимо, не считая его особым творческим достижением, Серов написал Остроухову лишь то, что полученные за него деньги пока достаточны на житье-бытье.
В июне, проводив жену на отдых в Домотканово, к Дервизам, и собираясь позже присоединиться к ней, Серов в письме E. Г. Мамонтовой сообщает о последних новостях в жизни их знакомых и особо – о своей работе над портретом отца, которая явно затянулась и уже обрастает анекдотами. «Сижу я здесь в Питере один – жена моя уехала в деревню, сестра, мама, знакомые все разъехались. Один Илья Ефимович, да и тот скоро уезжает в Париж. А я все сижу над портретом отца, это, наконец, действительно переходит в какой-то анекдот. Положим, за зиму мне пришлось работать и другое, но все-таки Василий Дмитриевич (Поленов), пожалуй, прав. Он уверяет, что кого ни спросишь – ну, а что поделывает Антон? – „Да все пишет портрет отца“. Через несколько месяцев тот же вопрос – тот же ответ. Антон уже давно женился, у него уже мальчик родился – хорошо, а что он делает? – „Да все кончает портрет отца“ и т. д. и т. д. Положим, никаких мальчиков у меня нет, а все-таки так возиться, как я, возмутительно».
Словно стремясь опровергнуть эти веселые и даже чутьчуть обидные для него разговоры, Серов делает в это время в Эрмитаже копию с этюда головы папы Иннокентия X Веласкеса. Об этой его работе художник А. Я. Головин вспоминал: «Я был очевидцем настойчивости, с какой Серов копировал портрет папы Иннокентия X (Веласкеса). Шаг за шагом преодолевал он технику Веласкеса, скоблил, тер, переделывал, снова скоблил, снова писал и сделал изумительную копию, которую прямо невозможно было отличить от оригинала».
Подумывая о том, что портрет отца можно предложить в будущем году на Передвижную выставку, Серов внимательно осмотрел нынешнюю экспозицию, семнадцатую по счету, развернутую, как обычно, в начале года, с февраля по первые дни апреля. На ней заметны ведущие мастера. Репин представлен портретами композиторов Бородина и Глазунова, актера Щепкина. Поленов – полотном «На Генисаретском озере», и, право, как же похож его идущий Христос на Костю Коровина: говорят, Костя и позировал. Н. Н. Ге тоже увлечен евангельской темой – «Христос в Гефсиманском саду».
А вот и сам Костя Коровин, экспонент выставки, с прекрасной тонкой работой «У балкона», изображающей двух оживленных молодых испанок. Недаром, значит, ездил в Испанию с Саввой Ивановичем Мамонтовым. Неплохо смотрится и другой экспонент, Илья Остроухов, с пейзажем «Первая зелень». И еще один новичок выставки, тоже экспонент, A. С. Степанов, показавший картину «Лоси. В ожидании поезда» – пленительная, поэтичная вещь, недаром картину уже приобрел чуткий на все талантливое Павел Михайлович Третьяков.
Виктор Михайлович Васнецов верен себе и продолжает разрабатывать богатую жилу русского фольклора в картине «Иван-царевич на волке».
Что ж, надо готовиться, думает Серов, в следующем году строгий суд публики и критики предстоит и ему.
Часть лета Серов с женой провели в Домотканове, где он закончил начатый год назад портрет Надежды Дервиз с дочерью на руках. А в сентябре молодые супруги отправились в заграничное путешествие, на открывшуюся еще весной в Париже Всемирную выставку. Лёля оказалась за границей впервые и не уставала поражаться и красоте города, и изобретательности устроителей выставки. Да и Серов, поживший в Париже около года, в возрасте девяти-десяти лет, теперь смотрел на него совсем другими глазами.
По счастливой случайности снять жилье удалось поблизости от Марсова поля, где разместились выставочные павильоны, и недорого – за 4 франка в день.
Героем выставки был французский инженер Эйфель, по проекту которого возвели ажурную металлическую башню – самое высокое, как сообщалось, сооружение в мире, вдвое превышавшее великую пирамиду Хеопса. Железный монстр казался слишком непривычным, и Серов с недоверием к замыслу автора осмотрел устремленную к облакам громаду. Но когда комфортабельная кабина подняла наверх и они с Лелей вышли на смотровую площадку, открывшаяся картина оказалась столь захватывающей, что сомнения насчет целесообразности строительства башни отпали сами собой. Отсюда был виден весь Париж – Пантеон, купол Сорбонны, Нотр-Дам, церковь Святого Павла и даже крыши домов на холме Монмартр.
Выставка поражала не только Эйфелевой башней. Будто весь мир людей, с пестротой одежд и лиц, со всем богатством архитектурных стилей разных стран и веков, был представлен на сравнительно небольшой территории. В павильоне Марокко развернут, словно перенесенный с улиц Танжера, шумный арабский базар. Египетские мастера построили натуральную каирскую улицу с торговыми лавками, кофейнями, мастерскими, мечетями, где работают и просто показывают себя зрителям, лениво покуривая кальян, их облаченные в белые, до пят, одежды соотечественники. Павильон колониальных владений Франции демонстрирует хижины из тростника и бамбука с их темнокожими обитателями, а по соседству – экспозиция Голландской Индии – типичная яванская деревушка и ресторанчик, где, помимо восточных яств, можно оценить искусство босоногих танцовщиц.
Столетний юбилей революции 1789 года французы отметили сооружением в двух шагах от выставки точной копии разрушенной Бастилии и примыкающего к ней тщательно воссозданного квартала с улицей С.-Антуан. Здесь и цирюльни, и трактир, лавки ремесленников – свечника, каретника, гончара, ювелира, продавца музыкальных инструментов… Что ж, людям нравится, не отправляясь в дальний путь, совершить своеобразное путешествие по векам и странам, и, бродя рука об руку по узким улочкам экзотических построек, молодая русская пара с любопытством рассматривала все эти диковинки.
Заглянули они и в огромный Дворец машин. Выставленные здесь двигатели, средства передвижения и электрические приборы Серову, более отзывчивому на прекрасное в искусстве и жизни, мало что говорили. И все же, подчиняясь желанию Лёли, они пристроились в очередь, чтобы посмотреть новинку американца Эдисона – так называемый фонограф, способный передавать музыку и речь. Словоохотливые гиды поясняли, что, подобно лампам накаливания и электродвигателю, это великое изобретение, прокладывающее дорогу в XX век.
А как же представлена среди этого великолепия Россия? Российские экспонаты разместились в главном павильоне. Фирма Савина демонстрировала кожи, Фражье – мельхиор, Шопена – изделия из бронзы, Ауэрбаха – образцы ртутной руды, Хлебникова и Овсянникова – серебро, Новинского – меха. Собранная профессором Докучаевым коллекция почв могла заинтересовать лишь специалистов.
В русском павильоне, построенном в стиле старинной избы с высокой крышей, посетители могли лицезреть на стенах портреты императора Александра III и московского генерал-губернатора князя Долгорукова. Здесь же торговали изделиями кустарей – ложками, мисками, игрушками, табакерками и прочим незамысловатым товаром.
Самое притягательное – во Дворце изящных искусств. Пользуясь положением хозяев, французы значительную долю экспозиции отвели под собственную живопись. Исторические полотна Мейсонье, Ораса Верне, «Римская оргия» Кутюра, как и ловко сработанные Бонна портреты Виктора Гюго, Александра Дюма, Пастера, мало тронули Серова. Но перед «Каменотесами» Курбе, «Компьенским лесом» Дюпре, «Берегами Уазы» Добиньи, пейзажами Коро и Диаза де ла Пенья он задержался надолго, восхищаясь и колоритом картин, и тем, как выражено в них настроение. Это были хорошие образцы истинно национальной живописи.
Пальму же первенства он безоговорочно отдал полотну недавно скончавшегося Бастьен-Лепажа «Жанна д'Арк». Художник избежал соблазна показать свою героиню знаменитой военачальницей. Жанна была изображена еще никому не известной крестьянской девушкой. Она стояла в саду под раскидистой яблоней, одетая в домотканое холщовое платье, из-под которого выглядывали босые ноги, и напряженно слушала проникавшие в ее душу таинственные голоса архангелов. Неужели правда, что ей свыше предначертана роль освободительницы Франции от иноземного ига? Неужели она возглавит войско и поведет его к победе над врагом? Фигуры возникавших в ее воображении святых были едва намечены в формах светящихся облаков. Лицо Жанны отражало характер сильный и страстный, поразительны были ее глаза, в которых запечатлелся момент экстатического прозрения своей судьбы.
Русский отдел был представлен небольшими маринами Айвазовского, жанровой картиной Владимира Маковского, несколькими пейзажами Клевера и добрым десятком работ малоизвестного в России Харламова. А где же, изумлялсяя Серов, полотна Репина, Боголюбова, Куинджи, Верещагина, Поленова?
Павильоны, где демонстрировались живопись и скульптура, осматривали вместе с Машей Симанович, тоже приехавшей на выставку. Здесь, в Париже, как уже знал Серов, у Маши был большой поклонник, пожалуй, уже и жених. Машин поклонник, рассказала Лёля, по имени Соломон Львов, лет на десять старше Маши, он политический беженец, в России ему появляться нельзя, сразу арестуют. Львов учился в Киевском университете, был исключен за участие в студенческих беспорядках и сослан в Олонецкую губернию, откуда бежал за границу. В Париже он поселился лет семь назад и работает врачом-психиатром.
Дела политические Серова волновали мало, но, поскольку это все касалось близкой ему Маши Симанович, он выслушал рассказ о ее поклоннике с острым интересом. Теперь он лучше понимал, почему Маша так рвалась в Париж, куда ездила и раньше, и почему предстоящую зиму решила провести в столице Франции, хотя сама Маша объясняла эти свои планы желанием совершенствоваться в скульптуре.
Вместе с Машей посетили мастерскую жившего в Париже Антокольского, но последние работы скульптора, «Нестор» и «Спиноза», Серову показались малоудачными, о чем он упомянул в письме Остроухову. Антокольскому Серов высказал свое возмущение по поводу неудачного показа на выставке России и ее искусства. Марк Матвеевич согласился, что Россия смотрится здесь неважно, и пояснил, что устроителей русского отдела преследовали неудачи: один генеральный комиссар отдела скончался, а его преемник приболел. Подобное же разочарование русской экспозицией высказали встреченные Серовыми в Париже соотечественники – Василий Дмитриевич Поленов, Михаил Мамонтов, ездивший с Серовым в Италию, и Мария Федоровна Якунчикова.
Это общее мнение было выражено и В. В. Стасовым в статье, опубликованной в сентябрьской книжке «Северного вестника». Стасов писал, что никогда прежде, ни на одной всемирной выставке, Россия не играла такой жалкой роли, как ныне. «И по художеству, – отмечал Стасов, – и по промышленности Россия потерпела нынче такой провал, какого еще никогда не терпела… так мизерны были ее картины, так ничтожны важнейшие и оригинальнейшие произведения…»
Но Стасов подметил и еще один интереснейший факт, касающийся русского участия во Всемирной выставке. По мнению критика, спасло национальную честь и показало современную Россию «в самом блестящем и великолепном виде» ее музыкальное представление, «русские концерты в зале Трокадеро»: «Они произвели поразительный эффект на парижскую публику и еще больший на парижский музыкальный мир». Произведения «молодой русской школы», с гордостью отмечал Стасов, Римского-Корсакова, Бородина (симфоническая картина «В Средней Азии»), Глазунова («Стенька Разин» и 2-я симфония, которыми он сам дирижировал), Балакирева («Тамара» и «Исламей») – все эти «создания новой русской школы имели такой громадный успех, который покрыл блеском и славой эту школу и принес России величайшую честь на Всемирной выставке».
За две недели пребывания в Париже Серов с Лелей посетили Лувр, Люксембургский музей, Нотр-Дам. Перед отъездом они приехали на Монмартр, и Серов нашел и показал жене дома на бульваре Клиши и улице Верон, где когда-то он жил вместе с мамой и где снимал мастерскую Репин. На узких, горбатых улочках излюбленного пристанища художников все так же голосили из-за увитых зеленью заборов петухи и доносился из дверей кафе запах жареных каштанов и иной аппетитной снеди.
По возвращении из Парижа Серов отвез Лёлю, уже ожидавшую ребенка, к верным и всегда готовым помочь друзьям (и родственникам) Дервизам в Домотканово. Сам же пока обосновался в Москве, в доме Мамонтовых, где, как и прежде, его всегда были готовы радушно принять.
Этой осенью и зимой Серов все более сближается с Костей Коровиным. Как-то Константин показал свои последние работы, выполненные после совместных с С. И. Мамонтовым поездок в Испанию и на Кавказ. Что-то таинственное, с ожиданием кровавой драмы, проглядывало в его картине, изображавшей испанскую таверну с тускло мерцающим фонарем, свет которого отражался в заднем окне. Интересны были и кавказские этюды, особенно «Покупка кинжала» – написан он был с характерной для Коровина импрессионистской живостью, смелыми и яркими мазками. Удался Константину и заказной портрет родственницы Мамонтова Алябьевой. Сдержанной, благородной цветовой гаммой и манерой письма он напоминал полотна старых испанских мастеров, и, рассматривая портрет, Серов не удержался от реплики: «Тут и видно, как покорил тебя в Мадриде Веласкес». Костя парировал: «Да и ты, друг мой, к нему неравнодушен», намекая на копию портрета Иннокентия Х, исполненную Серовым в Эрмитаже. Эту копию вместе с портретом Марии Якунчиковой Серов представил на открывшуюся в конце года периодическую выставку Московского общества любителей художеств.
Той же осенью в Москве неожиданно появился приехавший из Киева Врубель, и Серов сразу ввел академического приятеля в дом Мамонтовых. И Савва Иванович, и Елизавета Григорьевна уже были наслышаны о нем от Серова и сына Андрея, работавшего вместе с Врубелем во Владимирском соборе. Личная встреча быстро переросла во взаимную симпатию. Мамонтовых расположили к Врубелю превосходное знание им Венеции и итальянского языка и его глубокое и тонкое понимание европейской культуры. Вскоре дляя Врубеля нашлась работа – исполнение декораций к написанной Мамонтовым совместно с сыном Сергеем пьесе «Царь Саул», поставить которую намечалось в рождественские каникулы. Срок работы был сжатым, и Серов вызвался помочь другу. Случалось, писали и по ночам. Особенно эффектной получилась у Врубеля декорация третьей картины – вид дворцовой террасы ночью, кипарисы и горы на заднем плане.
Серов в конце декабря пишет жене: «Мы с Врубелем в данное время всецело находимся у Саввы Ивановича, то есть днюем и ночуем из-за этих самых декораций. Савва Иванович и Елизавета Григорьевна чрезвычайно милы с нами, и яя рад, что они так ласковы с Врубелем». И далее: «С Врубелем мне интересно».
В то же время подвернулась и возможность заработка: Серову предложили давать уроки рисования подростку из богатой семьи, Владимиру фон Мекку, и об этом он тоже сообщает Лёле: «Видел я мальчика, моего будущего ученика, ничего интересного не представляет, я думаю, заниматься с ним будет несколько скучновато». Кто же мог тогда подумать, что спустя десять лет подросший Владимир Владимирович фон Мекк станет видным коллекционером русской живописи и на этой почве его пути пересекутся с путями Врубеля и Серова.
Среди других новостей в том же письме Лёле – несколько слов о зажившем на широкую ногу после женитьбы Остроухове: «Редко вижусь с Семенычем, какая-то неловкость установилась между нами, хотя и принимаем друг перед другом тон непринужденности. Нет-с, обстановка и все такое много значат. Прежде я искал его сообщества, теперь нет. Не знаю, что будет потом. Притом его теперешняя, всегдашняя забота об устройстве дома как можно комфортабельнее и роскошнее положительно наводит на меня тоску. А дом, действительно, комфортабелен до неприятности».
В январе Серов с Коровиным обживали совместно снятую мастерскую на Долгоруковской улице. Рождественские праздники позади, а с ними и театральная горячка в доме Мамонтовых, завершившаяся премьерой «Царя Саула». Особо заметны в спектакле, вспоминал Сергей Мамонтов, были двое: Константин Алексеев (Станиславский) в роли грозного пророка Самуила и Валентин Серов, сыгравший пленного амаликитского царя Агага.
Присоединиться к Коровину с Серовым в общей мастерской пожелал и Врубель. Пока особых дел у друзей здесь нет и они обсуждают, что надо бы устроить торжественное открытие мастерской, пригласить гостей, а в будущем, когда разживутся деньгами, можно работать здесь с натурщицами.
У Мамонтовых готовится еще одна постановка, на этот раз старой комедии Саввы Ивановича «Каморра» о банде неаполитанских мошенников, которая помогла паре русских туристов преодолеть все преграды и устроить личное счастье. Веселую комедию удобно порепетировать в этот зимний день, когда на улице метель, а ветер волком завывает. Пусть себе беснуются, – в мастерской же шумит, потрескивая, натопленная печь, а потому тепло и уютно. Серов, привстав с диванчика, вкрадчивой, танцующей походкой идет по комнате и хрипловато напевает:
Только денег нам дадите, —
Все исполним в тот же миг…
По своей роли он член каморры, один из прожженных плутов. Следом за ним Врубель, не удержавшись, тоже запевает, но совсем иначе – сладкую песню влюбленных «СантаЛючия». Эту песню он будет исполнять в спектакле с одной из девиц Мамонтовых за сценой, создавая «неаполитанский фон».
От песен переходят к беседе о художественных выставках. Серов рассказывает, что портрет отца за конторкой он решил представить публике на Передвижной выставке. Однако Илья Ефимович Репин опасается, что жюри может отвергнуть этот портрет: и по размерам слишком великоват, и писался не с натуры, а по фотографии. Репин советует ему на всякий случай, если портрет отвергнут, прислать что-нибудь «солнечное», то, что было написано с натуры. Например, портрет Веры Мамонтовой или Марии Якунчиковой. Да теперь-то, сетует Серов, делать замену уже поздно. К тому же портрет Якунчиковой он отправил на московскую выставку Общества любителей художеств. И даже была хвалебная рецензия в «Московских новостях».
Врубель интересуется, так что же хвалили. И тогда уже Коровин, знакомый с благожелательным отзывом, поясняет. По мнению рецензента, художник отлично справился с непростой колористической задачей – изобразить даму в светлом платье на том же белом, а не контрастирующем, фоне. Вышло же и красиво, и оригинально. Обращаясь к Серову, Коровин шутливо говорит: «Мы с Мишей от выставок отдыхаем, а тебе, Антон, придется за нас отдуваться».
Серов был немало удивлен, что Коровин, встретив в Москве Врубеля, отнесся к нему как к давнему приятелю и сразу заговорил на «ты». И Врубель принял это как должное, хотя панибратства не терпел. Позднее Константин рассказал, что познакомился с Врубелем несколько лет назад на даче под Киевом, у их общего знакомого. От той, первой, встречи Коровину запомнились сетования Врубеля, что картины его никто не покупает, никому они не нужны. «А я ему ответил, – рассказывал Константин, – что и у меня те же проблемы и потому мы с ним как бы товарищи по несчастью».
Вскоре Серову подвернулась интересная работа – заказанный С. И. Мамонтовым портрет прославленного итальянского тенора Анджело Мазини, выступавшего в Частной опере. Модель колоритная, этот тенор имел не только превосходный голос, но и был очень красив. Но более всего Серову нравится, что итальянец, несмотря на свою известность, не важничает, позирует прилежно и «весьма милый в общежитии кавалер». Рассказывая о нем в письме жене, Серов продолжает: «Предупредителен и любезен на удивление, подымает упавшие кисти (вроде Карла V и Тициана). Но что приятнее всего – это то, что он сидит аккуратно 2 часа самым старательным образом, и когда его спрашивают, откуда у него терпение, он заявляет: отчего же бы не посидеть, если портрет хорош, если б ничего не выходило, он прогнал бы меня уже давно (мило, мне нравится)…»
Но вскоре перед галантным певцом пришлось извиниться за вынужденный перерыв в сеансах позирования. Лёля сообщила о рождении дочери, и Серов поспешил на свидание с женой и малюткой. Вернувшись в Москву, отписал супруге, что очень доволен всем, что видел: «Ты такая милаяя была – прелесть, а главное, здорова и свежа; не ожидал увидеть тебя такой славной. Да, деревня, молоко и, пожалуй, дитё тебе впрок».
В том же письме Серов упомянул, что, по словам друзей, Стасов написал в «Северном вестнике» о Передвижной выставке и весьма лестно отозвался о портрете отца. Через несколько дней Серов и сам смог ознакомиться с рецензией Стасова. Для начала маститый критик порадовался появлению двух новых талантливых художников – Богданова-Бельского и Серова. И этот Серов, ученик Репина и Академии художеств, выступил с большим портретом отца-композитора, автора «Юдифи» и «Вражьей силы». И далее, говоря о композиторе Серове, умершем двадцать лет назад, Стасов пояснил: «Я долго был с ним в самых близких отношениях (хотя мы впоследствии совершенно разошлись) и могу свидетельствовать, что сходство в портрете – поразительное. Тут схвачена вся натура, все привычки, вся поза и ухватки Александра Серова, его манера стоять у своей рабочей конторки, его манера смотреть, думать, писать… его небрежнаяя пушистая прическа, его рассеянный, немного блуждающий, но умный и поэтический взгляд, его немного страдальческое выражение лица. Право, я вижу на этом портрете Серова точно живого и невольно переношусь в далекие, давно вместе с Серовым прожитые годы».
Единственное, что покритиковал Стасов в портрете, – некоторые дефекты колорита, мутность и монотонность красок. Но при этом выразил уверенность, что из «даровитого художника» выйдет «отличный портретист», и заключил словами: «… Я ожидаю от Валентина Серова многого, очень многого впереди… Он все-таки, наверное, скоро сделает много других, еще более значительных шагов».
Если иметь в виду, что В. В. Стасов с первых дней становления движения передвижников был ярым сторонником, пропагандистом и в чем-то даже идеологом Товарищества, то очевидно, что слово его имело в среде передвижников немалый вес, и Серов вполне оценил пропетый ему Стасовым дифирамб. Но в этой высокой оценке – не только выражение радости по поводу свежеиспеченного таланта. Здесь проявились родственные чувства умудренного годами критика к сыну товарища его молодости. Та история, котораяя навсегда рассорила А. Н. Серова и В. В. Стасова, – рождение Софьей Николаевной Серовой, «второй Жорж Санд», как называли ее близкие, дочери от Стасова, – имела свое продолжение. Муж Софьи Николаевны, Петр Федорович Дютур, смирился с грехом супруги и воспитывал девочку как родную дочь, дав ей свое имя и фамилию (Надежда Петровна Дютур). В отроческом возрасте, после смерти матери, она узнает, кто ее настоящий отец, тем более что и сам Стасов давно объяснился с Петром Федоровичем и, вероятно, повинился перед ним за то, что причинил ему боль. Между истинным отцом и дочерью устанавливается переписка, и вот «сибирская девица», как именует Стасов Надежду Дютур в письмах родным, уже начинает регулярно наведываться из Екатеринбурга в Петербург, и Стасов вводит ее в круг своих друзей-музыкантов, Мусоргского, Римского-Корсакова, Глазунова, всячески поощряя в ней интерес к музыке.
Так что, помимо двоюродных сестер Симановичей с материнской стороны, у Серова были двоюродные сестры и с отцовской стороны, и одна из них, Надежда Дютур, приходилась дочерью Стасову. Но об этом Валентину Александровичу узнать было не суждено.
В конце марта Серов вновь выезжает в Домотканово, но уже не один, а с сыном Саввы Ивановича, молодым художником Андреем Мамонтовым, с радостью согласившимся стать крестником дочери Серовых. Малютку в честь матери назвали Олей.
Портрет певца Анджело Мазини наконец закончен, и не без гордости Серов пишет жене, что «по моему мнению и других также, это лучший из моих портретов». Да вот нечаянная беда: из-за капризов именитого тенора, как-то сорвавшего спектакль в Частной опере, Савва Иванович с Мазини рассорился и потому иметь его портрет уже не хочет. Положим, Савва Иванович, человек всеми уважаемый, тоже имеет право на капризы. Но кто же теперь оплатит художнику, остро нуждающемуся в деньгах, его труд? Помочь решить эту проблему взялась родственница Саввы Ивановича, супруга его брата Мария Александровна, имевшая свой магазин, куда заходят состоятельные клиенты. И этих постоянных клиентов, среди которых есть и коллекционеры живописи, она намерена приглашать в свой дом, чтобы показать им выставленный там портрет. Итак, пишет Серов жене об истории с портретом, «решено его продать какой-нибудь богатой психопатке, одержимой Мазинием».
Продать сразу портрет не получается, но весной подвернулась большая работа в Костроме. Точнее, подвернулась она Косте Коровину, получившему заказ писать картину «Хождение по водам» для костромской церкви Космы и Дамиана в приходе фабрики Третьяковых. Коровин же, заметив, что у коллеги, ставшего недавно отцом, денежные проблемы и портрет Мазини пока не продан, предложил писать полотно для церкви сообща, Серов – фигуру Христа, а сам Коровин – пейзаж, то есть небо и воду, а обещанные за работу деньги, полторы тысячи рублей, поделить пополам.
Серов согласился. Однако, как ни бились над эскизом картины, никак он не получался. И тогда, видя эти усилия, за дело взялся Врубель, писавший рядом занавес для Частной оперы. Он подобрал с пола картон с наброском рисунка занавеса и быстро, уверенно нарисовал на обратной стороне картона эскиз картины. При виде этого рисунка Серов с Коровиным оторопели от восхищения и едва промямлили благодарность выручившему их коллеге, а Врубель лишь с иронией пробурчал, что так всегда бывает, когда заказ получают не те, кто самой природой призван к монументальной живописи, а «черт знает кто». Впрочем, сказано это было с добродушной шутливостью, и не хотелось ему возражать, поскольку Врубель был прав.
В Костроме пришлось прожить почти два месяца, переводя эскиз на огромное полотно. Наградой же послужило то, что П. M. Третьяков, приезжавший в город, труд художников одобрил. Однако жаль, делился Валентин Серов своим огорчением с Андреем Мамонтовым в письме ему, уже в июне, из Москвы, что из 800 заработанных им рублей 300 ушло на краски. Впрочем, в той же Костроме он выполнил и два заказных портрета, и эта работа тоже пополнила карман.
По свидетельству Коровина, если не считать часов, потраченных на писание «Хождения по водам», жизнь в Костроме была невероятно скучна. Из окна фабрики открывалась прилегающая улица с кабаками и трактирами, из которых выходили пьяные, босые и оборванные рабочие, ругались, галдели, и иногда Серов не мог оторвать от них глаз. «Было ясно, – вспоминал Коровин, – что Серова мучает эта картина. И тогда срывались у него слова: – Однако, какая же тоска – людская жизнь!»
О своих проблемах после возвращения из Костромы, в том числе и со здоровьем («сначала жаба горловая, а потом нарыв в ухе с такой болью, что мое почтенье… оглох изрядно»), Серов пишет уехавшему в Киев А. С. Мамонтову. О собственных планах поработать в Киеве, во Владимирском соборе, сообщает, что после рождения дочери идея эта уже отпала, временно переселяться туда с семьей смысла нет и одному работать там не хочется: «…пора нам жить, как говорится, своим домком». Поскольку же и Андрей прикоснулся к семейной жизни Серовых, несколько слов и об этом: «Жена и девочка моя процветают, крестницы своей теперь не узнаешь – белая, розовая, большая, плотная, вертится, хохочет своим беззубым ртом, славная девочка, я ею доволен».
После Костромы, до конца лета, Серов прожил с женой и дочерью в Домотканове, а осенью была арендована квартира в Москве по Малому Гнездниковскому переулку, и семья переехала туда.
Совместная работа в Костроме еще больше сдружила Серова с Коровиным, и теперь они нередко проводят время в мастерской на Долгоруковской улице, где пишут натурщиц, каких удается подыскать, то одевая их в костюмы боярышень, то предлагая позировать обнаженными. Иногда к ним присоединяется Врубель, завершивший наконец большое полотно «Демон сидящий», которое он писал в мастерской Мамонтова в доме на Садовой-Спасской.
К тому времени Серов и Коровин настолько сблизились друг с другом, что Савва Иванович придумал этой паре шутливое прозвище «Серовин», и «Серовин» поражается мощи замысла Врубеля, необычной живописи полотна, словно сверкающего самоцветами, с фигурой скорбно глядящего вдаль гиганта – Демона. Представить эту работу где-нибудь на Передвижной выставке кажется безумием, но сам Врубель как будто очень мало озабочен тем, как воспримет его творческие искания московская или петербургская публика.
Очевидно, той же осенью и зимой к троице художников, группировавшейся вокруг Мамонтова, стал присоединяться другой молодой живописец, недавно переехавший из Одессы в Москву Леонид Осипович Пастернак. Как и Серов, он дебютировал в начале года на Передвижной выставке – картиной «Письмо с родины». Оказалось, что и жены их хорошо знали друг друга по Одессе, где вместе работали в музыкальной школе: Ольга Федоровна – заведующей канцелярией, а супруга Леонида Осиповича, Розалия Исидоровна, – преподавателем по классу фортепиано.
Вспоминая совместные вечера рисования с натуры в мастерской на Долгоруковской с участием Серова, Коровина, Врубеля, Пастернак писал о натурщице, позировавшей обнаженной на белой медвежьей шкуре: «Позировала нам чудесная натурщица, по красоте красок и форм никогда больше в жизни не встречал такой – в тициановском и веронезовском духе… В то время нельзя было найти обнаженную женскую натуру, да и эта (из соседнего трактира), несмотряя на то, что ей хорошо платили за сеанс, раза два-три попозировала и сбежала; ей стало „скучно“».
Вот уже третий итальянский певец из приглашенных Мамонтовым в Частную оперу позирует Серову для портрета, и это Франческо Таманьо, некогда, в Венеции, покоривший Серова и его спутников в партии Отелло. Итальянец был не только замечательным певцом, но, как и Мазини, приятным в общении, позировал прилежно, и потому работа над его портретом шла легко. У Серова было предчувствие, что он получится не хуже, чем Вера Мамонтова («Девочка с персиками») или сидящая под деревом Маша Симанович. Во всяком случае, по свежести письма портрет Таманьо ничуть им не уступал.
Между тем на проекте участия Серова в росписи Владимирского собора в Киеве был окончательно поставлен крест. Когда Серов попытался напомнить о себе и послал в Киев, Прахову, новый вариант эскиза росписи «Рождества Христова», оказалось, что срок предоставления эскиза уже истек и контракт на исполнение этой работы подписан с другим художником – Михаилом Нестеровым.
Портрет Анджело Мазини он решил показать на очередной выставке Московского общества любителей художеств, а на Передвижную в этот раз ничего не представлять. Художественная политика руководства Товарищества передвижников не устраивала многих молодых художников-экспонентов. Им хотелось, чтобы их права в Товариществе были расширены и приближены к правам членов Товарищества. В начале года, к открытию Передвижной выставки в Петербурге, в общее собрание Товарищества было направлено письмо по этому поводу. Его подписали Серов, Коровин, Пастернак, Левитан, сестра Поленова Елена Дмитриевна, Алексей Степанов, запомнившийся Серову своей великолепной картиной «Лоси», Александр Головин и др. Но особого впечатления на членов Товарищества письмо это, похоже, не произвело. Напротив, в среде руководства объединением вызвало даже раздражение.
Что же касается портрета Мазини, который еще до выставки был представлен на конкурс Московского общества, то его там по достоинству оценили, присудили первую премию, а рецензент газеты «Новости дня» Н. Александров даже пожурил Серова за то, что он участвует в конкурсе, рамки которого давно перерос, в то время как ему вполне по силам конкурировать с Репиным и Поленовым.
Обстоятельства сложились так, что Серову вновь представилась возможность попробовать свои силы в области книжной иллюстрации. Издатель Петр Петрович Кончаловский совместно с фирмой Кушнерова задумал выпустить в свет иллюстрированное собрание сочинений Лермонтова, приурочив его к 50-летию смерти поэта. Издание обещало стать уникальным. В одном проекте, под одной обложкой, суждено было сойтись и помериться способностями Репину и Сурикову, братьям Васнецовым, Поленову, Айвазовскому и более молодым – Пастернаку, Серову, Коровину, Врубелю…
Серов поначалу попробовал отказаться, мол, не призван к этому жанру, но Кончаловский, сославшись на то, что и Суриков с Айвазовским отнекивались, но все же согласились, его уговорил.
Особо рьяно принялся за дело Врубель, уж он-то чувствовал себя в мире фантазий, возбужденных чтением любимого Лермонтова, как рыба в воде. Однажды он признался, что еще до того, как увлекся темой Демона, писал в Киеве акварелью Печорина и рисовал Кирибеевича. Однако не мог и мечтать, что когда-то получит заказ иллюстрировать поэта так широко, как сейчас. Увидев первые его листы, выполненные для Кончаловского, Серов был поражен мастерством исполнения и поневоле в собственных иллюстрациях оказался в русле творческих поисков Врубеля.
В авторе проекта, Петре Петровиче Кончаловском, чувствовалась натура сильная, самобытная, и Серов, с согласия издателя, взялся за его портрет. Примерно в то же время он написал маслом и портрет дочери Кончаловского Елены.
Пока Серов работал над иллюстрациями к Лермонтову, его мать, Валентина Семеновна, сделала попытку добиться постановки своей новой оперы «Мария д'Орваль» на тему из истории революции во Франции. Эту оперу она проигрывала в доме Л. Н. Толстого и в письме Маше Симанович сообщала: «Его симпатии к моей опере для меня лучшая похвала». Однако дорогу опере на сцену Мариинского театра вновь преградил Э. Направник, оценивший ее столь же критически, как ранее и оперу «Уриэль Акоста». «Либретто, – писал в своем отзыве рецензент, – представляет смесь нелогичности, бессвязности и наивности; это ряд сценических несообразностей. Чем же отличается музыка от текста одного и того же автора? Лучше ли она оперы „Уриэль Акоста“, представленной в 1883 году на рассмотрение дирекции императорских театров и, несмотря на неблагоприятные отзывы специалистов, поставленной на сцене императорского московского Большого театра, но без всякого успеха? Нет, не лучше, и это означает не шаг вперед, а шаг назад…»
Весной Серов поехал на этюды в сельскую глушь вместе со сманившим его в эту поездку Костей Коровиным. Друзьяя жили в крестьянских избах, ловили рыбу, варили уху, писали маслом и рисовали, находя поэзию в хмуром небе, в успокаивающем душу созерцании реки, в видах речных мостиков, сельских церквушек…
А летом Серов приехал в Абрамцево повидаться с дорогими ему людьми и заодно поработать в открывшейся здесь два года назад керамической мастерской. Вокруг нее сплотились трое энтузиастов – приглашенный из Костромы молодой технолог по керамике Петр Ваулин, сын Мамонтовых Андрей и Врубель. Поначалу работа исполнялась незатейливая, вроде изразцов для каминов. Но вскоре, распознав ранее не ведомые ему возможности творить красоту с помощью глины, гончарного круга, специальных покрытий и жаркого пламени печи, Врубель начал создавать вещи поистине чудесные и как-то запечатлел на майоликовой вазе портрет приехавшей в Абрамцево кареглазой шатенки, балерины Гузикевич. Опыты Врубеля увлекли и Серова, и он тоже оставил на своей вазе портрет томной и грациозной балерины, хотя его работа и вышла не столь эффектной, как у коллеги. Но в другой раз, когда оба взялись изготовлять майоликовую голову Офелии, уже Врубель поздравил товарища с успехом: из-за удачного покрытия цветной поливой после обработки изделий в огне голова серовской Офелии получилась живописнее.
И все же Врубель был недостижим в своем мастерстве. Он с легкостью ваял то русскую по облику и наряду «Девушку в кокошнике», то голову львицы – обжиг в печи и поливы придавали ей когда бронзовый, а когда зеленый оттенки. И наконец, при содействии чутко воплощавшего его замыслы Петра Ваулина произвел на свет нечто бесподобное по изысканному сочетанию красок – темноликую «Египтянку», в которой просматривались черты сходства с Верой Мамонтовой.
Неожиданно в шумное и веселое абрамцевское житье нагрянула беда. У приехавшего из Киева, где он продолжал расписывать с бригадой художников Владимирский собор, Андрея Мамонтова обострилась болезнь почек, стремительно развивавшаяся и вызвавшая отек легких. Несмотря на все усилия врачей, спасти Андрея не удалось. Его похоронили у стены абрамцевской церкви, и Виктор Васнецов совместно с Поленовым, уединившись в «Яшкином доме», начал спешно набрасывать проект будущей часовни у его могилы.
Потрясенный не менее родителей Андрея этой нелепой смертью, Серов не находил себе места, бесцельно бродил по абрамцевским рощам, вспоминая их дружбу и беззаботные детские игры. Он потерял не только друга, но и коллегу, многообещавшего художника, уже проявившего свой талант и в Киеве, и здесь, в Абрамцеве.
Наступила осень. В мастерской на Долгоруковской улице в доме Червенко Серов начал писать портрет Константина Коровина. Приятель позировал в белой рубахе и черном жилете, небрежно расположившись на диване и облокотясь правой рукой на подушку. Ни в ком из близких знакомых Серов не встречал столь ярко выраженной артистичности, как в беспечном шутнике и балагуре «Костеньке», как любил ласково называть его Савва Иванович Мамонтов. Позировать молча и неподвижно для Коровина было бы пыткой. Ему непременно надо было что-то рассказывать сосредоточенно работавшему Серову – то забавные случаи из жизни, например, о совместных поездках с Мамонтовым в Испанию, в Париж или на Кавказ, то о своих приключениях на рыбалке, то, наконец, о том, как обидели его государь с государыней при посещении последней Передвижной выставки в Петербурге, где Костя выставил лирический пейзаж с женской фигурой под названием «Осенью».
– Ты от Поленова Василия Дмитриевича, – будто нехотя начинал Костя, – не слышал, какого отзыва от высочайших персон моя «Осень» удостоилась?
– Вот как? – заинтересованно откликался Серов. – Не слышал.
– Почтили Передвижную своим присутствием государь с государыней. Походили, посмотрели во все стороны. Соизволили купить женскую головку Харламова да скверненький пейзажик Маковского. А потом и на мою картинку внимание обратили и по-французски репликами обмениваются. Их величество заметил: «Это из школы импрессионистов». А государыня в ответ воркует: «Возможно, мой друг, но я этого не понимаю». Тогда и государь из чувства солидарности с ней небрежно роняет со скептической миной на лице: «Н-да, картина, увы, оставляет многого желать». Вот так и погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный… По словам Василия Дмитриевича, их реплика как панихида прозвучала, и ныне все передвижники некоего Коровина с его «Осенью», как человека безвременно погибшего, очень жалеют.
– Огорчился?
– Если честно, то самую малость, – сверкнул улыбкой Коровин. – Но наши генералы от живописи тот разговор слышали и себе на заметку взяли.
– Нас это пугать не должно, – ободряюще сказал Серов.
– И я, Антон, так думаю. Плюну, пожалуй, на их реплики и буду работать по-своему, – решительно заверил Коровин. – Если б ты знал, как бы я хотел писать полотна, которые вызывали бы такой же настрой, как музыка, выглядели исповедью сердца. Когда Миша Врубель закончил «Демона сидящего», я, глядя на картину, пытался разобраться в своих чувствах и в конце концов понял, что он-то этого уже добился: через необычный сюжет, необычную, лишь ему присущую, живопись он поведал нам о муках собственного сердца, оставил на полотне отпечаток своей души. Я предвижу, что его «Демона» не поймут, будут злорадствовать, шельмовать автора. И я Мишу по-дружески предупредил об этом, заклинал не верить хулителям, держаться стойко и наперекор мнению толпы идти своим путем. Те же, кому красота в живописи безразлична, пусть по-прежнему малюют толстых священников, пьяных дьяконов, страдающих в камерах арестантов и тому подобное и получают в награду одобрительные отзывы Стасова. Только ради Бога, дружище, – тебя-то Стасов тоже отличил, – не принимай это на свой счет!
– Как ты сейчас хорош! – улыбнулся Серов. – Потерпи еще немного. Пока есть свет, чуть-чуть подправлю твои глаза. Теперь я вижу в них не только проблеск мысли, но и библейскую мудрость.
– Тут, Антон, ты не оригинален, – с усмешкой парировал Коровин. – Ты опоздал. Поленов раньше тебя увидел во мне Христа.
На очередной сеанс позирования Коровин принес показать недавно отпечатанный двухтомник Лермонтова, в работе над которым приняли участие и они с Серовым. Перелистывая богато иллюстрированное издание, Серов не мог не отметить, как разнятся по мастерству исполнения представленные в нем рисунки и акварели. Разочаровали иллюстрации на тему «Пророка» Репина, совсем неудачны были рисунки Владимира Маковского и Айвазовского. Но хорошо смотрелись листы к «Песне о купце Калашникове» Виктора Васнецова: и костюмы, и весь дух поэмы были отражены в них с исторической точностью. Добросовестно подошел к делу и Суриков. Поленов, с его знанием Египта, Сирии, Палестины, был, безусловно, лучшим выбором для иллюстрирования восточных мотивов поэта.
Но явно лучше других справился со своей задачей Врубель. Его мчащийся конь с мертвым всадником на спине, Демон, склонившийся над Тамарой в ее келье («Не плачь, дитя…»), рисунки к «Измаил-Бею», «Герою нашего времени» были замечательны и по верности духу Лермонтова, и по виртуозности графического языка.
– А ты, Костя, хоть и бывал, не в пример Врубелю, на Кавказе, а дух-то горской жизни не вполне ухватил, – заметил Серов.
– Да, Миша обоим нам нос утер, и не только нам, – признал Коровин.
– А где же его «Пляска Тамары» из «Демона», неужели забраковали? – Серов торопливо перелистывал страницы, силился отыскать и не находил поразительный по экспрессии рисунок Врубеля. – Ну, ладно, пару моих не включили, но тот танец – совсем напрасно.
– А знаешь, этот большой лист к «Бэле» и другой, Печорин перед Мэри, недурно у тебя вышли, – похвалил Коровин.
– Нет, рядом с Врубелем мы выглядим приготовишками, – сурово ответил Серов. – У него к этому дар Божий, а у нас… – он беспомощно махнул рукой.
Той же зимой Серов работал над портретом известной московской красавицы Зинаиды Васильевны Якунчиковой (по мужу Мориц), о которой ее двоюродная сестра В. П. Зилоти писала в своих мемуарах, что «Зина была и музыкальна, и способна к живописи» и до замужества, когда она еще вращалась «в свете», вызывала восхищение всех молодых людей ее круга.
В портрете этой холеной, несколько томной дамы с классическими чертами лица Серов старался передать тип светской женщины, вполне сознающей свою привлекательность и умеющей держать поклонников на разумной дистанции.
Между тем Серов с Коровиным получили заказ от харьковского дворянства на исполнение большого портрета «Александр III с семьей». Поводом для написания портрета послужило чрезвычайное происшествие, случившееся близ станции Борки Харьковской губернии 17 октября 1888 года, о котором немало писали в газетах и ходило много всевозможных слухов. В тот злополучный день, когда высочайшее семейство, возвращавшееся из Крыма, обедало в специальном вагоне, поезд вдруг сошел с рельсов, крыша над их головой проломилась и начала рушиться. Лишь благодаря счастливой случайности (говорили, помогла и сила государя, некоторое время державшего крышу на своих плечах) никто из царской семьи не пострадал. Но в чудесном спасении был усмотрен знак свыше. В Борках тут же, дабы увековечить Промысел Божий, заложили церквушку, заказали и картину, долженствующую запечатлеть счастливую семью.
На право получить ответственный заказ в Харькове был объявлен конкурс, и, поощренные Репиным, Серов с Коровиным решили принять участие в нем. После поездки в Харьков они написали эскиз будущего полотна и, вопреки таившимся у них сомнениям в успехе, были признаны победителями и даже получили аванс. Теперь предстояло главное – создать большое полотно. Художникам объяснили, что из-за занятости государь с государыней позировать не смогут и писать их портреты придется по фотографиям. Что же касалось портретов их детей, то харьковский губернский предводитель дворянства граф Капнист пообещал, что постарается устроить сеансы позирования. Работа, словом, предстояла немалая.
А пока, в апреле—мае, в московском доме Толстого в Хамовниках Серов писал портрет жены Льва Николаевича Софьи Андреевны. Вероятно, этот заказ был устроен ему по рекомендации близкого к семье Толстых Репина.
В письме сестре, Т. А. Кузьминской, от 24 апреля 1892 года Софья Андреевна сообщала, что позирует по три часа в день и это для нее «очень затруднительно», о самом же портрете отозвалась, что он «удивительно похож».
В то время когда Серов работал над портретом Софьи Андреевны, в Москве и, вероятно, в доме Толстых обсуждали реакцию в официальных кругах России и в некоторых проправительственных изданиях на опубликованную за границей, в Лондоне, статью Толстого о тяжких последствиях голода, разразившегося в центральных губерниях России из-за неурожая.
«Московские ведомости», например, писали по поводу статьи Толстого: «Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, пред которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». В смягченном и, как говорили, искаженном виде статья Толстого в январе была все же опубликована в России, в «Книжках недели», под названием «Помощь голодным» и вызвала громкий резонанс. Призыв Толстого оказать посильную помощь голодающим сбором средств и организацией для них бесплатных столовых дал толчок благотворительному движению.
Московское общество любителей художеств устроило выставку картин в пользу голодающих. Помимо именитых авторов, Репина и Поленова, в ней приняли участие более молодые – Левитан, Серов, Коровин, Ап. Васнецов… Картин было продано более чем на 14 тысяч рублей, и вырученные деньги пошли в фонд помощи голодающим.
Воодушевленная примером Л. Н. Толстого по организации бесплатных столовых, мать Серова, Валентина Семеновна, в конце 1891 года уехала заниматься благотворительностью в голодающие села Симбирской губернии. Из фонда Толстого ей было передано на организацию бесплатных столовых 400 рублей. Были и другие пожертвования.
Дела же с семейным портретом царствующих особ складывались неожиданным образом. Коровин к проекту вдруг охладел и заявил, что собирается уезжать во Францию. «Ты уж извини, Антон, меня, – просяще уговаривал друга Константин, – не по душе мне это. Ты и сам без меня справишься». В Историческом музее, где работал над полотном Серов, в его распоряжение было предоставлено несколько фотографий государя и государыни, с помощью которых приходилось писать их фигуры, и лица. Из дневниковой записи от начала марта 1882 года товарища (заместителя) председателя Исторического музея историка и археолога И. А. Забелина известно, что Серова навещал в музее великий князь Павел Александрович. Высокий гость был неравнодушен к живописи, особенно имеющей отношение к русской истории, о чем свидетельствовало приобретение им с одной из Передвижных выставок за 2 тысячи рублей картины М. П. Клодта «Мария Мнишек с отцом под стражей».
Летом Серов отправился в деревню Судосево Симбирской губернии, где мать организовала столовые для голодающих. Он привез погостить к ней, по просьбе Валентины Семеновны, свою сводную сестру 12-летнюю Надю Немчинову, которая воспитывалась в земледельческой коммуне, созданной под Сочи приятельницей матери М. А. Быковой. В воспоминаниях о брате Н. В. Немчинова-Жилинская описала эту поездку, путь по Волге до Симбирска и далее, пыльной дорогой, до Судосева. «Громадное, скучное село, без зелени, кое-где у изб торчали чахлые деревца без листьев… обглоданные гусеницами».
Живописной, по описанию Немчиновой, получилась встреча Серова с матерью: «В низких дверях показалась фигура нашей матери. Я быстро выскочила из тележки и уже была в объятиях мамы, а Тоша, весь пропыленный, комически изображая старого, одряхлевшего барина, вылезал, кряхтя, из почтового неуклюжего экипажа.
– Ну и забралась, матушка, на край света, прости господи, – прошамкал „старый барин“, по-стариковски потирая поясницу и согнутые колени.
Мы с мамой хохотали, и ямщик весело посмеивался, глядя на „старого барина“. Троекратно поцеловавшись с мамой, Тоша, все еще изображая старикашку с подагрической ногой, проковылял в крохотную мамину комнатушку».
Из Судосева Валентин Александрович писал жене: «Маму мы застали в превосходном виде как наружном, так и внутреннем, то есть душевном. Действительно, столько трудов устукала она на деревню свою Судосево, так толково все устроила, что работа эта не может не радовать ее… Да, цель этого дела и доверие со стороны народа завлекает и увлекает очень, настолько, что если бы я счел нужным отдаться этому делу, то, пожалуй, отдался бы ему почти так же ретиво, как и мама».
Но само Судосево и окрестности совершенно ему не нравятся, раздражает местный климат. «Пыль здесь, – пишет он в том же письме, – вообще невозможная, набивается в глаза, в нос, главное в уши, жара, пыль эта вся прилипает – отвратительно».
Оставив Надю у матери, Серов вскоре уезжает обратно в Москву. Лёле тоже нужна его помощь: семья увеличилась, на свет появился сын, названный Сашей. Детишки вместе с мамой в Домотканове, у испытанного друга Дервиза. К ним и отправляется Серов из Москвы. Отцовские заботы делит с творчеством, пишет окрестные пейзажи и этюд дочери Дервизов, Ляли. Так проходят лето и осень.
А в Москве надо браться за очередной заказной портрет – сестры его хорошей знакомой с юношеских лет Марии Федоровны Якунчиковой, Ольги Федоровны Тамара. Особого вдохновения эта модель, увы, не вызывает, а когда нет интереса, то и портрет выходит скучным. И потому современник Серова и тонкий ценитель его живописи И. Э. Грабарь считал, что более всего удалась Серову на этом полотне примостившаяся под скамейкой, на которой сидит хозяйка, собачка такса.
Одновременно приходилось работать в Историческом музее над портретом царской семьи. Общаясь со служившим в музее историком Иваном Егоровичем Забелиным, Серов проникается большой симпатией к нему. Забелин не только умен и многое может рассказать о старине. Он и внешне колоритен. Не согласится ли позировать? Иван Егорович не возражал. Законченный портрет удовлетворил обоих. На нем Забелин, сидящий в своем полутемном кабинете, похож на доброго и мудрого волхва.
В конце того же, 1892 года Серов начал писать портрет Исаака Ильича Левитана. Сеансы позирования проходили в мастерской Левитана, на втором этаже флигеля, который был предоставлен художнику поклонником его творчества промышленником и меценатом Сергеем Тимофеевичем Морозовым.
С Левитаном Серова познакомил во второй половине 80-х годов приятель Исаака Ильича по Училищу живописи, ваяния и зодчества Константин Коровин. Не раз встречались они в Абрамцеве, вместе писали там этюды. С. Т. Морозов и И. И. Левитан были в числе тех близких Серову людей, кто поздравил его со свадьбой.
Серов высоко ценил живописный талант Левитана и в вопросах современного искусства видел в нем единомышленника. Как и Серов, Левитан отстаивал права молодых художников в Товариществе передвижных художественных выставок.
Этот год сложился для Левитана очень нелегко. Новый генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович проводил «чистку» города от евреев-ремесленников. Стараниями ретивых чиновников антиеврейская кампанияя затронула не только ремесленников. От нее пострадал и Левитан, и в сентябре 1892 года он был вынужден выехать из Москвы в Болдино. Однако выселение известного художника, картины которого уже висели в Третьяковской галерее, обернулось скандалом. Благодаря вмешательству влиятельных лиц (вероятно, хлопотали С. Т. Морозов и П. М. Третьяков) Левитан в начале декабря вновь вернулся в Москву. Серову вся эта неприглядная история была известна, и желание его написать именно в это время портрет Левитана надо расценивать как акт моральной поддержки, желание защитить коллегу от несправедливых действий московских властей и напомнить обществу о значении Левитана в современной русской живописи.
Серов, подъехав к дому, где жил и работал Левитан, проходил через заснеженный двор, и на стук в дверь вместе с чернобородым хозяином его встречала охотничья собака Исаака Ильича Веста. Не теряя времени, Левитан с Серовым поднимались по винтовой лестнице наверх, где располагалась мастерская.
В минуты отдыха от позирования Левитан показывал некоторые последние свои работы и среди них – очень светлый по настроению вид Волги в солнечный день, со стоящими у пристани и бороздящими водный простор небольшими суденышками. Картина казалась законченной, но Левитана что-то в ней не удовлетворяло.
– Почти два года работаю, – признавался он, – а выставить пока не могу. Хочу назвать ее «Свежий ветер».
– Чудесный пейзаж, будто писал ты его с ликованием в душе, – похвалил Серов.
И Левитан, подтвердив, что так оно и есть, но выразить это чувство на полотне было ему отнюдь непросто, заговорил о том, как по-разному влияет на него природа:
– Она имеет необыкновенную власть над нами. Часто врачует, но иногда способна нагонять в душу что-то такое, от чего нет спасения, пока не положишь это на полотно. Прошлым летом, в Тверской губернии, увидел место, сразу заворожившее меня ощущением связанного с ним рока, – омут у старой мельницы, три бревна через него. Особенно мрачно там было после захода солнца, когда вода и зелень темнели. Я сделал этюд омута, а хозяйка имения, увидев его, рассказала, что это место не одного меня заворожило: с ним связана легенда о несчастной любви и утопившейся девушке. И будто бы это самое место и эта легенда вдохновили Пушкина на создание «Русалки». – Выражение лица Левитана приобрело оттенок глубокой меланхолии. – Тут и накатил на меня творческий жар. Писал гиблый омут уже запоем и вспоминал – разве это не мистика! – что мой первый крупный заработок тоже связан с темой «Русалки», с декорациями к опере на тот же сюжет Даргомыжского. Савва Иванович мне несколько сотен за них отвалил. На те деньги в Крым съездил. И как я был рад, что Поленов меняя и Костю Коровина Мамонтову сосватал. Что, кстати, слышно о Косте, – оживился Левитан, – пишет из Парижа?
– Иногда пишет, – подтвердил Серов. – Недавно его там обокрали. Но Костя не унывает.
– Он такой, этот крокодил, неунывающий! – согласился с мнением об общем приятеле Левитан. – Очень даровит и так горяч, нетерпелив! Ему бы все делать с налету, в едином порыве. Труд тяжкий, кропотливый не для него.
Серов заканчивал портрет, сознавая, что ему, пожалуй, удалось отразить внутренний мир Левитана, свойственные ему печаль и меланхолию. Обычно трудно давались руки, но в этот раз артистизм модели подчеркивала и небрежно опущенная кисть руки с тонкими, выразительными пальцами.
Сопоставление Серова и Левитана оставил в своих мемуарах Александр Бенуа. Вспоминая, как он хотел ближе сойтись с Серовым в период создания объединения «Мир искусства» и как ценил его дружбу, Бенуа писал: «Впечатление, которое произвел на меня Левитан при первом знакомстве, было, пожалуй, однородным с впечатлением от Серова… Однако внешностью они вовсе не были друг на друга похожи, хотя в обоих и текла еврейская кровь. Но Серов с виду казался чистокровным русским – приземистый, светловолосый, с „тяжелыми“ чертами лица, со взглядом скорее исподлобья. Самая угрюмость Серова имела в себе нечто „северное“. В смысле же одежды все на нем как-то висело, казалось плохо сшитым или приобретенным с чужого плеча… Левитан имел прямо-таки африканский вид: оливковый цвет кожи, и густая черная борода, и черные волосы, и грустное выражение черных глаз, – все говорило о юге… Всей своей натурой, своими спокойными, благородными жестами, тем, как он садился, как вставал и ходил, наконец, тем вкусом, с которым он одевался, он сразу производил впечатление „человека лучшего общества“».
Портрет Зинаиды Васильевны Мориц, показанный на периодической выставке Московского общества любителей художеств, вызвал большой интерес и был высоко оценен в прессе и в частных письмах художников. Стоит привести мнение о нем Михаила Нестерова. В письме родным в середине января 1893 года он писал: «Вчера побывал на периодической выставке, где любовался поразительным (тициановским) портретом некой m-me Мориц работы Серова».
На Передвижную, XXI, выставку в Петербург Серов представил портрет Левитана и «Портрет г-жи О. Ф. Т.» (Ольги Федоровны Тамара). Но еще до открытия Передвижной выставки там же, в залах Академии художеств, была развернута приуроченная к 50-летию со дня рождения выставка скульптурных работ М. М. Антокольского. Многие вещи, как подчеркивала пресса, отечественная публика прежде не видела: среди них – мраморный «Христос перед судом истории», «Ермак» (бронза), «Нестор» (мрамор).
Однако то, что прочитал Серов о хорошо ему знакомом скульпторе, без сомнения, очень талантливом, в газете «Новое время», поразило его предвзятостью и откровенно-шовинистическим тоном. Рецензент, скрывшийся за псевдонимом «Житель», для затравки, прежде чем анализировать произведения скульптора, выразил собственное понимание «еврейского искусства»: «В еврейской даровитости есть расовая особенность – стремление к грандиозному… Евреи выработали совсем особенный тип искусства, нечто вроде прекрасно исполненной фиктивной ассигнации, вполне удовлетворительной для обмана толпы…» С таким посылом уже нетрудно было обвинить Антокольского в неумении выразить суть исторического лица и приписывать ему иные грехи.
В 20-х числах февраля Серов приехал в Петербург по вызову генерал-адъютанта Александра III и воспитателя детей государя Г. Г. Данилевича. В свойственной ему грубоватой манере генерал командирским тоном указывал: «Приезжай завтра, в понедельник, к 101/2 часам для сеанса у великой княгини Ольги Александровны». Сеансы позирования высоких персон для «Семейного портрета» были организованы по просьбе Серова, и пропускать их он не мог. Несколько позднее он писал с натуры и других царских детей – великую княгиню Ксению Александровну и ее брата Михаила Александровича. А вот старшего из детей, наследника престола Николая, видеть воочию не удалось: он находился в длительной заграничной поездке, где-то в восточных странах, и его портрет пришлось создавать с помощью фотографий.
Примерно в то же время, весной 1893 года, Серову была устроена короткая встреча с Александром III в Гатчине. О некоторых ее подробностях известно из воспоминаний о Серове В. Д. Дервиза. Несмотря на то, что государь был предупрежден о встрече с художником, при его виде на лице Александра III появилось, писал Дервиз, «выражение недоверия, страха, холода и враждебности. В это время вошел кто-то из свиты и объяснил царю, кто это, и тот любезно разговаривал с Серовым минут пять».
Во время пребывания в Петербурге Серов посетил Передвижную выставку. На ней заметны были портреты работы Н. Д. Кузнецова, с которым Серов сдружился, когда гостил в его имении под Одессой, в особенности портрет П. И. Чайковского. Хороши были картины Левитана «Владимирка», «Осень», автопортрет Н. Н. Ге и его же «Портрет Н. И. Петрункевич», как и два портрета кисти Репина – «Осенний букет (портрет дочери)» и портрет великого князя Константина Константиновича. Очередной шаг вперед делал в «Юности преподобного Сергия» Нестеров.
Как и надеялся Серов, на выставленный им «Портрет Левитана» отреагировала пресса, но в Москве он привлек большее внимание, чем в Петербурге. Художественный критик газеты «Русские ведомости» писал: «Чрезвычайно талантливо написан г. Серовым портрет художника Левитана, в нем так удачно схвачено выражение, спокойное, задумчивое, гармонирующее с самой позой, а вместе с тем портрет дышит жизнью и силой. Вообще портрет г. Левитана можно назвать одним из самых удачных произведений Серова».
Заметил его и рецензент «Московских ведомостей» В. Грингмут. Однако он почему-то отдал предпочтение менее удачному, на взгляд Серова, «Портрету О. Ф. Т.». Лишь дочитав статью этого автора до конца, Серов понял, почему он не написал о портрете Левитана подробнее и избежал в оценке его комплиментов. Сопоставляя два его портрета, рецензент ограничился репликой: «…равнодушными мы к ним оставаться не можем, хотя и возбуждаемые ими в нас чувства будут совершенно разнородны». Тут могли быть, как и у рецензента выставки Антокольского, некие «расовые» мотивы, не позволяющие хвалить изображенного на портрете, как и сам портрет. Среди показанных на Передвижной произведений В. Грингмут выделил «Портрет присяжного поверенного» кисти Репина и посчитал его «живою характеристикой нашей современной адвокатуры». И далее следовало вполне «расовое» умозаключение: «Нет никакого сомнения, что софистический тип нашей адвокатуры вырабатывался главным образом под влиянием вошедшего в него многочисленного еврейского элемента, который своей беспринципностью и неразборчивостью в выборе средств задавал тон среди русских адвокатов, заставляя и их конкурировать с ним тем же эффектным, хотя и неприглядным оружием».
Одним словом, по Грингмуту, и сами «софисты» неприглядны, и русских адвокатов такими же сделали.
Появление подобных статей наводило на мысль: что-то к худшему меняется в российском обществе. И не есть ли агрессивность прессы отголосок жестких мер, принятых против евреев в Москве, которые кое-кто окрестил «московским изгнанием», и иных ограничений тех же евреев, осуществлявшихся в масштабах всей страны?
Очень острую для евреев тему ограничений мест жительства («черта оседлости») и прав на образование («процентнаяя норма») неоднократно затрагивала в беседах с сыном Валентина Семеновна. Горячо обсуждали ее и в семье Симановичей, считая, что правительство проводит политику, несправедливую по отношению к евреям. И эта политика побуждала еврейскую молодежь участвовать в антиправительственных выступлениях, за что многие, как и жених Маши Симанович Соломон Львов, подвергались ссылке. В связи с этим в начале 90-х годов выезд из страны евреев значительно усилился.
Ужесточение антиеврейских мер некоторые органы прессы восприняли как сигнал к атаке, и их воинственные наскоки затрагивали уже и художественную жизнь.
Семью Валентина Серова все эти ограничения коснутьсяя никак не могли. Он все же был потомственным дворянином, православным (хотя обрядов и не соблюдал). И если говорить о национальности, то чувствовал себя более русским, нежели евреем (год спустя на вопрос архиепископа Амвросия: «Вы русский?» – ответит: «Да»). Однако антиеврейская кампания напрямую задевала его родню по материнской линии, тех же Симановичей, и оставаться безучастным к этому Серов не мог.
Лето и осень 1893 года Серов с семьей и матерью прожили в Крыму, в местечке Кокоз недалеко от Бахчисарая, на даче Розалии Соломоновны Львовой. Эта старенькая уже женщина после того, как ее сын, врач С. К. Львов, живший в Париже и получивший французское гражданство, женился на Маше Симанович, стала родственницей и Симановичам, и Серовым.
Валентин Александрович увлекся этюдами на природе, писал горы, татарок в чадрах, наполнявших кувшины из горной речки, белую лошадку, понуро стоявшую возле каменного мостика. Как и светлые по настроению, пронизанные солнцем виды крымских двориков с побеленными стенами домов и с нависающими по стенам деревянными балконами, затененными кронами деревьев. Жизнь в Крыму напомнила Серову о связанном с этими краями античном сюжете. Выехав на побережье моря, он начал работать над картиной, навеянной трагедией Еврипида «Ифигения в Тавриде» – с одинокой фигурой женщины в белом, сидящей на камнях близ тихо плещущихся волн.
Несколько из написанных в Крыму этюдов он представил на открывшейся как обычно в конце года периодической выставке Московского общества любителей художеств.
В один из зимних дней в квартире Серовых нежданнонегаданно объявился вернувшийся из-за границы Константин Коровин.
– А вы думали, если редко пишу, так совсем решил в Париже остаться? – весело говорил Костя за наскоро организованной трапезой. – Нет уж, дудки! Затосковал в последние месяцы ужасно. Каждый кустик бузины и цветущей сирени умилял: ну совсем как в России!
Серов был чрезвычайно рад вновь видеть доброго приятеля, по обществу которого и его шуткам изрядно истосковался. Интересен был и взгляд Кости на современное искусство, и Серов спросил:
– Как живопись французская, чему-то научила?
– Там столько всего смелого, непривычного, – горячо заговорил Коровин, – что глаза разбегаются. И не в ежегодном Салоне, а у тех торговцев, которые делают ставку на новое искусство, например, у Дюран-Рюэля – он пропагандирует импрессионизм. Понравились Бастьен-Лепаж в Люксембургском музее и швед Цорн – по манере Цорн близок поискам французов. И все же главное, что я понял, – бесполезно подражать кому-то, надо идти своим путем.
Константин добавил, что и сам кое-какие картины во Франции написал и потом покажет, и начал в свою очередь задавать вопросы: что нового в Москве, в российском художестве, как продвигается «Семейный портрет», от которого он сбежал в Париж? Отвечая, Серов помянул о передаче в дар Москве Павлом Ивановичем Третьяковым своей картинной галереи. И о том, что был большой шум по поводу письма Репина из-за границы, напечатанного в «Театральной газете». Илья Ефимович вдруг объявил себя чуть ли не поклонником «чистого искусства». Выразился в том духе, что его восхищает любой пустяк, лишь бы он был исполнен художественно, тонко, с любовью. А Стасов, понятно, увидел в сей мысли крамолу и отход Репина от гражданской позиции. Говорят, былые друзья рассорились насмерть.
О царском семейном портрете Серов сказал, что он почти закончен и скоро сей тяжкий груз, порядком ему надоевший, будет сброшен. Помогли сеансы с натуры государевых деток, и самого государя немного воочию довелось лицезреть. Смотрел групповой царский портрет великий князь Сергей Александрович и выразил удовлетворение, особенно изображением государыни. И что к началу лета отправят портрет в Борки, на генеральный смотр, куда и все государево семейство прибудет на освящение церкви. Закончил шуткой: «Тут и плаху готовь».
– Чувствую, напрасно ты себя пугаешь, – подковырнул Коровин. – У тебя хоть перспективы есть, свет впереди обозначен. А что у меня? Неизвестность и полный мрак.
И тут же спросил о Врубеле: он-то как поживает, встречаетесь?
И Серов подтвердил, что встречаются, куда ж друг от друга деться. В основном – у Мамонтовых. На Рождество опять выступали в новой комедии Саввы Ивановича из театральной жизни. Сам Серов сыграл режиссера, а Михаил Александрович актера-трагика. А вот с художественными делами у Врубеля неважно обстоит. Сработал он панно дляя нового дома мамонтовских родичей – четы Дункер. Но эти панно им почему-то не приглянулись – отвергли. А среди них есть замечательная вещь, «Венеция». Михаил Александрович ее по итальянским впечатлениям писал. Так и пылится теперь у него. Он от отчаяния, закончил о Врубеле Серов, что никто работы его не видит, подумывает о собственной выставке, чтобы и «Демона», и другие вещи показать.
– Жаль его, какой талант, – вздохнул Коровин, – и никак не пробьется!
Через несколько дней Серов зашел в снятую Коровиным квартиру, чтобы посмотреть на работы друга, написанные им во Франции.
– Это я писал в Ницце, это в Марселе, – пояснял Коровин. – Сценки на улице – Париж.
В парижских этюдах преобладали виды кафе, бульваров, парков с отдыхающими горожанами, и они понравились Серову превосходным колоритом, передачей воздуха, света. Другую, обособленную часть выполненных в Париже картин составлял своеобразный цикл, очень камерный, с собственным сквозным сюжетом, который можно было бы назвать «Художник и его модель». Впрочем, сам художник на полотнах отсутствовал, были изображены лишь его натурщицы в мастерской. Непроизвольно эти полотна рассказывали о личной жизни художника, о его любви, разрыве с любимой женщиной, появлении в мастерской более молодой подруги.
Похвалив уличные парижские этюды и портовые виды, по поводу сценок в мастерской Серов сдержанно обронил:
– Тоже недурно, хотя слишком уж… по-французски.
– Ну и что? – с вызовом ответил Коровин. – Между прочим, вот эту вещь, – он показал на натурщицу, изображенную на постели, – в Салон приняли, даже попала в иллюстрированный каталог. Я ее, пожалуй, на Передвижную предложу.
– Попробуй, – неопределенно хмыкнул Серов. – Только имей в виду, что здесь все же не Париж, Россия.
Договорились, что в Петербург, на Передвижную, поедут вместе.
На эту выставку Серов представил две работы – портрет графини С. А. Толстой и «В Крыму». Пребывание в городе он решил использовать для исполнения заказанного ему П. М. Третьяковым портрета знаменитого писателя Николаяя Семеновича Лескова.
Осмотрев выставку, размещенную в залах Общества поощрения художеств, и обменявшись мнениями о ней, Серов с Коровиным пришли к выводу, что спад уровня представленных на ней полотен очевиден. «Погоду» делают более молодые, как Левитан, показавший пейзаж «Над вечным покоем», уже купленный Третьяковым, Дубовской с его «Радугой» и некоторые другие.
Наконец-то передвижники оценили и Серова и на своем общем собрании приняли его в члены Товарищества. Положительному решению этого вопроса посодействовал Ильяя Остроухов, ставший членом Товарищества еще ранее. В этом же году Илья Семенович, наряду с Ярошенко и Касаткиным, входил в комиссию по устройству выставки.
Итак, Серову предстояло написать портрет Лескова. Надо заметить, что Николай Семенович Лесков из-за особенностей своего характера и биографии (а в ней была и отравившая ему жизнь ожесточенная кампания против него, развернутая в 60-е годы Д. И. Писаревым и другими критиками из того же «нигилистического» лагеря) долгое время отказывал просьбам художников, даже самых видных. В 1888 году Репин, пытаясь переубедить Лескова, писал ему: «Не я один, вся образованная Россия знает вас и любит как очень выдающегося писателя с несомненными заслугами… Портрет ваш необходим. Он будет, несмотря на ваше нежелание его допустить; он дорог всем, искренне любящим наших деятелей».
Поддавшись нажиму Репина, Лесков все же согласилсяя позировать, но делал это из-за большой загруженности работой неаккуратно, что Репина удовлетворить не могло. В связи с этим сын писателя Андрей Николаевич Лесков, автор солидной биографии своего отца, посетовал: «Так дело и обошлось без портрета. И это, конечно, очень жаль: при удаче могло быть создано „ослепительное“ запечатление Лескова поры, когда у него еще „все силы и страсти были в сборе“».
Павел Михайлович Третьяков все же уговорил писателя позировать для портрета, и 10 марта 1894 года Н. С. Лесков в письме публицисту М. О. Меньшикову в шутливой манере сообщил: «Я возвышаюсь до чрезвычайности! Был у меня Третьяков и просил меня, чтобы я дал списать с себя портрет, для чего из Москвы и прибыл художник Валентин Александрович Серов, сын знаменитого композитора Александра Николаевича Серова. Сделаны два сеанса, и портрет, кажется, будет превосходный… Поработает он еще с неделю и затем увезет портрет с собою в Москву».
К началу того же года относится и портрет Людмилы Анатольевны Мамонтовой (по мужу – Муравьевой). Серов писал его в московском доме Саввы Ивановича, которому Людмила приходилась племянницей, и делал это с любовью. «Натура» (близкие чаще звали ее Любашей) была знакома ему с детства, вместе играли в домашних спектаклях мамонтовского кружка, и ему удалось выразить в ее лице то «отрадное», затаенную красоту внутреннего мира, которую он когда-то запечатлел в портрете «Девочки с персиками».
Из Петербурга XXII Передвижная выставка в апреле переехала в Москву и была, как обычно, развернута в помещении Училища живописи, ваяния и зодчества. После отзывов о ней московской прессы можно было подвести некоторые итоги. Весьма благожелательно о работах Серова отозвался критик художественного журнала «Артист» В. Михеев. Говоря о его пейзаже «В Крыму», он отметил, «как много поэзии, оригинальности и гармонии в колорите может обнаружить истинно талантливый художник при самой простой теме». Касаясь представленных на выставке портретов и выделив портрет Направника работы Кузнецова и портрет Н. К. Михайловского, написанный Ярошенко, пальму первенства тот же критик отдал серовскому портрету графини Толстой: «Свобода письма и тщательность его техники слились в нем нераздельно, яркость красок и характерность изображения напомнили нам лучшие работы в этом роде И. Е. Репина».
Значительно строже отозвался о выставке передвижников безымянный критик журнала «Наблюдатель». В хлестко, язвительно написанной статье он подметил, что в тематическом плане движение передвижников переживает застой и кризис, обозначились внушающие опасения тенденции. «Им, – писал автор, имея в виду передвижников, – захотелось быть ближе к земле, к жизни, к правде. Они спустились с олимпийских высот на жалкую землю… стали изображать нашу бедную природу и обездоленный народ со всеми его невзгодами, бедами, засухами, неурожаями, голодовками, морами, кабаками и нищенством…
Время шло… а наши передвижники все еще продолжают изображать „бедность да бедность, да несовершенства человеческой жизни“. Неужели ничего нового нет? – спрашивает зритель. Неужели вся наша жизнь состоит из несовершенств? Но „пессимистическая лихорадка“, овладевшаяя нашими когда-то передовыми художниками, стала хронической и, по-видимому, неизлечимой. В течение двадцати двух лет они не двинулись с места, а в искусстве кто не идет вперед, тот пятится назад…»
И далее автор иллюстрировал свой тезис о «пессимистической лихорадке» перечислением названий представленных на выставке пейзажей: «Посмотрите пейзажи: „Днепр в сумерки“ (Н. Бодаревского), „Осенняя пора“, „Пустынный берег“ (Е. Волкова), „В конце лета“ (Н. Дубовского), „Над вечным покоем“ (И. Левитана), „Последние лучи“ (И. Остроухова), „Лесное кладбище“ (И. Шишкина), „Дождливый день“ (И. Ендогурова) и т. д. Из этого беглого перечня вы увидите, как всецело охватила наших художников пессимистическаяя лихорадка. Из целых суток они непременно выбирают времяя умирания дня: ночь, сумерки, последние лучи, вечер, а уж возьмут день, то непременно унылый, грустный, дождливый; из времен года они предпочитают опять время умирания природы: осенняя пора, конец лета, сентябрьский вечер и пр…»
Еще более ярко осветил ту же тенденцию склонный к иронии критик на примере жанровых картин. «Теперь взгляните на жанр. Г. Касаткин изображает „Неизбежный путь“: унылая улица и начало похоронной процессии; несут крышку от гроба. Г. Клодт написал „Заблаговестили к заутрене“: из гроба встает высокий, как мумия, полуживой монах, умерший для мира… Тот же художник изобразил „Во время завтрака“ – в цирковой уборной двух наездниц или акробаток в жалком, потасканном трико; одна, отвернувшись, плачет: очевидно, тут какая-то драма… Плодовитый и даровитый В. Е. Маковский, наш несравненный жанрист… изобразил печальную невесту („Невеста“); г. Мясоедов отвратительного „Алкоголика“ и печальную „Вдову“; г. Неврев – развод двух супругов, которых увещевает священник („Увещевание“); г. Богданов-Бельский – „Последнюю волю“ умирающего, вокруг которого собралась семья; г. Горохов – двух нищих детей, занесенных снегом („По миру“); г. Коновалов – „Печальные вести“; г. Орлов – „Умирающую“ и г. Суреньянц – „Покинутую“. Боже, сколько гробов, смертей, болезней, горя, драм, печали, слез, пороков и воздыханий! Сколько бедности и несовершенств; сколько унылого, тяжкого, беспросветного, мрачного пессимизма. Неужели русское существование, русская жизнь, русская природа не дают иных тем, кроме печальных?»
В заключение же автор статьи выразил надежду на лучшее будущее России и русского искусства и призвал бороться за это: «Молодости свойственна бодрость духа, борьба с временными невзгодами, бедностью и несовершенствами, сила, мощь, вера в себя, в отчизну, в историческое будущее, которое именно перед Россией открыто без границ. И не может привести к добру эта поэзия безысходного отчаяния. Нужно, наконец, нашим жрецам искусства стряхнуть с себя унылый и бесплодный пессимизм!.. Будем же ждать и верить в светлое будущее нашего искусства».
Появление новых работ Серова на Передвижной выставке заметил и В. В. Стасов и прислал ему письмо с выражением самых теплых чувств. «Валентин Александрович, – писал Стасов, – я всегда считал себя счастливым тем, что мне выпало на долю (кажется, первому) обратить общее внимание на Ваш талант. Портрет Вашего покойного отца был написан в отношении колорита неважно, но свидетельствовал о каком-то совершенно особенном портретном даровании. С тех пор Вы только все шли вперед да вперед, и вперед, и я был глубоко обрадован, увидев на нынешней выставке передвижников портрет графини С. А. Толстой, который есть сущий chet d'oeuvre… и, мне кажется, если Вы только не убавите пара, Вы скоро станете совершенно наравне с самыми первыми нашими портретистами, а кто знает – может, и перегоните их даже!»
Далее Стасов замечал, что этого его мнения о своем творчестве Серов мог бы не узнать, поскольку ему, Стасову, совершенно не хочется писать ныне о передвижниках и о их нынешних выставках. Без сомнения, Стасов, как и безымянный критик «Наблюдателя», заметил, что движение передвижников в своем развитии остановилось и даже зашло в тупик.
А написал же он письмо, пояснял Стасов, потому что подвернулась оказия, «случай вышел». Случай же тот, что исполняется 25 лет со дня кончины исторического живописца Вячеслава Шварца, которого Стасов очень любил, почитал и пропагандировал, и есть намерение увековечить Шварца в портрете для Пушкинской залы Лицея. И этот портрет Стасов предлагал исполнить Серову.
Когда-то, припомнил Серов, еще подростком, он сделал копию картины Шварца «Патриарх Никон», но писать портрет покойного художника по фотографиям никакого желания у него нет, о чем он и известил В. В. Стасова, сославшись на занятость другими работами. К Владимиру Васильевичу Стасову отношение Серова было настороженным: не давала покоя невыясненная причина резкого разрыва со Стасовым дружившего с ним отца – дружба их была действительно большая, плодотворная для обоих, о чем свидетельствовала и их переписка, и вдруг она переросла в непримиримую вражду… И десять лет спустя тема эта будет волновать Серова, и ответ на этот вопрос он будет тщетно искать в книге музыковеда Н. Ф. Финдейзена «Александр Николаевич Серов. Его жизнь и музыкальная деятельность». В письме автору, выразив свое, в целом благоприятное, мнение о его работе, напишет: «Непонятным является расторжение столь долгой и великолепной дружбы В. В. Стасова с Александром Николаевичем, то есть не объяснено, почему произошло расхождение. Для матушки моей и для меня это тайна до сих пор».
В середине июня наступил день освящения в Борках Харьковской губернии церкви и часовни. К этому событию написанную Серовым картину «Александр III с семьей» доставили в Борки и выставили в павильоне рядом с церковью. На церемонию был приглашен и автор полотна. В письме Ольге Федоровне Серов дал подробный отчет об этом примечательном событии. О том, что граф Капнист, предводитель харьковского дворянства, представил его государю и государь заметил, что давно его знает. И что с великой княгиней Ксенией обменялись поклонами, а с братом ее Михаилом поздоровались за руку. Пожал ему руку и великий князь Сергей Александрович, ранее уже смотревший картину в Историческом музее. Государыня же внимания на автора не обратила, потому как было ей недосуг, чай пила.
Потом еще от Капниста узнал, что при первом взгляде на картину (Серова тогда в павильоне еще не было) государь заметил: «Михаил как живой», а государыня сказала Ксении, что papa (то есть государь) очень хорош и сама Ксения тоже. На что Ксения возразила, что эскиз с натуры лучше. «Наследник, – сообщал Серов, – и Георгий не понравились. С чем я совершенно согласен». Тем не менее и граф Капнист, и дворяне поздравили его с успехом. Во время торжественного осмотра полотна познакомился, упомянул Серов, и с Победоносцевым, сказавшим, что он знал его отца по Училищу правоведения и что картина, за исключением Михаила, ему нравится.
Словом, подводит итоги Серов, все прошло благополучно и даже «так называемый успех был». Но кое-что придется еще дорабатывать: государь, например, не вполне удовлетворен тем, как написана его рука.
Упомянул Серов и о досадном инциденте, случившемся днем ранее перед церемонией освящения, при встрече его с харьковским архиепископом Амвросием. «Я, – повинился Серов в неуважении высокой духовной персоны, – в фуражке и с папиросою во рту пребывал в павильоне… монах спрашивает, нельзя ли посмотреть картину преосвященному… Входит славный старик, худой, смотрит картину, затем отворачивается и говорит мне – это вы написали? Я в шапке и с папироскою говорю – да – он мне делает ручкой нечто вроде воздушного поцелуя и объявляет, что прелесть, а потом спрашивает, вы русский – я говорю – да. Все улыбаются и уходят, я раскланиваюсь. Оказывается, что я был крайне невежлив – не только что не подошел к руке архиерея, но курил и на голове фуражка».
Незнание православных обрядов и обычаев в этот раз сильно его подвело.
«Одно могу сказать, – признался Серов в том же письме, – что картина мне порядком надоела». Он сознавал, что с точки зрения живописи она не представляла собой ничего интересного. Однако эта работа подтвердила его репутацию искусного портретиста и впоследствии сыграла немалую роль в получении им новых заказов – уже не от дворянских сообществ, а от царского двора.
Особенно был доволен одобрением полотна царским семейством предводитель харьковских дворян граф Василий Алексеевич Капнист, потомок поэта Капниста. Он попросил Серова написать, когда у него будет возможность, портреты своей супруги Варвары Николаевны и дочери Варвары Мусиной-Пушкиной. Серов дал согласие.
Летом Серов намечал отдохнуть с семьей в Домотканове, но планы его неожиданно изменились после встречи в Москве с только что возвратившимся домой из поездки по Северу Саввой Ивановичем Мамонтовым. В дом на Садовой-Спасской Серов пришел вместе с Коровиным. Савва Иванович кратко поделился впечатлениями от поездки, закончил предложением, от которого трудно было отказаться.
– Проехал я, – рассказывал Мамонтов, – с министром финансов графом Витте по замечательным краям, по рекам Сухоне, Северной Двине и Ледовитым океаном – до Норвегии и Швеции. Там, на Севере, земли богатейшие, и будут в том краю в недалеком будущем большие перемены. Тянем мы туда железную дорогу от Вологды, и есть план построить в районе незамерзающей Екатерининской гавани солидный морской порт. Опыт прежний уже показал, какой толчок развитию хозяйства дает создание удобной транспортной сети. Когда до Ярославля железную дорогу проложили, это сразу позволило сбывать в центр молочную продукцию Кубенской местности. Там, на Севере, много леса – будем пилить и доставлять его в другие российские края и в Европу. Между прочим, через пару лет в Нижнем Новгороде, на Всероссийской выставке, намечается открыть специальный павильон Крайнего Севера, и хорошо бы, чтоб кто-нибудь из вас или оба тот павильон и оформили. Но прежде надо своими глазами все посмотреть, самим по той земле пройтись. И потому предлагаю: поезжайте вы, долго не мешкая, тем же маршрутом по северным краям. Впечатления гарантирую! Верьте мне, красоты тот край несказанной. Берите холсты, краски, работайте в свое удовольствие – все расходы беру на себя.
Мамонтов, как купец, предлагающий выгодную сделку, азартно стукнул кулаком по столу:
– Так как?
Коровин размышлял недолго, глаза его загорелись. На всякий случай спросил:
– А комарье, Савва Иванович, нас не съест?
– Сейчас комар там уже сходит. На речных же пароходах и в океане он вас подавно не достанет. И тебе ли, Костенька, рыбаку бывалому, комарья бояться?
– Еду! – решительно выпалил Коровин. – А ты, Антон? – уставился он на друга.
– И мне хотелось бы, – в раздумье ответил Серов, – да надо бы еще с женой обсудить.
Поговорив с Лелей и получив ее согласие на поездку, Серов стал собираться в путь.
В Москву из двухмесячного путешествия он вернулсяя словно другим человеком, и Лёля, любовно глядя на него, сказала:
– У тебя такое лицо, будто ты еще бродишь где-то за полярным кругом.
– Что же особенного в моем лице? – уставился на себя в зеркало Серов.
– Сама не пойму: может, отблески солнца или северного сияния?
– А может, так и есть, – весело согласился Серов. – Ты и представить себе не можешь, как это было здорово!
Воспоминаний и рассказов о совместном с Коровиным странствии хватило на несколько дней. Череда картин была лишена последовательности: по-видимому, память вела отбор эпизодов, руководствуясь их живописной выразительностью. Как наяву возникал перед ним первый увиденный в заливе Святого Трифона северный олень, стоявший на привязи возле бревенчатой избы, у стены которой покоилась перевернутая вверх дном рыбачья лодка. Замечательный олень, с раскидистыми рогами. Увидев его, они с Костей схватились за этюдники, чтобы запечатлеть типично северный вид, а за их торопливой работой наблюдал, лениво поплевывая, словно снисходя до невежественного изумления приезжих, молодой лопарь в зипуне, расшитом яркими орнаментами. Из избы вышел другой лопарь, постарше, отвязал оленя, сам сел в лодку и поплыл вдоль берега залива. Олень, откинув назад ветвистую голову, прыгнул за хозяином и поплыл рядом. Невероятная, фантастически прекрасная картина!
А разве можно забыть вековой бор и одинокую сторожку близ железнодорожного полотна, где они с Костей рискнули остаться на ночлег? Зарево заката в просвете меж деревьями серебрило опутавшую ветви паутину. Жутковато было чувствовать себя такими одинокими в глухом северном лесу. Где-то поблизости вскрикивала неведомая птица, и они, будто заколдованные, пошли на ее зов…
А каким милым был обычай принимать путников в селе Шалукта близ Кубенского озера! Группа девушек в нарядных сарафанах пригласила их на речную прогулку в компании с сельским доктором. Плыли на лодках, а привал устроили на цветущей поляне. Девушки протяжно пели о любви и разлуке с суженым, и мелодию подхватывал шумевший в вершинах сосен ветер. «Чем не сказка, Антон! – восхищался потом Коровин. – Помнишь мою „Северную идиллию“? Писал ее, еще не зная толком Севера, и, выходит, угадал, словно вживую эту картину видел».
А с каким радушием встречали пассажиров на небольших пристанях; когда ехали пароходом по Сухоне и Северной Двине, местные мужики и бабы предлагали купить и свежую рыбу, и таежную ягоду, и аппетитно изжаренную боровую дичь. То был край заповедный, освоенный в незапамятные времена лихими новгородскими ушкуйниками, назвавшими его Заволочьем, край, не тронутый татарским нашествием.
Вспоминались и монахи. Отшельник на Кубенском озере, могучий лесовик, заросший густым волосом, истосковавшийся, должно быть, по людям, вдруг рассказал им грустную и поэтичнейшую историю своей любви.
Хорош был и другой монах, подвозивший их на подводе к Печенгскому монастырю Святого Трифона. Дорогой, светло улыбаясь, будто видит чудесный сон, рассказывал, что преподобный Трифон основал монастырь на устье Печенги еще при Иване Грозном. Позже набежавшие шведы-лихоимцы разрушили Божью обитель, перебив иноков и бельцов до единого. Лишь лет через тридцать вновь собрались православные и отстроили заново монастырь. Приветливые и добродушные собрались там ныне монахи, и дивно было слышать их рассказы о том, в какой дружбе живут они с окрестными медведями.
И Ледовитый океан с его свирепой игрой волн, болтающих из стороны в сторону их теплоход «Ломоносов», и альбатрос, летящий в штормовом небе, и угрюмые скалы Новой Земли с ее молчаливыми обитателями – одетыми в шкуры самоедами…
Уединившись по домам, Серов и Коровин торопились закончить свои северные этюды к очередной выставке Московского общества любителей художеств.
В конце октября 1894 года всю Россию ошеломила весть о том, что в Крыму, в Ливадии, в царской резиденции скончался император Александр III. Горестными словами начинался подписанный цесаревичем манифест о восшествии на престол нового императора Николая II:
«Богу Всемогущему угодно было в неисповедимых путях своих прервать драгоценную жизнь горячо любимого Родителя Нашего, Государя Императора Александра Александровича. Тяжкая болезнь не уступила ни лечению, ни благодатному климату Крыма, и 20 октября Он скончался в Ливадии, окруженный Августейшей Семьей Своей, на руках Ее императорского Величества Государыни Императрицы и Наших.
Горя нашего не выразить словами, но его поймет каждое русское сердце, и Мы верим, что не будет места в обширном государстве Нашем, где бы ни пролились горячие слезы по Государю, безвременно отошедшему в вечность и оставившему родную землю, которую Он любил всею силою своей русской души и на благоденствие которой Он полагал все промыслы Свои, не щадя ни здоровья Своего, ни жизни. И не в России только, а далеко за ее пределами никогда не перестанут чтить память Царя, олицетворявшего непоколебимую правду и мир, ни разу не нарушенный во все его царствование…»
И основное – о переходе власти к наследнику престола: «От Господа Бога вручена Нам власть царская над народом нашим, пред престолом Его Мы и дадим ответ за судьбы державы Российской…»
Как же так, размышлял, читая манифест, Серов, еще нынешним летом, в июне, видел государя в Борках, на смотринах семейного портрета, и вот его уже нет. Однако еще там, в Борках, бросился в глаза несколько болезненный вид императора, землистый цвет его лица, и кольнула мысль: не подтачивает ли государя тайный недуг? Наследник в Борках отсутствовал. Вероятно, по-прежнему находился за границей, видеть воочию его так и не довелось. И на всех фотографиях, вспоминал Серов, которые были предоставлены ему для написания портрета, лицо наследника престола было непроницаемо спокойным, глаза смотрели без всякого выражения. Конечно, молод еще, думал Серов, чтобы управлять огромной империей. Но советники и наставники найдутся. Тот же Победоносцев. Вспомнился холодный взгляд обер-прокурора Святейшего синода из-под очков в тонкой оправе, его поощрительная реплика при знакомстве в Борках: «А я знал вашего отца…» Такие, как Победоносцев, сумеют навязать свою волю молодому государю.
К периодической выставке в Москве Серов подготовил ряд этюдов, навеянных северными впечатлениями, – олень в Лапландии, вид Печенги, вид Северной Двины, рыбачьи лодки у архангельской пристани и др. Кое-что из тех же этюдов оставил и для Передвижной выставки, где решил также показать портрет Н. С. Лескова и одну из картин крымского цикла – «Татарская деревня».
Северные этюды Серова и Коровина, которые публика могла видеть на выставках в Москве и Петербурге, удостоились похвалы коллег за новизну темы и свежесть колорита.
Между тем после проведения в Петербурге Передвижной выставки среди художников распространилась весть, что посетившие ее Николай II с супругой показали себя четой, неплохо разбирающейся в живописи: государь приобрел за 40 тысяч рублей «Покорение Сибири Ермаком» Сурикова. Так пал рекорд, установленный некогда его покойным родителем, уплатившим на 5 тысяч меньше за «Запорожцев» Репина.
– Начало хорошее! – радовались передвижники. – Можно надеяться, что государевы щедроты пропасть нам не дадут.
Еще до того как портрет Н. С. Лескова был выставлен для всеобщего обозрения на Передвижной выставке, сделанную с портрета фотографию увидел посетивший писателя В. В. Стасов и в письме Серову выразил свое мнение об этой его работе: «… Я был поражен – до того тут натуры и правды много – глаза просто смотрят, как живые. И я еще раз подумал, что Вам предстоит быть крупным русским портретистом, кто знает – может быть даже, однажды, первым из всех их».
В том же письме Стасов просил по возможности прислать ему фотографию с портрета отца Серова и далее, коснувшись реформы Академии художеств, вдруг стал пылко расхваливать решение Серова, о котором он будто бы слышал от Лескова, отказаться от предложенного ему места преподавателя в реформируемой Академии. По мнению Стасова, те из передвижников, кто готов работать в новой Академии, просто подкуплены «обещаниями квартир, мест, чинов, орденов, пенсий, заказов и проч.». А те, кто отвечает отказом на подобные предложения, демонстрируют свою свободу и независимость.
Пришлось в ответном письме, поблагодарив за похвальные отзывы о своих работах, выразить собственное мнение о реформируемой Академии и развеять некоторые заблуждения Стасова. «Не пойму я, – писал Серов, – почему Вы так клеймите новую Академию. Как-никак, все же она будет лучше, чем была за последнее время, а не идти туда тем, которые ратовали за ее изменения, – более чем неловко. Если Вы сожалеете о Репине, то я уверен, что все, что он сможет сделать на ее улучшение, он сделает…»
И далее: «В сущности, все были в Академии, были в ней и светлые времена (^, Репин, Антокольский), может быть, будут и теперь, хотя, разумеется, сделать Репиным и Антокольским Академия никак не может…»
Относительно же приписанного ему Стасовым, будто бы со слов Лескова, отказа принять предложение преподавать в Академии Серов кратко разъяснил, что подобных предложений он не получал. Да если бы они и были, то отклонил бы их по иным мотивам: не хочет покидать Москву и не чувствует склонности к преподавательской работе.
Итак, Стасов портрет похвалил, но стоит сказать и о том, как оценили его родственники писателя и сам Николай Семенович. Сын Лескова, Андрей Николаевич, писал о работе Серова: «Всегда жалеешь, что портретов Лескова, написанных равной по мастерству кистью, но лучших лет писателяя не существует. Утешает, что и на этом проникновенно запечатлевшем больного и обреченного уже Лескова портрете художник непревзойденно верно передал его полный жизни и мысли пронзающий взгляд… Полное восхищение самим портретом сохранил и Лесков, и когда тот был закончен и выставлен».
Однако, по словам сына писателя, впечатление Николаяя Семеновича от созерцания портрета на выставке было омрачено рамой, в которую был заключен портрет: «Дома Лесков спрашивал потом о ней всех побывавших на выставке, хмурился и, отходя к окну, умолкал… И не мудрено: буро-темная, почти черная, вся какая-то тягостная, – что в ней могло нравиться… суеверному и мнительному Лескову? Тем более уже неизлечимо больному…
Измученное долголетними страданиями лицо смотрело из нее как… из каймы некролога. Радовавший год назад своею задачливостью портрет негаданно и тяжело смутил».
Дурное предчувствие писателя не подвело. В ночь на 21 февраля (5 марта) 1895 года Н. С.Лесков скончался.
В семье Серовых после рождения второго сына, Георгия, стало уже трое детей, увеличились расходы. Однако, несмотря на постоянную занятость, удовлетворить все потребности растущей семьи Серову было нелегко. Хроническое безденежье угнетало, и потому приходилось браться за работы, к которым душа совсем не лежала, даже если заказчиком был сам Павел Михайлович Третьяков. Уважаемый коллекционер попросил написать по фотографии портрет своего покойного брата Сергея Михайловича. Скрепя сердце Серов согласился, но попросил и задаток – 150 рублей. Третьяков сказал: «Что так скоро? Закончите – все сразу получите». И молча вышел за деньгами. Но когда вернулся, художника в комнате уже не было. Этот инцидент очень огорчил обоих. Испрошенный Серовым задаток Третьяков прислал ему почтой, а Валентину Александровичу пришлось извинитьсяя перед коллекционером. Объясняя причину своего внезапного бегства, Серов вспомнил ответ ему Третьякова и написал:
«Слова эти меня так огорчили, что я, ни о чем хорошенько не рассуждая, просто ушел, никак не думая, чтоб уходом своим мог причинить Вам столько беспокойств». Недоразумение было улажено, и портрет С. М. Третьякова Серов все же написал.
Увековечить себя пожелал московский купец, глава кондитерской фирмы Алексей Иванович Абрикосов. Старик считал себя просвещенным не только в делах кондитерских, но и в живописи, и во время сеансов не прочь был щегольнуть своими познаниями. Писать купца приходилось по утрам. К полудню его звали завтракать. Даже не думая, что хотя бы из вежливости можно было бы пригласить к столу и художника, купец уходил в столовую. Возвратившись, вновь присаживался к письменному столу, за которым позировал, и невозмутимо продолжал свои разглагольствования: «А вот, знаете, Рафаэль…»
Еще один заказ – уже совсем другая статья – просьба друга и родственника Владимира Дервиза написать портрет его отца, члена Государственного совета Дмитрия Григорьевича Дервиза. Как же не исполнить! Тем более что на лето Серовы всем семейством собирались, по приглашению хозяина имения, в Домотканово.
Живописное имение, с его парками и прудами, стало для Серова родным, как когда-то Абрамцево. И сколько раз уже любовно писал он его виды – и «Заросший пруд», и «Старую баню» на холме, и «Осенний вечер», и портреты кузин – Маши и Аделаиды Симанович под деревьями в солнечные дни.
В этот приезд семья Серовых облюбовала для жилья помещение старой школы, несколько удаленной от основного усадебного дома. «Перед старой школой, – вспоминала художница Н. Симанович-Ефимова, – поляна, покрытая одичавшими садовыми анютиными глазками и гвоздиками, с древними, пригнувшимися к земле яблонями». На этом фоне, у стены школы, с теневой ее стороны, Серов писал портрет жены, Ольги Федоровны, уже ожидавшей следующего ребенка. Она сидит на скамье возле дома в широкополой соломенной шляпе и легком белом платье, свободно облегающем несколько раздавшуюся фигуру. Спокойный, устремленный на зрителя взгляд выражает внутреннюю гармонию ее души. На некотором отдалении, на освещенной солнцем поляне, двое детей, мальчик и девочка, играют друг с другом.
Тем летом в Домотканове Серов написал еще один портрет любимой модели – Маши Симанович. Она приехала погостить из Парижа и носит теперь фамилию мужа – Львова. Что-то новое, тонкое, еще более женственное появилось в ней после замужества. Длинные прежде волосы подрезаны, и Мария укладывает их в высокую модную прическу. Портрет вышел очень живой, «импрессионистский», и его колорит оживлял небольшой букет полевых цветов в левом нижнем углу полотна.
Там же, в Домотканове, уже осенью, в октябре, Серов написал незатейливый пейзаж с фигурой мальчика-пастушка, сидящего на траве, и бродящими рядом, на фоне отдаленных сараев, лошадками. Он назвал его «По жнивью».
Конец года, в отличие от лета и осени, когда работал «для души», пришлось отдать исполнению заказов, и Серов заканчивал портреты родственников предводителя харьковского губернского дворянства – его дочери, графини Варвары Васильевны Мусиной-Пушкиной, и жены Варвары Николаевны Капнист.
Со значительно большим удовольствием он писал портрет одной из многочисленных родственниц Саввы Ивановича Мамонтова – Мары Константиновны Олив. Руки модели, что часто бывало на его портретах, Серов едва наметил, но лицо словно выступавшей из полумрака молодой женщины, с играющей на нем полуулыбкой, получилось интригующе интересным.
В середине февраля 1896 года Серов выехал в Петербург, где открылась XXIV Передвижная выставка. Осматривая ее, он пришел к выводу, что картины художников того поколения, к которому он относил и себя, – Левитана, Коровина, Нестерова, Пастернака, Досекина, выглядели свежими и талантливыми и ничуть не уступали живописи ветеранов Товарищества, а в чем-то и превосходили их.
Особенно представительно, десятью работами, показал свое творчество Левитан – «Март», «Золотая осень», «Сумерки», «Волга – ветрено»… Эту последнюю картину, припомнил Серов, он видел в мастерской Левитана, когда писал его портрет. Наконец-то Исаак Ильич посчитал, что она закончена!
Нестеров, как и прежде, увлечен сюжетами на темы монашества («Под благовест»). А Костя Коровин представил картину, создать которую ему помогли впечатления их северной поездки, – портрет хозяйки небольшой провинциальной гостиницы. Полнотелая, с круглым смеющимся лицом, в нарядной одежде, с кувшином в одной руке и свечой в другой, «Хозяйка» была написана уверенной кистью, рукою мастера.
Из своих последних работ Серов отобрал на выставку четыре: «Летом» – портрет жены, написанный в Домотканове, «Портрет г-жи М. Я. Л.» (портрет Марии Львовой), «У лопарей» – этюд из северной поездки и «По жнивью». И пресса их заметила. В. В. Стасов особо выделил в обзоре, помещенном в «Новостях и биржевой газете», портрет Львовой: «Серов, все идущий в гору и уже начинающий достигать совершенства, представил… замечательно изящную молодую женщину, с несколько восточным типом. Судя по взгляду, выражению, всей внешней обстановке вокруг нее, она предана науке, знанию, она любит и умеет серьезно заниматься делом и посвящает ему всю жизнь. Серов умеет талантом выражать все это, всю истинную натуру и характер человека».
В популярном иллюстрированном журнале «Нива» о Серове написал автор Гр. – под этим сокращением скрывал до поры до времени свое настоящее имя художник и начинающий критик Игорь Грабарь. «В. А. Серов, – отмечал он в рецензии, – портретист, приковывающий к себе на последних выставках всеобщее внимание, написал пейзаж „По жнивью“, до такой степени простой и нехитрый по концепции, что, казалось бы, трудно сделать из такого материала чтонибудь интересное; а между тем пейзаж со сжатым полем, с несколькими пасущимися лошадками и коровами, с мальчиком, усевшимся в траве, написан до такой степени художественно и с таким вкусом и пониманием, что эта небольшая картинка может соперничать с самыми обдуманными пейзажами г. Левитана. Два женских портрета, выставленных г. Серовым, превосходны; трудно сказать, который лучше, молодой ли девушки или портрет, названный автором „Летом“. Последний серьезней, законченнее, но первый тоньше и деликатнее по тону…»
Очевидный прогресс живописного искусства Серова, как и его успех в создании портрета Александра III с семьей, были замечены и высокими чинами в императорской Академии художеств. На его имя пришло письмо от вице-президента Академии графа Ивана Ивановича Толстого с предложением принять участие в издании художественного альбома, долженствующего запечатлеть разные моменты предстоящего коронования Николая II. Серову предлагалось исполнить акварель на тему «Миропомазание государя императора» и о своем согласии сообщить в десятидневный срок. Серов раздумывал недолго. Стоимость работы была вполне достойная – тысяча рублей, и вскоре он сообщил графу И. И. Толстому, что готов написать акварель на предложенный ему сюжет.
Пока Серов находился на выставке в Петербурге, его приятель Константин Коровин рьяно взялся в Москве за предложенную ему Саввой Ивановичем Мамонтовым работу – оформить павильон Крайнего Севера на открывающейся летом Всероссийской промышленной ярмарке в Нижнем Новгороде. Теперь он, как и Врубель, тоже подключенный Мамонтовым к художественной росписи для ярмарки, целыми днями пропадал в мастерской, выделенной им в доме на Садовой-Спасской. Там и разыскал его Серов, чтобы обменяться последними новостями, рассказать о впечатлении от выставки и о сделанном ему предложении в связи с предстоящим коронованием Николая II.
– Теперь тебя и новый государь будет отличать, – одобрительно подмигнул Коровин.
– Ты меня знаешь, – сдержанно ответил Серов. – Я с сильными мира сего знакомств не ищу. Само по себе выходит. А деньги, что за работу обещаны, на дороге не валяются.
– Тут до меня слухи дошли, – тут же свернул на другую стезю Коровин, – что в Петербурге, на Передвижной, коекого из вас уговаривали на мюнхенский Сецессион картины свои послать. Было такое?
Ежегодные выставки мюнхенского объединения художников Сецессион имели у молодых живописцев неплохую репутацию как двигателя всего нового и передового, и Серов подтвердил, что такое предложение действительно имелось от Александра Бенуа, брата акварелиста Альбера Бенуа.
– Сначала, – рассказывал Серов, – этот Александр Бенуа – он, кстати, и сам художник и помогает княгине Тенишевой ее коллекцию в порядок привести – вошел в контакт с Переплетчиковым, а через него и с другими. Пригласил к себе на чаепитие. Кроме меня и Переплетчикова Левитан был, Аполлинарий Васнецов, Нестеров… Там-то Бенуа и выложил, что один из деятелей Сецессиона просил его подготовить русский отдел для очередной выставки, и он потому к нам обратился, что видит в нас самых талантливых и многообещающих из молодежи. Так-то! Пора, мол, нам и Западу себя показать. Переплетчиков загудел одобрительно, что это дело стоящее. А Нестеров заявил, что ему это совсем ни к чему и он лучше свои вещи в Нижний на выставку отправит. Для него, мол, главное, чтоб его русские зрители оценили, а загранице его живопись все равно не понять.
– А сам-то как?
– Пока раздумываю. Может, что-то и пошлю. Не все же нам в собственном соку вариться!
– Дерзай, Антон, – поощрил Коровин, – может, и в Европе заметят.
На вопрос Серова о собственных делах Коровин показал ему лист ватмана с почти завершенным проектом дома с высокой крышей, похожего на те, какие видели они в северном путешествии.
– Вот так, – пояснил он, – я представляю себе внешний вид павильона Крайнего Севера в Нижнем, который Савва Иванович просил оформить, – как типичную поморскую факторию. Внутри поставим бочки с рыбой, развесим меха, рыбацкие сети, у стен – чучела зверей и птиц. А на стенах будут мои панно с видами рыбаков в море, китов, тюленей, оленьих упряжек. Эскизы готовы. А с написанием панно Досекин помощь свою обещал.
– А Врубель? – вспомнил о нем Серов. – Вы на пару павильон делаете?
– Нет, у него другие панно – тоже Савва Иванович заказал. И эскизы Миша уже сделал – вон один, «Принцесса Грёза», по Ростану.
Серов внимательно посмотрел на картон Врубеля: парусный корабль на бурном море и над ним – силуэт женщиныпризрака. Типично врубелевская вещь – романтическая, с привкусом тайны.
– А еще, – продолжал Коровин, – хочет Михаил Александрович написать для выставки панно на тему былины о Микуле Селяниновиче, как на пашне, за плугом, повстречал он воина-богатыря. И если бы только это! Наш Миша столько на себя взвалил, что днюет и ночует здесь, в этом кабинете. Взялся одновременно несколько панно писать для нового дома Алексея Викуловича Морозова, на сюжет «Фауста» Гёте. Да, сказывает, к осени другую работу надо завершить – скульптуру для особняка Саввы Тимофеевича Морозова. Я уж его укорял: «Куда ты, Миша, столько на себя берешь? Все деньги-то все равно не заработаешь. А надорваться можешь». А он свое гнет: «Нет, сумею, мне к свадьбе деньги позарез нужны!»
– Какая свадьба? – ошеломленно спросил Серов.
– Да ты впрямь ничего не знаешь? – удивился в свою очередь Коровин.
– Ничего не знаю, – с глуповатым видом признался Серов.
– Влюбился наш Михаил Александрович, – с охотой начал рассказывать Коровин, – горячо, без памяти, скоропостижно, как только он умеет. Нынешней зимой в Петербурге это случилось, когда мы с Частной оперой туда выезжали и ставили в театре Панаева «Гензеля и Гретель» Гумпердинка. Партию Гензеля Таня Любатович пела, а на партию Греты Савва Иванович по контракту местную певицу взял, Надежду Забелу. Готовы были уже к репетициям приступить – тут черт меня дернул простыть не вовремя. Пришлось Мамонтову срочно Врубеля из Москвы вызвать, чтобы он декорации завершил. Остальное со слов Тани Любатович знаю. Чуть не на первой репетиции, когда Надежда Ивановна свою партию спела, подходит к ней незнакомый мужчина, а это и есть наш Врубель, хватает ее руку, целует и восторженно говорит: «Прелестно! Восхитительно! У вас божественный голос!» Певица к такому напору, видать, не привыкла, не знает, что сказать. Тут Любатович ее выручила, представила: «Познакомьтесь, наш художник Михаил Александрович Врубель». А партнерше шепчет вслед, что человек он эксцентричный, но талантливый и вполне приличный. Самое забавное-то, что на сцене полумрак был и Врубель даже не рассмотрел Забелу как следует, но только услышал голос ее – и полюбил!
С тех пор ни одной репетиции не пропускал. Следовал за ней как тень. Представился ее родственникам в Петербурге и вот уже предлагает пассии своей руку и сердце. Она, понятно, колеблется. Устроила ему испытание: написать их с Таней Любатович портрет в ролях Греты и Гензеля. Если понравится, говорит, дам согласие. Но ты же понимаешь, Антон, какую вещь Врубель может сделать, если вся будущая жизнь его от этого зависит! Исполнил чудесную акварель. И тут уж его избраннице деваться некуда: согласилась на предложение.
Серов, ошеломленный услышанным, лишь покачал головой и спросил:
– А где же сейчас Михаил Александрович?
– Думаю, невесту встречает. Она в Рязани гостила, у отца. В эти дни должна быть в Москве проездом – едет в Швейцарию, где ее мать с младшей сестрой лечатся. У них с Надеждой, Миша говорит, все уже решено, летом свадьба. Вот Савва Иванович, из расположения к Врубелю, и нагрузил его заказами, чтобы дать возможность заработать перед свадьбой.
После разговора с Коровиным Серов продолжал думать о Врубеле. От неустроенной холостой жизни и непризнанияя своего творчества Михаил слишком пристрастился к вину, и это нередко служило предметом задиристых шуток Мамонтовых-младших. Друзья переживали, не зная, как ему помочь. Что ж, теперь в жизнь Врубеля вошла женщина с таким многообещающим именем – Надежда. Не знаменует ли предстоящий брак начало счастливого перелома в судьбе?
Накануне прибытия царской семьи в Москву на торжественную церемонию коронования в Успенском соборе город преобразился и по вечерам сиял гирляндами тысяч огней. Включение в группу художников, которым поручили готовить коронационный альбом, даровало Серову немалые привилегии: въезд на Красную площадь царского кортежа, сопровождаемого пышной свитой, он наблюдал с трибуны для почетных гостей. Рядом заняли места Виктор Васнецов, Илья Репин, Владимир Маковский, Рябушкин…
О, это было действительно красиво и величественно: гулко запевшие вдруг колокола, протяжное «ура!», волной катившееся на площадь, заполненную приглашенными, строй кавалергардов и солдат-преображенцев в парадной форме, взявших оружие по команде «на караул!», и вот, следом за лихо промчавшимся эскадроном, под рокот барабанов, на площадь выехал всадник на белом коне в форме полковника Преображенского полка. Николай II выглядел бледным и взволнованным.
У помоста, ведущего в Кремль, Николай ловко соскочил с лошади, спешилась и свита, уступая лошадей торопливо уводившим их вестовым. Государь подошел к ехавшей по его пятам золоченой карете, помог матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, выйти из экипажа. Та же процедура повторилась у второй кареты, в которой ехала императрица Александра Федоровна, и царская семья направилась в Кремль, к Успенскому собору. Дальнейшее Серов уже не видел. Из известной ему церемонии торжества он знал, что августейшее семейство обойдет собор, а потом они выйдут на Красное крыльцо и оттуда, повернувшись к ожидающей их толпе, отвесят почтительный поклон народу. Так повелось исстари, так будет и сейчас.
Сама же коронация состоялась через несколько дней, 26 мая. Облачившись в неловко сидевший на нем фрак, с саквояжем, куда были уложены художественные принадлежности, Серов загодя поспешил в Кремль и присоединился к ожидавшим выхода царской семьи. Наконец под звуки гимна и крики «ура!» одетая в пурпурную мантию с изображением орла на спине, в бриллиантовой короне сошла с Красного крыльца и направилась в Успенский собор вдовствующая императрица Мария Федоровна. Появление государя и государыни вновь сопровождалось оглушительным «ура!» и звуками гимна. В наступившей тишине послышался надтреснутый голос митрополита Московского Сергия. Серов улавливал лишь отдельные фразы: «Благочестивый государь!.. Ты вступаешь в древнее святилище, чтобы возложить царский венец и воспринять священное миропомазание… сила свыше… озаряющая твою самодержавную деятельность ко благу и счастию твоих подданных…»
Отведенное Серову место в соборе было на клиросе, в непосредственной близости от почетного помоста, куда взойдет царская семья. Беспрестанно предъявляя пропуск охране, Серов торопливо прошел на клирос. Собор, недавно отреставрированный и залитый огнями, уже заполнили гости: с одной стороны – роскошно одетые дамы, с другой – военные, сенаторы, члены Государственного совета, знатные иностранцы.
Достав один из взятых с собой альбомчиков, Серов начал рисовать внутренний вид собора и обращенную к нему часть алтаря. Наконец, следом за старичками в пышных мундирах – один торжественно нес императорскую корону, другие знамя, державу, скипетр – появились и государь с государыней. Он – в белоснежной горностаевой мантии, она – в тяжелом платье, длинный шлейф которого придерживали два пажа. По лестнице, обитой красным сукном, взошли на помост, к креслам под балдахином. Государь принял из рук приблизившегося к нему старичка бриллиантовую корону и надел на себя. Взяв другую корону, поменьше, возложил ее на голову преклонившей колени супруги. Справа от него расположилась на троне вдовствующая императрица, а слева – молодая царица…
Как бы не прозевать, беспокоился Серов, сам момент миропомазания. По предложению митрополита Палладияя Николай, с державой и скипетром в руках, стал читать коронационную молитву: «Боже… Ты избрал мя еси Царя и Судию людям Твоим…» По завершении молитвы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий, напрягая голос, огласил молитву от лица народа: «…Не отврати лица Твоего от нас и не посрами нас от чаяния нашего…» По окончании ее дружно грянул хор певчих: «Тебе Бога хвалим». Государь выслушал литургию стоя, сняв с себяя венец.
По завершении молитвы государь прошел через царские врата в алтарь и склонил непокрытую голову перед митрополитом. Несколько гофмейстеров осторожно придерживали сзади его горностаевую мантию. Приняв от Палладияя священное помазание миром, Николай вернулся на свое место. И тут же грянули колокола, пушечный салют возвестил древней столице, что таинство свершилось.
Все это время Серов торопливо зарисовывал в альбоме внутренний вид Успенского собора, митрополита в полном облачении, фигуры Николая с царицей Александрой Федоровной и сановников из их свиты…
В те же дни коронационных торжеств он сделал ряд других набросков и этюдов: толпа у собора Василия Блаженного, группа гусар, генерал верхом на коне…
Спустя неделю после коронационных торжеств, в начале июня, Серов выехал в Архангельское – подмосковную усадьбу Юсуповых. Он вез с собой тщательно упакованный портрет Александра III. Еще зимой председатель Московского общества любителей художеств, академик архитектуры Быковский передал ему пожелание графа Юсупова приобрести для своей картинной галереи портрет покойного императора, написанный Серовым, – повторение портрета из групповой картины, выполненной для харьковских дворян. Что ж, копию делать проще – Серов согласился.
Денек выдался пасмурным, с моросящим дождем. Дорогой Серов размышлял о том, что на все лады обсуждалось в Москве, – об омрачившей праздник ходынской трагедии. Говорили о тысячах пострадавших, задавленных насмерть, о трупах, спешно вывозимых на пожарных дрогах. Глухо судачили, что великое несчастье не повлияло на запланированные торжества: высшее общество, во главе с государем и государыней, веселилось на балу у французского посла.
По прибытии в имение Серов был встречен у ворот одним из служащих. Его проводили во дворец, просили обождать: граф с княгиней скоро прибудут.
Распаковав портрет и убедившись, что дождь не подмочил полотно, Серов стал рассматривать большой зал, куда его привели. Вдоль стен расставлена стильная, белая с золотом, мебель. На изящных столиках – бронзовые светильники с хрустальными подвесками. В высоких зеркалах отражаются портреты русских самодержцев – большей частью кисти зарубежных живописцев. Особенно неудачным показался огромный портрет Александра I. Белый конь, на котором гордо восседал император, напоминал деревянных ярмарочных лошадок, на каких любят кататься детишки.
В ожидании хозяев имения Серов вышел из дворца на террасу. Ровные ряды аккуратно подстриженных кустов и деревьев, со скульптурами по верху террасы и на аллеях, вели взгляд к синевшей в отдалении ленте реки. Это была красота ухоженная, четко спланированная, в которой прелесть русской природы сочеталась с изощренным искусством европейских парковых ансамблей.
Вскоре появились и хозяева. Граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, в форме офицера кавалергардского полка, важный и суховатый, с пышными усами, выглядел лет на сорок. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова выглядела моложе. Небольшого роста и легкая, в скромном, но изысканном платье. Впечатление природной грации и изящества исходило от ее облика – манеры двигаться, улыбаться лишь уголками губ и смотреть на собеседника приветливым взглядом серо-голубых глаз. Она сразу расположила к себе Серова. Тепло поздоровавшись с художником и изучив портрет, Юсупова тотчас обратилась к мужу:
– По-моему, портрет замечателен. Александр Александрович на нем как живой. Это, без сомнения, лучшее изображение покойного государя.
– Должно быть, – ободренный ее репликой, вставил Серов, – другие были совсем плохи.
Княгиня весело рассмеялась:
– Не надо скромничать. Ваш портрет действительно хорош. Ты согласен со мной, Феликс? – обратилась она к мужу?
– Н-да… – неопределенно протянул граф. – Но есть погрешности в мундире. Я дам вам фотографию императора, – сказал он Серову, – и будьте любезны, подправьте по ней мундир.
Серов к такому повороту был готов и предусмотрительно прихватил с собой всё, необходимое для работы. В знак согласия он почтительно склонил голову.
– Если, Валентин Александрович, вы не против, – предложила княгиня, – я проведу вас по дому, посмотрите на наше собрание живописи.
В коллекции Юсуповых преобладали французы, но были и другие европейские мастера. Серов не относил себя к поклонникам ни архитектурных пейзажей Юбера Робера, ни Ван Дейка, ни тем более Франсуа Буше с его слащавыми купальщицами. Но все – авторы известные, знаменитые. Чтобы доставить удовольствие хозяйке, он похвалил собрание и отметил великолепную архитектуру особняка.
– Это заслуга моих предков, – пояснила княгиня, – отца и особенно деда, князя Николая Борисовича. Он был тонким знатоком и неутомимым коллекционером произведений искусства – собирал их по всей Европе. В свое время купил это имение у Голицыных и перестроил по своему вкусу.
Из анфилады Зинаида Николаевна ввела гостя в зал, посвященный ее предкам. Серов засмотрелся на портрет молодой красавицы в пышном бальном платье серо-стального цвета, с ниткой крупного жемчуга вокруг шеи и уверенногорделивым взглядом.
– Это моя мама, Татьяна Александровна. Ее писал Франсуа Винтерхальтер, – пояснила княгиня.
– А эта дама кто? – Теперь он изучал другой женский портрет: нежный румянец на щеках, кроткое выражение лица, обрамленное короткими локонами, смотрит чуть в сторону, талия, по моде тех времен, в рюмочку. Выглядевший скромнее по сравнению с роскошным полотном Винтерхальтера, портрет был, на взгляд Серова, удачнее, теплее в характеристике модели.
– Это моя бабушка, Зинаида Ивановна Юсупова. Автор – Кристина Робертсон. – Княгине, очевидно, частенько приходилось выступать в роли гида. – Вижу, вам особенно нравятся женские портреты?
– Они, по-моему, удачнее других.
– Муж говорит, что пора бы появиться здесь еще одному. Серов, не говоря ни слова, вопросительно вздернул брови.
– Он хочет иметь в этой галерее мой портрет, – пожала плечами княгиня. – Но позировать очень тяжело, требуетсяя много сеансов, ведь так?
– Да, это нелегкий труд и для художника, и для модели.
– Тогда я и думать об этом пока не буду. Столько дел, и особенно в этом году! В связи с коронацией приходится принимать массу гостей и самим ездить на приемы. А если бы я попросила вас исполнить по фотографии портрет моего покойного отца?
– Я польщен, – пробормотал Серов, – но, по правде говоря, не люблю писать по фотографиям.
– Я вас понимаю и не настаиваю, – живо согласилась княгиня. – Но если когда-нибудь мне захочется позировать для портрета, вы не откажете? – Вопрос был задан с грациозной легкостью женщины, не привыкшей, чтобы ей отказывали, и Серов склонил голову в знак согласия:
– Буду рад услужить вам.
Про себя он подумал, что писать такую модель ему было бы интересно.
– Что ж, – лукаво улыбнулась княгиня, – когда-нибудь напомню вам об уговоре.
После осмотра коллекции дворцовой живописи Серов в сопровождении княгини вернулся в тот зал, где был оставлен портрет Александра III. Рядом с ним на столике лежала фотография покойного императора, по которой граф Юсупов просил подправить мундир.
Пока Серов занимался исправлением, в зале вдруг появился знакомый ему академик живописи Иосиф Евстафьевич Крачковский, радушно поздоровался и, догадываясь, что должен пояснить причину собственного здесь пребывания, сказал, что тоже кое-что делает для Юсуповых по художественной части и живет рядом, на даче. С Крачковским Серов встречался весной, на выставке передвижников, и тогда пейзажист отпустил ему комплимент: мол, его произведения всегда радуют, а особенно хорош портрет дамы в шляпке (имелся в виду портрет жены – «Летом»). Немного поговорили, и Крачковский предложил Серову, когда он закончит поправлять портрет, отобедать у него.
Некоторое время спустя заглянул граф и тоже предложил отобедать с ними. Отметив про себя любезность хозяев (уж, конечно, не чета они купцу Абрикосову!) и поблагодарив его, Серов извинился за отказ, пояснив, что вечером собирается заехать к добрым знакомым Мамонтовым в Подушкино.
– Ах, ну тогда передайте им вот эту карточку с приглашением на завтрашний спектакль в нашем театре, в ложу, на семь-восемь персон. На представлении будут государь с государыней, великий князь Сергей Александрович с супругой и другие гости, – как о самом обыденном сообщил Юсупов.
Перед отъездом Серов все же зашел пообедать к Крачковскому.
Неожиданное появление его в Подушкине, расположенном в 12 верстах от Архангельского, а более всего привезенное им приглашение на спектакль, который почтит вниманием императорская чета, произвели фурор. В Подушкине, на даче брата Саввы Ивановича, Серов нашел Марию Александровну Мамонтову, ее дочь Татьяну Анатольевну и мужа Татьяны, Григория Александровича Рачинского, о котором говорили, что он увлечен трудами немецкого философа Фридриха Ницше и что-то пишет о нем. Была там и младшая сестра Татьяны, Прасковья (или Параша, как ее звали близкие), – лет десять назад Серов исполнил ее портрет маслом. После долгих споров все же решили, что упускать такую возможность не следует, и к вечеру следующего дня, облачившись в подобающие событию фраки и платья, на ландо, запряженном четверкой, поехали в Архангельское. Поразила не только избранная публика, занявшая боковые ложи небольшого и уютного театра, – дамам доставляло особый интерес распознавать то одну, то другую знаменитость высшего света, а царская чета была видна в своей ложе лучше, чем сама сцена, – но и полное отсутствие зрителей в партере, превращенном в сад: на креслах были рассыпаны сладко благоухавшие чайные розы. Давали итальянскую оперу «Лалла Рук», и главные партии исполняли хорошо знакомые Мамонтовым и их кругу по выступлениям в Частной опере прославленный тенор Анджело Мазини, некогда увековеченный на полотне Серова, и шведская опернаяя звезда Сигрид Арнольдсон.
После окончания спектакля, когда высокопоставленнаяя публика разъезжалась из Архангельского, в парке раздались выстрелы невидимых пушек и небо окрасилось многоцветным фейерверком. Серов же и примкнувшая к нему компания испытывали сложные, противоречивые чувства от краткого приобщения к очень замкнутой жизни лиц, обычно не допускавших в свой круг чужаков.
Оставить Москву на несколько летних и осенних месяцев стоило хотя бы ради того, чтобы по возвращении острее ощутить различие обстановки и ритма жизни. В Домотканове, в имении Дервизов, где по традиции отдыхало семейство Серова, он наслаждался прогулками по окрестным лугам и рощам. Не считая себя, в отличие от Левитана или Дубовского, чистым пейзажистом, Серов все же старался запечатлеть скромную, но задушевную красоту сельской России. В прошлый приезд он нашел созвучный настроению мотив в картине с мальчиком-пастушком и бродящими по жнивью лошадьми. Теперь же его вдохновил на создание пейзажа вид едущей в телеге бабы – ее фигура выглядела столь же унылой, как и тянущая телегу лошадь. Серову, должно быть, приходились по душе картины внешне непримечательные, «серенькие», но полные для разгадавших их тайну особого очарования.
Чем короче дни, чем толще покров опавшей листвы под деревьями в парке, тем чаще и настойчивее вспоминаютсяя покинутая Москва, друзья, Костя Коровин, Остроухов, Мамонтовы… Константин, словно шестым чувством угадав, что приятель в приближении холодов заспешил обратно в Первопрестольную, явился к Серову и выложил ворох новостей. И прежде всего посетовал на то, что Антон не поехал с ним в Нижний.
– Что Петербург, что Москва, – азартно восклицал Коровин, – нынче летом Нижний Новгород обе столицы за пояс заткнул! Вот уж где жизнь действительно бьет ключом. И товаром разным город завалили, и веселые девицы, и театры из различных городов понаехали – и драма, и оперетки с кафешантанами, а мамонтовский театр, пожалуй, все же лучше всех был.
– Что же, Частная опера опять возродилась? – прервал друга Серов: все они сожалели о закрытии несколько лет назад мамонтовского театра.
И Константин разъяснил, что возродилась она только сейчас, в Москве, а в Нижнем Савва Иванович своего рода генеральную репетицию устроил: новую труппу набрал и открыл театр на имя Клавдии Спиридоновны Винтер, сестры Татьяны Любатович. Из Италии балетную труппу выписал, и стали давать представления – «Жизнь за царя», «Фауст»… А успеху более всего один молодой бас посодействовал, волжанин, некто Федя Шаляпин. Савва Иванович его из Мариинского театра переманил. Пришлось, правда, Мамонтову с ним поработать: и Сусанин у него поначалу как итальянец выглядел, и Мефистофель – как мелкий бес. Но мало-помалу этот Федя с партиями освоился и нешуточные аплодисменты начал срывать. Теперь же Савва Иванович его и совсем из Петербурга в Москву перетащил с помощью балерины итальянской, Иолы Торнаги, в которую Федя Шаляпин в Нижнем и влюбился.
Серов прервал:
– А что северный павильон, пользовался успехом? И как панно врубелевские приняли?
– Павильон наш, – живо подхватил приятную для него тему Коровин, – самым оригинальным на выставке был. Что же до врубелевских панно, то и с ними история вышла. Михаил Александрович не успевал, и тогда мы с Василием Дмитриевичем Поленовым, по просьбе Саввы Ивановича, подключились. Но выставочное жюри от Академии художеств все одно их забраковало. Тогда Савва Иванович – ты знаешь, его от намеченной цели не отвернешь, – построил для врубелевских панно отдельный павильон, перед входом на выставку. Да еще вход туда бесплатный устроил. Тут народ и повалил валом. Но славу Врубелю они все равно не принесли. Государь, прибыв в Нижний, глянул на них из любопытства и свите от Академии сказал, что правильно их забраковали, декадентством от них веет. Помнишь, и мне как-то на Передвижной от родителя его покойного досталось. Для них разницы нет – импрессионист, декадент, смысл один – ругательный. А с Федей Шаляпиным я тебя на днях познакомлю, – пообещал Коровин. – Увидишь, он тебе понравится.
Уговоры Коровина подействовали, и Серов не замедлил посетить новый, недавно построенный на Большой Дмитровке театр Солодовникова, который арендовал для спектаклей Мамонтов. Давали «Русалку» Даргомыжского, и, едва открылся занавес и глазам предстала исполненная неуловимой печали картина старой мельницы на берегу реки, Серов отметил: это хорошо, сделано со вкусом! Что-то безысходное, роковое проглядывало в мрачноватой декорации, напомнившей ему левитановский «Омут».
Появление на сцене высокого и крепкого телом Мельника (его исполнял Шаляпин) публика встретила аплодисментами. Поначалу слушавший оперу с некоторым недоверием – ему ли не знать, как умеют увлекаться и Мамонтов, и Костя Коровин, – Серов с каждой новой арией Мельника убеждался, что похвалы в адрес молодого артиста не преувеличены. Шаляпин обладал редким по богатству красок голосом, способным с равной проникновенностью донести до слушателей и заботливый отцовский укор, обращенный к дочери, и бессильную горечь потери, когда обезумевший седой Мельник вновь встречается с погубившим его дочь князем.
Следом шла «Рогнеда», в которой Шаляпин исполнял партию Странника. Из отцовских опер Серов более любил «Юдифь», но Шаляпин, казалось, вдохнул в «Рогнеду» новую жизнь, и это отметила критика. Рецензия «Московских новостей» завершалась многозначительным прогнозом: «…Надо думать, что из него выработается первоклассный артист, которым будет гордиться русская сцена. Для этого у него есть все данные».
Коровин сдержал слово и познакомил друга с Шаляпиным. Возможно, упомянул при этом, что его приятель – сын композитора, автора и «Рогнеды», и «Юдифи», и «Вражьей силы». Это могло произвести на Шаляпина известное впечатление, но все же завязавшейся дружбе Шаляпина с Серовым более способствовало иное. Шаляпин разглядел в новом знакомом яркую творческую индивидуальность и артистизм, что проявлялось не только в его искусстве, но и в повседневном общении. Шаляпин писал впоследствии в книге «Страницы из моей жизни»: «Меня поражало умение людей давать небольшим количеством слов и двумя-тремя жестами точное понятие о форме и содержании. Серов особенно мастерски изображал жестами и коротенькими словами целые картины. С виду это был человек суровый и сухой. Я даже сначала побаивался его, но вскоре узнал, что он юморист, весельчак и крайне правдивое существо».
В свою очередь и Серов поддался обаянию личности Шаляпина. В нем подкупало и то, что, несмотря на исключительный талант, Федор держался с друзьями просто и скромно, не пытался представить себя значительнее, чем он был.
К концу года в театре готовилась премьера «Псковитянки» Римского-Корсакова, в которой Шаляпину была доверена роль Ивана Грозного. У певца роль получилась не сразу: он мучительно искал ключ к этому сложному образу. На репетициях, случалось, рвал от отчаяния ноты: не может он, парень с Волги, воплотиться в великого царя!
Ему помогали и Мамонтов, и друзья. Серов с Коровиным отвезли Шаляпина к железнодорожному инженеру Чоколову (Серов когда-то писал портреты Чоколова и его жены), у которого были малоизвестные изображения Грозного кисти Аполлинария Васнецова. Посодействовал и приехавший из Петербурга Репин: он привез и показал Шаляпину и другим занятым в опере артистам собранную им коллекцию изобразительных материалов, представлявших эпоху Грозного, и свои наброски к картине «Иван Грозный и сын его Иван». Общими усилиями друзья Шаляпина заставили его поверить в себя, и Федор успокоился. Представленная в декабре премьера «Псковитянки» стала триумфом молодого певца.
Открывшаяся в Петербурге в начале марта 1897 года XXV, юбилейная, экспозиция Товарищества передвижных художественных выставок вызвала у Серова глубокое разочарование. Похоже, правы были те критики, кто еще несколько лет назад разглядел в передвижничестве черты явного упадка. Раздражало не только это. Уже в который раз убеждалсяя он в закостенелом бюрократизме ветеранов Товарищества, таких как Мясоедов и Владимир Маковский, с неприязнью и настороженностью относившихся к творчеству не похожих на них молодых живописцев. По этой причине и Серову непросто было вступить в члены Товарищества. На предшествующем выставке общем собрании передвижники большинством голосов не допустили в свои ряды группу москвичей – Коровина, Досекина и Пастернака.
На традиционном обеде в ресторане Донона Серов был мрачен, почти ни с кем не разговаривал. Атмосфера банкета с комплиментами в адрес друг друга казалась ему неискренней, фальшивой.
Бродя по залам петербургского Общества поощрения художеств, где была развернута выставка, он не без чувства горечи думал о том, что движение изживает себя. В отличие от прошлых выставок, где блистали Ге, Репин, Суриков, Крамской, нынешняя не радовала значительными полотнами, способными вызвать всплеск общественных страстей. Недаром же самый крупный из современных мастеров, Илья Репин, протестуя против предвзятости коллег, несколько лет назад вышел из Товарищества и ныне участвовал в выставках как экспонент. Впрочем, сам Репин форму не терял и показал два великолепных портрета – Вержбиловича и княгини Четвертинской.
Другой ветеран, Константин Маковский, тоже давно не выставлялся у передвижников. Он сделался преуспевающим салонным живописцем. На этой выставке Маковский показал типичную для салона работу – портрет некой светской дамы, г-жи M., томно возлежащей на кушетке в белом платье. Автор, очевидно, даже не ставил перед собой задачи отразить характер модели. Главное, чтобы заказчице нравилось.
Известный своими консервативными взглядами Мясоедов потерпел явную неудачу с картиной «Искушение», изображавшей Христа. Ярошенко тоже, неожиданно для многих, выставил полотно на евангельскую тему – «Иуда».
Виктор Васнецов представил картину «Царь Иван Васильевич Грозный». Личность этого царя увлекла художника еще со времени его работы над постановкой в Частной опере «Псковитянки», для которой Васнецов на пару с Коровиным писал декорации.
Осматривая выставку, Серов задержался у триптиха «Труды Преподобного Сергия» Михаила Нестерова. Впервые обративший на себя внимание «Видением отрока Варфоломея», тотчас купленным Третьяковым, Нестеров выдвинулся в число многообещающих художников.
А друг юности Илья Остроухов, в свое время обласканный передвижниками за тонкие пейзажи русской природы, выгодно женившись на богатой невесте, предпочитал отдыхать на модных зарубежных курортах. Там же без творческого запала писал пейзажи, подобные выставленному «Морю у берегов Биаррица».
Мимо собственных работ, двух написанных на заказ женских портретов (А. С. Карзинкиной и графини Мусиной-Пушкиной), Серов постарался пройти поскорее: он не был вполне удовлетворен ими. Но у картины Коровина «На даче» (молодая женщина любуется возле деревенского дома разноцветными китайскими фонариками) остановился. Тонкая, изящная по живописи, она была, пожалуй, одной из лучших на выставке. Как же можно, сокрушался Серов, отвергнуть такого даровитого художника?.. О даме, позировавшей для полотна, Коровин говорил ему, что это Анна Фидлер, хористка Частной оперы, знакомы они не один год, но недавно решили официально оформить свои отношения.
Интересным, на взгляд Серова, была картина и другого художника, тоже отвергнутого передвижниками, – «На мосту» Леонида Пастернака. Напрасно Товарищество забаллотировало их – подвел грустный итог своим размышлениям Серов. А судьи кто? А вот такие как Бодаревский: то ублажает публику пряными «Женщинами Востока», то откровенно пошлыми сценками «Ах, как жарко!» и «На свидании». Он и на юбилейной экспозиции остался верен себе, представив сусальный портрет некой г-жи Борти в роли Кармен.
Стоило ли с такой настойчивостью, думал, покидая выставку, Серов, стремиться в ряды передвижников, чтобы оказаться в одной компании с Бодаревским?
В Петербурге Серов посетил и одновременно развернутую в музее Художественного училища Штиглица выставку немецких и английских акварелистов. Она вызвала у него смешанные чувства. Здесь экспонировалось немало превосходных вещей известных на Западе мастеров – Менцеля, Ленбаха, Уистлера, умеющих создавать радующие глаз красочные симфонии. Вот бы сюда Врубеля, размышлял Серов, вспоминая любовь приятеля к акварели. Но, насколько он знал, Врубель, проведя медовый месяц в Швейцарии, теперь поселился на Украине, в Харькове, где работал декоратором в местном театре. А его жене, певице Забеле, был предложен там же ангажемент.
Однако далеко не всё на выставке акварелей было хорошо: как и на Передвижной, впечатление портило изрядное количество работ салонного характера.
Об устроителе акварельной выставки Серов узнал по возвращении в Москву от Ильи Остроухова, внимательно следившего за художественной жизнью и собиравшего вырезки из газет о всех интересных вернисажах. Это был некто Сергей Дягилев, молодой и, по-видимому, состоятельный любитель искусств. Недавно он начал проявлять себя и как художественный критик, подписывавший статьи инициалами «С. Д.».
Покопавшись в бумагах, Остроухов разыскал несколько статей из «Новостей и биржевой газеты», упомянув кстати, что Серов найдет в них оценку и собственного творчества.
Вот, например, отзыв об участии русских художников в выставке мюнхенского Сецессиона – объединения, возникшего, как некогда и передвижники, в противовес академизму. Автор сетовал на то, что русские не оправдали в Мюнхене ни его надежд, ни надежд своих немецких коллег, и впечатление от их работ оказалось более скромным, чем могло бы быть. «От пейзажей ждали широкой, бесконечной дали, русской деревни и тихого благовеста сельской церкви, ждали русской золотой ослепительной осени, ждали бурной русской весны с потоками и тающим снегом. И, Боже мой, появись „Тихая обитель“ Левитана или его же „Над вечным покоем“, или „Сергий Радонежский“ и „Монахи“ Нестерова, мы бы заставили их посчитаться с нами и согласиться, что в нас есть своя, не тронутая еще поэзия».
Азартная напористость молодого критика вполне проявлялась во фразе, заключавшей эту часть статьи: «Нам надо давить той гигантской мощью, которая так присуща русскому таланту».
Ниже следовали и оценки работ русских художников, приславших картины в Мюнхен. «Лучше других, – писал Дягилев, – вышел Серов с сильным портретом девушки в белом и с северным пейзажем с оленями, приобретенным принцем-регентом. За ним идет Левитан с четырьмя недурными пейзажами в серых тонах». Что же касается Переплетчикова и Аполлинария Васнецова, то они, как считал автор, не способствовали усилению русской экспозиции.
Конечный вывод содержал энергичный посыл в будущее. «Здесь-то, – имея в виду будущие зарубежные выставки, писал Дягилев, – и должна выступить наша молодая живопись. Но чтобы быть победителями на этом блестящем европейском турнире, нужны глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Нужно идти напролом… Отвоевав себе место, надо сделаться не случайными, а постоянными участниками в ходе общечеловеческого искусства. Солидарность эта необходима. Она должна выражать себя как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства…»
– Теперь понимаю, – обратив внимание Остроухова на этот пассаж, сказал Серов, – почему он сам взялся за организацию выставки европейских акварелистов.
Вторая статья тоже была любопытна. Отдав должное юбилейной Передвижной выставке, автор переходил к критике нынешнего этапа передвижничества с его «тенденциозностью» и «вечной анекдотичностью в искусстве, с вечным требованием идеи в живописи». По мнению Дягилева, именно молодая «московская школа» способна влить свежую струю в русскую живопись. «Отсюда… из этой кучки людей… надо ждать того течения, которое нам завоюет место среди европейского искусства. Нас там давно поджидают и в нас глубоко верят».
С радостным смущением прочел Серов лестные слова в свой адрес: «Прекрасный молодой портретист Серов, давший нам столько великолепных вещей… выставил всего лишь два небольших женских портрета». О портрете Мусиной-Пушкиной автор выразился весьма изящно: «Очень прост и красиво написан, в нем мы видим вещь, сделанную со вкусом, – качество, совсем отсутствующее у наших портретистов».
Триптих Нестерова, посвященный Сергию Радонежскому, также удостоился похвалы рецензента. Общий вывод статьи был ясен: Дягилев видел в «московской школе» многообещающий росток, который способен развиться в нечто большее и утвердить в Европе славу русского искусства, которую оно вполне заслуживает.
Закончив чтение, Серов с напускной небрежностью сказал:
– Кажется, этот любитель искусств действительно коечто понимает в живописи.
– О юбилейной он отозвался получше, чем Стасов, – пробурчал Остроухов. – Патриарх сравнил нашу выставку с горестным состоянием Москвы после нашествия Наполеона. Дягилев же пишет хлестко и запальчиво, кое-что подметил верно и кое о чем судит поверхностно, как дилетант.
Серов не стал спорить. Самолюбивого Илью, должно быть, задело, что в статьях Дягилева имя живописца Остроухова даже не было упомянуто.
Итак, имена Серова и Дягилева впервые скрестились в 1896–1897 годах, когда Сергей Дягилев начал активно пробовать свои силы на ниве художественной критики. Вскоре состоялась и их личная встреча, давшая толчок плодотворному сотрудничеству и дружбе Серова с человеком, внесшим совершенно исключительный вклад в развитие русского искусства начала XX века.
В роду Сергея Павловича Дягилева были и блестящие кавалергардские офицеры (дед и отец, дослужившийся до кавалергардского полковника), и знаменитый мореплаватель граф Ф. П. Литке, которому бабушка С. П. Дягилева по отцовской линии, Анна Ивановна, приходилась племянницей.
Классическую гимназию Дягилев заканчивал в Перми, куда семья отца переехала из Петербурга, когда Сергею исполнилось десять лет.
В семье Дягилевых любили и понимали музыку. Его отец, Павел Павлович, знал наизусть оперу Глинки «Руслан и Людмила», а тетка Дягилева, сестра его мачехи, А. В. Панаева-Карцева, была профессиональной певицей, отличалась проникновенным исполнением романсов Чайковского, и Петр Ильич ее очень ценил. В памяти Дягилева навсегда остался эпизод, как он, еще ребенком, гостил с теткой у «дяди Пети» в Клину. Неудивительно, что и сам Сергей Павлович любил музыку и особенно глубоко вошло в его душу творчество Чайковского.
В 1890 году, в возрасте восемнадцати лет, после окончания пермской классической гимназии, Дягилев для продолженияя образования приезжает в Петербург, где жила семья его тетки Анны Павловны Философовой, видной деятельницы женского движения. Через своего кузена и сверстника Дмитрияя Философова Дягилев вскоре сходится с его ближайшими друзьями, Александром Бенуа, Константином Сомовым и Вальтером Нувелем – они учились в гимназии Мая и образовали своего рода художественный кружок. Тем более что интерес к искусствам был воспитан в них с детства: в роду Бенуа были и архитекторы, и художники; отец Сомова, Андрей Иванович, был историком искусства, старшим хранителем Эрмитажа и редактором журнала «Вестник изящных искусств».
Летом Дягилев уехал с кузеном Дмитрием Философовым в заграничное путешествие, и эта поездка пробудила в нем глубокий интерес к европейскому искусству. Осенью того же года, вместе с Александром Бенуа, Дмитрием Философовым и Вальтером Нувелем, Дягилев поступает на юридический факультет Петербургского университета. А именно этот факультет, объяснял в своих мемуарах Ал. Бенуа, был избран потому, что «так полагалось»: его диплом «отворял все двери – иди служить куда хочешь». К тому же учеба не обременяла излишней нагрузкой и оставляла достаточно времени для самообразования, посещения музеев, театров, концертов.
Что касается Дягилева, то он в эти годы занимается на досуге музыкой и на этой почве сближается с Вальтером Нувелем: вместе играют в четыре руки, посещают концерты, изучают последние музыкальные сочинения, особенно Чайковского. По свидетельству Нувеля, Дягилев тяжело переживал болезнь и смерть Чайковского, по нескольку раз в день проведовал умирающего композитора и оказался у его ложа в час, когда Петр Ильич скончался.
Сергей Павлович брал частные уроки вокала и теории музыки, занимался музыкальной композицией: по одним данным, у Римского-Корсакова, по другим – у профессора Петербургской консерватории Н. А. Соколова.
Летом 1895 года Дягилев вновь, уже один, отправляется в длительную, полуторамесячную поездку по Европе, посещает Францию, Голландию, Германию, встречается и беседует, как пишет в мемуарах Ал. Бенуа, с Золя, Гуно, Массне, художниками Менцелем, Беклином, Пюви де Шаванном и другими светилами европейской культуры. Материальные заботы его не волнуют: он вступил в распоряжение материнским наследством, суммой примерно в 60 тысяч рублей, что позволяет ему с успехом изображать из себя состоятельного российского барина, щегольски одеваться, останавливаться в лучших отелях, обзавестись визитками на разных языках, удостоверяющими его аристократическое происхождение, и покупать в ателье художников понравившиеся ему работы, чаще эскизы и рисунки известных мастеров, а также антикварную мебель.
Как-то незаметно, признает Ал. Бенуа, Сергей Дягилев вдруг приобрел знания в области искусства, которые поставили его почти вровень с более просвещенными по сей части петербургскими товарищами. И хотя сам Дягилев ни в музыке, ни в живописи, в отличие от Ал. Бенуа, К. Сомова и примкнувшего к их кружку Л. Бакста (Розенберга), не был творцом, но, как признает Бенуа, обладал уже тогда уникальным качеством, «объединяющей творческой волей», и ясным сознанием того, что надо делать для дальнейшего развития русского искусства. Убедиться в этом вскоре довелось и Серову.
В начале мая 1897 года, как известно из его писем Александру Бенуа, Дягилев провел на своей квартире собрание с целью учреждения «нового передового общества». «Первый год, – сообщает он жившему в Париже Бенуа, – по постановлению бывшего у меня собрания молодых художников выставка будет устроена от моего личного имени, причем не только каждый художник, но и каждая картина будет отобрана мною. Затем будет образовано общество, которое будет работать дальше. Выставка предполагается у Штиглица от 15 января до 15 февраля 1898 года».
Из другого письма Дягилева тому же Бенуа известны дополнительные подробности об этом собрании, давшем толчок новому художественному объединению. «Бакст, – писал Дягилев, – со свойственным ему… расчетом настоял на том, что (как ты узришь из официального письма) на первый год общество не основывается и я собственной персоной, собственными деньгами и собственным потом устраиваю выставку русской молодежи. Бакста очень поддержал Серов, но с другой точки зрения. Серову до смерти надоела канцелярщина, и он в принципе ненавидит всякие общества…»
Итак, свидетельствует Дягилев, участниками собрания были Л. Бакст и B. Серов. С большой долей вероятности можно предположить, что в нем принимал участие и близкий к Дягилеву и Бенуа Константин Сомов. Был ли среди участников дискуссии кто-то еще из художников, можно только гадать.
Собираясь по делам коронационного альбома в Петербург, Серов получает приглашение от Дягилева посетить его квартиру для обсуждения вместе с несколькими коллегамихудожниками одного интересного предложения. В назначенный день он появляется в доме 45 на углу Литейного проспекта и Симеоньевской улицы. Дягилев, молодой человек двадцати пяти лет, одетый так, что сразу видно, какое внимание уделяет он собственной внешности, с короткими щегольскими усиками, с крупной головой, слегка, будто от собственной тяжести, клонящейся набок, радушно встречает прибывшего на собрание Серова. Проводит его в гостиную, обставленную антикварной мебелью, с деревянной люстрой в форме многоглавого китайского дракона, с висящими на стенах картинами современных немецких и французских художников. Знакомит с другими участниками встречи, и в том, кто был представлен ему Львом Бакстом, щуплом, рыжеволосом, Серов с немалым изумлением узнает Льва Розенберга, с которым когда-то обучался в Академии художеств. Розенберг учился на правах вольнослушателя и стал посещать Академию значительно позже, чем появился в ней Серов, что не помешало им близко сойтись и даже сдружиться – до поры, когда Серов решил, что с Академией ему надо прощаться. «Бакст», припоминает Серов, – он встречал это имя на выставке в Москве, в Обществе любителей художеств, но ему и в голову не приходило, что этого автора неплохих акварелей он знает лично. В ответ на вопрос Серова Бакст со смущенной улыбкой поясняет, что некоторое время назад он взял фамилию деда.
На комплимент Серова по поводу имеющихся в его доме произведений живописи Дягилев говорит, что в последние годы объездил чуть не всю Европу, посещал музеи, ателье художников и понемногу начал собирать собственную коллекцию. И тогда Серов замечает, что осведомлен об интересе к живописи хозяина дома по нескольким его статьям – о мюнхенском Сецессионе, где были работы и русских художников, и о юбилейной Передвижной выставке. Заодно и благодарит за теплые слова по поводу собственного творчества.
– Путешествуя за границей, – подхватывает тему Дягилев, – я обратил внимание, как смело и независимо выступают там молодые художники, – и в Париже, и в Мюнхене, и в Лондоне. Читая мои статьи, – устремляет он взгляд на Серова, – вы, вероятно, заметили мою досаду на весьма скромное представительство на выставке в Мюнхене русских художников. Так не пора ли вам, русской художественной молодежи, заявить о себе как новое художественное общество, отличное от передвижников?
И тут же Дягилев спрашивает у Серова, правда ли, что, по дошедшим до него слухам, Коровину отказали в приеме в Товарищество. И Серов подтверждает, что так и есть. Отказали не только Коровину, но и двум другим москвичам – Досекину и Пастернаку. И Дягилев воспринимает этот факт как еще одно свидетельство того, что его предложение весьма своевременно.
Последовала дискуссия. В итоге было решено, что первым шагом к организации нового общества станет, как писал Дягилев в упоминавшемся письме А. Н. Бенуа, устройство выставки молодых художников. Дягилев считал, что пригласить на нее можно и финских живописцев, брал это на себя.
В совместном обсуждении определился круг имен художников, которых желательно привлечь к участию в выставке. Кроме Серова, Бакста и Сомова в этот список вошли Ал. Бенуа, Ф. Боткин, А. Васнецов, А. Головин, К. Коровин, Е. Лансере, И. Левитан, С. Малютин, М. Нестеров, В. Переплетчиков, Е. Поленова, М. Якунчикова и некоторые другие.
В письме, отправленном Дягилевым 20 мая 1897 года художникам, вошедшим в согласованный сообща список, предлагалось принять участие в совместной выставке, а начиналось оно констатацией: «Русское искусство находится в настоящий момент в том переходном положении, в которое история ставит всякое зарождающееся направление, когда принципы старого поколения сталкиваются и борются с вновь развивающимися молодыми требованиями».
Общение по делам коронационного альбома с великим князем Павлом Александровичем обернулось для Серова заказом исполнить его портрет для лейб-гвардии конного полка. Великий князь пожелал быть изображенным в офицерском мундире рядом с вороным жеребцом.
Серова в этой работе привлекла чисто живописная задача: белый с золотом мундир модели особенно эффектно смотрелся рядом с темным крупом племенного коня. Флегматичность терпеливо позировавшего великого князя, его нежелание поддерживать во время сеансов хоть какой-то разговор были лишь на руку Серову: от дела, которым он был занят, ничто его не отвлекало.
Павел Александрович был высок ростом, имел репутацию знатока лошадей и прекрасного наездника. За свою военную карьеру он командовал и гусарами, и гвардейцами. Великий князь Александр Михайлович писал о нем в своих воспоминаниях, что «дядя Павел» был «добряк и красавец» и «самым симпатичным из четырех дядей царя». «Он хорошо танцевал и пользовался успехом у женщин и был очень интересен в своем темно-зеленом, с серебром, доломане, малиновых рейтузах и невысоких сапожках гродненского гусара. Беззаботная жизнь кавалерийского офицера его вполне удовлетворяла».
Очевидно, серовский портрет понравился великому князю, и он попросил художника исполнить портрет его дочери Марии. Серов писал девочку лет пяти-шести, как и ее отца, на открытом воздухе, на фоне сада, сидящей на стульчике в белом платье и соломенной шляпке. Рядом с ней примостился на траве небольшой черный бульдог. Из окружения великого князя Серов мог слышать, что мать Марии, принцесса Александра, дочь греческого короля Георга, умерла при родах в возрасте двадцати одного года. Однако на судьбе девочки ее сиротство едва ли сказывалось, и внешне она мало чем отличалась от своих благополучных сверстниц из многочисленной царской родни. Во всяком случае, вдохновить художника она не смогла, и портрет ее получился маловыразительным. Достаточно сравнить его с исполненным Серовым в том же году портретом сына Саши за чтением (акварель) – вот в этой работе Серов вполне проявил себя мастером в изображении детей: на портрете Саши выражены и характер, и красота модели.
Увековечить себя кистью входившего в моду живописца захотела и богатая московская купчиха Мария Федоровна Морозова, мать известных предпринимателей Саввы и Сергея Тимофеевичей Морозовых. Серов не уклонился и от этого заказа, хотя, при первой же встрече с купчихой, понял, что взвалил на себя отнюдь не легкое бремя. В широком лице Морозовой, предпочитавшей одеваться в старозаветном стиле, в темное платье, более напоминавшее бесформенный балахон, с нелепым черным бантом на голове, читались и мелкая хитрость, и прижимистость, и подозрительность к человеку, который в силу своей профессии должен пристально всматриваться в нее и искать в глубинах ее души скрытые для постороннего взгляда и не для всех очевидные добродетели. А таковые были: Морозова время от времени, особо не афишируя, жертвовала солидные суммы на благотворительность.
В отличие от великого князя Павла Александровича Мария Федоровна Морозова была не прочь, позируя час, а то и два, почесать от скуки языком, видимо, полагая, что если уж она платит этому человеку за его труд, то имеет полное право интересоваться его личной жизнью и даже по-своему комментировать ee.
– Семья-то есть у вас аль бобылем все ходите? – сладким голосом вопрошала клиентка.
– Как же без семьи, есть, – сдержанно отвечал Серов.
– А сколь детишек?
– Четверо.
– Уже четверо? – то ли радовалась, то ли огорчалась купчиха и продолжала беседу голосом еще более сладким, с оттенком сочувствия: – А много ли зарабатываете писанием? Непросто, поди, такое семейство содержать…
Едва сдерживаясь, чтобы не вспылить, Серов, обуздав эмоции, суховато отвечал:
– Не шикуем, конечно, но ничего, на жизнь хватает.
– Ты, милок, Валентин Александрович, – снисходительно к его нуждам реагировала старуха, – получше меня списывай, я тебе поболее тогда заплачу.
Ну уж дудки! – думал про себя Серов, и его рука бестрепетно отмечала кистью и хитроватый прищур правого глаза старухи, и линию рта, искривленного в елейно-сладкой усмешке.
Въедливые расспросы Морозовой нет-нет да и всплывали в памяти и дома. Купчиха угадала-таки самую болезненную его проблему. При его медлительности в исполнении заказных работ содержать семью становилось все труднее. Директор Московского училища живописи, ваяния и зодчества князь Львов неоднократно уговаривал Серова принять преподавание в одном из классов, и каждый раз он эти предложения вежливо отклонял, ссылаясь на то, что не чувствует призвания к преподавательской работе. Но в этом году, и не только из-за бесцеремонных расспросов Морозовой, материальные проблемы особенно настойчиво напоминали о себе. Под их давлением Серов все более склонялся к мысли, что надо все же дать согласие на предложение князя Львова. Гарантированная зарплата плюс квартирные подкрепят семейный бюджет. Ему, конечно, не тягаться с Чистяковым, но как художник-практик и он кое-что умеет и может коечему научить молодежь.
В хмурый осенний день Серов вошел в хорошо знакомое ему здание Училища живописи, ваяния и зодчества на углу Мясницкой и Бульварного кольца. Когда-то, после разрыва с Академией художеств и переезда в Москву, он и сам недолго занимался здесь. Его закончили Левитан, Коровин и другие известные ныне живописцы. В свое время в училище преподавали Саврасов, Перов, Поленов…
Его уже ждали, и директор училища Алексей Евгеньевич Львов провел Серова в натурный класс. Группа находившихся там учащихся, сосредоточенно работавших у мольбертов, дружно поднялась в приветствии. Серов исподлобьяя всматривался в их молодые лица, на которых читались любопытство и заинтересованность: должно быть, прослышали уже о новом преподавателе. Но что они знают о нем, видели ли его картины, имеет ли он у них как живописец авторитет?
Князь Львов был краток и говорил значительно, стараясь подчеркнуть, что не предлагает своим подопечным кота в мешке:
– Художественный совет училища после ухода в отставку Константина Аполлоновича Савицкого не мог найти более достойного ему заместителя, чем Валентин Александрович Серов. Надеюсь, что это имя вам известно и вы не хуже меня осведомлены о его значении в современной живописи. Будем считать, что всем нам повезло.
От учеников слово попросил крепкий парень с простым открытым лицом.
– Ваше имя, Валентин Александрович, – слегка покраснев и явно волнуясь, говорил юноша, – действительно нам хорошо известно, и мы не раз восхищались вашими полотнами на художественных выставках. Мы очень рады, что вы пришли к нам, и будем стараться оправдать ваши надежды.
Львов, ободряюще взглянув на Серова, покинул класс.
– Продолжайте работу, – суховато сказал Серов.
Ученики вновь вернулись к мольбертам. Они старательно рисовали углем средних лет натурщика, застывшего посреди класса в позе греческого атлета.
Должно быть, из постоянных, кто годами трется, подрабатывая, вокруг училища. Надо бы найти другого, помоложе, с ярко выраженной мускулатурой. А из этого какой атлет? Карикатура! Ничего, размышлял Серов, молча расхаживая по классу, постепенно все наладится. Среди учеников, судяя по их наброскам, талантливые ребята, кажется, есть, и он постарается научить их смотреть на модель так, как умел сам.
В твердости намерений Дягилева последовательно знакомить русскую публику с достижениями современных европейских художников Серов вновь убедился на организованной Сергеем Павловичем в середине октября выставке скандинавских художников. В чем-то, благодаря участию в ней Андерса Цорна, эта выставка явилась для Серова подлинным откровением.
О мастерстве Цорна Серов впервые услышал от Коровина. Проживая в Париже, Костя подружился с работавшим там шведом. Год назад, там же, в Париже, Цорн написал по заказу от правления Ярославской железной дороги портрет С. И. Мамонтова. Шведскому мастеру понадобилось для его исполнения всего три сеанса. Савва Иванович шутливо рассказывал, что по окончании работы он позволил себе заметить: «А где же пуговицы на пиджаке?» «И знаете, что он мне ответил? – довольно щуря глаза, вопрошал Мамонтов. – Я художник, а не портной!»
Смотреть выставку Серов отправился в Петербург вместе с Коровиным. Узнав, что на выставку приглашен и Цорн, обещал подъехать и Мамонтов.
– Вот он, Антон, – остановился Коровин у автопортрета Цорна, когда они осматривали скандинавскую экспозицию.
Цорн изобразил себя в мастерской. Одетый в просторную белую блузу, с папиросой в левой руке, он внимательно смотрел прямо на зрителя. Лицо художника, с короткой прической и пышными усами, выражало ум и сосредоточенность. Свет падал на его фигуру справа, оставляя в полумраке ббльшую часть комнаты, в глубине которой виднелась отдыхающая в кресле натурщица.
Виртуозное владение световыми эффектами отличало и другие работы Цорна – офорт «Вальс», акварель «У Максима»: огни ночного ресторана бросают отблеск на влажную после дождя мостовую; уличный фонарь выхватывает из темноты фигуру и густо накрашенное лицо молодой женщины, каких именуют «ночными бабочками» или «жрицами любви».
Цорн был представлен на выставке наиболее масштабно, и все его работы демонстрировали могучий темперамент автора, способного в, казалось бы, обыденном увидеть правду жизни и донести ее до зрителя. И этой своей стороной он был близок Серову с его поисками «отрадного». С равным мастерством Цорн живописал белую северную ночь с ее призрачным светом, озаряющим крестьянку в лодке, гребущую к берегу, и дружескую вечеринку пожилой мужской компании, и осторожно спускающуюся по камням обнаженную купальщицу, и солнечные блики у бортов отдыхающих в гавани кораблей.
В душе Серова особенно благодарный отзвук нашли тонкие портретные работы Цорна, его умение раскрыть внутренний мир человека.
Выставку в Петербурге заметили и оценили побывавшие на ней художественные критики. «Новости и биржевая газета» отмечала: «Первое, что поражает на открывшейся у нас скандинавской выставке, – это огромное количество картин, которые принадлежат музеям и коллекциям Швеции, Норвегии и Дании. Музеи этих стран открыли свои двери и послали в Россию много произведений, никогда до того времени не выходивших из их стен».
Мастерство Цорна отметил рецензент журнала «Всемирная иллюстрация» В. Чуйко. «В Швеции, – писал он, – есть один великий портретист, и нельзя не порадоваться обстоятельству, что благодаря скандинавской выставке мы с ним познакомились. Этот портретист – Цорн. Он выставил целых 27 картин, и каждая из них интересна в каком-либо отношении. Решительно г. Цорн изучил человеческое лицо как никто, может быть, из живущих ныне художников. Каждый его портрет – целая поэма. При удивительной способности воспроизводить натуру во всех ее мельчайших проявлениях, он имеет редкий дар схватывать индивидуальность и оживлять лицо тем внутренним светом, который называется жизнью».
Вместе с группой петербургских художников Серов, Коровин и приехавший Мамонтов чествовали Цорна на банкете, организованном в ресторане Донона. Сидевшего рядом с устроителем выставки С. П. Дягилевым героя торжества первым приветствовал от имени его русских коллег Репин. Говорил горячо, увлеченно, с присущей ему экспансивностью, именуя Цорна «первым художником-виртуозом Европы», «Паганини живописи». Цорн, внимая неумеренно восторженным комплиментам, добродушно улыбался в усы.
Поднявшийся вслед за Репиным Дягилев, элегантный, как лорд, произнес тост в честь уважаемого гостя по-французски, был лаконичен, но отметил восторженный отклик, который искусство скандинавских мастеров находит в сердцах российской публики.
Цорн, поблагодарив за гостеприимство и отметив общность задач, стоящих перед русскими и скандинавскими художниками, предложил ответный тост за самого именитого из хозяев – Репина и вручил ему в подарок один из своих офортов.
В конце банкета, когда готовились расходиться, Серов подошел к Дягилеву и спросил его, как идут дела с намеченной выставкой русских и финляндских художников.
– Превосходно! – заверил Дягилев. – Я получил согласие на участие в ней почти всех, кого хотел привлечь. В ноябре еду в Москву отбирать работы и уже думаю об организации художественного журнала, призванного сплотить свежие творческие силы. Сейчас главное – найти деньги на его издание. Вероятно, поможет княгиня Тенишева. Перед банкетом я говорил на ту же тему с Мамонтовым. Кажется, его тоже удастся уломать. Савва Иванович, правда, ставит условие, чтобы журнал не замыкался на «чистом искусстве», а отражал и успехи в развитии художественных промыслов. А почему бы и нет? – покоряюще улыбнулся Дягилев и добавил: – Для нас это отнюдь не препятствие, не правда ли?
Серов согласно кивнул головой. Прекрасная организацияя этой выставки убедила его, что Дягилев не из тех людей, кто бросает слова на ветер и сворачивает с полдороги при возникшем препятствии.
Обратно в Москву возвращались в компании Мамонтова и Цорна: Савва Иванович уговорил шведа посетить древнюю столицу и заодно один из спектаклей его любимого детища – Частной оперы.
После отъезда Цорна на родину Коровин рассказал Серову некоторые подробности о пребывании шведского гостя в Москве:
– Как поразил его наш Федя Шаляпин в роли Мефистофеля! Такого Мефистофеля, признал Андерс, нет во всей Европе. А в галерею к Третьякову вместе с Василием Дмитриевичем Поленовым его водили. Василий Дмитриевич показал Андерсу своего «Христа с грешницей». Ждал, должно быть, одобрения. А Андерс на небольшой поленовский этюдик засмотрелся – зимний вид на Севере – и говорит: «Вот прекрасная вещь, дивные краски!» С Поленовым же и на званом вечере были у князя Голицына, и там образованные дамы в тупик нашего гостя поставили рассуждениями о том, как, мол, плохо пишут французские импрессионисты. Да где же им знать, что и Цорн у этих самых французов кое-чему научился! Он им и ввернул: «Веласкес, сударыня, тоже импрессионист был, и мой русский друг тоже» – на меня показывает. Те глазками смущенно и заморгали: «Да что вы! Не может быть!» А я, на их ошеломленные личики глядя, едва от смеха удержался. Так хорошо все было, да эти светские дамочки с их пещерными представлениями об искусстве визит и смазали.
Вскоре после скандинавской выставки Дягилев приехал в Москву отбирать картины для новой масштабной экспозиции, совместной с финнами. При встрече с Серовым сказал, что заинтересован как можно шире представить его творчество и иметь в виду, что лучшие работы, показанные в Петербурге, отправятся затем в Германию, на выставку мюнхенского Сецессиона.
Встречаясь в Москве с коллегами-художниками, Серов слышал о визитах к ним Дягилева и о том, как настаивал Сергей Павлович на своих предпочтениях в выборе картин и портретов для выставки.
– В нем есть что-то диктаторское, – выразил свое мнение Коровин.
Остроухов же, хотя к самой идее этой выставки отнесся скептически и ничего предлагать для нее не стал, был покорен музыкальностью Дягилева и рассказал Серову:
– Он пришел не совсем вовремя: у меня как раз была компания, все люди, понимающие в музыке, и разговор соответственный. А он и обмолвился о своей музыкальной страсти и что сам поет. Мы упросили. Спел несколько арий, романсов. Отменный голос, баритон, никто не ожидал.
Этот рассказ лишь подтвердил впечатление Серова о Дягилеве как о человеке не только энергичном, умеющем добиваться своего, но и тонко чувствующем, артисте в душе.
Посещение Частной оперы, особенно с тех пор, как в ней стал выступать Шаляпин, превратилось для Серова во внутреннюю потребность. Он находил здесь необходимую ему творческую среду, атмосферу увлеченных поисков нового. Незаметно он перешел с Шаляпиным на «ты» и однажды, когда певец был свободен, быстро исполнил углем его портрет. По завершении работы шутливо сказал: «Когда тебя, Федя, будут изображать для истории другие, не забудь напомнить им, что Серов был все же первым».
Зайдя как-то на репетицию, Серов увидел за дирижерским пультом незнакомого ему высокого молодого человека. Новичок держался суховато, с подчеркнутой строгостью, то и дело поправлял оркестрантов, иногда нетерпеливо садился за рояль и, демонстрируя, что именно следует подчеркнуть, наигрывал оперную мелодию. Его длинные пальцы извлекали из инструмента звуки поразительной сочности. И весь его облик, с крупными чертами лица, короткой прической, слегка прищуренными внимательными глазами, выдавал, несмотря на, может быть, нарочитую внешнюю холодность, натуру впечатлительную, способную к глубоким чувствам.
На вопрос Серова о незнакомце ему ответили, что это недавно приглашенный Мамонтовым в театр вторым дирижером выпускник консерватории и, кажется, композитор Сергей Васильевич Рахманинов. Талантлив, но с характером, недавно сцену устроил: в сердцах бросил дирижерскую палочку и прекратил репетицию, когда увидел, что одна из певиц не реагирует на его замечания. Похоже было, что новый сотрудник Мамонтова неуютно чувствовал себя в оперном коллективе, и, надо думать, отсутствие взаимопонимания с оркестром и певцами лишь обостряло его одиночество.
Той же осенью в Москве объявился с женой Михаил Александрович Врубель. Мамонтов, видимо, по достоинству оценил прошлое сотрудничество с Забелой в спектакле «Гензель и Гретель» и тут же предложил певице вступить в его труппу.
За месяц до Нового года в театре пронесся радостный слух, что Римский-Корсаков предоставил Частной опере право на первую постановку недавно сочиненной им оперы «Садко». Прослушивание ее организовали в большом кабинете Мамонтова в доме на Садовой-Спасской. Клавир привез музыкальный критик, заведовавший репертуарной частью театра Кругликов. Он сам сел к роялю и начал игру. Музыка покоряла песенностью, фольклорными мотивами. Сразу началось распределение ролей, и Секар-Рожанский попробовал исполнить полюбившуюся ему арию Садко. Шаляпин напел арию Варяжского гостя. И, едва он умолк, зазвучал переливчатый, богатый оттенками голос Забелы-Врубель, исполнившей одну из арий Морской царевны – Волховы. Что-то потустороннее, неземное было в ее пении, созвучном образу фантастической дивы.
Напомнили о себе и художники, и Коровин с пафосом заявил, что уже видит картину Торжища, костюмы купцов и образ Волховы. Но тут вмешался и Врубель: «Волхову лучше оставь мне. Я сам сделаю ее костюм». Мамонтов же примиряюще заключил: «Пусть каждый делает, что может. Будем творить сообща». Серову же оставалось лишь пожалеть, что его помощи в этом совместном творчестве никто не просит.
Готовясь к открытию выставки русских и финляндских художников, намеченному на середину января 1898 года, Дягилев, безусловно, собирался дать серьезный бой давно действующим художественным экспозициям как Товарищества передвижников, так и последователям академической живописи. Продумано было все до мелочей – и это стало для Дягилева традицией при организации в будущем выставок «Мира искусства» – от зала, декорированного оранжерейными цветами, до музыки оркестра в торжественный день вернисажа. По воспоминаниям А. Н. Бенуа, на церемонию открытия пожаловала почти вся царская фамилия с обеими императрицами и императором во главе. «При вступлении их в зал, – писал А. Н. Бенуа, – грянул помещенный на хорах оркестр. Мне довелось… „водить“ то одного, то другого из царственных посетителей, в частности, в. к. Елизавету Федоровну, ее супруга в. к. Сергея Александровича, государыню Марию Федоровну и почтенного в. к. Михаила Николаевича. Все они отнеслись к выставке с тем ровным „рутинным“ квазивниманием, которое входит в воспитание „высочайших особ“, очень редко высказывающих свое действительное одобрение или неодобрение».
Из русских художников наиболее масштабно были представлены на выставке Константин Коровин с девятнадцатью работами, и Серов – он показал пятнадцать картин, тогда как для открывшейся месяцем позже Передвижной выставки оставил лишь два портрета – итальянского певца Таманьо и купчихи Морозовой.
Выставку, безусловно, украшали полотна самобытного художника Андрея Рябушкина, красочно воссоздавшего в своих картинах русскую старину, – «Улица в Москве в XVII веке» и «Отдых царя Алексея Михайловича во время соколиной охоты».
Вероятно, благодаря содействию Серова и Коровина к участию в выставке был привлечен и Михаил Врубель, но он, однако, был представлен малоудачным панно «Утро», отвергнутым заказчиком, и двумя скульптурами, носившими экспериментальный характер.
«Несколько слабее обыкновенного, – вспоминал о выставке Бенуа, – был представлен Левитан, приберегший более значительные свои работы для Передвижной выставки, с которой он не собирался порывать, тогда как Серов почти не скрывал того, что „передвижники ему надоели“ и что его тянет к какой-то иной группировке, подальше от всего, что слишком выдает „торговые интересы“ или „социальную пропаганду“».
Бенуа далее пишет об отношении Серова к Дягилеву, имея в виду, конечно, не только момент открытия выставки русских и финляндских художников, но и более поздние времена, относящиеся к становлению и развитию объединения «Мир искусства». «Серов, – по словам Ал. Бенуа, – тогда переживал эпоху особого увлечения личностью Дягилева. Ему нравились в нем не только его размах, его смелость и энергия, но даже и некоторое его „безрассудство“. Не надо забывать, что в Серове таился весьма своеобразный романтизм (вспомним хотя бы его увлечение Вагнером). Наконец, он любовался в Сереже тем, что было в нем типично барского и шалого. То была любопытная черта в таком несколько угрюмом, медведем глядевшем и очень ко всем строгом Серове. Впрочем, его часто пленяли явления, как раз не вязавшиеся с тем, что было его собственной натурой. Не отказываясь от своей привычной иронии, он, однако, не скрывал, что вообще пленен некоторыми чертами аристократизма. Его тянуло к изысканным туалетам светских дам, ему нравилось все, что носило характер праздничности, что отличалось от серой будничности, от тоскливой „мещанской“ порядочности. Дягилев, несомненно, олицетворял какой-то идеал Серова в этом отношении».
На выставке Серов делился с Бенуа своим возмущением по поводу поведения некоторых посетителей, открыто зубоскаливших у работ, вызывавших их непонимание и протест, и это прежде всего относилось к работам Врубеля.
– Имеете в виду вон тех чиновников? – Бенуа близоруко щурился за стеклами очков. – Так это, Валентин Александрович, еще цветочки. Один важный генерал чуть не каждый день приходит – посмеяться, душу отвести. А вчера, говорят, некий господин скандал учинил, обратно свои деньги потребовал: не потерплю, мол, такого издевательства над почтенной публикой.
С помощью следивших за отзывами прессы друзей Серов прочитал весьма проницательный отзыв о выставке художественного критика газеты «Новое время» Кравченко. Он докопался-таки до глубинного смысла дягилевской экспозиции и задался резонным вопросом: почему такие художники, как Серов, Аполлинарий Васнецов, Коровин, Пастернак, выставили здесь столько хороших вещей, когда через месяц должна открыться Выставка передвижников, где они обычно экспонируют, а некоторые и состоят при этом членами Товарищества? Неужели они порвали с передвижниками и ищут иное пристанище? Или показывают здесь лишь мелочь? Но достаточно, продолжал критик, поглядеть на прекрасный портрет великого князя Павла Александровича, написанный Серовым со вкусом и мастерством первоклассного художника, чтобы убедиться в неуместности подобного вывода. Этот портрет, как и другие работы Серова, как картины Коровина и эскизы для постановки «Хованщины» Аполлинария Васнецова, – высокохудожественные вещи. Вопрос: не тесно ли этим художникам на Передвижной?
Передвижники, по мнению Кравченко, сделали свое дело, и концепция их движения кажется отжившей свой век. Кричащий социальный сюжет уже не привлекает молодых художников. Неизбежна борьба на почве различных представлений об искусстве. Молодые живописцы пока не могут прийти к объединению, но силы их растут, их ропот все громче. Недовольство «стариками» на Передвижной выразилось давно. И вот «налицо немой, но сильный по мимике протест Серова, К. Коровина, А. Васнецова» и других. Похоже, они ищут иную опору и уже нашли ее.
Да и пропустили бы, сомневался Кравченко, передвижники такие полотна, как парижские этюды Коровина, акварель «Горец» Серова? Они ведь кажутся незавершенными. А на Передвижной критерий иной: пусть холст будет вылизан, недосказанности там не терпят.
Хлестко написано, размышлял Серов. Автор ударил в самое больное место Товарищества – определившиеся в последние годы догматичность движения, недоверие к инакомыслящим. Стерпит ли и эту выставку, и статью Кравченко Стасов, верный пропагандист и заступник передвижников?
Стасов действительно не стерпел и вскоре с присущим ему размахом ударил по дягилевской экспозиции, пощадив лишь немногих. Главной мишенью маститого критика стал Врубель. Трижды «чепуха» и трижды «безобразие» – таково было краткое заключение Стасова о панно «Утро». Заметив на нем табличку «Продано» (панно по совету Дягилева приобрела для своего особняка на Английской набережной княгиня Тенишева), Стасов скорбно заметил: «И есть же на свете такие несчастные люди, которые могут способствовать этому сумасшедшему бреду…»
Для двух скульптурных работ Врубеля критик тоже не пожалел бранных слов: «возмутительно», «безобразно», «гадко». Стоило ли удивляться его конечному мнению: «…видано ли у самых отчаянных из французских декадентов что-нибудь гаже, нелепее и отвратительнее, что нам тут подает г. Врубель?»
Досталось от критика и финнам. Кроме некоторых картин Эдельфельта все остальные вызвали у Стасова впечатление «безобразия и ужаса». В «оргии беспутства и безумия» Стасов сделал исключение лишь для некоторых «хороших и талантливых художников» и выразил недоумение, почему же такие как Серов, А. Васнецов, Левитан и Рябушкин, оказались «среди декадентских нелепостей и безобразий».
Получил свое от критика и Дягилев: Стасов назвал его сборщиком «декадентского хлама», взявшим на себя обязанности «декадентского старосты».
– Нет, каково! – поделился с ним Серов возмущением по поводу статьи Стасова. – Это уж, право, чересчур!
– А вы ожидали чего-то другого? – с иронией ответил Дягилев. – А вы не думаете, что это может сослужить нам неплохую службу? Скандалы возбуждают интерес. Это отличная реклама. Отступать, слыша подобную ругань, мы не должны. Напротив, мы должны увериться, что стоим на правильном пути.
После Петербурга с его выставочной суетой тихое провинциальное Домотканово вновь давало необходимый отдых душе. Серов неторопливо гулял по тропе, проложенной от усадебного дома к зданию школы, где жил летом вместе с семьей. Она вилась через сад, мимо замерзших в зимней спячке яблонь – их ветви клонились под тяжестью налипшего снега. Если же идти от школы дальше, выходишь к прудам. В летнюю пору, со стрекотанием кузнечиков в зарослях трав и млеющими на солнце лягушками, все здесь полнилось жизнью. А сейчас – словно мертвое царство. Но и в этой застывшей, казалось, природе было свое очарование, и вскоре Серову захотелось запечатлеть пастелью картину, которую он наблюдал утром из окна верхнего этажа дома: край присыпанного снегом балкона, неяркая полоска света над темным лесом вдали, изломанная линия забора, отделяющего усадебный двор от поля, и там, в белом поле, неторопливо скользят по полю крестьянские сани.
А когда он поделился с Дервизом намерением написать типичную сельскую сцену – молодую бабу, держащую под уздцы лошадь, – по окрестным деревням был брошен клич с приглашением попозировать. Желающих набралось с десяток, и Серов выбрал из них чернобровую молодку характерного славянского типа. В рыжеватом теплом армяке, с красным платком на голове, круглолицая и румяная от мороза, она являла облик той России, которая здесь, в Домотканове, была особенно мила художнику. Поначалу смущавшаяся девица выглядела чересчур серьезной, но вертевшийся рядом хозяин избы, на фоне которой она позировала с косматой смирной лошадкой, известный деревенский балагур, по просьбе Серова повеселил бабу шутками-прибаутками, и на ее лице появилась необходимая для полноты картины белозубая улыбка.
– Ну вот, Владимир Дмитриевич, – шутливо сказал, прощаясь перед отъездом с Дервизом, Серов, – не зря я к тебе заехал: рублей на триста-четыреста этюдов здесь написал.
Дервиз лишь понимающе усмехнулся: он-то знал, что в данном случае для Серова важнее иное.
Из Петербурга лучшие картины с выставки русских и финляндских художников были отправлены Дягилевым в Мюнхен, на выставку Сецессиона. Очевидно, в связи с этим в Мюнхен съездил по просьбе Дягилева и Серов. Находясь в городе, памятном ему по пребыванию здесь вместе с матерью и в детстве, и во время студенческих каникул, он посетил известную в городе и далеко за его пределами художественную студию Антона Ашбэ. Занимавшийся там И. Э. Грабарь вспоминал об этом появлении в студии Серова: «Он очень внимательно, долго рассматривал наши рисунки, которые нашел серьезно штудированными. Он расспрашивал о системе Ашбэ, сравнивал ее с чистяковской и нашел, что между ними немало общего… Ашбэ высоко ценил портреты Серова, выставленные на последней выставке мюнхенского Сецессиона, и был очень польщен, когда Серов стал ему расхваливать наши рисунки. Живописью нашей он не вполне был доволен и был, конечно, прав. В самом деле, в Сецессионе все мы видели его эффектный портрет великого князя Павла Александровича, в конногвардейских латах, с конем, и тонкий по живописи портрет М. К. Олив, взятый в полутоне. Куда же нам было тягаться с этим огромного, европейского калибра мастером?.. Серов произвел на всех отличное впечатление своей скромностью, неудовлетворенностью своими собственными вещами, снисходительностью к другим и глубиной своих суждений. Он говорил то, что думал, не лукавя и не делая комплиментов…»
После Мюнхена картины русских и финляндских художников были показаны в Дюссельдорфе и Кёльне. В иллюстрированном приложении к газете «Новое время» Дягилев поместил статью, в которой суммировал отклики немецкой прессы на экспозицию из России. Их тон был весьма благожелательным. Одна из ведущих мюнхенских газет выделила работы Серова, и Дягилев цитировал в статье мнение рецензента: «Особенного внимания заслуживают три портрета Серова, отличающиеся отсутствием всякой условности и поражающие зрителя своей непосредственностью, жизненностью и ясной характеристикой. В их смелой трактовке чувствуются необыкновенная уверенность и поразительнаяя техника, шутя преодолевающая все препятствия». Наряду с портретом в. к. Павла Александровича критик выделил и показанный на выставке портрет Веры Мамонтовой, «Девочки с персиками». Отметил он и пейзажи Серова, в частности «Заросший пруд».
Дягилеву, вероятно, особенно понравилось, что в ряде отзывов подчеркивалась национальная специфика и самобытность современной русской живописи, и он с удовольствием приводит эти слова: «Космополитические тенденции немецкого искусства могли бы заимствовать у русских ту уверенность, что только родина дает искусству крепкое основание и силу, чужая же страна есть лишь поле для изучения. Благодаря своей самостоятельности русские могут в истинно национальном искусстве выразить свою народность и свою страну, что редко удается художникам других наций. Не рабское подражание природе обеспечивает этим произведениям серьезный успех, а сильно выраженная в них любовь художников к своей стране».
В начале весны Мамонтов решил везти свою оперную труппу в Петербург. Вряд ли Савва Иванович заранее планировал эту поездку, но вмешалась беда: в январе в здании театра на Большой Дмитровке, где давали спектакли Частной оперы, вспыхнул пожар. До окончания ремонта пришлось переселиться в другое помещение, а потом Мамонтову пришла мысль о гастролях. Серов присоединился к труппе.
Так уж получилось, что в петербургском репертуаре Частной оперы преобладали произведения Римского-Корсакова – «Садко», «Псковитянка», а также «Снегурочка» и «Майская ночь». И Мамонтов, и впервые увидевший постановку «Садко» еще в Москве Римский-Корсаков были настроены немножко нервно: как-то воспримет спектакль петербургская публика? Тем более что рядом с консерваторией, где проходили гастроли Частной оперы, в Мариинском театре шли оперы Вагнера в постановке немецкой труппы – «Тристан и Изольда», «Валькирия», «Зигфрид», «Тангейзер», и петербургская знать, кажется, предпочла Вагнера отдававшим, по мнению некоторых аристократов, «сермяжным духом» отечественным операм. Но истинные знатоки и поклонники русской музыки шли на мамонтовские спектакли и отнюдь не были разочарованы. Откровением для них стало и превосходное декорационное оформление, и исполнительское искусство Шаляпина и Забелы-Врубель. Неугомонный Стасов посчитал своим долгом публично встать на защиту еще в Москве восхитившего его Федора Шаляпина. А Римский-Корсаков, помимо Шаляпина, высоко оценил и Забелу-Врубель, и особенно близким оказалось ему исполнение Забелой партии Морской царевны – Волховы в «Садко». Композитор увидел в кристально чистом и будто неземном голосе певицы идеальное воплощение созданного им музыкального образа.
Савва Иванович Мамонтов стал как-то свидетелем теплой беседы Римского-Корсакова с Надеждой Ивановной Забелой, после чего задумался и предложил композитору:
– Хорошо бы, в пору нашего сближения, написать, Николай Андреевич, ваш портрет.
Композитор пошутил:
– Сами, что ли, писать собираетесь?
– Зачем же? – лукаво сощурился Мамонтов. – Есть тут со мной отменные живописцы, тот же, например, Серов, сын Александра Николаевича Серова.
– Что ж, пусть попробует, – согласился Римский-Корсаков, – портрет покойного отца он когда-то хорошо написал.
Серов начал работу над портретом композитора утром 6 марта 1898 года в квартире Римского-Корсакова на Загородном шоссе. И о том, что портрет Серовым начат с первоначального наброска углем, сохранилась дневниковая запись близкого к Римскому-Корсакову поклонника его творчества В. В. Ястребцева. Тот же Ястребцев, уже в середине апреля, поведал в дневнике об обстановке, в какой писался портрет: «Кроме меня, у них (Римских-Корсаковых) были Кругликов и Валентин Александрович Серов (сын композитора), который рисовал углем портрет Николая Андреевича. Римский-Корсаков с комической серьезностью уверял Серова, что ему ужасно хочется на портрете казатьсяя моложе, а главное, он желает, чтобы сюртук и галстук были посинее. Вообще, много смеялись».
Очевидно, Серов с той же шутливой серьезностью отвечал, что до сих пор слышал подобные просьбы лишь от молодящихся дам и всегда их игнорировал. Не намерен отступать от своих принципов и сейчас.
В двадцатых числах апреля, когда Серов еще продолжал работать в Петербурге над портретом Римского-Корсакова, пришло радостное для него известие из императорской Академии художеств. На общем собрании Академии 23 марта он был удостоен по результатам голосования звания академика. Его кандидатуру, как было известно Серову, выдвинули еще в феврале действительные члены Академии Матэ, Репин и Чистяков. На том же собрании в академики были приняты Левитан, Касаткин, Архипов и Дубовской. Любопытны результаты голосования. За Серова и Левитана было подано наименьшее число голосов – по 29. Тогда как за Касаткина было отдано 34 голоса, за Архипова – 35, а за Дубовского – 40. Это, разумеется, отнюдь не говорит о том, что Серов и Левитан были менее талантливы, чем их коллеги. Но, очевидно, кое-кто из академиков припомнил им участие в подвергнутой критике выставке русских и финляндских художников, а Архипов, Касаткин и Дубовской в этом грехе замечены не были.
Работу над портретом композитора Серов завершил лишь в начале мая, что и зафиксировал в дневнике летописец жизни Римского-Корсакова В. В. Ястребцев в записи от 9 мая: «Римский-Корсаков был в отличном настроении. Говорили, как и всегда в подобных случаях, о всякой всячине: о чудно написанном Серовым и уже совершенно законченном 5 маяя и даже взятом от них портрете Николая Андреевича, который, в общем, необыкновенно удался Валентину Александровичу и как портрет далеко оставил за собою репинский».
В Москве Серов предложил взглянуть на портрет Павлу Михайловичу Третьякову, и Третьяков без долгих раздумий приобрел его для галереи за тысячу рублей.
Летом Серов, по приглашению Мусиных-Пушкиных, гостил в их имении в Борисоглебске. По просьбе хозяйки имения, графини Варвары Васильевны Мусиной-Пушкиной, Серов пишет ее новый портрет. Три года назад он уже писал ее сидящей в комнате на диване, и тот портрет обратил на себя внимание Дягилева. На сей раз графиня пожелала, чтобы художник написал ее на пленэре. Что ж, разнообразие интересно, Серов не возражал.
Попутно, проживая в имении, он занимался начатым несколько лет назад и все более увлекавшим его иллюстрированием басен Крылова. Одновременно исполнил в технике гравюры собственный, очень интересный автопортрет, изобразив себя в светлом костюме с черным галстуком-бабочкой, испытующе смотрящим прямо на зрителя.
Осенью, по возвращении в Москву, Серов услышал от Коровина, как весело была отпразднована свадьба Федора Шаляпина с балериной Иолой Торнаги. Это произошло летом, в сельской глубинке Путятино, на даче солистки Частной оперы Татьяны Любатович во Владимирской губернии. Венчались в приходской церкви соседнего села, после чего вернулись в Путятино, где был устроен свадебный пир на коврах. Свидетелями этого торжества были, помимо Коровина, С. И. Мамонтов и Рахманинов: там, в Путятине, Сергей Васильевич помогал Шаляпину работать над партией Бориса Годунова для постановки одноименной оперы Мусоргского.
Но в начале театрального сезона Мамонтов запланировал показать «Юдифь». Серов как оформитель оперы отца работал над спектаклем вместе с Шаляпиным – Федору поручалась главная роль ассирийского военачальника Олоферна. Серову хотелось отойти от постановки «Юдифи» на сцене Мариинского театра, где знаменитый баритон Корсов играл что-то очень далекое от дикого нравом воина, каким, скорее всего, надлежало выглядеть библейскому Олоферну. Дляя репетиций сходились в кирпичном флигеле на той же Долгоруковской улице, где Коровин с Серовым держали мастерскую, по соседству с домом, занимаемым Татьяной Любатович. В этом флигеле поселились Шаляпин с молодой женой. Там стоял рояль, уцелевший после пожара в театре Солодовникова и подаренный Шаляпину Мамонтовым.
Об этой совместной с Серовым работе Федор Иванович вспоминал в книге «Маска и душа»: «Я готовил к одному из сезонов роль Олоферна в „Юдифи“ Серова. Художественнодекоративную часть этой постановки вел мой несравненный друг и знаменитый наш художник Валентин Александрович Серов, сын композитора. Мы с ним часто вели беседы о предстоящей работе. Серов с увлечением рассказывал мне о духе и жизни древней Ассирии».
Чтобы глубже погрузиться в далекую эпоху, Серов вместе с Шаляпиным изучал по альбомам репродукции барельефов и росписей тех времен, обращая внимание на стянутые обручами головы сановников, их разделенные на пряди бороды, на оружие и детали одежды. Его внимание привлек характерный жест, каким царь на одном из барельефов придерживал чашу за днище вытянутыми пальцами правой руки. И тут его осенило:
– Смотри, Федор, как должен двигаться твой герой.
Взяв в руки чашу, как изображал барельеф, Серов медленно, величественно прошелся по комнате. Присутствовавший при отработке сцены Мамонтов одобрительно сказал:
– А ведь верно! Попробуй-ка, Федя, повторить, но пластика движений должна быть более резкой, с расчетом на сцену.
Шаляпин прошествовал по комнате и возлег с чашей на диване.
– Вот так! Это уже ближе к Олоферну! – похвалил Мамонтов.
Шаляпин тоже был доволен наконец-то схваченным рисунком образа и пообещал:
– В этой роли я буду страшен.
И это ему действительно удалось. Критики отмечали не только выразительное пение и богатство интонаций артиста, но и историческую достоверность костюмов, искусство грима. Из декораций, выполненных Серовым вместе с Коровиным, особенно похвалили шатер, где происходит оргия Олоферна. На премьере спектакля, что случалось не часто в мамонтовском театре, Серов, как один из виновников успеха, был удостоен аплодисментов наряду с Шаляпиным. Пришлось выйти из-за кулис и тоже отвесить поклон публике.
Дягилев же все лето посвятил подготовке первых номеров журнала «Мир искусства» – так его было решено назвать. Ему удалось уговорить княгиню Маргариту Клавдиевну Тенишеву и Савву Ивановича Мамонтова оказать финансовую поддержку журналу и выступить его издателями. Мамонтов и Тенишева брали на себя расходы поровну, по 15 тысяч рублей каждый. Дягилев без раздумий согласился на условие отражать в журнале развитие кустарной и художественной промышленности России.
Его хлопоты, беспрестанное тормошение всех, причастных к выпуску журнала, наконец-то увенчались успехом. В ноябре Серов получил от Сергея Павловича первый номер «Мира искусства». Обложка с орнаментом, выполненным Коровиным, смотрелась несколько блекло, но шрифт, заставки, качество иллюстраций были совсем недурны. Из русских художников в этом номере широко репродуцировались работы Виктора Васнецова – «Богатыри», «Пруд», эскизы «Витязя у трех дорог» и «Битвы скифов», а также росписей Владимирского собора. Хорошо был представлен и Левитан – «Тихая обитель», «Последние листья», «Март». На вклейке Дягилев поместил левитановский эскиз картины «Над вечным покоем», приобретенный с выставки русских и финляндских художников Третьяковым.
Внимание к европейскому искусству демонстрировала статья норвежского критика Карла Мадсена о его соотечественнике – иллюстраторе сказаний Эрике Веренскюльде.
Иллюстративный материал включал также фотографии комнат в «русском стиле», старинной деревянной посуды и эскизы Е. Д. Поленовой для вышивок.
Программная статья сдвоенного номера «Сложные вопросы» (Серов слышал, что ее совместно писали С. Дягилев и Д. Философов) переходила из первого сдвоенного номера во второй, и некоторые ее постулаты – о «жаждущем красоты поколении» и о том, что «творец должен любить красоту и лишь с ней должен вести беседу во время нежного, таинственного проявления своей божественной природы» – открыто декларировали эстетские принципы, примат «искусства для искусства». В заключение не очень удачно цитировались слова Заратустры из становившейся популярной в России книги немецкого философа Фридриха Ницше.
Серов обсуждал первые номера журнала с Остроуховым.
– Ведущая статья «Сложные вопросы», – заметил Ильяя Семенович, – написана сумбурно. То развивает тему о неизбежной борьбе художественных направлений, то сетует, что нас прозвали «детьми упадка» и приклеили ярлык «декадентов». Кого это «нас» – не очень ясно.
Особенно неуместным показался Остроухову колкий выпад в рубрике «Заметки».
– «Несчастной Англии, – иронически процитировал он, – грозит выставка картин художников Клевера и Верещагина. Как предохранить русское искусство и английскую публику от такого неприятного сюрприза?» Зачем же, – возмущалсяя Остроухов, – так ядовито унижать коллег-художников?
– Ты прав, – согласился Серов. – Меня эта заметка тоже покоробила.
И все же к первым номерам журнала Серов отнесся более терпимо, чем его приятель. Несмотря на некоторые огрехи, этот блин, по его мнению, испекся все же неплохо.
«Третьяков умер…» Весть о кончине знаменитого коллекционера всколыхнула Москву.
По пути к особняку Третьяковых в Толмачах Серов вспоминал, сколь многим он обязан Павлу Михайловичу, как окрылили его слова Третьякова о впечатлении, произведенном на собирателя портретом Верушки Мамонтовой: «Большая дорога ждет этого художника».
Вспомнился и давний рассказ матери, как за год до смерти Александра Николаевича Третьяков посещал их квартиру и слушал «Вражью силу», – отец, исполняя оперу на фортепиано, сам пел наиболее выигрышные арии.
А сколько же серовских работ успел приобрести для галереи Павел Михайлович? Получалось, вместе с портретом Римского-Корсакова, около десятка…
Дом уже полон посетителей, пришедших выразить соболезнование и проститься с покойным. Много художников – Поленов, братья Васнецовы, Левитан, Суриков… Серов подошел к гробу, установленному в зале на первом этаже, вгляделся в желтое, с обострившимися чертами лицо Павла Михайловича, положил гвоздики.
Кто-то успокаивал плачущую женщину, Серов узнал в ней дочь Третьякова Александру Павловну. Ее муж, известный врач, лейб-медик Сергей Сергеевич Боткин, приблизился к Валентину Александровичу, негромко сказал:
– Прошу вас от всех родственников, сделайте рисунок с покойного.
– Да, да, конечно, – торопливо ответил Серов, – только у меня нет ни альбома, ни карандашей.
Ему принесли необходимое. Он встал у изголовья, с правой стороны гроба, и стал набрасывать рисунок в альбом. На всякий случай сделал два и, закончив, передал альбом Сергею Сергеевичу.
Поблагодарив его, Боткин сказал:
– В последние минуты Павел Михайлович думал о собрании картин. Умирая, прошептал: «Берегите галерею» – с тем и отошел.
Серов бросил взгляд на появившегося возле дочери Третьякова высокого и грузного Илью Семеновича Остроухова. Склонившись над Александрой Павловной, тот говорил ей что-то утешительное.
– Вот Илья Семенович, – сказал Серов, – достойно позаботится.
Обоим было известно, что из всех художников и коллекционеров Третьяков особо приблизил к себе Остроухова, ценя его вкус, предприимчивость и знания в области русского искусства. Во время отъездов за границу Павел Михайлович неоднократно поручал Остроухову делать покупки картин для галереи от его имени и видел в нем достойного преемника начатого им, Третьяковым, дела.
Хоронили почетного гражданина Москвы на Даниловском кладбище. В прощальном слове Виктор Васнецов напомнил, с какой энергией Павел Михайлович осуществлял для своей родины миссию кропотливого собирательства и широкого популяризаторства шедевров живописи.
– Немного можно встретить в других странах таких обширных и поучительных коллекций национального искусства, – говорил Васнецов. – Собирая свою галерею, он не мог не сознавать, что совершает историческое народное дело.
Серов покидал кладбище вместе с родственниками коллекционера. Сергей Сергеевич Боткин неожиданно завел разговор о журнале «Мир искусства»:
– Всего полмесяца назад я получил письмо от Павла Михайловича по поводу дягилевского журнала. Ему показалось странным, почему одни статьи иллюстрируются, а другие нет: текст и иллюстрации сами по себе. И его удивил неуместный выпад против двух наших уважаемых художников. Знаете, во всем, что касалось родного искусства, мелочей для него не было. Его все это очень волновало.
– Да, да, – понимающе пробормотал Серов. Но поддерживать разговор в эту минуту ему не хотелось.
Первую выставку картин мирискусников, открывшуюся в Петербурге в начале 1899 года, Дягилев организовал с присущим ему размахом. Он сделал ее международной. Полотна отечественных живописцев соседствовали с картинами современных европейских мастеров. Можно было лишь гадать, каких усилий стоило ему заполучить картины таких известных художников, как французы Эдгар Дега, Клод Моне, Форен, Гюстав Моро, Пюви де Шаванн, Рафаэлли, как живший в Англии американец Уистлер, швейцарец Бёклин и др. Немало было и картин финских художников.
Если целью Дягилева было показать самобытное развитие русской живописи на фоне общеевропейского художественного процесса, то экспозиция, безусловно, этому способствовала. Она ошеломляла разнообразием стилей, творческих манер, богатством сюжетных и живописных поисков.
Серов осматривал выставку вместе с Левитаном, представленным на ней девятью пейзажами.
– Я просто сражен, Валентин, – взволнованно говорил Левитан. – Мы выглядим старомодно. У французов иной, очень свежий взгляд на мир. Клод Моне восхитителен. После его картин я уже не смогу писать по-старому.
– Не умаляй себя, Исаак, – пытался ободрить его Серов. – Твои пейзажи прекрасны. Да, ты пишешь иначе, чем Моне. Каждый из нас, в конце концов, интересен собственным, ни на кого не похожим лицом.
Левитан ходил по выставке медленно, опираясь на трость. Серов знал, что уже несколько лет Исаак Ильич страдает болезнью сердца и поездки за границу на лечение не приносили ему улучшения. Прошлой осенью Левитан, как ранее и Серов, начал преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, взяв на себя руководство пейзажной мастерской. При прогрессирующей болезни он уже не мог с прежней активностью выезжать на природу, работоспособность падала, и в этих условиях преподавательский оклад являлся для него, как и для многодетного Серова, значительной подмогой.
Валентин Серов экспонировал на выставке два портрета и несколько пейзажей, выполненных в основном в Домотканове. Портрет княгини Тенишевой, в декольтированном платье, с собакой у ног, он писал по просьбе Дягилева, желавшего таким образом отблагодарить княгиню за финансовую поддержку журнала. Серов писал его в петербургском особняке Тенишевой на Английской набережной, и поначалу он выходил удачно. Но однажды заявившийся на сеанс Дягилев категорично заявил, что нелепо писать декольтированную даму при дневном освещении. Серов внял его критике, но свет электрической лампы несколько испортил первоначально более удачный, на его взгляд, колорит полотна.
От близких к Дягилеву людей, а к ним следовало отнести прежде всего Д. Философова, Серов слышал, что княгиня Тенишева выразила резкое неудовольствие по поводу появившихся в первых номерах журнала «Мир искусства» ядовитых и совершенно неуместных реплик в адрес Верещагина, Клевера и В. Маковского, бросающих, по ее мнению, черное пятно и на нее как издателя журнала, и пригрозила, что, если подобное повторится, она прекратит его финансовую поддержку.
Хорошо на выставке, отметил Серов, смотрелся Лев Бакст с его портретом Александра Бенуа и «Девушкой в желтой шляпе». Как и Константин Коровин с тремя работами, поступившими из собрания Мамонтовых. Особенно удачна была светлая по настроению и живописи картина, изображавшая двух молодых женщин у окна.
Украшали выставку полотна ветеранов – Репина и Поленова, и их участие организатор выставки ставил себе в особую заслугу.
Некоторые выставочные картины, еще не поступившие в частные собрания, были оценены авторами для продажи, и бросалось в глаза, насколько скромнее запросы русских художников по сравнению с зарубежными. Так, Л. Бакст за портрет девушки запросил 500 рублей. Серов свои пейзажи оценил в диапазоне от 100 до 500 рублей, и лишь один – в 1000 рублей. В то время как Клод Моне готов был продать «Солнечный день» за 7 500, а «Зимний пейзаж» – за 9 375 рублей. Еще более высоко оценивал свои эскизы панно и эскиз росписи Парижской ратуши Пюви де Шаванн – 10 200 и 16 500 рублей соответственно. Рекорд же в этом плане установил Эдгар Дега, оценивший свое большое полотно «Жокеи» в 40 тысяч рублей. Но стоит ли удивляться, размышлял Серов, всё же все они – уже знаменитости.
Отбирая для выставки точно схваченных жокеев и танцовщицу Дега, нарядную парижскую толпу, запечатленную в фойе театра Фореном (она поступила из собрания С. Щукина), изысканную «Девочку в голубом» Уистлера, Дягилев, как и в статьях первых номеров журнала, руководствовался подчеркнуто эстетским принципом. Но именно эта, открыто эстетская, позиция вновь вызвала взрыв негодования Стасова. На первые номера журнала он успел откликнуться статьей «Нищие духом», яростно заклеймив направленность журнала и его стремление пропагандировать таких «убогих», по выражению критика, художников, как Веренскюльд, Гюстав Моро, Пюви де Шаванн, Бёрдсли и Бёрн-Джонс.
Для характеристики впечатления, произведенного на него международной выставкой Дягилева, Стасов нашел образ посильнее – красочно описанное Виктором Гюго в «Соборе Парижской Богоматери» подворье прокаженных. «Кто нынче очутится вдруг в зале Штиглицевского музея, почувствует то же самое, что во время оно старинный француз, – писал критик, имея в виду героя романа Пьера Гренгуара, забредшего во „Двор чудес“. – Вокруг него стоит какой-то дикий вопль и стон, рев и мычание; надо шагать через копошащихся повсюду крабов, уродов, калек, всяческую гнилятину и нечисть. Она всюду цепляется за его ноги, руки, за его фалды и глаза, мучит и терзает мозг, оглушает и мутит дух».
Отметив в своем обзоре «странное» участие в выставке таких замечательных, по его мнению, художников, как Репин, Серов и Левитан, Стасов обрушил гнев на иностранных экспонентов и привлеченную Дягилевым молодежь. «Всех этих Бакстов, Бенуа, Боткиных, Сомовых, Малютиных, Головиных с их безобразиями и разбирать-то не стоит, – писал Стасов. – Они отталкивают от себя здорового человека, как старинные парижские „прокаженные“ бедного Пьера Гренгуара».
– Вы будете, Сергей Павлович, отвечать ему? – спросил Серов, когда они коснулись в разговоре статьи Стасова.
– Нет. – Дягилев иронически усмехнулся. – Зачем? Это и не критика, а сплошная ругань. Время рассудит, кто из нас прав.
Мать Серова, Валентина Семеновна, обосновавшаяся в сельской глубинке Симбирской губернии во время голода в Поволжье и увлеченная теперь музыкальным образованием крестьян, иногда выбиралась в Москву навестить сына и посмотреть, как растут внучата. И всегда она приносила с собой свежий ветер последних идей, которые волновали общество. Вокруг этих идей между матерью и сыном происходил обмен мнениями. О том, как это было, рассказала в воспоминаниях сводная сестра Серова Надежда Немчинова-Жилинская: «Помню, в девяностых годах были в моде слова „эмансипация женщины“. Стоило при Валентине Александровиче произнести эти слова, он комично морщил лицо, пресерьезно, усиленно шаркая ногами, удалялся в соседнюю комнату и укладывался на диване спать.
Маму, энергичную женщину, бушующей волной врывавшуюся в тихую семейную жизнь сына, это страшно возмущало. Она горячо доказывала, что так можно всю жизнь проспать.
– Я уже сплю, – монотонно раздавалось из соседней комнаты.
– Нет, это возмутительно! Ты не замечаешь, Тоша, ничего. Ты не видишь, как жизнь идет вперед. Сколько диспутов идет по вопросу эмансипации женщины! А теперь еще новое движение: земледельческие колонии, опрощение интеллигенции, поход в деревню, чтобы ближе быть к мужику. Это замечательное движение, которое проповедует Лев Николаевич Толстой.
Вздох и громкая зевота из соседней комнаты. Мама вскипает ключом, ее речь льется горячо и бурно, она упрекает сына в обломовщине, в эгоизме, в барстве. В дверях появляется вдруг небольшая, плотная фигура Валентина Александровича с неизменной папиросой в зубах, и такая комически-добродушная, что я невольно фыркаю, а Тоша, нисколько не обижаясь на упреки мамы, очень хладнокровно говорит:
– Ну да, я чистокровный буржуй. А насчет колоний скажу: терпеть не могу беленьких ножек барышень, ходящих босиком и думающих, что они уже опростились и работают наравне с мужиком. Вот черная, сухая, загорелая нога бабы мне кажется гораздо красивее. Это естественно, просто. А там фразерство, неискренность, кривлянье».
Но в эту зиму мать приехала в Москву явно не для проповеди «передовых идей», не для споров с сыном. В ее лице было что-то сияющее, и Серов спросил:
– Похоже, мама, у тебя хорошие новости?
И мать со свойственным ей пылом рассказала, что ее музыкальные дела в Судосеве складываются как нельзя лучше. Она очень довольна народным театром, организованным из жителей деревни: в хорах они поют Глинку, Чайковского и других русских классиков. Вскоре же, с помощью приехавшей учительницы, она намерена поставить с крестьянами «Хованщину» Мусоргского. Но и эта новость не главная. А главное то, что она написала оперу, о которой давно мечтала, на сюжет русских былин, «Илья Муромец», и хочет предложить ее Савве Ивановичу для постановки в его театре.
Серов искренне поздравил мать, однако и призадумался: удовлетворит ли опера взыскательного Мамонтова? Но если уж Валентина Семеновна что-то затеяла, от задуманного она не отступала. Через неделю она доложила сыну, что Савва Иванович оперу просмотрел, были у него некоторые колебания, но она его убедила, что с помощью таких певцов, как Шаляпин, которого она видит в роли Ильи, все мелкие погрешности можно затушевать. Несмотря на имевшиеся у Мамонтова колебания, были начаты репетиции, назначен и день премьеры. Встретив в театре Серова, Савва Иванович с хмурым видом сказал:
– Пиши, Антон, декорации к «Илье» вместе с Малютиным. Честно говоря, у меня на сердце кошки скребут, есть предчувствие, что ждет нас с этой оперой неприятность, а поделать ничего не могу. На что только не пойдешь во имя старой дружбы.
Столь же мрачен был и Шаляпин:
– Я тебе как другу, Антон, скажу: опера твоей уважаемой мамаши сырая, нет в ней ни драмы, ни ярких арий, ничего почти нет, что предвещает успех.
Но из робких попыток сына отговорить Валентину Семеновну от постановки оперы ничего, как он и предполагал, не вышло. Стоило ему обмолвиться, что и Мамонтов, и Шаляпин не очень-то расположены к опере, считают ее несовершенной, как глаза матери гневно сверкнули:
– Мне кажется, ты преувеличиваешь. И если Савва Иванович уже согласился, так зачем же мне идти на попятную? При постановке нового риск есть всегда. И если мне не поможет Мамонтов, то кто же еще?
И вот, в двадцатых числах февраля, наступил день премьеры. Серов сел рядом с матерью, чтобы стойко вынести все, что им предстоит испытать, и в случае необходимости подбодрить ее. С первыми актами музыки началась мучительная для его самолюбия пытка. Мелодическое решение оперы было каким-то сумбурным. Былинный речитатив вносил в пение монотонность. Вялость действия и отсутствие драматических страстей, всегда воодушевлявших Шаляпина, будто парализовали его творческую волю: певец «окаменевал» задолго до финала, в котором по ходу действия превращался в застывшее изваяние.
Недоумевавшая поначалу публика стала все более проявлять свое недовольство и возмущение, слышались шиканье, ропот. Ледяное молчание сопровождало даже те сцены, в которых артисты надеялись сорвать аплодисменты. Занавес опустился при жидких хлопках, озорном свисте и протестующем топанье ног. Красный от смущения Федор Шаляпин вышел, чтобы поклониться публике, но шиканье и свист лишь усилились. Такого провала Частная опера еще не знала.
Возвращаясь домой вместе с потрясенной матерью, Серов пытался как мог утешить ее. Через несколько дней, ознакомившись с рецензиями, Валентина Семеновна поутихла и по крайней мере рассталась с убеждением, что был заговор против нее и оперу провалили намеренно. В «Московских ведомостях» писали, что Шаляпин пытался вдохнуть жизнь в наивно очерченный образ Ильи, но «попытка не привела ни к чему, и даже его вызовы по окончании оперы сопровождались протестами».
Рецензент «Русской музыкальной газеты», отметив несколько народных хоров, констатировал неудачу автора прежде всего в плане музыкального воплощения образов главных героев: «Мощен богатырь только на словах, а в музыке же он представлен не только слабым, но и жалким…
Странно, в опере почти отсутствует национальный колорит». Критику виделись в отдельных эпизодах реминисценции из Мусоргского, Римского-Корсакова, а в целом «мелодическая сторона слаба, гармонизация еще слабее, инструментовка бездарна…».
И все же Москву Валентина Семеновна покидала с чувством обиды и на Мамонтова, и на Шаляпина. Она считала, что, не уделив репетициям должного времени, выпустив оперу в спешке, они тем самым загубили вполне сценический материал.
Выбором для летнего отдыха побережья Финляндии Серов был обязан дружбе с гравером Василием Васильевичем Матэ. Он нередко, приезжая в Петербург, останавливался в просторной квартире Василия Васильевича, предоставленной Матэ как профессору Академии художеств. Когда же Матэ узнал, что нынешним летом, в связи с заказом от императорского двора, Серову придется значительную часть времени провести в Петербурге или поблизости от него, он предложил воспользоваться не только своей квартирой, но и дачей в Финляндии, в местечке Териоки.
Ответственный заказ исходил от самого Николая II. По просьбе государя Серов должен был написать портрет его отца, Александра III, предназначавшийся в подарок расположенному в Дании лейб-гвардейскому полку, над которым шефствовал покойный император.
Серову пришлось по душе уединение расположенного на взморье дома Матэ. Из окон второго этажа открывался вид на морской простор, белые гребешки волн при ветреной погоде, паруса рыбацких лодок вдали. В один из пасмурных дней он написал здесь гостивших с отцом сыновей – Сашу и Юру, стоявших на балконе дачи. В этой небольшой картине ему удалось проникнуть в светлый, непосредственный по чувствам и впечатлениям мир детей.
Как-то, во время прогулки по берегу моря, он неожиданно для себя почти нос к носу столкнулся с Александром Бенуа. Оба были удивлены и обрадованы. Бенуа рассказал, что лишь недавно, после нескольких лет жизни в Париже, вернулся на родину и тоже проживает сейчас на даче, на песчаной косе при впадении в Финский залив Черной речки.
По взаимному уговору они стали встречаться регулярно. Александр Николаевич познакомил Серова со своей женой Анной Карловной, или Атей, как любовно называл ее муж, живой по натуре, миловидной, чем-то напоминающей лукавую кошечку, и двумя дочерьми – четырехлетней Анной и годовалой Еленой. Атмосфера любви и счастья, царившая в этой семье, очаровала Серова и в немалой степени способствовала тому, что ледок замкнутости, которым он обычно, как панцирем, окружал свое «я», оберегая от вторжения малознакомых людей, растаял.
Художников сблизил и короткий визит на дачу к Бенуа Сергея Дягилева с его ближайшим помощником по редакции «Мира искусства» двоюродным братом Дмитрием Философовым. Шумные, воодушевленные, они принесли радостную весть: директор императорских театров, известный своим консерватизмом Всеволожский, ушел в отставку, а на его место назначен князь Сергей Михайлович Волконский. Молодой князь уже успел ранее высказать свое расположение к редакции «Мира искусства» и приветствовал их начинания. Теперь же, по словам Дягилева, заняв столь ответственный пост, тут же обратился к руководителям журнала с просьбой помочь ему. Более того, сделал обоим заманчивые предложения: Философову – войти в состав комиссии по выработке репертуара Александринского театра, а Дягилеву – занять пост чиновника по особым поручениям при директоре Волконском. «Вот так-то! – резюмировал Дягилев. – Теперь у нас есть неплохие шансы укрепить журнал высокой поддержкой и даже влиять на репертуарную политику императорских театров».
– Как воодушевлен был наш Сережа! – с мягкой иронией заметил после их отъезда Бенуа. – Почти как Наполеон после очередной победы на поле брани. И теперь, поверьте мне, Сережа еще выше задерет свой надменный нос. Близость к Волконскому отвечает его амбициям стать своим человеком в высшем свете, а еще лучше – верховодить там.
У Серова и Бенуа вошло в обычай сходиться на полпути между Черной речкой и Териоками и неторопливо гулять по тропе, любуясь морем и беседуя об искусстве. Черноволосый, лысеющий, с нацепленным на нос пенсне, Бенуа оказался одним из самых интересных собеседников, какие до того встречались Серову. Уже и сам неплохой, подающий большие надежды художник, одну из работ которого, «Замок», успел приобрести П. М. Третьяков, Бенуа увлекал рассказами о неутомимых поисках произведений искусства и о тех художественных впечатлениях, которые он почерпнул за несколько лет заграничной жизни. Немалым юмором был окрашен его рассказ о том, как, по просьбе брата Леонтия и его жены, он, собираясь в Европу, взял с собой принадлежащую им «Мадонну», приписываемую, по семейной легенде, кисти Леонардо да Винчи, и колесил с этой бесценной картиной по Германии и Франции, чтобы удостоверить авторство Леонардо у тамошних экспертов по итальянскому Возрождению. И как, проживая в дешевых гостиницах, каждый раз переживал: не дай бог украдут!
Самое живейшее воодушевление вызвал у Бенуа рассказ о молодом русском помещике Протопопове, однажды явившемся к нему с предложением издать русский перевод получившего известность в Европе труда Рихарда Мутера «История живописи XIX века», и не только издать, а чтобы Бенуа написал в дополнение отдельную главу о русской живописи – за приличное, разумеется, вознаграждение.
– А мы все боимся, – подытожил Бенуа, – что дело таких энтузиастов, как Третьяков, не получит в России развития. Да вот такие, как Протопопов, и есть его продолжатели.
В середине лета Серов на некоторое время съездил в Данию, чтобы написать виды дворца Фреденсборг, необходимого ему как фон для портрета Александра III, а по возвращении опять поселился на даче Матэ.
Тем же летом Московская городская дума рассмотрела Положение об управлении городской картинной галереей после смерти Павла Михайловича Третьякова и провела выборы совета галереи. Председателем совета избрали городского голову князя В. М. Голицына, а членами – дочь Третьякова Александру Павловну Боткину, Остроухова, Серова и банковского деятеля и коллекционера И. Е. Цветкова. Бенуа одним из первых поздравил Серова с избранием в члены совета, призванного продолжать дело Третьякова по собиранию уникальной коллекции русской живописи.
Вспоминая то лето в Финляндии, сблизившее его с Серовым, Бенуа писал: «Именно тогда зародилась между мной и им та дружба, которая продолжалась затем до самой его безвременной кончины и воспоминание о которой принадлежит к самому светлому в моем прошлом».
Расставаясь в конце лета, они обращались друг к другу уже запросто, на «ты». Серов подарил Бенуа один из написанных в Дании видов дворца Фреденсборг и получил взамен акварель Бенуа с видом побережья Финского залива.
Бывая в Петербурге, Серов нередко захаживал на Литейный, в квартиру Дягилева, где располагалась редакция «Мира искусства». От Бенуа он слышал, что кружок, из которого впоследствии образовалась редакция, начал формироваться еще с гимназических и студенческих лет ее будущих членов.
Регулярно собираясь, обычно на квартире Бенуа, друзья обсуждали новинки литературы, новости музыкальной и театральной жизни, строили планы на будущее. Бенуа со смехом вспоминал ответ Левушки Бакста на один из вопросов распространенной в их кружке анкеты: «Кем бы вы желали стать?» Бакст ничтоже сумняшеся ответил: «Хотел бы стать самым знаменитым художником в мире», немало позабавив приятелей своей амбицией.
Серову нравилась творчески возбужденная, пронизанная дискуссиями, острыми спорами атмосфера квартиры Дягилева, где его всегда встречали с радушием, видя в нем одного из лидеров того нового направления в русской живописи, которое пропагандировал журнал. Кому-кому, а ему-то грех было бы обижаться на невнимание к его персоне со стороны редакции. Так, в одном из первых номеров журнала, в рубрике «Заметки», упоминалось, что B. A. Серов избран членом общества художников в Мюнхене «Сецессион». «Это первый русский художник, – подчеркивал журнал, – который входит в состав названного общества, считающего в числе своих членов всех выдающихся мастеров Европы и Америки».
В другом номере, где рецензировалась последняя Передвижная выставка, среди представленных на ней портретов редакция с похвалой отозвалась о серовском портрете Римского-Корсакова. Наконец, в последнем, августовском, номере Дягилев, оценивая иллюстрации только что вышедшего к столетию со дня рождения Пушкина трехтомного издания его сочинений, отметил «прекрасный портрет» поэта работы Серова.
Спустя полгода после выхода в свет первого номера журнала можно было сделать некоторые выводы. Не только Серов, но и его московские приятели, Коровин и Илья Остроухов, считали, что журнал в целом «получился»: статьи сопровождались оригинальными заставками, виньетками, а качество иллюстраций отвечало высоким стандартам. Остроухова, похоже, примирил с журналом именно августовский номер за 1899 год, где, наряду со статьей Дягилева об иллюстрациях к трехтомнику Пушкина, статьей В. Розанова «О древне-египетской красоте» и статьей Бенуа о парижских Салонах, в подборке иллюстраций с работ современных русских художников и скульпторов репродуцировался и пейзаж кисти Ильи Семеновича «Первая зелень».
Пропагандируя отечественное искусство, журнал в то же время стремился знакомить русскую публику с яркими представителями современной западной живописи и графики. Целое созвездие зарубежных художников, о коих ранее в России слышали лишь краем уха, было представлено уже в первых номерах. Литератор и критик Н. Минский написал о Бёрн-Джонсе, с немецкого была переведена статья Рихарда Мутера о французском художнике Гюставе Моро – в связи с кончиной художника в 1898 году, с французского – статья Гюисманса об Уистлере, и при этом она сопровождалась большой подборкой репродукций с картин и портретов Уистлера, дающих широкое представление о его творчестве. Мюнхенский корреспондент журнала Игорь Грабарь писал о Фелисьене Ропсе и главе недавно созданного венского Сецессиона Густаве Климте. Бенуа регулярно, до возвращения в Россию, присылал «Письма из Парижа» с оценкой художественной жизни Франции.
Но именно зарубежный состав художников, к которым привлекал внимание «Мир искусства», дал основание Стасову назвать его «декадентским журналом». Что касается отечественной живописи, то тут Стасову предъявить претензии журналу было сложнее. На его страницах обильно репродуцировались работы Виктора Васнецова, Репина, Левитана, Карла Брюллова и художников XVIII века. Не жаловал журнал лишь «чистых» передвижников, считая это движение своим антиподом.
До приезда из Парижа Бенуа художественную часть журнала единолично определял Дягилев, тогда как литературнофилософские страницы были отданы им на откуп Философову. Любопытное сочетание представляла собой эта пара кузенов – шумливый, любящий покомандовать коллегами, но умеющий быть предельно любезным с необходимыми ему авторами, барственного вида Дягилев и сдержанный в эмоциях, корректный, с манерами истинного аристократа Дмитрий Философов. Заходившая в редакцию журнала, где печатались ее путевые заметки «По Ионическому морю», Зинаида Гиппиус отдала дань восхищения античной красоте Дмитрия Философова, назвав его Адонисом.
Вошедший в круг «Мира искусства» несколько позже художник Мстислав Добужинский вспоминал, что Дягилев, с его командирскими замашками, вызывал у впервые знакомившихся с ним чувство стеснения, но вместе с тем Дягилев «входил во всякие детали, мелочей для него не было, все было „важно“, и все он хотел делать сам… Помню, как однажды, чтобы подогнать меня с одной работой для портретной выставки, он приехал ко мне „на край света“ в Измайловский полк в мое отсутствие и дожидался меня целый час, только чтобы самому убедиться в том, что я делаю, и пристыдить меня за медлительность. Пресловутое „диктаторство“ Дягилева с самого начала „Мира искусства“ было признано как нечто вполне естественное и все добровольно подчинялись этому… Единственно, с кем он советовался, были Серов и Бенуа».
Несколько слов Добужинский уделил и Философову: «Не менее Дягилева стеснял меня и Философов – человек необыкновенно красивый, высокий, стройный, с холодными светлыми глазами, почти не улыбавшийся (при первом знакомстве мне в нем почему-то почудился Ставрогин)».
К петербургским коллегам по «Миру искусства» Серов старался относиться на равных, не подчеркивая своего превосходства, хотя был старше большинства из них и по возрасту, и по художественному опыту. Дягилев и Философов были моложе его на семь лет, Вальтер Нувель – на шесть, Бенуа – на пять, Сомов на четыре года. Лишь с Бакстом, уступавшим Серову в возрасте один год, он мог считать себя почти ровесником.
Единственным исключением был Альфред Павлович Нурок, равно компетентный и в литературе, и в музыке, служивший ревизором государственного контроля по департаменту армии и флота. К рубежу веков ему было уже около сорока лет. Его сардонический ум нашел в «Мире искусства» подходящее применение в едких репликах, призванных осмеять на страницах журнала тех, кого редакция считала своими идейными противниками. Внешность Нурока вполне соответствовала характеру его ума: невысокий, лысый, вертлявый, с черной остренькой бородкой и мефистофельской усмешкой, для своих коротких заметок он взял псевдоним Силен, тем самым вызывая в памяти козлоногих, как и сатиры, спутников Диониса – любителей бражничать, задираться и приволочиться за нимфами. Таким, засидевшись однажды в редакции, и запечатлел его Серов, вызвав шумное одобрение Дягилева и других сотрудников журнала.
В те же дни и в той же технике литографии Серов исполнил портреты Философова и композитора Глазунова, как-то зашедшего к куратору музыковедческих страниц Вальтеру Нувелю. Сам автор считал более удачным портрет Философова, выполненный Бакстом, – в нем более ярко были схвачены красота и аристократическое естество этого «Адониса».
К тому же 1899 году относится сделанный Серовым карандашный набросок группового портрета редакции журнала «Мир искусства». На нем были изображены сидящие за столом Дягилев, Бенуа, Философов, Нувель, Нурок и сам автор рисунка.
Об отношении Серова с кругом его петербургских друзей очень точно написал А. Н. Бенуа: «Вообще, Серов был скорее недоступен. Этот несколько мнительный, недоверчивый человек неохотно сближался. Поэтому дружеские отношения со всей нашей компанией должны были завязаться с Серовым не без некоторых с его стороны колебаний, а то и огорчений. Чего в нас наверняка не было, так это простоты. В этом я не могу не покаяться, и делаю это с сознанием, что в позднейшие времена и тогда, когда последние следы юношеской блажи стерлись, мы все, и я в частности, все более и более стали опрощаться, „отвыкать от гримас и всяческого ломанья“. И вот в этом нашем исправлении, без сомнения, немалое влияние оказывал Серов, не столько его весьма редкие замечания или упреки, сколько тот огорченный вид, который он принимал каждый раз, когда в его присутствии кое-какие застарелые в нас привычки брали верх… Серов терпеть не мог всякую „цензуру“. Он любил и сам пошутить, и никто так не наслаждался удачными шутками других, как он. Как очаровательно он смеялся, какая острая наблюдательность, какой своеобразный и подчас очень ядовитый юмор просвечивал в его замечаниях! Но чего Серов положительно не терпел, так это кривляния и хитрения в обращении с друзьями… Особенно его огорчали циничные „сальности“. Зато когда беседа с друзьями была ему по душе, он готов был пропустить даже и очень нужное для него свидание».
Портрет Александра III в красном мундире Датского лейб-гвардии полка, шефом которого он был, на фоне замка Фреденсборг, где покойный царь обычно гостил у своего тестя, датского короля Христиана, был наконец завершен и сдан в канцелярию императорского двора.
Накануне отъезда в Москву Серова опечалили плохие новости, касающиеся семьи Мамонтовых и одновременно судьбы журнала «Мир искусства». Над журналом нависла серьезная угроза лишиться финансовой поддержки. Сначала свое резкое недовольство направлением выразила княгиня Тенишева. Мария Клавдиевна одобряла далеко не всё, что печаталось в «Мире искусства». Чаша ее терпения переполнилась, когда она увидела номер журнала «Шут» с шаржем известного карикатуриста Щербова. Узнав себя в образе коровы, которую доит Дягилев, она заявила, что на этом их сельская идиллия окончена.
Задерживал перевод денег на издание журнала и Мамонтов: судя по проникшим в печать слухам, Савве Ивановичу грозило банкротство. Серов выразил свое беспокойство в письме из Петербурга Остроухову: «Жаль мне по-своему и Савву Ивановича, и Елизавету Григорьевну, говорят, она может пострадать. Напиши мне, как там обстоит, сколько знаешь – положение их меня тревожит, все-таки более 20 лет Мамонтовский дом для меня кое-чем был».
Нависшая над Мамонтовым катастрофа разразилась, когда Серов был уже в Москве. Газеты и любящие почесать язык обыватели взахлеб расписывали арест известного железнодорожного промышленника и мецената в его доме на Садовой-Спасской. Рассказывали о предъявленном ему перед этим требовании немедленно вернуть в кассу Ярославской дороги недостающую сумму – 800 тысяч рублей – и о том, как из-за отсутствия у Мамонтова искомых средств дом его был опечатан, а хозяин дома, под конвоем жандармов, с позором, пешком через весь город, препровожден в Таганскую тюрьму.
Все это казалось Серову чудовищной несправедливостью, ловушкой, расставленной теми, кто по непонятным причинам вознамерился погубить известного в художественной и театральной среде человека.
Ответ на мучивший его вопрос, за что же попали под следствие Мамонтов, его сподвижник по железнодорожным делам брат Николай и даже сыновья Саввы Ивановича, Всеволод и Сергей, Серов нашел у Василия Дмитриевича Поленова. Незадолго до официального краха Мамонтов чистосердечно рассказал Поленову о своих проблемах, едва не доведших его до самоубийства. Итак, в поисках средств на дальнейшее развитие Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Мамонтов предложил правительству приобрести построенную им Донецкую дорогу. Она была рентабельна, приносила солидную прибыль. В ответ получил встречное предложение – купить Невский завод, производящий вагоны и железнодорожное оборудование, и модернизировать его. Мамонтов согласился, еще толком не зная, в каком плачевном положении находился завод. Чтобы поднять его, пришлось воспользоваться деньгами из кассы Ярославской дороги. Образовавшуюся брешь Савва Иванович рассчитывал покрыть за счет выгодной концессии на строительство дороги Петербург—Вологда—Вятка. Но неожиданно министр финансов Витте, ранее протежировавший Мамонтову, меняет свое отношение к нему, отбирает концессию и, более того, инициирует финансовую ревизию предприятий, подотчетных Мамонтову. Узнав же о допущенных нарушениях, дает «добро» на возбуждение судебного преследования.
– Вот и верь после этого сильным мира сего! – сокрушенно комментировал Поленов. – А может, и не один Витте в яму Мамонтова подтолкнул, а и кто другой из верхов, но этого нам с тобой, Антон, не узнать.
Пытаясь скинуть с себя долговую петлю, Мамонтов попробовал заложить принадлежавшие ему акции железной дороги в Петербургском железнодорожном банке, но банкир Ротштейн предложил ему вместо залога акций продать их. Денег же на покрытие недостачи все равно не хватило. И вот чрезвычайное собрание акционеров выражает Мамонтову недоверие. Бессменный председатель Ярославской железной дороги в течение более чем двадцати лет, он даже не избран в члены правления. Ни одного из Мамонтовых не избирают и в директорат Невского завода, а еще недавно в нем, помимо самого Саввы Ивановича, состояли его брат Анатолий и сыновья.
В момент, когда Мамонтову было и без того горько и нужна была поддержка друзей, Частную оперу покинул Федор Шаляпин. Оказалось, Федор Иванович еще год назад подписал с новым управляющим московскими императорскими театрами В. А. Теляковским выгодный в денежном отношении контракт, обязывавший певца, начиная со следующего сезона, выступать в Большом театре. Возможную попытку Шаляпина пойти на попятную Теляковский свел на нет: один из пунктов контракта предусматривал в случае нарушения условий договора певцом обязать последнего выплатить крупную сумму неустойки.
Вслед за Шаляпиным решил уйти в Большой театр и Коровин: без Мамонтова, считал он, Частной опере все равно крышка, и Большой театр для декоратора по призванию совсем не худшее место.
Остался верен мамонтовскому театру Врубель. К тому же с уходом Коровина место ведущего оформителя освобождалось, и Врубель мог его занять.
По возвращении в Москву, осенью, Серов завершил выполнение одного ответственного заказа. Петр Дмитриевич Боткин пожелал иметь портрет своей жены Софьи Михайловны. Петр Дмитриевич приходился племянником жене Остроухова. С Ильей Семеновичем его сближал интерес к живописи и коллекционированию: в собрании купца находилась, например, картина Гюстава Моро «Источник», которую по просьбе Дягилева он предоставил на первую, международную, выставку картин «Мира искусства». Обязательство перед П. Д. Боткиным было для Серова равносильно обязательству перед Остроуховым, о чем и сам Илья Семенович ему шутливо намекнул.
Портрет получился весьма изысканным по колориту, выдержанному в желто-синих тонах. В замкнутом лице молодой женщины, облаченной в нарядное вечернее платье, в ее сиротливой позе читалось внутреннее одиночество, и здесь выразился свойственный портретной живописи Серова тонкий психологизм.
Между тем после вызвавшего всеобщий интерес портрета великого князя Павла Александровича и нового портрета Александра III, предназначенного для Датского полка, репутация Серова-портретиста заметно возросла и заказы от царского двора посыпались один за другим. Начало напряженной зимней работе положил генерал-фельдмаршал, председатель Государственного совета, великий князь Михаил Николаевич. Не успел Серов написать его портрет в повседневной тужурке, как великий князь пожелал быть увековеченным в фельдмаршальской форме.
Искусство Серова было оценено и самим императором. Николаю II захотелось одарить своим портретом подшефный ему Шотландский драгунский полк. Портрет императора в форме Шотландского полка с каской в руке уже близился к завершению. Видимо, работа понравилась государю, и ему пришла мысль, чтобы Серов исполнил еще один его портрет – в подарок императрице. Но стоило ли вновь терять время на утомительное позирование? Вызванный в очередной раз в Зимний дворец, Серов был встречен флигель-адьютантом императора. Последовала любопытная сцена, записанная одним из мемуаристов со слов самого Серова. В комнате, куда провели художника, лежал на креслах полковничий мундир Николая, а на столе – большая фотография государя.
– Может, вам нужно для работы что-то еще? – любезно спросил офицер.
– Спасибо, все есть, кроме самого императора. Художнику вежливо разъяснили:
– Вы же понимаете, их величество очень заняты. Серов начал молча складывать в саквояж краски и кисти. Суховато сказал:
– Прошу простить меня, но так работать мы не договаривались.
– Подождите же, – удержал его опешивший офицер. Он пулей выскочил из комнаты и спустя некоторое время вернулся вместе с государем. Николай был одет просто, в тужурке Преображенского полка. Этот костюм весьма подходил для «интимного» портрета в подарок императрице. Таким и решил писать его Серов.
Из-за плотной занятости в Петербурге Серову в эту зиму с трудом удавалось вырваться в Москву, даже если повод был весьма достойный. Но вечер, посвященный именинам Шаляпина, он пропустить не мог. Тем более что компания собралась как на подбор: кроме Коровина присутствовали молодой композитор Сергей Рахманинов, известный историк Василий Осипович Ключевский.
С Ключевским Серов был знаком по Училищу живописи, ваяния и зодчества, где профессор с некоторых пор читал лекции. Они были настолько увлекательны, что Валентин Александрович старался по возможности не пропускать их. Внешне напоминавший провинциального дьячка, с остренькой жидковатой бородкой, слегка зачесанными набок волосами, с добрым и, пожалуй, слегка лукавым взглядом из-за стекол очков, внимательно проникавшим в собеседника, Ключевский благодаря ораторскому таланту и обширным знаниям умел магнетизировать аудиторию до такой степени, что на лекциях его царила благоговейная почтительная тишина и каждое слово было слышно и в самых дальних рядах.
Вероятно, на этом вечере Шаляпин, пользуясь присутствием Ключевского, с благодарностью вспоминал, как Василий Осипович его неоценимыми советами, консультациями, рассказами о давних временах помог вникнуть в образ Бориса Годунова.
Мог вспомнить Шаляпин и о музыкальном содружестве с молодым Сергеем Рахманиновым, о совместной поездке к Льву Николаевичу Толстому. Шаляпин пел в московском доме писателя в Хамовниках в присутствии гостей под аккомпанемент Рахманинова. Пение понравилось, но тем не менее старец отчитал Рахманинова: «Зачем на слова Апухтина пишете? Он поэт плохой».
Вероятно, в тот вечер тоже был небольшой концерт, и Шаляпин пел, а Рахманинов аккомпанировал. А потом Федор предложил Рахманинову: «Будешь, Сережа, крестным?» – и тот согласился, при условии, если родится девочка и назовут ее Ириной (Иола Игнатьевна была в положении).
После перехода Шаляпина в Большой театр слава певца нарастала от спектакля к спектаклю, и меломаны специально приезжали в Москву, чтобы его послушать.
Портрет великого князя Михаила Николаевича в тужурке Серов представил на открывшуюся в Петербурге 28 января 1900 года вторую выставку картин журнала «Мир искусства». Там же хотел показать и портрет С. М. Боткиной (сам Серов считал его удавшимся). Но неожиданно возникли серьезные препятствия. Решительное «нет» сказал И. С. Остроухов, который считал, что Дягилев не проявляет должной заботы о сохранности предоставленных ему для экспонирования полотен. Так, однажды, из-за небрежности рабочих, картине Врубеля «Морская царевна» из остроуховского собрания были причинены повреждения. Тогда Остроухов поклялся Дягилеву, что впредь ни одной картины из его собрания и из коллекций близких ему людей Сергей Павлович не получит. Потому нечего и говорить о показе портрета С. М. Боткиной на очередной выставке «Мира искусства».
Серов, переживая за интересы общего дела, вскипел, и дошло до резкого выяснения отношений. Посредником в разрешении конфликта выступил вице-президент Академии художеств И. И. Толстой. Информируя его о разговоре с Серовым, Остроухов писал: «…я принял все меры, чтобы уладить дело миролюбиво, потому что давно связан с ним самой тесной дружбой, и я уверен, что в конце концов он поймет, кто был прав».
Незадолго до закрытия выставки, 24 февраля 1900 года, на квартире Дягилева в редакции журнала состоялось организационное собрание, давшее официальное начало новому художественному объединению. Было решено, что отныне комплектация будущих выставок поручается специальному комитету, в который, помимо постоянного члена, редактора журнала С. Дягилева, будут входить еще двое художников, избираемые на один год. По результатам закрытого голосования от петербургских художников в комитет был избран Ал. Бенуа, а от московских – В. Серов.
Среди участников выставок «Мира искусства» значилось, согласно протоколу, тридцать семь человек – Бакст, Билибин, Браз, Лансере, Левитан, Нестеров, Остроумова, Сомов, Врубель, Головин, К. Коровин, Пастернак, Рерих и др. Среди скульпторов – П. Трубецкой и А. Голубкина.
Итак, новое общество было создано, но Дягилеву хочется, чтобы некоторые его члены окончательно определились, с кем им идти дальше – с передвижниками или с «Миром искусства». И действует с присущей ему решительностью. 29 февраля, на следующий день после официального закрытия организованной им выставки, он пишет Александру Бенуа: «Дорогой Шура! Завтра совершенно необходимо твое присутствие на конспиративном обеде у „Медведя“ на Конюшенной, в 6 часов вечера. Я слышал, что ты пригласил завтра к обеду родственников, умоляю отменить. Обедать будут – Серов, Левитан, Нестеров, Светославский, Досекин, ты и я. Дела идут необыкновенно быстрым ходом. Не зайдешь ли сегодня вечером к нам? Надо переговорить.
Сегодня был конспиративный завтрак».
По воспоминаниям Нестерова, Дягилев на этом обеде уговаривал его, Левитана и Серова заявить на общем собрании передвижников о выходе из членов Товарищества. Серов к этому решению внутренне был готов, недаром он на очередную Передвижную выставку не представил ни одной работы и вскоре подал заявление о выходе из Товарищества. Но остальные его не поддержали. Вот как рассказывает об этом Нестеров: «Переговоры наши, и того больше – выпитое шампанское, сделали то, что мы были готовы принести „клятву в верности“ Дягилеву, и он, довольный нами, отправился проводить нас на Морскую, напутствовал у подъезда в Общество поощрения художеств, и мы расстались как нельзя лучше. Войдя в зал заседания, мы тотчас почувствовали, как накалена атмосфера. Нас встретили холодно и немедля приступили к допросу. На грозные обвинительные речи Маковского, Мясоедова и других мы едва успевали давать весьма скромные „показания“, позабыв все, чему учил нас Сергей Павлович. Заседание кончилось. Мы (кроме Серова) не только не ушли к Дягилеву, но еще крепче почувствовали, что он нам не попутчик. Мы не порвали отношений ни с Передвижной, ни с „Миром искусства“…»
Серов остался с Дягилевым, по выражению того же Нестерова, «как золотая рыбка в аквариуме», но эта «золотая рыбка» хорошо сознавала, где ей лучше плавать. «Одинаковая ли культура, навыки или еще что, – размышлял Нестеров о привязанности Серова к „Миру искусства“, – делали Валентина Александровича там своим человеком. Больше того: его непреодолимо влекло к Дягилеву, которого позднее он сравнивал с лучезарным солнцем, и без этого солнца жизнь ему была не в жизнь».
Между тем авторитет Серова в придворных кругах все возрастал, и «Мир искусства», информируя читателей о посещении организованной им художественной выставки высочайшими особами, сообщал, что президент Академии художеств великий князь Владимир Александрович «изволил» приобрести с выставки акварель В. Серова «Натурщица», а управляющий музеем Александра III великий князь Георгий Михайлович приобрел для музея картину В. Серова «Дети».
В одном из первых номеров «Мира искусства» за 1900 год Дягилев поместил подборку репродукций работ Серова, в общей сложности более двадцати, – от ранних вещей, таких как «Волы», «Осень», «Девушка, освещенная солнцем», до недавно законченных, например, портрет госпожи Боткиной. Были представлены и рисунки к юбилейному изданию сочинений Пушкина, и иллюстрации к басням Крылова, над которыми Серов трудился уже не один год.
Художественные выставки, которые по традиции проходили в Петербурге в начале года, Серов старался посещать вместе с дочерью Третьякова Александрой Павловной Боткиной, иногда к ним присоединялся и Остроухов. Все они, члены совета Третьяковской галереи, присматривались, какая картина достойна, чтобы занять в галерее свое место. Сошлись на том, что вверенное их заботам собрание русской живописи надо пополнять в первую очередь картинами тех молодых художников, кто уже ярко зарекомендовал себя, но в галерее почти не представлен. Для начала были куплены с Передвижной два исторических полотна Аполлинария Васнецова с видами Москвы XVII века и пейзаж «Лунная ночь» Жуковского, талантливого ученика Левитана по Московскому училищу живописи.
Одновременно приобрели и несколько полотен самого Левитана. Хотя Третьяков успел купить немало его работ, но новые полотна такого замечательного мастера еще более обогащали галерею. К тому же здоровье Исаака Ильича постоянно ухудшалось, писал он теперь меньше, и надо было хоть так поддержать дух и слабеющие силы художника.
Сеансы позирования Николая II для портрета, предназначенного в подарок императрице, нашли отражение в дневнике последнего императора России в феврале 1900 года: «Сидел недолго для нового портрета, который делает Серов…», «Сидел наверху у Серова и почти заснул…» и т. п. Об одном из сеансов Серов сообщил любопытные подробности в письме жене: «Государь вчера сидел долго, так думаю 3/4 часа. Приходила царица, поймала на месте преступления, так сказать. Но объяснение было, что этот маленький портрет делается в помощь тому – между прочим царица по-русски заметила мне, что хорош шотландский портрет, а по-моему, плох. Вчера подвинул много маленький портрет».
Итак, внезапный приход царицы исключил прелесть подарка-сюрприза. Но Серов использовал возможность личного контакта с государем для заступничества за С. И. Мамонтова, о чем он сообщает в том же письме жене: «В конце сеанса вчера я решил все-таки сказать государю, что мой долг заявить ему, как и все мы, художники – Васнецов, Репин, Поленов и т. д., сожалеем об участи Саввы Ивановича Мамонтова, так как он был другом художников… На это государь быстро ответил и с удовольствием, что распоряжение им сделано уже. И так Савва Иванович, значит, освобожден до суда от тюрьмы. Да, на мои слова, что в деле этом, как и вообще в коммерческих делах, я ничего не понимаю, – он ответил – и я тоже ничего не понимаю – затем он заявил, что считает Третьякова и потом Мамонтова за людей, много сделавших для русского искусства. Я очень рад, что сделал, то есть сказал, что у меня было на совести, и рад за Савву Ивановича, к которому он относится с добрым чувством…»
Портрет Николая II в тужурке Преображенского полка все же продвигался с трудом, Серов беспощадно стирал написанное, начинал заново. Лишь на последних сеансах, проходивших уже в марте, он поймал то выражение лица государя, которое долго искал. Николай Александрович посмотрел на художника прямым, доверчивым взглядом, в котором были естественность и простота, уместные именно для интимного портрета, предназначенного в подарок жене. Схватив этот взгляд и запечатлев его на полотне, Серов завершил портрет уже легко и уверенно.
Как-то во время сеанса государь похвалил журнал «Мир искусства» и признался, что он ему нравится. Серов, пользуясь случаем, рассказал о плачевном состоянии издания в связи с отказом его финансовой поддержки Тенишевой и Мамонтовым.
Государь испытующе взглянул на художника и спросил:
– Какова была помощь Тенишевой и Мамонтова?
– Пятнадцать тысяч рублей в год.
– А если бы я оказал такую помощь?
– Для журнала, ваше величество, это было бы спасением.
– Кто сейчас руководит журналом, Дягилев? Серов подтвердил.
– Пусть Дягилев обратится в мою канцелярию. Этот вопрос можно решить быстро.
Когда Серов передал Дягилеву содержание разговора, тот не сразу поверил такому счастливому обороту фортуны. Из императорской канцелярии Сергей Павлович возвратился с сияющим лицом: приняли его почтительно, о решении царя уже известно. Вскоре Дягилев получил для нужд журнала деньги на предстоящий год.
Приятные новости на этом не закончились. Из Парижа, где еще в апреле открылась Всемирная выставка, пришло сообщение о присуждении наград участникам. Высшей медали, Гран-при, удостоился Серов за портрет великого князя Павла Александровича. Золотые медали получили: Константин Коровин дважды – за картину «Испанки» и оформление русских павильонов, Врубель – за выполненный в Абрамцеве камин из майолики и Малявин – за картину «Смех». За скульптуру высшую, почетную, как и у Серова, медаль получил князь Паоло Трубецкой. Всех авторов, включая, разумеется, и Серова, «Мир искусства» считал «своими»: их работы регулярно появлялись в экспозициях Дягилева. И потому редакция журнала восприняла парижские награды как личный триумф.
В конце июня состоялся суд над С. И. Мамонтовым и другими обвиняемыми по делу о злоупотреблениях в Обществе Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Все заседания Серов из-за занятости посещать не мог, но весьма вероятно присутствовал в тот день, когда выступил защищавший Мамонтова адвокат Ф. Н. Плевако и был оглашен судебный приговор.
Кроме Мамонтова обвиняемыми по тому же делу проходили его помощники – инженер К. Д. Арцыбушев, юрисконсульт А. В. Кривошеин, а также брат Мамонтова Николай Иванович и сыновья Саввы Ивановича, Сергей и Всеволод. С Константином Дмитриевичем Арцыбушевым Серов был знаком с детства, когда жил с матерью в Германии. Сергей с Всеволодом тоже были его друзьями с детства.
И вот очередное заседание суда открыто, и представитель обвинения, ловко оперируя цифрами, подводит и присяжных заседателей, и многочисленных зрителей, собравшихся в Митрофановском зале Московского окружного суда, к мысли, что представшие перед судом люди – несомненные преступники, чьи хищения не только нанесли урон конкретному железнодорожному обществу, но и «пошатнули русский кредит за границей». Страсти накалены, и уже кажется маловероятным, что адвокат Мамонтова, известный громкими выигранными им процессами Федор Никифорович Плевако, сможет найти достойные контраргументы и убедить присяжных в невиновности железнодорожного магната. Плевако действительно произнес яркую речь. Помянул о том, что Савву Ивановича Бог не обделил умом, душу в него вложил широкую, энергичную. И можно ли обвинять в корысти человека, который, строя еще Донецкую дорогу, клал рельсы, рассчитанные на более интенсивную эксплуатацию, чем нынче, с прицелом на будущее? Этот пример и другие, говорил адвокат, подтверждают, что вся его деятельность была одухотворена идеей общественной пользы, «успеха и славы всего русского дела». «Прибавьте к этому, – продолжал Плевако, – несомненную художественность натуры Саввы Ивановича: над холодным рассудком, над расчленяющим и сочетающим понятия разумом у него берет верх воображение, мечта и греза…»
И далее, касаясь фактов о временном заимствовании Мамонтовым средств из кассы Ярославской железной дороги, адвокат подчеркивал, что тот действовал так ради спасения ценного производства. Заканчивая речь и обращаясь к присяжным заседателям, Плевако апеллировал и к их чувствам: «Судите, но отнесите часть беды на дух времени, дух наживы, заставляющий ненавидеть удачливых соперников, заставляющий вырывать друг у друга добро…»
В результате присяжные заседатели, признав доказанным факт заимствования Мамонтовым нескольких миллионов рублей из кассы Ярославской дороги без ведома акционеров, в то же время утвердились в невиновности Мамонтова по основным вопросам, поставленным перед присяжными судом. Мамонтову и всем другим, кто проходил по тому же делу, как невиновным было объявлено, что они свободны.
«Наконец все кончено!» – Серов не мог скрыть радостного чувства. Но Василий Поленов охладил его:
– Что же кончилось, Антон? Морально Савва Иванович оправдан, как и брат его и сыновья. А что их ждет? Дело из уголовного производства передают в гражданское. На Савве Ивановиче и Арцыбушеве висит огромный долг в шесть с половиной миллионов рублей. Такие деньги надо найти, и дом на Садовой-Спасской скорее всего пойдет с молотка, как и все имущество Саввы Ивановича, коллекция собранных им картин. Мало того что Мамонтов публично оплеван, он начисто разорен.
– А как же Абрамцево? – озабоченно спросил Серов.
– Абрамцево отнять у них не сумеют, – пояснил Поленов. – Оно на Елизавету Григорьевну записано, а значит, и нет прав конфисковывать его за долги Саввы Ивановича. Хоть в этом будет им утешение.
В июле пришла горестная весть о кончине Левитана. С чувством чудовищной несправедливости судьбы входил Серов в знакомый ему дом. Возле усыпанного цветами гроба художника один из учеников мастера, как когда-то Серов у гроба Третьякова, делал посмертный портрет.
Серов поднялся наверх, в мастерскую. По стенам развешаны и стоят на полу почти законченные пейзажи, этюды. Вот большое полотно с видом озера в облачный день – Исаак Ильич так и не успел показать его публике. Видимо, чемто не был удовлетворен, собирался доработать. Вспомнились его слова: «Самое главное и трудное – постичь в пейзаже верное соотношение земли, неба и воды». А вот другой пейзаж – березки при лунном свете, тени деревьев падают на склон холма.
Их сближали высокая требовательность к своему ремеслу, вечное сомнение, убежденность в том, что можно сделать еще лучше. Недаром Левитан говорил ученикам: «Нужно иногда забыть о написанном, чтобы после еще раз посмотреть по-новому». Тот же творческий принцип исповедовал и Серов.
Об отношениях двух художников в Училище живописи, ваяния и зодчества оставил свидетельство ученик мастерской Левитана Б. Н. Липкин: «Серова Левитан очень ценил и как художника, и как критика и часто приводил его к нам в мастерскую „освежить атмосферу“ его „глазом“».
«Завидую молодым, – признавался Левитан, встречая в училище Серова, – и тебе завидую. А я старая, никуда не годная галоша». Он с трудом поднимался по лестнице училища, останавливался на полдороге, лез в карман, принимал валерьянку. Дома, чтобы облегчить боли, клал на грудь мокрую глину.
Левитана хоронили на Дорогомиловском кладбище. На предложение выступить Серов отказался. Никогда не любил ораторствовать, тем более на кладбищах. Да и нужно ли? Всем и так известно, что сделал Левитан для русского искусства.
Николаю II, видимо, так понравились его портреты, исполненные Серовым, что, почти не дав художнику возможности «остыть» от предыдущей работы, он заказал ему еще один, на этот раз в форме Кабардинского полка. И одновременно попросил написать для Астраханского полка новый портрет своего покойного отца, но отнюдь не парадный, а лучше где-нибудь на маневрах. Делать нечего, пришлось согласиться.
Между тем слухи об особой приближенности Серова к царскому двору и известие о присуждении ему Гран-при на Всемирной выставке в Париже за портрет великого князя Павла Александровича проникли в высший свет, и Серов получил приглашение от княгини Юсуповой навестить ее в их петербургском особняке на Мойке с напоминанием, что во время посещения Архангельского он пообещал написать ее портрет. Несмотря на загруженность заказами, отказывать княгине Серову не хотелось. При первой встрече несколько лет назад, в Архангельском, Зинаида Николаевна Юсупова своей женственной прелестью и подкупающей простотой общения произвела на него самое лучшее впечатление, и свое мнение о ней Серов выразил в письме жене Лёле: «…славная княгиня, ее все хвалят очень, да и правда, в ней есть что-то тонкое, хорошее».
И вот, при новой встрече, Серов вспоминает их тогдашний разговор и с улыбкой интересуется:
– Теперь у вас хватит терпения позировать?
– Я должна брать пример с нашего государя, – с очаровательным лукавством отвечает Зинаида Николаевна. – Уж если хватает терпения у него, то я мобилизую всю мою волю. Кстати, Валентин Александрович, примите мои поздравления: я слышала, вы удостоились Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Вы становитесь знаменитым, – глядя на собеседника теплым, лучистым взглядом, продолжала княгиня, – и весьма популярным художником. Отныне многие захотят, чтобы вы писали их. Мне было бы очень обидно, если бы меня кто-то опередил. Вы сейчас не очень заняты?
Серов пояснил, что получил новые заказы – еще один портрет императора и портрет Александра III на маневрах.
– И вы хотите сказать, что для моего портрета времени у вас не остается? – Веселый взгляд княгини словно говорил, что она не может этому поверить.
– Время найти можно, – уступил ее очарованию Серов. Поблагодарив за согласие, княгиня предложила пройтись по особняку, чтобы присмотреть подходящее место, где она будет позировать, а заодно ознакомить гостя-художника с собранными здесь произведениями искусства.
Краем уха Серов был наслышан о роскоши и богатстве юсуповского дворца на Мойке, и все же то, что он увидел, превзошло ожидания. Пожалуй, даже в царских покоях не было таких ценных и исполненных изящного вкуса коллекций зарубежного искусства. Уже на верхней площадке парадной мраморной лестницы привлекали внимание две скульптуры знаменитого Антонио Кановы: бога веселья Вакха и опирающегося на лук Амура. А дальше – еще одна чарующая скульптура того же мастера, изображающая Амура, склонившегося над Психеей.
В собрании картин доминировали французы, и Серов с интересом обозрел «Сапфо и Фаон» и «Этюд головы ребенка» кисти Давида, полотно Герена «Амур и Дидона», «Бильярд» Буальи, пейзаж Камиля Коро, игривую сцену с малосимпатичным Геркулесом, обнимающим полнотелую Омфалу кисти Франсуа Буше. Он особенно задержался перед портретом молодого человека с пышными, спадающими до плеч волосами и серьезным задумчивым взглядом.
– Считается, что это автопортрет Веласкеса, – значительно пояснила княгиня.
– Не верю своим глазам! – в замешательстве пробормотал Серов. Копируя как-то в Эрмитаже «Портрет Иннокентия X», он глубоко полюбил живопись великого испанца, но не мог и предположить, что в одном из петербургских собраний находится недоступный широкой публике ранний шедевр того же мастера.
Во время прогулки по дворцу княгиня кратко поясняла достопримечательности того или иного зала. Из Синей гостиной – по цвету ткани, драпирующей стены, – они прошли в Красную, или Императорскую, расписанную по потолку мифологическими фигурами, с роскошным полом из ценных пород дерева и беломраморными каминами.
– Здесь, – пояснила Юсупова, – в этой гостиной, мы принимаем государя с государыней и других членов царской семьи…
Экскурсия по дворцу завершилась в небольшой, изящно обставленной комнате.
– А здесь, – небрежно сказала княгиня, – я люблю принимать своих друзей.
Повсюду, на подоконниках, на инкрустированных столиках, стояли вазы с цветами; на полочках затейливые безделушки сверкали вправленными в них драгоценными камнями. Атмосферу беззаботности создавали полотна представителей куртуазной живописи – женские головки и любовные сцены Буше, Ватто, Фрагонара, Греза. Уютные, обитые шелком диваны, небольшой камин с круглым столиком возле него, кресла – все располагало к отдыху и безмятежной неге.
– Мне кажется, – сказал Серов, – портрет надо писать именно в этой гостиной, где вы, как я понял, любите отдыхать.
– Я недаром провела вас сюда в последнюю очередь, – улыбнулась краями губ княгиня.
– Подумайте, Зинаида Николаевна, о своем наряде. Он должен гармонировать с обстановкой. Мы можем начать, если вам удобно, через несколько дней.
– А как вы думаете, маленькая комнатная собачка портрету не помешает?
– Отнюдь нет, – весело ответил Серов. – Пусть рядом с вами будет и любимая собачка.
В Москву Серов вернулся лишь в сентябре. Жена напомнила ему, что они собирались в Париж, на Всемирную выставку, пока она не закрылась, тем более что и Гран-при надо получить. В октябре, наконец, супруги выехали.
Конечно, ныне Париж не мог поразить чем-нибудь подобным Эйфелевой башне, но и другие новинки французских архитекторов были весьма любопытны. Прежде всего мост через Сену, получивший лестное для русских название – мост Александра III. Но сближение России с Францией отражалось не только в этом. Если прогуляться по мосту Александра III, то выходишь на авеню Николая II, к Большому и Малому дворцам изящных искусств, где в рамках Всемирной выставки были развернуты экспозиции живописи, графики, скульптуры.
«Столетнюю» выставку французского искусства Серов решил осмотреть в первую очередь. До этого он много слышал о нашумевших в Европе импрессионистах, но на выставках в России и в некоторых частных московских собраниях видел лишь отдельные работы, не позволявшие создать многомерное впечатление об этом новаторском движении. Здесь, в Париже, они предстали перед публикой значительно полнее. Предвосхитивший движение Эдуард Мане, безусловно, стоил своей славы. Достаточно лишь вспомнить, что представлял из себя современный ему французский академизм, пропагандируемый через Салоны, чтобы оценить свободные от прежних канонов, смелые по сюжетам и живописи картины Мане «Завтрак на траве» и «Завтрак в мастерской», портрет художницы Евы Гонзалес, пейзажи «Под деревьями» и «Вид Сены». Рассматривая эти полотна, Лёля заметила мужу, что его портрет Веры Мамонтовой очень близок по манере к импрессионистам. Но он тогда еще их не знал и, значит, самостоятельно пришел к похожим результатам.
– Пожалуй, действительно так, – согласился с ней Серов. Интересны были и пейзажи Клода Моне, и Ренуар с его ранней «Ложей» и портретами кокетливых, нарядных, как только что распустившиеся цветы, молодых парижанок. И Эдгар Дега с его тонко схваченными пастелью сценками из излюбленного художником мира балета.
Но и у последователей академизма были блестящие мастера, и особое внимание Серова вызвали виртуозные по технике рисунки Доминика Энгра. Вот школа, вот подлинное совершенство – не уставал восхищаться, рассматривая их, Серов.
Наконец перешли в ту часть дворца, где размещались картины и скульптуры, представлявшие искусство России. Жаль, конечно, размышлял Серов, что не удостоились медалей Поленов с его полотнами евангельского цикла «Среди учителей» и «Христос на Генисаретском озере», Виктор Васнецов с «Аленушкой» и «Гамаюном – птицей вещей», но Репин, избранный членом международного жюри, уже объяснял в печати, что эти художники не прошли в конкурсе на золотые медали и он сам попросил жюри не рассматривать их на серебряные награды, считая присуждение таких медалей ниже заслуг авторов.
Отечественная экспозиция, по мнению Серова, могла быть более выигрышной и разнообразной, если б сюда привезли полотна из собрания Третьяковской галереи – Левитана, Нестерова. Но несколько лет назад отправленные на зарубежную выставку картины из Третьяковки были попорчены в дороге, и после этого Московская городская дума приняла решение не посылать «третьяковские» картины за границу.
А вот и его полотна – «Великий князь Павел Александрович», Верушка Мамонтова с персиками, «Женский портрет», для которого позировала томно-меланхоличная госпожа Боткина. Самому Серову больше нравились портреты Верушки и Боткиной. Трудно было не согласиться с мнением Александра Бенуа, опубликовавшего в «Мире искусства» свои «Письма со Всемирной выставки» и особо выделившего мастерство в портрете Боткиной. Так почему выбор членов жюри пал на портрет «Великого князя»? Неужели лишь потому, что на волне франко-русского сближения жюри посчитало, что надо и в живописи отметить этот политически важный шаг?
Следующий день Серовы посвятили осмотру павильонов стран-участниц и начали с русского. Его недаром хвалили. Построенный по рисункам Коровина и Головина из дерева, в стиле Московского или Нижегородского кремлей, павильон сразу бросался в глаза. Коровин украсил его интерьер пейзажными панно, показывающими Крайний Север России, Кавказ, Среднюю Азию. Недаром, думал Серов, Константин объездил в последние годы всю страну из конца в конец, привозя из каждой поездки множество этюдов.
Со вкусом были представлены в павильоне изделия кустарной промышленности – полотенца, набойки, резные шкафчики, деревянная посуда и иные предметы быта. По стенам висели ковры, вышитые художницей Марией Якунчиковой на сюжеты русских сказок. Обращали на себя внимание камин Врубеля и оригинальные изделия Абрамцевской гончарной мастерской. Савва Иванович и Елизавета Григорьевна Мамонтовы, как экспоненты отдела художественной промышленности, тоже удостоились высоких наград.
В сибирском отделе русского павильона – занимательный аттракцион: прогулка по Сибирской железной дороге.
– Прокатимся? – шутливо спросил Серов жену.
– А давай! – задорно согласилась Лёля. – Когда еще придется?
Зашли в вагон вместе с другими любопытными. Двери закрылись, и вот «поехали»… За окном поочередно мелькали виды тайги, гор, небольших полустанков, рек – искусно нарисованные движущиеся картинки, будто и в самом деле едешь. Немудрено, но впечатляет. Наконец прибыли. Двери открываются с противоположной стороны – что за диво! Пассажиры уже в Китае: организаторы аттракциона хитроумно соединили вагон с входом в китайский павильон.
В Париже супруги Серовы повстречались с хорошими знакомыми Валентина Александровича, женой Александра Бенуа Анной Карловной и ученицей гравера В. В. Матэ Анной Петровной Остроумовой. Случилась встреча на территории выставки, на устроенном ее организаторами для удобства посетителей движущемся тротуаре.
«Мы с Анной Карловной, – вспоминала Остроумова, – прыгнули на этот движущийся тротуар и неожиданно столкнулись нос к носу с Валентином Александровичем и Ольгой Федоровной. Нельзя было не рассмеяться даже серьезному и молчаливому Валентину Александровичу, который стоял, раздвинув ноги, удерживая равновесие, а Ольга Федоровна сияла своими большими голубыми глазами. Пушистые вьющиеся волосы развевались светлым ореолом вокруг ее прекрасного лица. После этого мы много раз бывали вместе на выставке, предварительно сговариваясь, где нам встретиться».
И далее А. П. Остроумова-Лебедева, рассказывая о совместном времяпровождении в Париже, касается некоторых сторон характера Серова. Например, на Всемирной выставке отдельные страны-участницы показывали для привлечения публики зрелища, подчас рассчитанные на весьма невзыскательный вкус, и Серов считал, что на пошлость молодым женщинам смотреть не следует. «Валентин Александрович, – вспоминала Остроумова, – будучи чрезвычайно целомудрен по своей натуре, старался уберечь Анну Карловну и особенно меня от каких-либо тяжелых или недостойных впечатлений и уговаривал в такие-то и такието павильоны не ходить… Валентин Александрович был так настойчив, так добр и внимателен в своей заботе о нас, что мы ему обещали… и обещание ему мы сдержали».
Другой эпизод еще более ярко высвечивает своеобразие натуры Серова. «Мы сговорились, – продолжает Остроумова-Лебедева, – с Валентином Александровичем и Ольгой Федоровной поехать вчетвером пообедать в какой-нибудь дорогой ресторан, на Больших бульварах…
Когда мы уже сидели за выбранным нами столиком и, смеясь… составляли меню нашего обеда, к нам подошел какой-то незнакомый пожилой гражданин… У него было красивое, правильное лицо, обрамленное седыми волосами, он по-русски, робко попросил позволения пообедать с нами. Мы все молча с удивлением смотрели на него, а Валентин Александрович, немного опустив голову, глядя исподлобья, резким голосом отрезал: „Нет, мы этого не хотим“. Тот молча, сутулясь, отошел.
В глубине души у меня был упрек по адресу Валентина Александровича за его неожиданную резкость и прямоту, но, конечно, по существу он был прав. Но праздничное, светлое настроение у нас у всех куда-то ушло. Огни вокруг нас как будто потускнели, и мы сидели за обыкновенным столом и ели обыкновенный обед».
Итак, дает понять мемуаристка, веселая пирушка в дорогом ресторане была безнадежно испорчена. Надо ли было отвечать незнакомому соотечественнику так резко? Не лучше ли было как-то мягче, «по-светски»? Вероятно, так было бы лучше, и атмосферу праздника можно было сохранить. Но Серов отстоял свою свободу общения с теми людьми, кто ему близок, так, как умел, не думая о «светском тоне». С той же прямотой он ответит некоторое время спустя посмевшей учить его азам рисунка и живописи супруге Николая II Александре Федоровне, что навсегда оборвет его отношения с царским двором.
Заканчивая краткие воспоминания о Серове, А. П. Остроумова-Лебедева писала: «Необыкновенная скромность, часто суровая сдержанность и абсолютная и неподкупная правдивость покоряли всех, кто близко его знал».
Трезво оценивая сделанное за год, Серов признавал в душе, что отнюдь не портреты высочайших особ по заказам царского двора принесли ему наибольшее удовлетворение. Хотя Николай II в тужурке получился совсем неплохо. Но по глубине проникновения в характер моделей и с точки зрения чисто импрессионистской живости выражения и он не мог сравниться с другими работами, исполненными как бы мимоходом.
В Петербурге он сделал несколько рисунков детей его добрых друзей Боткиных – дочери Третьякова Александры Павловны и ее мужа Сергея Сергеевича. Их девочки были большими непоседами, вертелись во время сеансов, хихикали, но и это их поведение пошло на пользу работе, придало лицам детей озорную непосредственность. Многократные переделки все же дали необходимый результат. Рисунки, выполненные легкими, уверенными линиями, скрывали весь предварительный труд, создавали впечатление, будто сделаны сразу, в один присест.
Там же, в Петербурге, у сестры Дмитрия Философова Зинаиды Владимировны Ратьковой-Рожновой, Серов повстречал свою давнюю модель Софью Драгомирову, дочь командующего Киевским военным округом генерала Драгомирова. Когда-то, еще учась у Репина, он пристроился рядом с наставником, исполнявшим по просьбе Драгомирова портрет его дочери в украинском костюме, и тогда получилось, пожалуй, не хуже, чем у учителя.
Сколько лет прошло с тех пор? Теперь Софья Драгомирова замужем, носит фамилию Лукомская. В чем-то неуловимом стала другой. Что-то задумчиво-тревожное, будто ищет она ответ на мучающий ее вопрос, появилось в ее красивых темных глазах. Они, конечно, вспомнили друг друга, и Софья Михайловна сказала, что его, серовский, портрет висит у них дома, в Киеве, вместе с портретом Репина, и оба привлекают в их дом гостей, желающих посмотреть на работы известных мастеров.
Оказалось, что хозяйка дома, Зинаида Владимировна, и Софья Михайловна давние подруги, Ратьковы-Рожновы попросили Серова написать портрет их киевской гостьи. Серов решил исполнить его акварелью, но пришлось немало повозиться с трудноуловимым выражением ее лица. Поначалу выходило что-то сладко-приторное, салонное, и, недовольный собой, с раздражением глядя на эскиз, Серов церемонно поклонился и с иронией к своим потугам сказал: «Разрешите представиться, модный художник Бодаревский». И все же, после нескольких сеансов, удалось выразить в портрете Лукомской то, что он разглядел в ней.
Наконец в том же году он закончил одну из заказных работ, взятых на себя по просьбе полковника Н. И. Кутепова, заведующего хозяйственной частью дворцовой службы, для роскошного многотомного издания «Царская охота и императорская охота на Руси». Это была пастель «Выезд Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту». Небольшая по размеру, она потребовала кропотливых исторических разысканий, изучения иконографии изображаемых лиц, костюмов тех времен. Но в итоге Серову удалось замечательно передать азарт быстрой скачки высокородных охотников, которых обгоняет справа породистая борзая собака. Невольно Серов выразил в этой сцене непроходящую с абрамцевского детства любовь к лошадям, собакам и быстрой верховой езде.
Год 1900-й для журнала «Мир искусства» завершался окончательной выработкой своего «лица» и художественных предпочтений. И потому вслед за большой подборкой репродукций с картин Серова журнал столь же широко представил в иллюстрациях творчество Михаила Нестерова. На его страницах также воспроизводились работы с тех художественных выставок, которым редакция журнала придавала особое значение, – со второй выставки картин объединения «Мир искусства» и Всемирной выставки в Париже.
Сочувствие к поискам прерафаэлитов редакция подчеркивала публикацией статьи Джона Рескина о виднейших представителях этого направления в современной английской живописи. Литературно-философский отдел журнала украсили статья Д. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский» и перевод статьи Фридриха Ницше «Рихард Вагнер в Байрёйте». На смерть немецкого философа 25 августа журнал откликнулся некрологом, в котором говорилось: «…Нам, русским, он особенно близок… Нитче, как и Достоевский, верил в грядущие всемирные судьбы России. Сравнивая ее с Римской империей и противополагая Западной Европе, он говорил, что Россия одна еще может ждать чего-либо, что у нее одной есть несокрушимая сила и „крепость в теле“». Памяти философа посвящалась и статья о нем Н. Минского.
Скорбя о недавно ушедших, журнал опубликовал статью Дягилева, посвященную памяти Левитана, и В. Розанова о русском философе Владимире Соловьеве.
Несмотря на пережитые невзгоды, журнал выстоял и, наперекор ударам судьбы, завоевывал все больший авторитет в литературно-художественных кругах.
Как и редакции журнала, уходящий год был памятен Серову событиями и радостными, и печальными. К радостям относилось рождение еще одного сына, названного Антоном. Опечалила внезапная смерть давнего друга семьи Юлия Осиповича Грюнберга, управляющего конторой журнала «Нива». Близко знавший семью Грюнбергов Игорь Грабарь вспоминал в «Автомонографии»: «В их квартире висело несколько вещей Серова, в том числе портрет хозяйки дома Марии Григорьевны Грюнберг. В. А. Серов жил одно время в этой семье как родной».
После рождения еще одного ребенка Серовы переселились в более просторную квартиру в Большом Знаменском переулке. По описанию двоюродной сестры Валентина Александровича, художницы Н. Я. Симанович-Ефимовой, квартира была «старинного типа купеческая», какие любил Серов: «Анфилада больших комнат по фасаду и рой комнаток окнами во двор. Против окон главных комнат, на другой стороне узкой улицы, не дома высятся, а сад, прекрасный большой сад. За каменной оградой подымаются серебряные стволы тополей с раскидистыми ветвями. Внутри квартиры деревянная лестница ведет в комнаты мезонина, где живут старшие дети».
Эту же квартиру у Пречистенского бульвара, в доме, окруженном «чудесным садом», вспоминала и сводная сестра Серова Н. В. Немчинова-Жилинская. «Навещая Серовых по воскресным дням, – писала она, – я заходила в рабочую комнату Валентина Александровича, мастерской художника ее нельзя было назвать, не было видно ни мольберта, ни развешанных его картин, они всегда были установлены вдоль стен и повернуты обратной стороной. Стоял совершенно простой некрашеный стол, тяжелый и массивный, два-три стула и круглое кресло перед столом».
Некоторые подробности о бытовой жизни Серова оставил и наиболее преданный ему ученик, художник Николай Ульянов: «Живет скромно, в квартире нет ничего из того, что обычно является отличительным признаком обстановки художника, и притом известного. Ни ковров, ни тканей, нужных для живописи, ровно ничего, кроме нескольких жестких стульев стиля жакоб и пианино; никаких украшений, нет даже картин на стенах… Тут живет, а, может быть, и вовсе не живет, а лишь по временам пользуется жилищем какой-то чудак-спартанец, задавшийся целью спасаться здесь от „чужой пыли“».
Но точку зрения Ульянова, считавшего, что Серов жил по-спартански, опровергает Валентина Семеновна. В декабре 1900 года она информирует в письме свою сестру А. С. Симанович-Бергман о последних новостях их жизни: «Серовы в полном смысле слова освежились поездкой в Париж, но смерть Грюнберга их также поразила (Тоня как раз подоспел на похороны), и пришлось задуматься так же горько над „житейским“ вопросом. У них общее с Грюнбергами та роскошь, которою они окружают детишек, и вдруг какая-нибудь катастрофа, и дети останутся беспомощными, безоружными. Лёля не хочет этого признать, но у них роскошь растет из года на год. Я молчу, но она сама чувствует это и заговаривает себе зубы. К счастью, что они строят себе дачу в Териоки, а то деньги уходят зря…»
Оценивая это суровое мнение матери, последовательницы толстовского учения «опрощения», о бытовых условиях семьи сына, надо иметь в виду, что же сама Валентина Семеновна считала необходимым для жизни. После пожара, случившегося в 1887 году в деревне Едимоново, куда В. С. Серова перевезла из Петербурга все ценное, оставшееся от покойного мужа (рояль, фисгармонию, его рукописи, библиотеку, письма к нему видных современников – Р. Вагнера, Ф. Листа, В. Стасова и др.), когда все это сгорело, Валентина Семеновна дала зарок не обзаводиться вещами. «Перемена белья, два-три платья составляли весь ее домашний скарб», – писала о тетке Н. Я. Симанович-Ефимова. Очевидно, и само представление В. С. Серовой о «роскоши» (таковой мог считаться и просторный дом с мезонином, где жила семья) несколько отличалось от понятий на сей счет ее сына.
Памяти Левитана Дягилев посвятил не только собственную, написанную с глубоким чувством статью о нем. Он попросил Серова исполнить портрет художника, каким он был в последние годы жизни. Серов нарисовал Исаака Ильича в зимнем пальто и высокой шапке; взгляд его был потухшим, бесконечно усталым.
Очередную выставку картин журнала «Мир искусства» совместили, по предложению Дягилева, с посмертной выставкой Левитана, и обе были открыты в залах Академии художеств. В экспозиции «мирискусников» выделялись панно Коровина, принесшие ему золотую медаль в Париже, картины Александра Бенуа с видами Петербурга, эскизы росписей церкви в Абастумане, которые демонстрировал Нестеров.
Серов показал на выставке ряд портретов – бывший на Всемирной выставке портрет С. М. Боткиной, портрет Николая II в тужурке, детей Боткиных и картину «Выезд Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту», написанную для издания Кутепова.
Но особенно интересно и полно, по мнению Серова, был представлен на выставке Врубель. Одна из его картин называлась «К ночи». Фигуры пасущихся в степи лошадей, как и жесткие колючки репейника на переднем плане, будто окрашивались светом не видимого зрителю костра. Из тьмы к лошадям выступал мрачной внешности пастух – то ли цыган, то ли разбойник, то ли мифический сатир. И как тут было не вспомнить выполненное годом раньше и показанное на выставке Товарищества московских художников полотно Врубеля «Пан». Образ веселого синеглазого старика со свирелью в руках естественно вписывался в северный пейзаж: корявое, как и сам Пан, дерево за его спиной, вода поблескивает среди травы и мха, узкий серп месяца висит в вечернем небе. Атмосфера таинственности, легенды, сказки сближала «К ночи» и «Пана».
Стихия окрашенной лирикой девичьей печали, которую хочется исцелить уединением среди цветов, властвовала на другом полотне Врубеля, представленном на нынешней выставке, – «Сирень».
Врубель явно переживал творческий взлет, выражавший себя и в символике его картин, и в их ярком живописном языке. Дягилев заметил это, и за большой подборкой картин Левитана в «Мире искусства» были опубликованы репродукции с работ Врубеля, показывавшие его творчество в развитии: фрески Кирилловской церкви в Киеве, панно на сюжеты «Фауста» и суда Париса и последние картины – «ЦаревнаЛебедь», «Пан», «К ночи». Они сопровождались очерком о творчестве Врубеля. Автор, поклонник таланта художника, работавший вместе с ним в Киеве, Степан Яремич, не мог не коснуться драматической судьбы Михаила Александровича: «Имя Врубеля до недавнего времени проникало в публику изредка, как-то вскользь и то в качестве материала для глумления наших художественных критиков и художественной толпы. Так прошли сквозь строй отечественных насмешек иллюстрации к Лермонтову, панно Нижегородской выставки и многие другие вещи этого мастера… Более серьезным отношением и сравнительно большей известностью, – заключал Яремич, – Врубель начал пользоваться только со времени возникновения выставок „Мира искусства“».
У работ Врубеля на дягилевской выставке задержались Николай II с супругой Александрой Федоровной и родственником императрицы принцем Гессенским. Глядя на «Красных лошадей», как некоторые окрестили «К ночи», государь что-то вполголоса сказал по-французски императрице, и та понимающе кивнула. Высокие гости тут же проследовали дальше. Заметив среди встречавших их Серова, Николай милостиво поприветствовал его. Царская чета соизволила приобрести на выставке картину Бенуа «Пруд перед Большим дворцом» и, осмотрев заодно посмертную экспозицию Левитана, удалилась. Дягилев после их ухода довольно потирал руки:
– Кажется, друзья, визит прошел успешно.
Николай II в эмоциях был более сдержан и оставил в дневнике лаконичную запись от 3 февраля 1901 года, удостоверяющую, что он посетил «выставку декадентов с Дягилевым во главе».
Как обычно, пребывание в разгар выставочного сезона в Петербурге Серов вместе с Остроуховым и Александрой Павловной Боткиной использовал, чтобы сделать новые покупки для Третьяковской галереи. Кое-что приобрели с выставки «Мира искусства», собрали свой урожай и с Передвижной, где облюбовали жестко реалистическую картину Архипова «Прачки», а также «Сараи» набирающего силу пейзажиста Виноградова и полотно на историческую тему Сергея Иванова «Приезд иностранцев».
Репин подтвердил своим участием на Передвижной репутацию крупнейшего отечественного живописца, впрочем, не свободного от противоречий. Газеты и посетители выставки бурно обсуждали его картину «Иди за мной, Сатано», изображавшую Христа где-то в туманных горах и странную тень за его спиной – по мысли автора, дьявола. Неясный замысел картины, а также и сама ее живопись не делали чести признанному мастеру. Обсуждая с Боткиной эту работу, Серов сошелся с ней во мнении, что Илья Ефимович напрасно взялся за совсем не свойственную ему тему. Крепкий реалист, как и высоко чтимый им Толстой, он терпел фиаско, как только отрывался от питающей его почвы и уходил в мир философских умствований. И этот вывод подтверждали экспонируемые здесь же другие полотна Репина: портрет Льва Толстого в простой крестьянской рубахе, приобретенный Музеем Александра III, картина «Белорус», портрет Стасова и в особенности истинный шедевр пленэрной живописи «Под солнцем» – весь пронизанный светом летнего дня портрет одной из дочерей художника. Его поторопился приобрести для своей коллекции Остроухов, и по этому поводу Серов имел неприятный для обоих разговор с Ильей Семеновичем: по мнению Серова, место этой работе было в Третьяковской галерее, а не в личной коллекции Остроухова.
И уж совсем огорчило Серова, что из-за своей нерасторопности и неумения выработать общую позицию они, члены совета Третьяковской галереи, упустили в прошлом году «Пана», а теперь «К ночи». Год назад Врубель был готов отдать «Пана» за 150 рублей, но, пока они размышляли, стоит ли покупать и сколько накинуть Врубелю, чтобы не обидеть его, картину за 200 рублей приобрел родственник Врубеля по жене коллекционер Я. Е. Жуковский. Та же история повторилась и с полотном «К ночи». Надо было, считал Серов, без раздумий покупать эту чудную вещь, когда она появилась на выставке «Мира искусства». Опять промедлили, и картину купил начинающий собиратель Владимир фон Мекк, которому Серов, когда тот был еще гимназистом, давал уроки изобразительного искусства.
– Павла Михайловича живопись Врубеля не пугала, – с упреком говорила коллегам дочь основателя галереи Александра Павловна Боткина.
– Он был энергичнее нас, – вторил ей Серов, – объезжал мастерские художников еще до выставок и покупал то, что ему нравилось. А мы не можем собраться вместе хотя бы в дни открытия, чтобы сразу сделать свой выбор.
Понимая, что упреки адресованы в первую очередь ему, Остроухов пытался успокоить коллег:
– Ничего, в следующий раз будем умнее.
Репин же недаром так ярко напомнил о себе на Передвижной выставке этого года. Осенью художественная общественность собиралась отметить тридцатилетие творческой деятельности мастера, и Дягилев попросил Серова исполнить, когда выпадет возможность, портрет Репина для воспроизведения его на страницах «Мира искусства».
Работая с моделями в руководимом им натурном классе Училища живописи, Серов иногда чувствовал себя Пигмалионом, созидающим свою Галатею. Молодых женщин находили по объявлениям в газетах, которые давали желающие получить место горничной, а иногда прямо на улице. Очень редко встречались такие, кому уже приходилось раньше позировать обнаженными. Обычно же, как только Серов объяснял, что от них требуется, женщины краснели, смущались, потом следовал твердый отказ: «Нет, не могу, и как вам не стыдно предлагать мне такое!» Приходилось терпеливо растолковывать, что это обычная работа, отнюдь не хуже работы прачки или горничной – напротив, более чистая и спокойная, неплохо оплачиваемая, к тому же во имя искусства, и никто не посмеет обидеть. Нужна была немалая выдержка, чтобы успокоить дебютанток-натурщиц, уговорить, уверить, что к ним не будут приставать и домогаться их как женщин легкого поведения.
Первый сеанс был самым сложным. Постепенно, видя, что бояться действительно нечего, начинающие натурщицы привыкали, осваивались, раскрепощались.
Попытки посторонних лиц зайти в мастерскую во время сеанса Серов пресекал жестко и непреклонно, невзирая на лица, и однажды, не церемонясь, выпроводил из класса директора училища князя Львова со словами: «Сюда нельзя! Модель обнажается только перед учениками. Если я вам нужен, я сам к вам выйду». Львов не протестовал. В конце концов работа с обнаженной женской моделью была одним из условий, при которых Серов согласился принять натурный класс, и если он ставил при этом определенные ограничения, то имел на это право.
Само собой, не каждая из пришедших и согласившихся позировать годилась для этого. Всё, кажется, при ней: красивое, не испорченное тяжелой работой или родами тело, выразительное лицо, пышные волосы, а ходит или сидит как замороженная. Требовалась величайшая деликатность, настойчивость, чтобы «разморозить» натурщицу, настоять на своем, заставить, а лучше – терпеливо убедить ее принять нужную позу.
«Первую обнаженную женскую модель, – вспоминал один из лучших учеников Серова и автор воспоминаний о нем художник Николай Ульянов, – Серов поместил в полутемном углу мастерской. Этим он сразу как бы объявил свое живописное credo, делая установку на световую тональность. Четкость контуров при таком освещении смягчалась, почти исчезала, что было так важно для понимания различия между графическим и живописным началом. Если для рисунка он выбирал „рисуночные“ позы, на которых легче было уразуметь каркас и мускулатуру человеческой фигуры, то для живописи ставил модель в условия, выявляющие живописность освещения и цвета».
Между Серовым и учениками его класса сложились очень неплохие отношения. Подопечные высоко ценили своего наставника, о чем свидетельствует посланная ими 23 марта 1901 года телеграмма Серову: «Собравшись вместе, мы, проникнутые к Вам глубоким уважением, единодушно шлем Вам свою благодарность за Ваше благотворное влияние, каким мы пользовались в течение уже нескольких лет».
Под телеграммой среди других подписей – имена учеников Серова, оставивших яркий след в русской живописи, – Николая Ульянова, Константина Юона, Николая Сапунова… Поводом к телеграмме послужил годичный экзамен в училище, по итогам которого двум ученикам, Сапунову и Липкину, были присвоены малые золотые медали, а несколько других учеников совет преподавателей счел окончившими портретный класс.
Константин Юон, вспоминая Серова, писал, что их учитель, «глубокий человек и проникновенный психолог», оказывал на него огромное влияние не только своим живописным мастерством, но и всей своей личностью: «Серову и многочисленным беседам с ним я обязан очень многим из тех сторон собственного искусства, которые связаны с русской жизнью и природой… „В России жить, так уж и русским быть“, – говаривал он».
Весной того же 1901 года Серов принял предложение возглавить новообразуемый «высший художественный класс» училища (портретно-жанровый), однако поставил при этом условие, чтобы вторым преподавателем в его мастерской стал Константин Коровин. И это условие советом преподавателей было принято.
Ученики выбор своего наставника приветствовали. Они давно знали и любили живопись Коровина, по своим творческим установкам он был им близок. Вдвоем работать стало сподручнее. Константин Алексеевич всегда мог подменить, когда для выполнения заказных работ или других дел Серову надо было выехать в Петербург. Хотя иногда Коровина «заносило» во время занятий, и, вместо того, чтобы воспитывать живописные навыки учеников, он, случалось, давал волю своему красноречию и шлифовал на слушателях искусство признанного среди друзей рассказчика.
Год назад, когда Мамонтов был еще под следствием, Коровин присоединился к группе близких к меценату художников и подписал составленное Поленовым и Виктором Васнецовым теплое дружеское послание, направленное Мамонтову по случаю Пасхи. Сам же Савва Иванович после окончания судебного процесса с Коровиным держался холодно, расценивая его поспешное бегство из Частной оперы в Большой театр как предательство. Константин переживал, сознавая свою вину. И именно от Коровина узнал Серов, что после суда семейная жизнь Мамонтовых окончательно разладилась. Елизавета Григорьевна не могла простить мужу, что из-за его финансовых афер попали на скамью подсудимых и их сыновья. Была и другая веская причина. До поры до времени Елизавета Григорьевна предпочитала игнорировать доходившие до нее слухи о том, что Савва Иванович изменяет ей с певицей Частной оперы Татьяной Спиридоновной Любатович. Суд поставил точку и на этом: теперь супруги, официально не оформляя развод, жили врозь – Елизавета Григорьевна в Абрамцеве, а Савва Иванович переселился в приобретенный им скромный домик в районе Бутырок, куда перевел и гончарную керамическую мастерскую. С ним вместе продолжали работать в мастерской Врубель, Головин и технолог по обжигу Ваулин.
Конец 1900-го – начало 1901 года ознаменованы перепиской между Серовым и Чеховым. Поводом послужило желание Серова написать портрет известного писателя. Однако в ноябре из-за неважного состояния здоровья Чехова сеансы позирования не состоялись, и, отвечая на просьбу художника о встрече, Антон Павлович сообщал ему: «Если я теперь, в ноябре, не сумею побывать у Вас, то не разрешите ли Вы мне побывать у Вас весной, в начале апреля, когда я, по всей вероятности, опять буду в Москве? И тогда бы я отдал Вам сколько угодно времени, хотя бы три недели».
Заключая короткое письмо, Чехов писал: «Очень рад, что судьба доставила мне случай познакомиться с Вами – это было моим давнишним желанием».
Тогда же, пользуясь пребыванием Чехова в Москве, Серов в одной из записок писателю присоединился к настойчивым просьбам Дягилева, уговаривавшего Чехова написать статью памяти Левитана для журнала «Мир искусства». «Никому другому, как Вам, – убеждал Чехова Серов, – надлежит это сделать». И все же бесценные воспоминания Чехова об очень близком ему Левитане написаны не были. Позднее, оправдывая свое молчание, Чехов ответил Дягилеву: «Вы хотите, чтобы я сказал несколько слов о Левитане, но мне хочется сказать не несколько слов, а много. Я не тороплюсь, потому что про Левитана написать никогда не поздно. Теперь же я нездоров…»
В мае, во время следующего приезда в Москву, Чехов все же дал Серову несколько сеансов позирования, состоявшихся по некоторым данным в гостинице «Дрезден», где останавливался писатель. И тогда Серов написал акварельный эскиз портрета. Для полноценного портрета того времени, которое смог уделить Чехов, Серову не хватило.
Современники неоднократно отмечали, что по обостренному чувству правды и совести Серова можно было сравнить с Чеховым. Более того, Николай Ульянов, сам писавший с натуры портрет Чехова, подметил и кое-что общее между Серовым и знаменитым писателем: «Внешне суровый, замкнутый в себе, Серов не сразу обнаруживал свою внутреннюю сущность – чистосердечие и почти детскую прямоту. До конца жизни он был одержим своей правдой, остро чувствовал ее и хранил со страстью фанатика. И не она ли, эта наполнявшая его правда, иной раз озаряла его лицо той мягкой улыбкой, которая была так трогательна еще у Антона Павловича Чехова». По мнению Ульянова, «в дни сумерек, когда жили Чехов и Серов, оставалась, быть может, только одна возможность дать отдых своей душе – это остаться лицом к лицу с природой…».
Завершая рассказ о недолгих личных встречах Серова с Чеховым, можно вспомнить и слова Серова о Чехове, когда Валентин Александрович рассматривал сделанный его учеником Ульяновым портрет писателя: «Чехов неуловим. В нем было что-то необъяснимо нежное».
Бывая летом в Финляндии на даче В. В. Матэ в Териоках, Серов внял уговорам Василия Васильевича и приобрел близ Териок, в местечке Ино, земельный участок, где понемногу началось строительство дачи с мастерской на втором этаже. Там же, в Финляндии, на северном взморье, приобрел дачу в местечке Куоккала Илья Ефимович Репин. Помня о просьбе Дягилева исполнить портрет Репина для «Мира искусства», Серов решил навестить своего первого наставника в его летнем убежище.
От проходившей рядом Большой Морской дороги к даче Репина направлял приколоченный к шесту указатель с надписью «Вилла Пенаты». «Вилла» представляла из себя обычный одноэтажный финский домик, построенный из бревен и обитый тесом. Радушно встретивший гостя Репин познакомил его с новой женой – Натальей Борисовной Нордман. О ней Серов уже слышал ранее, что она писательница, выступает под псевдонимом Северова и приходится родственницей княгине Тенишевой.
После развода с Верой Алексеевной Репин, по слухам, пережил страстное увлечение одной из своих учениц, Званцевой, но та не ответила на пылкие чувства маэстро и, прервав учебу у него, укатила в Париж для продолжения там художественного образования. Вернувшись в Петербург, организовала собственную частную студию по образцу парижских, где позировали обнаженные натурщицы. Одним из преподавателей своей студии Званцева пригласила Серова, и раз в неделю он появлялся там.
Нордман же показалась Валентину Александровичу дамой чересчур эмансипированной, с ярко выраженным властным характером. Чувствовалось, что эмоциональный Илья Ефимович находился под сильным ее влиянием. Во всяком случае, вегетарианские блюда, которые с некоторых пор вдруг полюбил Илья Ефимович и усердно рекомендовал отведать гостям, ввела в этом доме, как понял Серов, именно Наталья Борисовна. Ее портрет, написанный Репиным год назад во время совместного заграничного путешествия, в изящной тирольской шляпе с пером, на фоне озера и обрамляющих его берега гор, украшал гостиную дома.
Незадолго до встречи с Репиным Серов ознакомился с недавно опубликованной под редакцией Северовой книгой Ильи Ефимовича «Воспоминания и статьи», в которой Репин собрал все свои выступления по вопросам искусства за несколько десятилетий, весьма путаные, противоречивые и свидетельствующие о том, как часто с прихотью гения опровергал он общепризнанное и менял свои художественные оценки. «Мир искусства» откликнулся на книгу критической рецензией, отметившей ее недостатки.
И все же Серов, всегда испытывавший благодарность к своему учителю, попытался скрыть во время визита и сразу возникшую неприязнь к Нордман-Северовой, и нелюбовь к принятым в этом доме вегетарианским блюдам и осторожно отозвался на вопрос Репина, согласен ли он с рецензией на его книгу в «Мире искусства»:
– Я сомневаюсь, Илья Ефимович, что она многому может научить молодых художников. Своим ученикам, во всяком случае, рекомендовать ее я бы не стал.
– А я, – защищаясь, сказал Репин, – и не рассматриваю ее как пособие для начинающих художников. Я лишь хотел показать в ней сложность и неоднозначность моего творческого развития.
– Для будущих ваших биографов, – не желая спорить с ним, заметил Серов, – она, безусловно, представит интерес.
Илья Ефимович поделился планами расширения дачи, сказал, что со временем сделает здесь первоклассную мастерскую. Пока же, за неимением оной, устроил подобие мастерской на крыше дома.
Изложив основную цель своего визита и получив согласие Репина, Серов нарисовал два головных его портрета – в профиль и в три четверти. Вероятно, во время той же встречи и Репин в свою очередь нарисовал углем, в полный рост, портрет Серова, сидящего на стуле, который сам Валентин Александрович ценил очень высоко.
Осенью Илья Ефимович опубликовал в газете «Новое время» письмо, в котором, обращаясь к своим почитателям, просил, не объясняя причин, воздержаться от чествования тридцатилетия его художественной деятельности. Редакция «Мира искусства», откликнувшись на это обращение, поместила в очередном номере заметку: «Понятно, что после такого письма было бы неуместным возбуждать вопрос о праздновании против воли того, кто им чествуется… Репин есть – эпоха, и чем ярче она проявится и чем более сконцентрируется сама на себе – тем важнейшие даст результаты. В виде напоминания об имеющем состояться тридцатилетии деятельности Репина мы помещаем его новый портрет, сделанный его учеником В. А. Серовым по просьбе „Мира искусства“».
В Петербурге, в доме Боткиных, Серов пишет акварельный портрет хозяина дома Сергея Сергеевича Боткина. Сын знаменитого на всю Россию врача и племянник писателязападника, чьи «Письма об Испании» «с упоением», по собственному признанию, читал двадцатилетний Серов, Сергей Сергеевич Боткин стал уже и сам известным врачом, профессором Военно-медицинской академии, и среди его пациентов – виднейшие представители российской аристократии.
С Серовым, как и с близкими к Дягилеву петербургскими художниками, С. С. Боткина сблизила фанатичная любовь к искусству. Он завсегдатай всех художественных выставок, где непременно старается найти что-то достойное пополнить собственную коллекцию произведений искусства. И в этом увлечении Сергей Сергеевич следует высокому примеру своего покойного тестя – Павла Михайловича Третьякова.
«Сергей Сергеевич, – вспоминал о нем А. Н. Бенуа, – рядом с Серовым был самым преданным, самым убежденным другом „Мира искусства“ в целом, а многие из нас в отдельности могли его считать еще за своего личного, вернейшего и ценнейшего друга». С Серовым С. С. Боткина сближал и общий интерес к истории России времен Петра I. И здесь вновь уместно привести свидетельство А. Н. Бенуа: «Как часто наши беседы съезжали на прославление изумительных красот Петрополя или на обсуждение смысла Петровского переворота, и всегда наша четверка (он, Серов, Дягилев и я) была в этом вопросе заодно, не соглашаясь ни с теми из наших товарищей, которых тянуло к „исконному“, к „узко национальному“, ни с теми, которые вообще презирали все русское, включая и весь тот маскарад, в который вырядила Россию прихоть „сына тишайшего“».
На портрете Серова С. С. Боткин – это и уверенный в себе врач, умеющий распознавать тайные недуги людей, и элегантный светский щеголь, вхожий в лучшие дома Петербурга. Год спустя Серов зарисует С. С. Боткина в компании с двумя композиторами, Антоном Аренским и Александром Глазуновым, увлеченно играющими в карты.
К тому же времени относится исполненный Серовым в Москве портрет Мики Морозова, четырехлетнего сына фабриканта, хозяина Тверской мануфактуры Михаила Абрамовича Морозова. В художественных кругах М. А. Морозов был известен как видный коллекционер современной русской и западной, в основном французской, живописи. В Москве были популярны еженедельные воскресные «завтраки» в доме Морозовых, на которые приглашались художники, чьи работы ценил и собирал Михаил Абрамович. По воспоминаниям жены М. А. Морозова, Маргариты Кирилловны, тоже весьма неравнодушной к искусству и особенно к музыке, «из всех бывавших у нас художников мой муж особенно любил Серова».
Портрет сидящего в кресле маленького сынишки Морозовых выполнен Серовым столь же любовно и с той же глубиной постижения детской души, с какой писал он портреты собственных детей.
Как обычно, более нудной и утомительной была для него работа над портретами «высочайших особ». К таковым следовало отнести портрет управляющего Русским музеем великого князя Георгия Михайловича, в котором проглядывают официальный холодок и та замкнутость модели, которая отличает и некоторые другие портреты кисти Серова членов царствующего дома – великих князей Михаила Николаевича и Павла Александровича. Как и другие Романовы, Георгий Михайлович, по словам его родственника великого князя Александра Михайловича, «находил удовлетворение от жизни в атмосфере манежа, лошадей и кавалерийских офицеров». Что же касается изящных искусств, каковыми он по своей должности управляющего Русским музеем обязан был заниматься, то, как писал художникпередвижник Я. Д. Минченков, великий князь «для определения достоинства художественного произведения, приобретаемого в музей, обращался к своей жене, считая ее более авторитетной в вопросах искусства».
В то же время, с продолжительными паузами из-за занятости изображаемых лиц, Серов продолжал работу в Петербурге над портретами Николая II в форме Кабардинского полка и княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой.
Очередной сеанс в Зимнем дворце, где Серов писал портрет Николая II, неожиданно для художника закончился неприятным инцидентом.
– Государыня хотела взглянуть, что получается, – сказал во время сеанса Николай.
– Это ее право, – пробормотал Серов. Он не любил за собой посторонних глаз во время достаточно интимной работы над портретом, но с желаниями царских особ приходилось считаться.
Вскоре в комнате появилась Александра Федоровна. Она сухо поздоровалась с художником и зашла за его спину, чтобы лучше рассмотреть портрет. Серов отложил палитру и кисть и отошел в сторону, ожидая ее вердикта.
– Мне кажется, – наконец заявила императрица, – вы допустили погрешности в рисунке лица. Смотрите, – протянула она руку к полотну, – здесь слишком широко, а подбородок надо чуть поднять.
Государь тоже подошел к портрету. Должно быть, он заметил, как напряглось лицо художника, и, желая оправдать супругу, сказал:
– Александра Федоровна неплохо разбирается в живописи. Она брала уроки у Каульбаха.
Но это лишь еще более взвинтило Серова.
– Я полагал, что все же умею писать лица. Вы же, ваше величество, не рискнете завершить эту работу вместо меня? – спросил он и в упор посмотрел на царицу.
Лицо Александры Федоровны покрылось пунцовыми пятнами. Она резко повернулась и вышла из комнаты. Николай кинулся за ней, желая что-то объяснить или извиниться за дерзость художника.
– Как вы могли, – вернувшись, с возмущением проговорил он, – так непочтительно отнестись к государыне?! Вы обидели ее.
– Прошу простить, – угрюмо ответил Серов, – но и я был задет замечанием о моих будто бы огрехах.
Сеанс был безнадежно испорчен, и вскоре Серов откланялся.
Этот инцидент аукнулся Серову на следующий день, когда предстоял очередной визит к княгине Юсуповой. Встреченный у дверей слугой-негром в пышной, с золотом, ливрее, Серов прошел в малую гостиную, где его уже ждала княгиня, одетая в изысканное платье с замысловатым рисунком, вполне гармонирующее с цветом обивки дивана, на котором она позировала. Серов, сдержанно поздоровавшись, принялся за работу.
– Вижу, вы сегодня не в настроении, – вкрадчиво прервала молчание княгиня, – и даже знаю почему.
Серов, не говоря ни слова, посмотрел на нее, ожидая продолжения.
– Сегодня у нас завтракали Николай Александрович с Александрой Федоровной, – любезно пояснила княгиня, – и государь обмолвился о вчерашней истории, когда во время сеанса зашла царица… Они обижены вашей реакцией. Государь считает, что вы напрасно погорячились, а теперь, чего доброго, еще и откажетесь писать его портрет.
– Мне было действительно очень обидно, – признался Серов. С княгиней Юсуповой он мог с некоторых пор говорить откровенно. – Не для того учился я живописи и достиг некоторых высот в этом занятии, отмеченных званием академика, чтобы выслушивать замечания от людей, которые к искусству имеют весьма поверхностное отношение. Даже, – с нажимом закончил он, – если они облечены при этом царской властью.
– А вы, оказывается, смелый и самолюбивый человек, – сказала княгиня и как-то по-новому всмотрелась в Серова. – Мало кто отважился бы на вашем месте вести себя с такой независимостью. Браво, Валентин Александрович!
Серов исподлобья, с недоверчивостью глядел на княгиню: не играет ли она с ним в светские игры? Такие как она, вращающиеся всю жизнь в высшем свете, привыкли за внешне любезными словами скрывать истинные мысли. Попробуй их пойми!
Но теплый, участливый взгляд княгини говорил ему, что он должен ей верить, ее слова искренни.
– Так как же с царским портретом, вы будете заканчивать его?
– Нет, – твердо ответил Серов. – Если императрице не нравится моя работа, зачем продолжать? У меня есть свои принципы, и я стараюсь следовать им.
– Еще раз убеждаюсь, что вы не только интересный художник, но и интересный человек. Ваша позиция заслуживает уважения. И мне приятно сознавать, – подпустила она толику женского кокетства, – что я пока ни в чем перед вами не провинилась и мой портрет вы все же закончите. Не так ли?
– Я закончу его, даже если он потребует больше года работы, – пообещал Серов.
– Спасибо, Валентин Александрович, вы меня утешили, – на этот раз несколько уныло ответила княгиня: перспектива позировать столь долго отнюдь ее не вдохновляла.
О решении Серова более не работать над портретом Николая II, о чем он заявил Юсуповой, и вообще над портретами представителей царской семьи известно со слов самого Серова. Об этом резком поступке художника пишет в книге «Моя жизнь. Автомонография» И. Э. Грабарь: «Действительно, как ни зазывали после этого Серова в официальном порядке и кружным путем, он наотрез отказывался от царских заказов. Кто помнит условия жизни в царской России и, в частности, оберегание престижа царской власти, тот поймет, какое гражданское мужество надо было иметь для того, чтобы так разговаривать и так вести себя с царями».
Об одной из окольных попыток, через С. П. Дягилева, уговорить Серова написать во дворце несколько новых портретов членов царской семьи упоминает Н. П. Ульянов. В ответ на это предложение Дягилева Серов телеграфировал ему свой категоричный отказ: «В этом доме я больше не работаю».
На исходе 1901 года стало очевидно, что о полном благополучии объединения «Мир искусства», и особенно это касалось его выставочной деятельности, говорить не приходится. Некоторых художников-москвичей не устраивала система отбора картин на ежегодные выставки. Не нравилось им и то, что экспозиции проходят лишь в Петербурге. Вот почему группа живших в Первопрестольной художников решила организовать собственную выставку в Москве. По числу участников новое объединение назвали группой «36». Наряду с некоторыми «мирискусниками» в него вошли и ряд художников, предпочитавших показывать свои работы на Передвижных выставках, и среди них Архипов, Пастернак, Остроухов и др.
После консультаций с Серовым и Бенуа, членами комитета выставок, устраиваемых журналом, Дягилев пришел к выводу, что шум по поводу нового объединения поднимать не стоит. Выживет – дай бог, не выживет – значит, не судьба. И пусть каждый сам решает, где ему выставляться, он лично мешать не будет. Сам Серов предложение принять участие в выставке принял и показал на ней три полотна. Два из них, «Баба в телеге» и «Прачки», были приобретены известным московским промышленником М. П. Рябушинским, решившим собирать собственную коллекцию живописи.
Врубель экспонировал картины «Царевна-Лебедь» и «Царевна Волхова», навеянные постановками в Москве опер Римского-Корсакова, в которых главные женские партии исполняла жена художника Надежда Ивановна. За день до закрытия выставки Врубель показал на ней еще одно полотно – «Демон поверженный», и оно успело произвести эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые превозносили красоту картины до небес. Но еще больше, как всегда случалось с Врубелем, было хулителей, и голоса их звучали громче.
Вопреки некоторым сомнениям, выставка имела немалый успех, и за месяц с небольшим, пока она была открыта (закрытие состоялось 3 февраля 1902 года), ее посетили около девяти тысяч зрителей.
Серов с Остроуховым, раздосадованные, что не успели увидеть «Демона», написали Врубелю записку с просьбой посетить его дома и осмотреть на квартире нашумевшую картину для решения вопроса о приобретении ее для Третьяковской галереи. Михаил Александрович ответил согласием. К ним присоединилась, как еще один член совета галереи, Александра Павловна Боткина.
Семейство Врубелей (осенью у них родился сын, названный в честь Мамонтова Саввой) недавно переехало в новую просторную квартиру в центре Москвы, на Лубянском проезде. Декорирована она была весьма изящно: в обивке мебели и стен проявлял себя высокий вкус хозяина.
Гости прошли по приглашению Врубеля в мастерскую, и Михаил Александрович выставил им на обозрение «Демона поверженного». Полотно было большим, вытянутым в длину на три с лишним метра. Демон лежал на дне ущелья, над ним громоздились присыпанные снегом горы. С живописной стороны картина была великолепна. Краски светились, фосфоресцировали, особенно в павлиньем оперении крыльев демона, в его диадеме на лбу, в отблесках заката у горных вершин.
– Как тебе удалось, Михаил Александрович, – поинтересовался Остроухов, – добиться такого сияния красок, что ты туда ввел?
– Всего лишь добавил бронзовые порошки, и вот такой эффект! – с готовностью пояснил Врубель, довольный тем, что гости обратили внимание на примененную им техническую новинку.
– Занятно, – пробормотал Остроухов, – очень интересно. А ты уверен, Михаил Александрович, что твоя смесь не почернеет со временем?
– А почему это она должна почернеть? – с вызовом спросил Врубель.
Остроухов промолчал.
– Ну, – нетерпеливо спросил Врубель, – что скажете, нравится?
В нем всегда было, когда дело касалось искусства, что-то резкое, бескомпромиссное, не терпящее возражений. А в этот день он был особенно возбужден. Вероятно, торопился закончить огромное полотно до закрытия московской выставки, работал день и ночь, переутомился.
Картина нравилась Серову, если бы не эти хрупкие краски, вызвавшие сомнение и у Остроухова. И не только это. В ней были погрешности против правильного рисунка, которые Серов принять не мог.
О том, что случилось далее, хорошо описано в воспоминаниях И. С. Остроухова. «Вещь, – писал он о картине Врубеля, – была очень интересная, хотя с большими НО. На одно из этих НО чисто по-товарищески указывал Врубелю Серов. Это был крайне неправильный рисунок правой руки Демона. Врубель, сильно побледнев, прямо закричал на Серова не своим голосом:
– Ты ничего не смыслишь в рисунке, а суешься мне указывать.
И пошел сыпать ругательствами. Дамы: Боткина и жена Врубеля, сильно смутились. Совершенно спокойно обратился я к Врубелю:
– Что же это ты, Михаил Александрович, оставляешь гостей без красного вина? Зовешь к себе, а вина не ставишь.
Врубель моментально успокоился и заговорил обычным тоном:
– Сейчас, сейчас, голубчик, шампанского.
Появилось какое-то вино, но мы уже старались не заговаривать более о „Демоне“ и вскоре с тяжелым чувством на душе ушли. Долго дебатировали по дороге вопрос: как быть, приобретать картину или нет, и как уговорить Врубеля убрать самое главное НО, которое рано или поздно должно разрушить чудное создание. Это Но состояло в том, что Врубель ввел в крылья падшего ангела, в его диадему и пояс, даже в снега горных вершин легко изменяющиеся бронзовые порошки. Что же, думали мы, приобретем эту вещь, а через несколько недель уже не будем и сами ее узнавать. Между тем вещь приобрести нам всем очень хотелось. И вот мы с Серовым решили ждать более покойного состояния у Врубеля и как-нибудь склонить его на замену бронзовых порошков красками…»
Через несколько дней Серов, по приглашению Врубеля, вновь навестил его, чтобы оценить переделки, внесенные автором в «Демона поверженного». Свое мнение он изложил в коротком письме Врубелю, в котором писал: «„Демон“ твой сильно исправился и лично мне нравится, но этого далеко не достаточно, чтобы вещь эту приобрести… Хотя для тебя и безразлично мнение мое, то есть, вернее, критика моя, но все же скажу – ноги не хороши еще».
Примерно в те же дни свое впечатление о «Демоне поверженном» изложил в письме Врубелю В. Д. Поленов. Отдав должное «изумительной красоте» полотна, Василий Дмитриевич сделал и критическое замечание, обратив внимание на тот же недостаток, который приметил и Серов: «Не знаю, кончена ли сама фигура, но мне не совсем было ясно отношение торса к ногам».
Ждать далее, выполнит ли Врубель его рекомендации, Серов уже не мог: ему надо было выехать в Петербург, чтобы совместно с Дягилевыи и Бенуа подготовить очередную выставку «Мира искусства». Был и другой повод – открытие так называемой весенней академической выставки. Серов посетил ее вместе с Александрой Павловной Боткиной и послал в Москву, Остроухову, каталог с пометками, какие картины, по его мнению, следовало бы приобрести для Третьяковской галереи. Подлинным открытием на ней стали полотна молодого живописца Николая Рериха. Он представил цикл картин на тему Древней Руси. Особенно хороши были «Гонец», «Заморские гости», «Поход Владимира на Корсунь». Радовало, что художник в своих новых работах избавлялся от ранее присущих его живописи чересчур темных тонов. Полотна стали ярче, интереснее по колориту. Но беспокойство Серова вызывало то, что картины Рериха быстро раскупались. На одной уже висела табличка: «Собственность В. В. фон Мекка», на другой, «Заморские гости», – «Собственность Государя Императора». Если так пойдет и дальше, для Третьяковки ничего не останется.
Еще до отъезда в Петербург, имея в виду, что он не сможет присутствовать на заседании совета галереи, на котором будет решаться вопрос о новых покупках, в том числе и полотна Врубеля, Серов сообщил Остроухову, что он за приобретение «Демона». Но в целом голосование прошло не в пользу Врубеля, и покупка «Демона поверженного» была отклонена.
Вскоре Серов, еще находившийся в Петербурге, получил строго конфиденциальное письмо Остроухова, с которым Илья Семенович разрешал ознакомить лишь С. П. Дягилева и А. П. Боткину. Остроухов писал о Врубеле. Узнав о решении совета не покупать его картину, Врубель спросил о причинах этого, на что Илья Семенович уклончиво ответил, что не имеет права сообщать все детали обсуждения в закрытом заседании совета. Взбешенный Врубель заявил, что более разговаривать не желает, и тут же ушел. Но через некоторое время вновь посетил Остроухова, и второй визит Илья Семенович описал столь подробно, что можно было зримо представить себе, как все это происходило.
Врубель бледен, но пока сдерживает свои эмоции. С иронией говорит хозяину дома: «Ты вел себя со мной истинным героем. Благодаря твоему геройству я исправил недостатки рисунка. Ты меня победил, как настойчивый купец, но мне не понравился твой купеческий тон. О „Демоне“ говорить больше не будем. Я его уже продал Мекку». Далее последовала ругань в адрес Серова: «Серов вел себя…» В этом месте письма Остроухов деликатно заметил: «Не стоит приводить подлинных выражений». Терпеть все это Остроухов не желал и прервал Врубеля: «Рад за успех твоего „Демона“. Против тебя лично я ничего не имею и готов простить тебе дерзости, списать их на болезненное состояние. Что же до Серова, так он больше других распинался за тебя…» Врубель резко обрывает: «Кончим об этом, и еще раз прости меня. Идем лучше обедать, а кто старое помянет…» – и выразительно машет рукой.
Садятся за стол. Остроухов торопится, чтобы не опоздать на заседание Думы, где ему надо быть. И вдруг лицо Врубеля темнеет, и он кричит: «Вы делаете преступление перед искусством, что не приобретаете „Демона“! Это великое создание! Вы обязаны его приобрести. Ваш отказ оправдывает всю грязь, какую льют на меня газеты. И как вы смеете выторговывать без моего ведома „Пана“ у моего родственника, чтобы бросить мне несчастные четыреста-пятьсот рублей?! Не смейте!..» Понимая, что пора положить конец этой сцене, Остроухов поспешно встает, берет под руку напуганную жену, Надежду Петровну, и говорит, что времени у него уже нет, он идет в Думу. На прощание берет у Врубеля слово, что тот посоветуется с известным врачом-невропатологом, профессором Ротом.
«Прошу мне верить, – заключал письмо Остроухов, – хотя я не специалист: Врубель болен. Это ужасно, но для меня это истина. Как он болен, временное ли или хроническое заболевание – не знаю. Устройте показать его специалисту, которого можете свести незаметно с ним в нашей компании. Быть может, вовремя принятыми тактично мерами его можно вылечить. Лечить его необходимо и неотложно… Пишу это для того, чтобы Вы знали, каким тоном Вам следует говорить с Врубелем и умно предостеречь других, чтобы не раздражать его по неосторожности…»
О болезненном состоянии Врубеля в период, когда ему стало известно о решении совета не покупать его полотно, свидетельствует и письмо С. П. Яремича В. Д. Замирайло: «Врубель по сему поводу страшно озлоблен на Серова и ищет случай, чтобы погубить этого ни в чем не повинного честного сердцем человека. Говорит, револьвер уже заготовлен и рука казнящего не дрогнет».
Знал или не знал об этом Серов, но встречаться с Врубелем в Петербурге, куда Врубель вскоре собирался привезти своего «Демона поверженного», чтобы показать картину на дягилевской выставке в Пассаже, большого желания он не имел. Основные дела в Петербурге были сделаны, открытие выставки «Мира искусства» уже не требовало его присутствия, и Серов выехал в Москву.
От приезжавших в Москву художников, участников выставки картин журнала «Мир искусства», Серов получал подтверждения, что болезнь Врубеля прогрессировала. Повинуясь импульсам, шедшим из глубин его сознания, Врубель продолжал безостановочно переписывать «Демона» в том зале Пассажа, где должно было висеть полотно, перед самым открытием выставки и даже в первые дни ее работы. Лицо Демона приобретало все более мрачные, исступленные черты, менялись его убор, детали ландшафта. В итоге же, как говорили переживавшие за судьбу полотна участники выставки, картина становилась хуже, чем была прежде.
За Врубелем были замечены и другие странности. Однажды он отправился вечером в Мариинский театр и, недовольный выступлением одного из певцов, прошел за кулисы и хотел выйти на сцену, чтобы пропеть вместо солиста известную арию. Его удерживали, он вырывался… Жена, Надежда Ивановна, чуть не насильно увезла Врубеля обратно в Москву.
Приглашение коллекционера Владимира Владимировича фон Мекка посетить его особняк по случаю приобретения им «Демона поверженного» и чествования автора картины вызвало у Серова мучительные размышления: стоит ли идти? Отказ от участия в банкете мог вызвать подозрения, что он не уважает Врубеля. Неизвестно, как стал бы реагировать на его отсутствие сам Михаил Александрович, и Серов решил все же поехать к фон Мекку.
Состоятельный коллекционер лицом в грязь не ударил, закатил роскошный пир и за столом первый начал петь дифирамбы Врубелю, превознося его мастерство и свою удачу: теперь, после упущенной Третьяковской галереей картины «К ночи», в его коллекции имеется и другой шедевр Врубеля, чем он чрезвычайно счастлив…
Некоторые подробности банкета известны из воспоминаний художника С. Ю. Судейкина: «…На ужине были Серов, Нестеров, Пастернак и другие… Врубель говорил о себе, о себе. Говорил, что „Демон“ – гениальное произведение. Он все больше волновался… становился дерзким. Он критиковал всех по очереди. Нестеров расплакался. Все ушли в другие комнаты… Врубель сказал Серову: „Ты, Валентин, не совсем еще погиб. Возьми моего „Демона“ и копируй его, и ты многому научишься. Довольно тебе подковывать сапоги московским купцам!..“».
Вскоре после банкета стало известно, что обеспокоенная развитием болезни Врубеля его жена, Надежда Ивановна, увезла Михаила Александровича отдохнуть на дачу, а в апреле Врубель был помещен в частную психиатрическую клинику в Москве.
Находясь в Петербурге в связи с продолжавшейся работой над портретом княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, Серов не мог не думать о несчастной судьбе Врубеля. Еще со времен совместной учебы в академической мастерской Чистякова он восхищался талантом Врубеля, его знаниями. Их сближала общая одержимость искусством. Подчас, особенно в период работы над иллюстрациями к Лермонтову, Серов сознавал, что, учась у Врубеля, и сам начинает подражать его графической манере. Временами, как в случае, когда Врубель помог ему и Коровину написать эскиз «Хождение по водам», превосходство Врубеля в монументальной живописи подавляло Серова. Но все эти чувства были чисты от каких-либо наносных примесей.
А вот сам Врубель, похоже, слишком переживал, что тот же Серов, моложе годами и не более талантливый, чем он, увенчан премиями, наградами, званием академика живописи и лестным для любого художника членством в совете Третьяковской галереи, в то время как истинная цена Михаилу Александровичу Врубелю известна лишь очень немногим. При обострении психической болезни задетая творческая гордость и ущемленное самолюбие приобрели у Врубеля гипертрофированные формы и его гнев обратился на более удачливого коллегу.
Известия о Врубеле, которые Серов получал через Остроухова, были неутешительными. Илья Семенович писал, что состояние Врубеля тяжелое, он буйствует и в палате день и ночь дежурят надзиратели. Консилиум пока не созывался. Ждут, что недели через две-три болезнь примет более спокойные формы. Тогда и соберутся, пригласив известного психиатра Владимира Петровича Сербского.
Остроухов переслал вырезку статьи из газеты «Русский листок» под названием «Душевнобольные декаденты». Это была грязная стряпня, рассчитанная на интерес обывателей к необычным и даже скандальным историям. Репортер начинал с того, что недавно в Петербурге сошел с ума некий художникдекадент и за последнее время это уже второй случай такого рода. Первым свихнулся известный декадент Врубель, помещенный в Москве в частную клинику для душевнобольных. Врач клиники Савей-Могилевич, повествовал бойкий репортер, считает, что у Врубеля прогрессивный паралич и положение его безнадежно. Ссылаясь далее на беседу с лечащим врачом, автор приписывал ему такие слова: «Декадентское направление и в литературе, и в живописи, и в сценическом искусстве подготовляет душевнобольных. Здесь они получают последние толчки, часто приводящие их к койке в лечебнице».
Сослался репортер и на мнение другого врача-психиатра, с которым ему будто бы довелось беседовать о связи между «декадентским» творчеством и психическими заболеваниями: «Резкая граница между произведениями аборигенов психиатрических лечебниц и художниками-декадентами утратилась».
Серов ответил Остроухову, что оставить это дело просто так нельзя: «Как врач Савей-Могилевич не имел никакого ни нравственного, ни юридического права допускать в лечебницу репортеров и рассуждать, называя больных по имени и указывая на прогрессивный паралич, и все это для публики – отвратительно… Надо что-нибудь предпринять».
Однако из следующего письма Остроухова выяснилось, что и сам Савей-Могилевич возмущен этой статьей: разговор с газетчиком был приватным, и он предупреждал ни в коем случае не оглашать их беседу в прессе. Тот же многое написал от себя, а слова врача намеренно переврал. Савей-Могилевич, по словам Остроухова, уже принял меры, чтобы репортер опубликовал покаянное письмо по поводу своего репортажа.
Горестное положение Врубеля требовало более энергичных действий в отношении его картин, попавших в частные коллекции. Родственник Врубеля по жене Я. Е. Жуковский, некогда ставший собственником «Пана», предложил Третьяковской галерее в лице Серова приобрести у него это полотно за 5 тысяч рублей. «Пана» Серов считал одной из лучших работ Врубеля. Озадачивала лишь запрошенная Жуковским слишком высокая цена за картину. Московская городская дума, которой подотчетен совет Третьяковской галереи, деньги считать умеет и не осудит ли их за такие расходы, тем более что речь идет о полотне сомнительного, в глазах многих, художника? Да еще, размышлял Серов, близится завершение срока его полномочий в совете Третьяковской галереи. А если его не выберут в совет вновь, что тогда? «Шансы на помещение Врубеля в галерею без меня в Совете, – делится он своим беспокойством с Остроуховым, – будут почти наверняка слабее, а между тем галерея должна иметь Врубеля, и хорошего».
На совет Третьяковской галереи в то время шла атака со стороны прессы. Членов совета критиковали за последние покупки, особенно за картину Сомова «Утро в саду». «В Третьяковской галерее наступает новая эра, эра плохих работ русских художников, – трубила газета „Новое время“. – Исполать ей, госпоже комиссии по покупке картин. Дай ей Бог здоровья». Ей вторили «Новости дня»: «Наш Совет, в котором преобладают люди крайних направлений в живописи, в Петербурге приобрел произведение г. Сомова… Сомов – это крайний из крайних… Что бы стало с бедным П. М. Третьяковым, если б он мог видеть, что делают его преемники, впрочем, не им избранные».
Потребовавший немалого терпения от художника и его модели портрет княгини Юсуповой во весь рост был наконец завершен. На последнем сеансе, когда Серов поздравил Зинаиду Николаевну с этим событием, она с облегчением театрально выдохнула, устало опустив плечи.
– Немилосердный вы человек, Валентин Александрович, – шутливо сказала княгиня. – Если бы я упомянула кому-нибудь из моих друзей, как вы меня мучили, вас бы вызвали на дуэль.
– Пощадите! – отозвался Серов. – Единственное мое оружие – это кисть и карандаш. Другим не владею.
– В самом деле? Ну тогда считайте, что вы прощены, – смилостивилась княгиня.
Портретом в целом она осталась довольна. Особенно удачно, по ее мнению, получилась голова и выражение лица. Платье же, мягко высказала она свой упрек, выглядит несколько эскизно.
– Один мой коллега, – парировал ее замечание Серов, – известный в Европе живописец Цорн, в таких случаях отвечал, что он художник, а не портной.
– Ха-ха-ха! – колокольчиком зазвенел смех княгини. – Если мои подруги будут критиковать портрет именно с этой стороны, я, пожалуй, вспомню ваши слова.
Желанию Серова показать портрет на очередной выставке «Мира искусства» Юсупова не противилась, но в ответ взяла с него слово, что как-нибудь летом, в Архангельском, он напишет портреты ее мужа и сыновей. Серов обещал исполнить просьбу.
Об отношениях, сложившихся между Серовым и З. Н. Юсуповой, которую считали одной из самых красивых и элегантных женщин того времени, ее сын, граф Феликс Феликсович Юсупов, вспоминал: «Деликатность, простота в обращении и благожелательность моей матери способствовали большой ее дружбе с художником. Не любя богатых людей за их самодовольство и тщеславие, Серов, однако, чувствовал себя легко и свободно в кругу моей семьи. Чеканная живопись Серова, незабываемое мастерство, своеобразная манера останавливаться на каждой черточке и детали приводили к постижению внутреннего содержания человека и окружающей его жизни, но, естественно, что они же требовали и многочисленных сеансов. Моя мать, высоко ценя талант Серова, никогда не отказывала ему в нужном для позирования времени. Сама же она… с доброжелательной лукавостью говорила: „Я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серовым мой портрет, а ему все мало, все пишет и пишет“. Зато терпеливое отношение моей матери увенчалось успехом, и сам художник был удовлетворен своим произведением. Особенно радовался Серов, когда ему удалась улыбка моей матери, которую он очень любил. Любил он и ее подвижность лица, и ее грацию».
Летом, в июле, Серов с матерью выехали в Германию, чтобы в небольшом городке Байрёйт, в специально выстроенном там театре, послушать оперы Вагнера. В этой поездке им составил компанию добрый знакомый Валентины Семеновны дирижер симфонических концертов Русского музыкального общества в Петербурге и филармонии в Москве Александр Борисович Хессин. С В. С. Серовой он познакомился, вспоминал Хессин, еще в начале 1890-х годов через музыковеда В. В. Ястребцева, и тогда они вместе организовали музыкальный кружок. Лет через десять он вновь встретился с Валентиной Семеновной в Лейпциге, где она занималась изданием оперы покойного мужа «Юдифь». По ее просьбе А. Б. Хессин перевел либретто оперы на немецкий, и совместная работа содействовала их дружескому сближению.
В Байрёйте Хессин бывал неоднократно и посвятил местной достопримечательности несколько страниц в своих мемуарах. Он писал: «В северо-восточном углу Баварии приютился этот маленький невзрачный городок, который с момента сооружения в нем вагнеровского оперного театра жил только культом Вагнера. Преклонение перед Вагнером перенеслось после его смерти на вдову его, Козиму, дочь Листа. Она положительно являлась кумиром немецкой публики… Необычайные, деспотические требования Вагнера к артистам-исполнителям и ко всему, имеющему касательство к делам театра, продолжались не менее энергично и его супругой. Мы, русские, называли ее „Рихардом в юбке“».
А. Б. Хессин в своих воспоминаниях замечает, что сама конструкция байрёйтского театра должна была, по замыслу Вагнера, способствовать более глубокому восприятию слушателями его опер: «На вопрос, заданный как-то дирижеру „Парсифаля“ Рихтеру: почему кресла расположены в партере не вплотную друг к другу, а с небольшими промежутками? – Рихтер ответил: „По замыслу Вагнера, слушатель должен чувствовать себя не только оторванным от внешнего мира, но и разобщенным с сидящими рядом смертными“. Вагнер придавал этим промежуткам между сиденьями большое значение, называя их „изолирующими линиями“, а подпольное место для незримого оркестра называл „мистической пропастью“».
Однако все эти конструктивные особенности театра на восприятие Серовым хорошо ему известных опер Вагнера в лучшую сторону не повлияли, и свои байрёйтские впечатления он скупо излагает в письме жене О. Ф. Серовой: «…ждал большего так называемого наслаждения. Получил мало». Исполнение «Летучего голландца» ему совсем не понравилось. Более тронул «Парсифаль», хотя, оговаривается Серов, не во всем разобрался и «надо, пожалуй, прослушать еще раз». В целом же – «пока чувствуется не воодушевление исполнителей, а скорее точная, не без сухости работа».
Спутник Серовых по поездке, А. Б. Хессин, как уже известный в России дирижер, попал в почетный «Листок гостей» Байрёйта и получил от Козимы Вагнер приглашение на торжественное заседание и обед в доме Р. Вагнера. Хессин не без иронии упоминает, что «царственная» Козима гостей принимала в своем кабинете поодиночке, в установленной церемониймейстером очереди. Пять минут уединения было предоставлено и гостю из России, но хозяйка говорила одна и русскому музыканту не дала проронить ни слова. Благосклонно отозвалась о Глинке и Бородине, не упомянув более никого из русских композиторов, «точно их и не существовало на свете», подметил Хессин. Что ж удивительного, что Козима Вагнер и ее окружение прозевали появление в городе в те же дни, когда там находились и Серовы, молодого русского композитора Сергея Рахманинова, прибывшего в Байрёйт во время свадебного путешествия. И так же незамеченным свитой осталось посещение города вдовой и сыном русского друга Рихарда Вагнера, композитора А. Н. Серова. Впрочем, и Валентина Семеновна, и Валентин Александрович по этому поводу, надо полагать, ничуть не переживали. Ну, что, право, из того, если бы «царственная» Козима и вспомнила их знакомство еще при жизни великого мужа, когда Серов был четырехлетним мальчуганом? Пусть мелким тщеславием тешатся другие. Серову же была намного приятнее нечаянная встреча в Байрёйте с Сергеем Васильевичем Рахманиновым.
Проживая после возвращения в Россию на даче в Ино, Серов ознакомился с книгой А. Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке» и внимательно прочел ту ее часть, где несколько лестных, с примесью сахара, слов было уделено и его, серовскому, творчеству. «Рядом с Левитаном, – писал Бенуа, – самым замечательным по величине таланта и по цельности своей художественной личности среди современных „чистых“ непосредственных реалистов представляется Валентин Серов… Замечательно, что и самые первые серовские картины в отличие от репинских – уже красивы. Уже в них с изумительной непринужденностью разрешены чудесные аккорды, уже в них выразилось стремление к гармоничности целого». И далее, утверждая закономерность использования им в рассказе о художнике музыкальных терминов, автор продолжал: «Красочные созвучия еще менее, нежели музыкальные, поддаются описанию и определению. Впечатление от серовских картин чисто живописного и, пожалуй, именно музыкального свойства – недаром он сын двух даровитых музыкантов и сам глубоко понимает музыку…»
Касаясь портретов Серова, Бенуа писал, что «они все отличаются замечательной характеристикой, тонким вниканием в психологию изображаемого лица… В последнем из своих больших портретов, в портрете княгини Юсуповой, Серов встал вровень с величайшими мастерами женской красоты».
А далее следовал уж совсем романтический пассаж: «Искусство Серова и ему подобных художников является как бы давно желанным выздоровлением, как бы ясным, освежающим утром, сменившим душную грозовую ночь».
Похвалы показались Серову неумеренными. И неприятно кольнуло то, что, восхваляя его, Левитана, Нестерова, Коровина и других художников их круга, Бенуа в то же время явно принизил творчество таких мастеров, как Василий Поленов и Виктор Васнецов. Умалил он и Репина. Это было несправедливо. Полемический окрас сбивал ценность труда, претендующего на историю современной русской живописи.
Итоговыми впечатлениями о поездке в Байрёйт Серов поделился в письме И. С. Остроухову: «Пожалуй, ждал большего – думал, ну, побываю в Байрёйте, а там можно будет спокойно и помереть». Несколько слов в том же письме уделил он книге А. Н. Бенуа: «Читал ли ты нашего Мутера – Ал. Бенуа – трудно, по-моему, писать историю, то есть давать окончательную оценку людям, еще существующим на белом свете, – тут суждения (если человек прямодушен, а таков Ал. Бенуа) получаются острее и пристрастнее. Вообще же я скорее слушаю его брань, чем одобрения».
Но начало письма об ином: «Будь добр, напиши мне… о Врубеле – что с ним сейчас происходит? Часто о нем вспоминаю с печалью».
В ответном письме Илья Семенович рассказал последние новости о Врубеле. Ему лучше, перестал буянить, стал вежлив с окружающими и, главное, Михаил Александрович уже сознает свое положение. Благодарит докторов за помощь в излечении. Иначе, цитировал Остроухов слова Врубеля, «попал бы в участок или куда-нибудь хуже: ведь я болезненно, невольно воображал себя, сам не знаю почему, и главнокомандующим, и императором – стыдно вспомнить!».
На консилиуме мнения врачей разделились. Большинство считало, что они имеют дело с преходящей маниакальной формой. Но участвовавший в консилиуме профессор Сербский с таким диагнозом не согласился и настаивал, что у больного прогрессивный паралич.
Остроухов сообщил также, что родные Врубеля, его жена и сестра, собираются отправить Михаила Александровича на лечение за границу, в Берлин, и это, как полагал Илья Семенович, было бы большой ошибкой: все же ему стало лучше, а от добра добра не ищут.
Напоследок Илья Семенович похвастался, что нашел превосходную партнершу и все лето музицировал с ней в четыре руки: «Здорово насобачился! Куда твой Байрёйт».
Сообщение о планах родных отправить Врубеля за границу насторожило Серова. Не посоветоваться ли по этому поводу с врачом-психиатром Львовым, жившем в Париже и женатым на Марии Симанович? Львов откликнулся на его письмо немедленно. Отправлять больного на лечение за границу он считал совершенно излишним: польза от этого едва ли будет, а риск весьма немалый.
Врач популярно объяснил Серову характер заболевания Врубеля: «В это время все ткани и клеточки мозга в ненормальном состоянии, и прикосновение к ним, как к живой ране, – болезненно. Болезненно воспринимаются все внешние впечатления, комбинации между ними получаются самые страшные, неожиданные, как это бывает в снах и кошмарах. Неверные очертания образов, неправильные комбинации их с прибавкой чуждых элементов – галлюцинаций – придают действительности совсем особую, непонятную для нормальных людей окраску, и больной живет часто в самой дикой фантастической обстановке, среди совсем особых, часто страшных существ».
Нельзя предвидеть, заключал Львов, какое действие может произвести на больного резкая смена среды, нравов, привычек, чужой язык, чужие лица…
Это мнение психиатра Серов сообщил Остроухову для ознакомления с ним родственников Врубеля.
Летнее пребывание в Ино Серов использовал для написания небольших картин этюдного плана – «Финский дворик» и «Финская мельница». Встретившись по возвращении в Москву с Остроуховым, Серов узнал от него, что совет психиатра Львова все же убедил родственников Врубеля и на днях Михаила Александровича перевели в другую клинику, при Московском университете, возглавляемую Сербским.
– Вот что, Семеныч, давай-ка поработаем еще немного над твоим портретом, – обсудив с ним последние новости, предложил Серов. Портрет Остроухова он написал еще весной, но сейчас, посмотрев на него в доме приятеля, пришел к выводу, что кое-что надо подправить.
– Вечные эти твои поправки! – недовольно пробурчал Остроухов, но покорно снял со стены портрет и устроился позировать у стола.
Сеанс был недолгим, и после его окончания Серов с удовлетворением заметил, что теперь лучше: прищур глаз модели за стеклами очков стал более натуральным. Он уже собирался откланяться, но неожиданно явился еще один гость – приехавший в Москву Дягилев.
– Не помешал? – благодушно спросил Сергей Павлович. – Удивительно, давно знакомы, а в этом доме все вместе встречаемся впервые. А я ехал мимо и думаю: загляну-ка к Илье Семеновичу, поинтересуюсь насчет портретов четы Бакуниных, подходят по цене или нет.
Эти два портрета кисти Левицкого – портрет сановника екатерининских времен, члена иностранной коллегии Петра Васильевича Бакунина и портрет его жены Екатерины Андреевны – Дягилев рекомендовал купить у хозяев полотен для Третьяковской галереи. Серов уже видел их с Александрой Павловной Боткиной в Петербурге и советовал Остроухову приобрести.
– Три с половиной тысячи за пару? – посчитал нужным уточнить Остроухов, пристально глядя на Дягилева.
– Именно так, – подтвердил Дягилев.
– Что ж, цена разумная. – Остроухов перевел взгляд на Серова: – Как думаешь, Валентин Александрович?
– Вполне.
– Спасибо за содействие, Сергей Павлович. Мы купим их по этой цене, – подытожил Остроухов.
Лукаво сощурившись, он добавил:
– Может, нам, Сергей Павлович, в честь встречи в четыре руки поиграть?
Дягилев охотно согласился.
Остроухов достал ноты, и они сели за рояль. Серов несколько минут с интересом наблюдал за ними. Семеныч, возвышаясь рядом с Дягилевым, выглядел сосредоточенносуровым. Лицо слегка согнувшего спину Сергея Павловича, напротив, отражало оживление и радость от фортепианной игры. Контраст получался очень выразительный. Серов схватил альбом и стал быстро рисовать.
Он вспомнил в эту минуту, как восхищался Семеныч пением Дягилева при их первом знакомстве. Но впоследствии отношения между ними не были ровными и переживали как полное понимание, так и периоды резкого охлаждения, даже вражды. И тот и другой были характера сильного, неуступчивого, и случалось – коса находила на камень. Как в инциденте с небрежным, по мнению Остроухова, обращением Дягилева с предоставленной ему Остроуховым акварелью Врубеля «Царевна Волхова» из собственной коллекции для экспонирования на выставке «Мира искусства». Лишь дипломатический талант Дягилева помог ему постепенно вновь наладить с Остроуховым добрые отношения.
И Серов радовался, что раздоры позади и сейчас оба так упиваются музыкой. Свидетельством их примирения стало и содействие Дягилева в приобретении портретов Бакуниных, и бегло исполненный Серовым рисунок, который оба портретируемых оценили по достоинству.
Чтобы подорвать движение «36», Дягилев решил бросить ему вызов и еще до показа в Петербурге впервые устроить выставку картин журнала «Мир искусства» в Москве. Ее организацию он возложил на Серова и в середине октября 1902 года направил ему «установочное» письмо с перечислением всех задач, больших и малых, которые непременно надо выполнить. Итак, «дорогой друг Валентин», как именовал его Дягилев, должен был обязательно съездить в деревню к Малявину (в скобках Дягилев указывал его адрес в Рязанской губернии) и убедить выставить что-нибудь новое и еще пять портретов, которые Дягилев посчитал нужным перечислить.
Затем Сергей Павлович поручал Серову переговорить с московскими художниками, Виноградовым, Пастернаком и М. Мамонтовым с целью «вырвать их из когтей „36“!».
Следующее по важности – «на твоей ответственности молодежь: Петровичев, Кузнецов и Сапунов, они должны быть „наши“». Эту задачу, надо полагать, Серову решить было относительно несложно, поскольку двое из упомянутых молодых художников, Павел Кузнецов и Николай Сапунов, были его учениками в Училище живописи.
После чего Дягилев настоятельно рекомендует привлечь к выставке талантливого Станислава Жуковского и постараться получить для показа, через В. В. фон Мекка или жену художника, работы Врубеля: «…по общему мнению это можешь сделать лишь ты один!»
Письмо Серову наглядно демонстрирует, как Дягилев умел и командовать коллегами, и уговаривать их, подчеркивая сильные стороны адресата. И Серов энергично берется за эти организационные заботы. Вопреки увещеваниям некоторые авторы предпочли все же обособиться и отдать картины на выставку «36». Но через жену Врубеля Надежду Ивановну Серов заручился согласием дать на выставку «Мира искусства» несколько полотен Михаила Александровича, в том числе давно написанные, но до сих пор не экспонировавшиеся «Гадалку» и «Испанию».
Выставочные хлопоты Серову пришлось делить с работой над заказным портретом московского промышленника и коллекционера живописи Михаила Абрамовича Морозова. Морозов был человеком мамонтовской закваски. Историк по образованию, он на досуге писал и публиковал под псевдонимом исторические сочинения и рецензии на художественные выставки. В его собрании современной западной живописи имелись первоклассные работы Мане, Моне, Ренуара, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека, и некоторые москвичи, кому приходилось бывать в доме Михаила Абрамовича, именно по этим полотнам составляли представление о новейших течениях во французском искусстве.
Предварительно обдумывая, как же лучше запечатлеть Михаила Абрамовича, Серов вспомнил портрет Мамонтова, исполненный Врубелем. Врубель написал Савву Ивановича сидящим в кресле, с торсом, слегка откинутым назад, и во всей его фигуре, в выпученных глазах были такой внутренний напор, такая скрытая сила, что сразу возникала мысль: «Этот человек и горы может своротить».
Михаил Абрамович позировал, по предложению Серова, стоя с широко расставленными ногами в позе чуть ли не монумента, долженствующей показать его жизненную устойчивость и готовность к любому вызову, какой бросит ему судьба. Как только психологический ключ решения образа был найден, дело пошло на лад. Такому знатоку живописи, как Морозов, угодить было нелегко, но Михаил Абрамович замысел художника одобрил, считая, что принятая им поза верно отражает его характер. Выходит что-то, думал, заканчивая портрет, Серов, подобное виденной в Венеции статуе кондотьера Коллеони, правда, московско-купеческого розлива. Эта мысль сообщила портрету едва заметный иронический оттенок.
На московской выставке «Мира искусства» собрались, как обычно, московские и петербургские авторы. По мнению Серова, она получилась не хуже других. А один из ее участников, Игорь Грабарь, впоследствии писал в мемуарах, что она «явилась огромным событием в московской художественной жизни». Хорошие вещи дал Лев Бакст – «Сиамский танец» и портрет графини Келлер, внушительно выглядели картины Рериха «Город строят» и «Заповедное место». Привлекли внимание полотна Врубеля. Вняв уговорам Серова, несколько работ дал Федор Малявин, в том числе новую картину – «Три бабы». Леонид Пастернак выставил полотно «Лев Толстой в семье». Сам Серов впервые показал портреты княгини Юсуповой и М. А. Морозова. Снова порадовал отличными пейзажами Игорь Грабарь. Встретив Серова на выставке, он спросил, указав на портрет Морозова:
– Как, Валентин Александрович, довольны им?
– Что там я! Главное, что и они довольны! – усмехнулся Серов, с утрированной уважительностью выделив слово «они».
Жаркие дискуссии возникали среди художников по поводу недавно опубликованной второй части книги Бенуа «История русской живописи в XIX веке». Ею восторгались, но ее и ругали. Серов же был солидарен с достаточно суровой оценкой книги Дягилевым. В статье по ее поводу, опубликованной в «Мире искусства», Сергей Павлович подверг ядовитой критике именно ту сторону труда Бенуа, которая вызвала неприятие и Серова. По мнению Бенуа, вся история современной русской живописи началась где-то после Крамского, Репина, Шишкина и других передвижников, а это, на взгляд Дягилева, был уже явный перекос.
«Все старые художники, – тонко иронизировал Дягилев, – как Крамской, Репин, Васнецов, Куинджи и другие, все они служили одному делу – возможности появления на свет „истинных, свободных“ художников современности – Серова, Левитана и Коровина: с этих трех лиц начиналось „свободное“ русское искусство, они впервые познали „ту тайну, которую называют прекрасным“».
«Известно всем, – продолжал Дягилев, – кто когда-либо перелистал хоть один номер „Мира искусства“, насколько я люблю и с каким уважением отношусь к Серову, и к Коровину, и к Левитану, но для того, чтобы утверждать, что в конце 80-х годов „вся задача в техническом отношении – и в смысле красоты, и в смысле живописи и света – была пройдена“ и „все, что требовалось для свободного и непринужденного творчества, было найдено“, – для того, чтобы заявить это, надо превратиться в нового Стасова с его прямолинейной самоуверенностью. У Стасова вся русская живопись началась с Верещагина, Крамского и Шишкина и вообще с истории „передвижников“, у Бенуа – она начинается с Серова, Коровина и Левитана или с возникновения „Мира искусства“. Какое невероятное, необъяснимое и неожиданное совпадение!»
Что ж, размышлял Серов, в этой рецензии Дягилев показал, что для него интересы истины стоят на первом месте и он не будет жертвовать ими, чтобы пощадить самолюбие Бенуа, даже ради цеховой солидарности, объединяющей обоих через «Мир искусства».
На исходе года в редактируемом Дягилевым журнале появилась еще одна статья, обратившая на себя сочувственное внимание Серова. Автором ее был Дмитрий Философов. Находясь летом в Венеции, он не мог пройти мимо случившегося там чрезвычайного происшествия – разрушения от ветхости знаменитой колокольни Святого Марка. История эта, вызвавшая в Италии оживленные толки о том, стоит ли восстанавливать стометровый памятник зодчества, послужила Философову поводом для далекоидущих рассуждений на тему о роли искусства в жизни общества. Философов утверждал, что на Западе искусство более доступно народу, нежели в России. Рассуждая об опыте французского композитора Шарпантье, созидающего новый театр для отдыха рабочих, Философов писал: «Да, жизненность, своевременность и свобода – великое дело для искусства. Что там ни говори, а оно живет и проявляет свою силу только тогда, когда попадает в толпу. Иначе оно, как устрица или сигары, рискует стать предметом наслаждения для самого безнадежного класса – денежной буржуазии. Особенно сильно замечается это неприятное явление у нас, в России… Искусство поощряется и ценится у нас лишь одной богатой буржуазией; аристократия, за редким исключением, абсолютно невежественна и ничего не поощряет, лица же так называемых интеллигентных профессий все поголовно заняты политикой. И вот художник волей-неволей сосредоточивает свою деятельность на удовлетворении эстетических потребностей буржуазного класса общества…»
«Пока не обновится у нас внешняя обстановка общественной жизни, – заключал Философов, – русскому искусству суждено чахнуть в душных парниках наших неказистых огородов. Весь широкий класс русской интеллигенции так захвачен идеей завоевания социальных реформ, что всякое занятие, непосредственно не связанное с политической пропагандой, ему кажется праздной забавой, а художники – бездельниками, дармоедами. Такое отношение общества раздражает художника, он или уходит в себя, или бравирует общественным мнением, и в результате получается, что мы живем в самых безобразных домах в мире, что книги у нас издаются не только безграмотно, но и уродливо, что в то время, как школы и детские у нас – холодные рассадники дурного вкуса, художники проектируют тысячные будуары для кокоток высокой марки…»
В последней реплике, относительно «тысячных будуаров», сквозил намек на предприятие «Современное искусство», затеянное при поддержке состоятельных любителей живописи князя Сергея Щербатова и Владимира фон Мекка и объединившее в качестве исполнителей Коровина, Головина, Бенуа, Бакста. Они проектировали изысканные кабинеты, гостиные, спальни и прочее, рассчитанное на клиентов с тугим кошельком. Будуар создавал для этой выставки Лев Бакст. Теперь не только Бенуа, думал Серов, мог быть раздражен откликом на его книгу Дягилева, но и Бакст имел основания обидеться на Философова. Внутренние трения в кружке былых единомышленников приобретали все большую остроту.
По основной идее статья Философова была весьма актуальной, о чем Серов и написал с похвалой Дмитрию. Поблагодарив за отзыв («Он пришелся как раз вовремя. Я знаю, что ты не комплиментщик, а потому особенно ценю твое мнение»), Философов между делом сообщил, что на него в журнале «большое гонение» – со стороны и Бенуа, и Бакста, и Нурока. «Получается, – скрепя сердце признавался Дмитрий, – что я не только бесполезен в „Мире искусства“, но даже вреден».
Все говорило, уверился в своем подозрении Серов, что отлаженный механизм их художественного кружка, который приводил в движение Дягилев, начал давать сбой.
Перед поездкой в Петербург на пятую выставку «Мира искусства» Серов по многим признакам ощущал, что обстановка накаляется, назревает буря. Бенуа, как и следовало ожидать, был нешуточно задет опубликованной в журнале статьей о его книге Дягилева. В пространном письме Серову он пожаловался на «нахала Сережу», который не только его, но и Нурока «слопал с рогами, копытами и хвостом», и называл дягилевскую статью «мерзкой по сути» и «филистерской».
В том же письме Бенуа коснулся и критических стрел, пущенных Дягилевым в постановки императорских театров, осуществляемые новым директором Теляковским. При прежнем директоре, князе Волконском, Дягилев, как человек особо приближенный к нему, быстро шел в гору, получил должность редактора «Ежегодника императорских театров» и с помощью своих друзей-художников сумел сделать это заурядное в прошлом издание таким, что, как говорится, любо глядеть. Но крах Волконского, вынужденного уйти в отставку из-за конфликта с фавориткой императора и великих князей балериной Матильдой Кшесинской, стал одновременно крахом карьеры на поприще императорских театров и самого Дягилева. Новый директор, отставной кавалерийский полковник Теляковский, зная властный и амбициозный характер Дягилева, почел за лучшее отстранить его от театральной работы. Такую кровную обиду Сергей Павлович, заядлый театрал, сознающий в себе огромное желание творить и пропагандировать новое на этом поприще, не стерпел и из амбразур «Мира искусства» начал методично обстреливать не понравившиеся ему спектакли императорских театров. Поскольку же в постановках как декоратор участвовал и Бенуа, попутно досталось и ему.
Касаясь этих нападок, Бенуа сообщил, что находит «более чем отвратительным» способ дягилевской борьбы с Теляковским. «Что за мучительная, прямо фатальная фигура, – тяжко вздыхал по поводу Дягилева Бенуа. – Чувствую в глубине души, что разрыв на сей раз довольно серьезный и едва ли залечим».
Следом за Бенуа к Серову обратился с письмом и Дягилев, призывая как можно скорее приехать накануне выставки в Петербург, «ибо у нас все очень и очень неладно». «Писать обо всем нечего, – скупо обронил Дягилев, – но, повторяю, твое присутствие здесь очень необходимо, ибо я жду ряда невероятных скандалов. В воздухе такая гроза, что не продохнешь».
Серов же, читая эти письма, чувствовал себя на линии фронта, где каждая из враждующих групп хочет перетянуть его на свою сторону. Еще до получения писем от коллег, занимаясь подготовкой московской выставки и пытаясь отстоять ее авторитет рядом с конкурирующей «Выставкой 36», Серов видел, как раскалываются ряды былых единомышленников. Постоянные прежде участники «Мира искусства» – Переплетчиков, Виноградов, Сергей Иванов, Рябушкин – предпочли теперь выставиться у «36». А Костя Коровин умудрился посидеть на двух стульях, представив свои картины и туда, и сюда.
На открытие петербургской выставки «Мира искусства» в Северную столицу заявилась необычайно большая делегация московских художников. О том, что произошло далее, сохранились воспоминания некоторых участников тех событий. Вот что писал, например, И. Э. Грабарь: «Дягилев, открывший собрание, происходившее в редакции, произнес речь, в которой сказал, что по его сведениям среди художников были случаи недовольства действиями жюри, почему он считает своим долгом поставить вопрос о том, не своевременно ли подумать об иных формах организации выставок. Он намекал на недовольство его диктаторскими полномочиями, открыто высказывавшееся в Москве. Сначала нехотя, а потом все смелее и решительнее один за другим стали брать слово. Все высказывания явно клонились к тому, что, конечно, лучше было бы иметь более расширенное жюри и, конечно, без „диктаторских“ замашек… Но самое неожиданное было то, что часть петербуржцев, имевших основания считать себя обделенными, вроде Билибина, Браза и некоторых других, стала на сторону Москвы. Еще неожиданнее было выступление Бенуа, высказавшегося также за организацию нового общества. Дягилев с Философовым переглянулись. Первый был чрезвычайно взволнован, второй сидел спокойно, саркастически улыбаясь. На том и порешили. Философов громко произнес:
– Ну, и слава Богу, конец, значит.
Все разошлись, и нас осталось несколько человек. Молчали. О чем было говорить? Каждый знал, что „Миру искусства“ пришел конец».
И. Э. Грабарь далее приводил иные, и тоже весьма веские причины, в силу которых распалось выставочное объединение: «Решающую роль в падении „Мира искусства“, как выставочной организации, сыграло недовольство не только москвичей, но и петербуржцев тем явным перевесом в журнале интересов литературно-философских над искусством изобразительным, который обозначился уже давно… Недовольство росло и ширилось. Когда к этому присоединились личные обиды и оскорбленные самолюбия, то катастрофа стала неизбежной».
На следующий день, 16 февраля, группа сторонников организации нового художественного объединения собралась в одном из петербургских ресторанов. Присутствовали, как записал Е. Лансере, Бенуа, Браз, Архипов, Билибин, Иванов, Грабарь, Переплетчиков, Малявин, Рерих, Пурвит, Остроухов, Ционглинский, Щербов, Трубецкой и, само собой, автор записи. Вновь воспользуемся свидетельством И. Э. Грабаря: «Предусмотрительные и практичные москвичи привезли с собой детально разработанный и, видно, длительно обдумывавшийся проект, зачитанный главным действующим лицом „бунта“ – Сергеем Васильевичем Ивановым. Устав был принят…»
На сходке художников в ресторане обстановка была уже совсем иной, страсти поутихли, о чем И. С. Остроухов сообщал в письме жене Надежде Петровне: «Решили – выставки „Мира искусства“ прекращаются, все члены их входят в наше товарищество „36-ти“. Это важное событие в художественной жизни свершилось так мирно и покойно, как лучше и желать нельзя». В том же письме Остроухов упоминает: «Обедаю сегодня у Толстых, куда приглашены Серов, Дягилев и еще кое-кто из их компании». Очевидно, что речь идет о доме вице-президента Академии художеств графа И. И. Толстого. Прослышав о конфликте в среде художников, мудрый граф, надо полагать, стремился за обеденным столом примирить противоборствующие стороны.
Об обстановке тех дней, накануне «бунта» и после него, регулярно сообщал в письмах дочери П. М. Третьякова Любови Павловне (по первому браку – Гриценко) Лев Бакст. Он как раз переживал сильное увлечение ею. Судя по его письмам, внутреннее напряжение снималось обильными застольями. «Сейчас, – писал Бакст 13 февраля, – вернулся с ужина с Серовым, Коровиным, Шаляпиным, Грабарем, Трубецким и Щербатовым у Кюба. Обедали, перешли затем в отдельный кабинет и до четырех часов! Ужас! Шаляпин пел, рассказывал. Сегодня все мы с выставки пошли на обед».
Тот же Бакст 16 февраля, после рокового собрания в редакции, пишет: «Это давно уже назрело и разрешилось слишком скоро, почти грубо! Серов не хочет никаких комбинаций нового общества. Ал. Бенуа, Сомов, Остроумова и я пока держимся одной сплоченной группой… Серов и Малявин отдельно и держатся за Сергея Павловича…»
И далее – упоминание об ужине, который устроил в целях примирения верный друг «Мира искусства» С. С. Боткин. На нем, перечисляет Бакст, были А. Бенуа с женою, Серов с женою, Сомов, Остроумова, Д. Философов, Дягилев, еще один друг «Мира искусства» коллекционер князь В. Н. Аргутинский-Долгоруков, Нувель, Остроухов, Коровин… «Нам всем, – писал Бакст, – жаль выставок, и ужин у С. Боткина показал более чем когда-либо нашу взаимную дружбу».
Последняя выставка «Мира искусства» придала свежие силы критическому запалу давнего противника журнала и его экспозиций Владимира Стасова. Патриарху не нравилось в ней решительно все: и узкие комнаты Общества поощрения художеств, где были развешаны картины, и состав участников, и прежде всего само содержание картин и техника их исполнения. «Тут все тесно, узко, сжато и мизерно, – делился впечатлениями Стасов, – начиная от затей распорядителей и кончая их безумными вкусами». О самих же картинах писал: «…только и есть налицо, что уроды и калеки, несчастные люди с расколотыми черепами, вытекшими вон мозгами, исковерканными глазами, ушами и носами, корявыми руками и ногами».
Вновь получил свою порцию затрещин многострадальный Врубель – притом за те произведения, которые, по мнению Серова и его друзей, принадлежали к числу лучших созданий художника – эскизы к росписи Владимирского собора в Киеве: «Богоматерь у гроба Христа», «Воскресение Христово», «Ангел со свечой». Хоть бы кто надоумил Владимира Васильевича, негодовал Серов, что нельзя бить лежачего, нельзя глумиться над человеком, находящимся в психиатрической клинике, приписывая его работам «расстроенное воображение», «бессмыслицу» и «отвратительные формы».
Досталось на орехи и Бенуа за эскизы декораций к опере Вагнера «Гибель богов», и Рериху с его древнерусским циклом, в котором Стасов увидел «приближение к декадентским безобразиям финляндца Галена». Пребольно бит был и Бакст за картину «Ужин», моделью для которой послужила жена Бенуа Анна Карловна. «Сидит у стола кошка в дамском платье…» – так интригующе описывал Стасов непривычный ему по живописи холст Бакста.
И стоило ли радоваться, размышлял Серов, что его собственные работы оказались на выставке единственными, не удостоенными бесцеремонной брани Стасова? «Зато иллюстрация Серова к „Охоте Петра I“, – смягчая тон, писал критик, – играла на нынешней выставке довольно значительную роль. Она маленькая, очень маленькая, но хоть немного восстанавливает репутацию Серова. Репутация эта в последнее время несколько пошатнулась от тлетворного сообщества с декадентами. Нельзя безнаказанно проводить много времени среди грязи и вони. Всегда что-нибудь к тебе да пристанет». Хотел, вроде, похвалить, но все же дал нагоняй за знакомство с «дурной компанией».
Живописуя увиденное у «мирискусников», Стасов с тоской восклицал: «Здесь… никоим образом не придет в голову воскликнуть: „Какой простор!“» Это восклицание многоопытного критика кое на что прозрачно намекало – оно послужило названием новой картины Репина, ставшей главным событием развернутой одновременно Передвижной выставки. Картина изображала морское побережье, плещущие в скалы волны и резвящуюся под их брызгами влюбленную парочку – студента в форменном картузе и городскую барышню. Некоторые, и среди них, надо думать, и Стасов, увидели в последнем творении Репина «Какой простор!» намек на переживаемую Россией политическую ситуацию, символ молодых сил общества, не боящихся бури и смело бросающих вызов стихии.
Серова же картина озадачила. В письме Александре Павловне Боткиной он назвал ее «курьезной» и не без легкой иронии написал, что только в России и только у Репина могут явиться подобные вещи.
После переизбрания в совет Третьяковской галереи ставшие уже привычными обязанности ее члена опять захватили Серова, и, признавая курьезность репинского полотна, он все же спрашивал у Боткиной: не приобрести ли картину для галереи? («В ней есть намек на переживаемую нами историческую минуту».) Потребовалось мнение резко осудившего это полотно Дягилева, чтобы туман, окутавший сознание Серова, развеялся и он признал справедливость сурового приговора Дягилева: «Репин неудачно спопулярничал, опоздав со своей вульгарной и глупой картиной ровно на двадцать лет».
После злополучного собрания, закрывшего выставочную деятельность «Мира искусства», Сергей Павлович быстро пришел в себя и, несмотря на высказанную в его адрес критику, продолжал вести журнал прежним курсом, популяризируя то, что ему нравилось и в чем он видел несомненное движение живописи вперед, и столь же страстно обличая пошлое и регрессивное, невзирая, как в случае с Репиным, на громкие имена.
Отдыхая летом с семейством в деревушке Ино в Финляндии, Серов продолжал строительные работы. Купленный им хуторской одноэтажный дом с хозяйственными пристройками постепенно превращался в двухэтажную дачу. На втором этаже Серов оборудовал мастерскую.
– Наконец-то, Лёлечка, – шутливо говорил он жене, – буду жить, как пристало академику живописи, с собственной мастерской. А то приезжают иностранные художники, напрашиваются в гости, а куда я их приглашу, когда в Москве и своей мастерской нет? Они так жить не привыкли. За дикаря, пожалуй, примут.
Старшие сыновья упрашивали его купить яхту, чтобы плавать по заливу.
– Ишь вы, вам бы все покупать! – урезонил он детей. – А вы попробуйте сами сделайте.
С помощью рыбака-финна, кое-что понимавшего в строительстве небольших судов, смастерили парусную лодку, тщательно проконопатили ее и, спустив на воду, отправились в первое плавание. День был выбран тихий, со слабым ветерком. Серов сел на весла, но спустя некоторое время, когда отошли от берега, взял на себя управление парусом. Полученные в Абрамцеве, под руководством Поленова, уроки парусного спорта не забылись, и вскоре яхта, ускоряя ход, плавно заскользила вдоль побережья.
– Как здорово, папа! – восклицали мальчики. – И где ты этому научился?
– Я еще в детстве, в Абрамцеве, заправским моряком стал, – с усмешкой, но и гордо отвечал отец. Ему было приятно, что он хоть чему-то, что считается настоящим мужским делом, может научить сыновей.
Через письма друзей до Серова дошла в Ино неприятная новость. В связи с окончанием полномочий в совете Третьяковской галереи на заседании Московской городской думы состоялись новые выборы, и стараниями гласных вместо забаллотированного Остроухова был избран сторонник Цветкова, всегда державшегося в оппозиции к Остроухову, Серову и Боткиной, некто Вишняков. Нападки на линию совета по пополнению фондов галереи все же повлияли на мнение Думы. Комментируя это решение, газета «Новости дня» писала: «Против Остроухова ратовала главным образом мещанско-купеческая часть Думы, боящаяся всего нового даже в искусстве, которого эта партия не понимает».
Что же делать? – размышлял Серов. Теперь противоположная партия в совете в лице городского головы князя Голицына и ставленников московского купечества Цветкова и Вишнякова будет иметь перевес и ничто свежее из живописи в Третьяковку уже не попадет. «Быть может, – делился он своими мыслями в письме Боткиной, – наш совместный демонстративный выход оказал бы больше пользы галерее?» Однако Остроухов не советовал делать этого. Разделяя досаду Серова, его предостерегали от опрометчивых действий и давний друг Матэ, и коллеги по «Миру искусства», с которыми он повидался во время наезда в Петербург.
В начале июля Серов выехал в подмосковную усадьбу Юсуповых Архангельское, чтобы выполнить обещание княгине написать портреты сыновей и ее мужа, графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона.
За семь лет, прошедших после его первого появления там, Архангельское, казалось, еще более похорошело, и в письме жене он пишет: «Знаешь, Архангельское со статуями и выстриженными деревьями и с отличным видом на другую сторону Москвы-реки все же очень и очень великолепно».
Прием его, упоминает в том же письме Серов, был со стороны Юсуповых весьма любезен, а княгиня заинтриговала его вопросом: «А вы не видали еще, что я сделала с вашим подарком?» Пока Серов пытался вспомнить, о каком подарке она говорит, не о портрете ли ее комнатной собачки, княгиня ушла в свой кабинет и вернулась с большой рамой в руках, в которую была вставлена фотография с написанного им портрета Николая II в тужурке, и он припомнил, что действительно некогда подарил ей эту фотографию.
– Отличная рамка! – похвалил Серов.
– И все?! – изумленно воскликнула княгиня. – И больше вы ничего не видите? А чья же, по-вашему, роспись внизу?
– Как, неужели?
– Да, да, – весело прощебетала княгиня, – собственноручная подпись государя императора!
– Я подавлен, – шутливо ответил Серов.
Он вновь почувствовал ту легкость общения и участливое внимание, какие отличали отношение к нему княгини и создавали благоприятную атмосферу для работы. Он был рад вновь погостить в этом прекрасном имении, где, начиная с Екатерины II, перебывали все русские императоры.
В эти июльские дни воздух усадьбы был напоен запахами цветов и хвои, и казалось, что каждый, ступающий на эту землю, стряхивает с себя груз мелких забот и переходит в иную жизнь, окруженную роскошью и красотой, более напоминающую времена римских патрициев и венецианских дожей.
Княгиня попросила его исполнить четыре портрета – обоих сыновей, мужа и ее. По договоренности с Зинаидой Николаевной он должен был завершить всю работу к концу августа, и в тот же день, осмотрев предоставленную ему комнату, Серов уехал в Москву, чтобы на следующий день вернуться с пожитками, холстами и всеми нужными для работы принадлежностями.
Он начал с портрета младшего сына, тоже Феликса. Когда-то видел его подростком. Теперь это был стройный шестнадцатилетний юноша. В чертах его лица проглядывало что-то восточное – наследие далеких предков. Княгиня настаивала, чтобы сын позировал в голубой венгерке. Серову было непросто убедить ее, что такой наряд придаст портрету аляповатость. Он выбрал из гардероба юноши двубортную куртку темно-серого цвета с легким сиреневым отливом. И опять, как в большом портрете княгини, рядом с юношей норовила пристроиться собачка – очень привязанный к нему юный бульдог по кличке Гюгис. Он ходил за Феликсом по пятам и, едва юноша начал позировать, тут же сел рядом.
– А можно ли и ему со мной?
– Можно, – улыбнулся Серов. – Ничего не имею против собак. Очень люблю их.
– Правда? – радостно откликнулся Феликс.
Общая любовь к животным сблизила их, и Феликс, проникшись доверием к художнику, рассказал, что Гюгиса мать по его просьбе купила в Париже три года назад, когда они посещали Всемирную выставку. Заодно и поведал о забавных проказах смышленой собачки.
Незадолго до смерти престарелый Ф. Ф. Юсупов, оставивший след в истории России благодаря участию в убийстве Григория Распутина, совершенном в петербургском особняке Юсуповых на Мойке, поделился по просьбе искусствоведа И. С. Зильберштейна воспоминаниями о Серове. По словам Ф. Юсупова, во время сеансов художник часто беседовал с ним, и эти беседы оказали на него «глубокое духовное влияние».
«Его восхищение перед Архангельским сблизило нас, – писал Юсупов. – После позирования я уводил его в парк. Там, сидя на одной из моих любимых скамеек, мы вели откровенные разговоры, неоднократно беседуя по вопросам, глубоко меня волнующим. Будучи тогда юношей, я очень задумывался над той огромной ответственностью, которую накладывали на меня несметные юсуповские богатства. Я глубоко понимал и чувствовал, что чем больше мне дано, тем и больше от меня требуется. Серов же, человек гуманный и убежденный защитник всех неимущих, своими долгими и дружескими беседами словно „оформил“ все мои сокровенные мысли и чувства. Его передовые взгляды оказали влияние на развитие моего ума. И по мере того, как его художественная кисть заканчивала мой внешний облик на полотне, – внутри меня созревал тот человек, каким я остался всю жизнь, и дружба Серова оставила во мне неизгладимое впечатление».
Таковы признания одного из самых богатых людей дореволюционной России, породнившегося после женитьбы на племяннице Николая II Ирине Александровне с царской семьей, и, надо полагать, они искренни.
По словам Ф. Ф. Юсупова, Серов, начав портрет в Архангельском, в общей сложности работал над ним около двух лет, с перерывами, вызванными гимназическими экзаменами юноши в Петербурге. Независимо от воли художника, под впечатлением, какое вызывала в нем модель, портрет Феликса Юсупова отразил свойственную лицу юноши самовлюбленность.
В середине августа Серов в письме жене, продолжавшей жить с детьми в Ино, сообщал, что начал писать Юсуповастаршего, «по его желанию на коне (отличный араб бывшего султана)». «Князь скромен, – замечает Серов, – хочет, чтобы портрет был скорее лошади, чем его самого, – вполне понимаю». И в этом «ракурсе» портрета для художника были свои преимущества: супруги Юсуповы время от времени отлучались из имения – то на маневры, то на приемы в Москву, – жеребец же оставался в полном распоряжении Серова, а значит, его изображению можно было уделять больше времени.
Сложнее всего обстояло с портретом старшего сына Юсуповых, Николая. Он был замкнут, держался высокомерно, в разговоры не вступал, позировал весьма неохотно. Портрет его, как и два начатых портрета княгини, пастелью и углем, продвигался с трудом.
Когда была возможность, Серов выезжал в Москву понаблюдать за ходом ремонта их квартиры в доме Уланова по Антипьевскому переулку. В конце августа он писал Ольге Федоровне в Ино: «Лёлюшка, дорогая, зачем так волнуешься по поводу ремонта и трат – это всегда бывает. Главное – береги свое здоровье и детей, вот и все – остальное пустяки – деньги дело наживное».
В начале сентября работа в Архангельском была в основном завершена, и портреты смогли посмотреть высокие гости, навестившие Юсуповых в Архангельском, – великий князь Сергей Александрович с супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной и греческая королева, великая княгиня Ольга Константиновна. И об этом строгом смотре Серов сообщает жене: «Ну-с, я, вроде, как бы окончил свои произведения, хотя, как всегда, я мог бы работать их, пожалуй, еще столько или полстолько. Заказчики довольны. Смех княгини немножко вышел. Пожалуй, удачнее всех князь на лошади, может быть, потому, что не так старался – это бывает. Высочайшие гости кушали чай и одобрили мои произведения. Перед их приездом, шутя, я спрашивал княгиню, что когда, мол, приезжает ревизионная комиссия (намекая на вел. князя), и вот Сергей Александрович, обращаясь ко мне, говорит, что ревизионная комиссия одобрила (княгиня изволила передать сию мою шутку). Греческая королева изъявила: „Рада познакомиться“, а засим, по желанию Елизаветы Федоровны, за чаем сидел по левую руку ее величества и изволили беседовать (о святом искусстве, разумеется)».
Самым неприятным для Серова, как обычно, был расчет за исполненную работу. Граф Ф. Ф. Сумароков-Эльстон небрежно заметил, что цена его не волнует, «сколько назначите, то и заплатится». Но при таком подходе назначать высокую цену значило бы, как считал Серов, злоупотреблять щедростью клиентов, и он, умаляя свой труд, запросил за все портреты 5 тысяч рублей. Впрочем, эта сумма позволяла расплатиться с долгами, отдать деньги за учебу старшей дочери Ольги да еще кое-что отложить про запас.
В сентябре начались занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества, сопровождаемые обычными в таких случаях хлопотами: поисками натурщиц, кистей и холстов, работой с учениками. Портрет Зинаиды Николаевны Серов заканчивал в московском особняке Юсуповых, расположенном неподалеку от училища. Как-то, возвращаясь от княгини, он почувствовал острую боль в животе, будто что-то изнутри раздирало его на части.
– Остановите здесь, – попросил извозчика, когда, свернув на Мясницкую, они поравнялись с училищем. – И, пожалуйста, помогите мне зайти в здание.
Увидев его, директор училища князь Львов испуганно вскрикнул:
– Да что с вами, Валентин Александрович?! На вас лица нет.
Серова уложили в одной из комнат, немедленно вызвали врача.
– Не знаю, – сказал он доктору, – что случилось. Завтракал в ресторане. Быть может, отравился.
Так началась тяжелая болезнь, на несколько месяцев приковавшая художника к постели.
Временами, из-за непрекращавшейся боли и жара всего тела, Серову казалось, что дни его сочтены и он в двух шагах от смерти. Состояние неуверенности и безнадежности подогревалось разноголосицей осматривавших его врачей. Одни считали, что у него воспаление легких в тяжелой форме, другие подозревали аппендицит, третьи еще что-то, чуть ли не брюшной тиф. Знакомый Серова, коллекционер живописи врач Алексей Петрович Ланговой (год назад Серов писал его акварельный портрет), склонялся к диагнозу прободения желудка и настаивал на операции. Последняя точка зрения в конце концов возобладала.
В эти дни, переживая возможность худшего исхода, Серов угрюмо размышлял о своей семье. Шутка ли сказать – пятеро детей, а будущее, оказывается, ох как зыбко! Не такие уж большие деньги приносит в России слава живописца. Сбережений хватит ненадолго, на месяц-полтора. А если, оптимистически отметая летальный исход, допустить, что ему предстоит проболеть несколько месяцев, что тогда? Ничего не остается, как опять залезать в долги, брать авансы под будущие заказные работы. Совсем, значит, напрасно поскромничал он и запросил с несметно богатых Юсуповых даже меньше, чем брал с купцов. О семье, о таких вот непредвиденных обстоятельствах не подумал.
Естественное в его положении дурное настроение пытались развеять друзья. Самое горячее участие принял Остроухов. Забросив чайную торговлю в предприятии тестя, сутки напролет проводил в их доме, успокаивал больного и жену, вел переговоры с врачами, принимал газетчиков, желавших узнать о состоянии здоровья известного художника.
В первые же дни после заболевания приехал из Петербурга Сергей Дягилев, пытался приободрить шутками, рассказывал последние новости художественно-театральной жизни, требовал не унывать, верить в лучшее. Приходили Коровин, Пастернак и другие.
Чуть ли не ежедневно почта приносила многочисленные пожелания выздоровления – от учеников Училища живописи, от студентов из Петербурга, от коллег-художников, от клиентов, обязанных ему своими портретами. Среди первых сочувственно откликнулись на болезнь Юсуповы. Все это хоть как-то облегчало самочувствие больного. Он и не думал, что столько людей способны так тепло думать о нем.
О настроении Серова в те дни можно судить по письмам Остроухова их общим друзьям. В начале ноября 1903 года Остроухов сообщает Александре Павловне Боткиной: «Лечебница, рекомендованная мною, очень понравилась Ольге Федоровне, а по ее и моим рассказам, и Серову. Сегодня доктора, вероятно, решат переезд. Все-таки какая-то маленькая капля надежды на хороший исход у меня есть, несмотря на настроение Серова. Он признается, что смерть для него не страшна больше, он много передумал за это время о ценности жизни и страхе смерти и совсем не боится умереть…»
Оперировать Серова отвезли в частную клинику Чегодаева, которую рекомендовал Остроухов. Накануне – кто же знает, чем все закончится? – Серов написал завещание: все имевшееся у него имущество оставлял жене Ольге Федоровне. Посетившему его Остроухову наказал, если судьба окажется немилостивой, с толком распорядиться принадлежащими его семейству картинами и рисунками: «Это единственное, что может принести жене и детям какие-то деньги».
Но все обошлось благополучно, и 28 ноября Остроухов ответил на обеспокоенное письмо Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. «Операцию, – писал он ей, – очень сложную и тяжелую (час 25 мин) больной перенес блестяще. Перед операцией был совершенно спокоен и самым храбрым образом смотрел в лицо смерти. Сделал все распоряжения на случай печального исхода.
После операции мучился болями в оперированных местах, но температура сразу спала… Надежда на выздоровление растет с каждой минутой. Доктора сияют от радости, хотя и сдерживают себя.
Вчера, когда Серов узнал температуру, то сперва не поверил, но когда убедился, что его не обманывают, задрожал всем телом, крепко сжал руку Ольги Федоровны и заплакал от радости…»
В те же дни Остроухову пишет И. Е. Репин: «Благодарю Вас, дорогой Илья Семенович, за известие о Серове… Я так сокрушаюсь при мысли о нем. Вам известно, как вся наша семья его любит как человека, я не меньше. Он мне всегда мил и дорог. А уж о художнике Серове и говорить нечего… Для меня это настоящий драгоценный камень, в который чем больше смотришь, больше погружаешься, больше любишь и дорожишь им… Передайте ему мое сердечнейшее желание скорейшего выздоровления».
Выздоровление длилось еще полтора месяца, но уже дома. С отступлением болезни вернулся и вкус к жизни, и с жадностью путешественника, уцелевшего в опасном плавании, Серов погрузился в последние газетно-журнальные новости о культурных событиях, взволновавших общество. Одним из них стала премьера в Большом театре оперы Рубинштейна «Демон» с декорациями Коровина и с Шаляпиным в главной роли. Вот что хотелось бы посмотреть для полного исцеления духа. Самочувствие уже вполне сносное, так не пора ли сходить? Серов обратился к Шаляпину через общего знакомого доктора Трояновского с просьбой помочь попасть на спектакль. Федор Иванович откликнулся немедленно пылкой запиской: «Дорогой мой Валентин!
Сейчас доктор Трояновский сказал мне о твоем желании слышать меня в „Демоне“. Дорогой друг, если бы ты знал, как я счастлив, как я счастлив!
Слава богам, ты здоров.
Иди, пожалуйста, в ложу бельэтажа, с левой стороны, номер 5. Там будут сидеть: Немирович-Данченко с женой, Максим Горький с женой и некий Пятницкий. Они все будут предупреждены об этом и будут крайне счастливы тебя видеть в своей компании – иди же, дорогой мой, иди.
Целую тебя крепко, как крепко люблю.
Твой Федор Шаляпин».
Не желая привлекать к себе излишнее внимание, Серов проскользнул в ложу, когда уже погас свет. Занавес поднялся, и открылась первая картина действия. Да, недаром, подумал Серов, Костя Коровин, готовясь оформить спектакль, облазил Дарьяльское ущелье, запечатлев в эскизах характерные черты природы Кавказа и архитектуры горских народов. Как хороша была его декорация безлунной ночи в горах с ее мертвенным холодным покоем. И как хорош был Шаляпин в костюме Демона – в золотом панцире, в сандалиях на босу ногу, в темном плаще с легким, трепещущим от малейшего дуновения бело-красным шлейфом.
Образ страшной и обольстительной потусторонней силы, когда-то счастливо найденный и с незабываемой экспрессией воплощенный Шаляпиным в Мефистофеле, ныне благодаря поэзии Лермонтова, музыке Рубинштейна и явно не без влияния картин и рисунков Врубеля обогатился новыми красками, принял в себя печаль и тоску, способность к вполне человеческим чувствам. И как пленительны были в устах Шаляпина переходы от нежного, почти отцовского утешения Тамары в арии «Не плачь, дитя, не плачь напрасно!» к величавой мелодии, вызывающей мысль, будто его голосом поют свою песнь о тщете всего земного и превосходстве мира без страстей сами звезды.
Не напрасно, размышлял, слушая оперу, Серов, вместе с Костей Коровиным они восхваляли перед Шаляпиным искусство Врубеля, обратили внимание Федора на замечательные иллюстрации к Лермонтову, выполненные Михаилом Александровичем. Во многих чертах играемого Шаляпиным образа чувствовалось воздействие того Демона, которого создал в своем творчестве Врубель.
В двух последних номерах «Мира искусства», просмотренных Серовым после возвращения из клиники, он обратил внимание на новую подборку репродукций с работ Врубеля. Никогда еще художника не представляли так полно. Приходилось лишь жалеть, что только две из них – «Корабли» из собрания Алябьева и «Демон поверженный» – были выполнены в цвете. Репродуцированы были даже те вещи, которые ранее Серов не видел. Оставалось лишь гадать, насколько хорош в красках портрет девочки на фоне ковров из собрания киевского коллекционера Терещенко. В этой ранней картине Михаил Александрович с недоступным даже поздним его вещам совершенством выразил свое понимание красоты.
Столь большое место, уделенное журналом Врубелю, можно было объяснить чувством вины перед ним за то, что не смогли достойно показать его творчество раньше, когда художник был здоров. Тут явно просматривался мотив искупления. По той же причине покаянно посыпал голову пеплом Александр Бенуа, признавая в посвященной Врубелю статье, что не отвел ему подобающего, заслуженного им места в своей «Истории живописи в XIX веке». Бенуа писал, что Врубель сделался жертвой своего гения, настолько опередившего время и забросившего его в такие высоты, что художник, как в безвоздушном пространстве, оказался в полном одиночестве. Именно в этом, считал Бенуа, кроется причина тяжкого недуга не понятого обществом художника.
С подобной трактовкой, в которой проглядывал временами свойственный критическим этюдам Бенуа романтизм, Серов согласиться не мог. Не раз бывали в истории искусства подобные случаи, когда яркий талант оставался не признанным современниками. Но это отнюдь не сопровождалось помешательством. Тут было что-то иное, и тайну эту Врубель носил при себе.
После спектакля Серов хотел тихо и незаметно улизнуть, но в фойе его перехватил Коровин и сообщил, что Шаляпин настойчиво приглашал его присоединиться к их компании и ехать сейчас в ресторан «Стрельна» («Юра Сахновский с лошадями уже ждет»). И Серов, не особо упираясь, согласился: неужели, после всех этих больничных лишений, не может он вновь позволить себе радость дружеского застолья?..
Тревожные вести с Дальнего Востока об усилении в Японии антирусских настроений и активной подготовке там боевых действий против России достигли критической точки. Из газет Серов узнал о разрыве дипломатических отношений между Россией и Японией и, предвидя дальнейший ход событий, горестно поздравил петербургского друга Матэ с войной. Прогноз не замедлил оправдаться: 26 января японцы напали на русский флот в районе военно-морской базы Порт-Артур, а на следующий день было официально объявлено о начале войны.
Прогремевшая грозным залпом весть взбудоражила все круги общества. Александр Бенуа, порадовавшись выздоровлению приятеля и сообщив в письме о скором выходе в свет своей новой книги «Русская школа живописи», счел нужным, коснувшись войны, заметить, что «даже эстеты всполошились, и Нурок! приносит политические новости».
Да, печалился мыслями Серов, не удалось-таки нынешнему государю удержаться на высоте дипломатической гибкости его покойного родителя, заслужившей Александру III репутацию «царя-миротворца». Война, судя по всему, не будет для русской армии легкой, обескровит страну и народ, и неизвестно еще, чем она кончится. Слишком велики пространства, отделяющие центр России от восточных окраин, слишком трудно перебрасывать туда технику и войска. Хотя уже сейчас ясна дальновидность Витте, энергично обеспечившего прокладку на Дальний Восток железной дороги. Да и такой путь занимает немалое время. Это только в аттракционе, который они с Лелей посетили на Всемирной выставке в Париже, все легко и просто: несколько минут воображаемого движения – и выходишь из поезда в Китае. На деле же поезда идут туда отнюдь не быстро.
В самой Москве начало военной кампании пока не очень-то замечалось, жизнь шла своим чередом. Перенесенная болезнь еще сказывалась усталостью при прогулках, врачи рекомендовали отдохнуть на природе, и Серов решил отправиться на отдых в Домотканово. Тем более что хозяева усадьбы, старина Дервиз с супругой, обеспокоенные его здоровьем, настойчиво звали после поправки навестить их. Лёля советовала не брать с собой ни кистей, ни холстов, чем вызвала шутливое возмущение мужа: «Помилуй, Лёлечка, я же без работы погибну!»
В феврале Серов вновь оказался в Домотканове и со сладкой истомой в сердце наблюдал восход над полями румяного от мороза солнца, слушал возбужденный от предстоящей дороги всхрап коней, радостный гвалт ребятишек, азартно лепящих снежных баб, и каждый прожитый в усадьбе день словно прибавлял сил, целительно действовал на душу. И вот уже рука привычно тянется к карандашу и кисти, и он пишет в доме гостящую у родичей плутовку Нину, младшую из сестер Симанович, и подросшего Митю Дервиза, и, который уж раз, его отца, изрядно поднаторевшего в хозяйственных делах и с видом знатока рассуждающего, как скажется нынешняя зима на будущем урожае. Впрочем, чаще говорили о начавшейся войне, по деревням шел призыв в армию, и как-то, выйдя прогуляться в село, Серов и сам стал свидетелем раздирающей душу сцены прощания матери с уходящим на войну сыном. Она повисла на его плечах мертвой хваткой, и громкий, навзрыд, плач женщины переходил в страшный своей безысходностью почти звериный вой.
Освоившись и окрепнув телом, Серов совершал теперь дальние прогулки с этюдником на плече, писал деревенские задворки, сараи и однажды был зачарован картиной пьющих воду из небольшого корытца молодых жеребят, так называемых стригунов. Скрывшееся за горизонтом солнце окрашивало небо в розово-желтый цвет. Стоявший с краю жеребец вздрогнул от звука звякнувших за дворами ведер и, выпрямившись, настороженно повернул морду. Серов торопливо зарисовал лошадей и уже дома написал на эту тему этюд пастелью. В нем отразились нежная прелесть уходящего зимнего дня, тревога вспугнутого жеребца, да и по краскам (темная плоть животных на фоне снега и закатного неба) получилось неплохо. Рука его, как доказала последняя работа, вновь освоилась с привычным ей ремеслом.
Уже в Москве, вернувшись из Домотканова, Серов узнал из газет скорбную весть о взрыве флагманского корабля русской эскадры броненосца «Петропавловск» и гибели многих матросов и офицеров во главе с командующим эскадрой адмиралом Макаровым. Как следовало из записанных репортерами рассказов спасшихся моряков, броненосец напоролся на подводную мину и после первого взрыва последовали два других – уже в пороховом погребе. Корабль мгновенно стал уходить в воду носовой частью. Трагедия длилась менее двух минут. Никто из моряков соседних с «Петропавловском» кораблей поначалу не понял, что же произошло. Все задавались вопросом: где успевший заслужить доверие и любовь подчиненных адмирал Макаров? Среди плавающих обломков корабля отыскали лишь его порванную черную шинель.
Корреспондент «Русского инвалида» приводил слова уцелевшего матроса: «Адмирал стоял на мостике, около него были другие начальники и старичок в штатском с крестиком. Кажись, старичка сначала бросило в воздух, а потом в море. Я сам спрыгнул в воду и за что-то ухватился. Великому князю два матроса толкнули не то круг, не то кусок трапа».
Спасение находившегося на борту «Петропавловска» великого князя Кирилла Владимировича считали чудотворным. Помимо великого князя из экипажа броненосца, насчитывавшего шестьсот пятьдесят человек, спаслись лишь шесть офицеров и пятьдесят два матроса. Относительно погибшего «старичка в штатском» репортеры сходились на том, что это был, без сомнения, знаменитый батальный живописец Василий Васильевич Верещагин.
Война, горестно думал, читая военную хронику, Серов, открыла кровавый счет своим жертвам и среди художников.
Материальные проблемы, возникшие в связи с его болезнью, заставили Серова обратиться к доброй знакомой Маргарите Кирилловне Морозовой, вдове промышленника и коллекционера Михаила Абрамовича Морозова, портрет которого он писал незадолго до его безвременной смерти, с просьбой одолжить до лучших времен несколько тысяч рублей. Вдова ответила, что будет рада помочь ему и с возвратом денег можно не торопиться.
Предоставленная ссуда давала возможность обеспечить до новых заработков все нужды семьи и даже позволить себе какую-нибудь роскошь. И тут всплыла мысль: не пора ли отправиться с Лелей в заграничное путешествие, о каком они давно мечтали, – в Италию? Совершенное еще до женитьбы совместное с друзьями итальянское путешествие когда-то сыграло для Серова очень важную роль, заставило его полюбить в живописи «отрадное», оплодотворить творчество такими светлыми по настроению работами, как «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». Не даст ли новое путешествие еще один живительный импульс его искусству? А то, что спутницей будет Лёля, сообщит поездке особую прелесть. Она по горло сыта рассказами об Италии, но лучше, как говорят, один раз увидеть…
Отправились тем же маршрутом, что при давней поездке с Ильей Остроуховым, – через Австрию поездом до Венеции. Когда же достигли построенного среди вод города, Серову доставило особое удовольствие наблюдать, как воспринимает Венецию Лёля: в ней сохранилась почти детская непосредственность радоваться чудесам жизни.
Он разыскал небольшой отель, где когда-то проживали они вместе с Ильей Остроуховым и братьями Мамонтовыми, и был огорчен, узнав, что прежний хозяин, пожилой тиролец, несколько лет назад скончался. Теперь всеми делами заправляла его вдова, очень полная и не очень приятная немка, заселившая отель шумными соотечественниками.
В первый же день Серов потащил Лёлю на уютную улочку, где в прошлый раз они все же отведали устриц, и вновь заказал морские деликатесы, обронив с видом знатока:
– Только устрицы, Лёлечка, придают Венеции ее истинный аромат.
Она же, вспомнив, как грустно закончилась когда-то для жениха подобная трапеза, ела не без опаски и шутливо говорила:
– Прямо не узнаю тебя. Дома бываешь такой хмурый, а за границей, хоть в Париже, хоть здесь, совершенно преображаешься.
Серов задумчиво отвечал:
– Да разве я виноват, что у нас, в России, жизнь совсем иная, а теперь еще и эта война… А Париж или Венеция – они будто созданы для того, чтобы люди забывали печали и думали о веселом, ну и о возвышенном.
Он уверенно исполнял роль гида и водил Лёлю по тем церквям, останавливал ее внимание на тех картинах, которые были ему особенно дороги. Помимо рухнувшей колокольни Святого Марка бросались в глаза появившиеся на стенах старинных палаццо новые трещины, которых раньше вроде бы не было, облупившиеся фасады, еще больше голубиного помета на площадях и замшелых, позеленевших от сырости лестницах. Даже отдававший болотом запах воды в каналах стал как будто сильнее. Венеция дряхлела и все же была по-прежнему прекрасна.
Прожив в городе несколько дней и осмотрев все интересное, они направились в Падую и Равенну. А затем совершили поездку в Рим, где Серов ранее не был, в Неаполь и Флоренцию.
Кое-где Серов по привычке тренировал руку. Из этого итальянского путешествия он привез альбом рисунков и две акварели: с изображениями изваянной Микеланджело статуи Мадонны с младенцем из капеллы Медичи во Флоренции и одной флорентийской улицы.
Поездка в Италию, как и надеялся Серов, вновь пробудила в нем желание писать «отрадное». Пожив летом с семьей в Ино, он ближе к осени выехал в имение Турлики Малоярославского уезда Калужской губернии, к своим новым знакомым Виктору Петровичу и Клеопатре Александровне Обнинским, чтобы исполнить там портрет хозяйки имения. Есть все основания полагать, что эта семья была очень симпатична Серову. Виктор Петрович, бывший офицер лейбгвардии, после выхода в отставку занимался в начале 90-х годов, как и мать Серова, организацией помощи голодающим. Он стал в Калужской губернии видным деятелем земского движения, уездным предводителем дворянства. О его передовых убеждениях говорит тот факт, что в 1906 году, он, депутат Первой Государственной думы от партии кадетов, принял участие в составлении воззвания, подписанного почти двумястами депутатами, выразившими протест по поводу роспуска Думы, с призывом к населению поддержать их протест и отказываться от уплаты налогов, не давать рекрутов, не признавать займов, заключенных без санкции Думы. Тогда же за это прегрешение В. П. Обнинский был подвергнут трехмесячному тюремному заключению.
Что же касается политических убеждений его супруги, то об этом мало что известно, но надо полагать, что она разделяла взгляды мужа. Однако в тот момент, когда Серов гостил у них, его привлекло совершенно иное. Выполненный им в Турликах «Портрет Обнинской с зайчиком» свидетельствует, что Клеопатра Александровна, в ту пору двадцатичетырехлетняя, была женщиной пленительной красоты, и та нежность, с какой она бережно обнимает прильнувшего к ее груди зайчика, тоже немало говорит – уже о свойствах ее души и характера.
Два года спустя, в 1906 году, Серов написал, тоже пастелью, и портрет самого В. П. Обнинского. Дружбу с Обнинскими Серов поддерживал и в последующие годы, когда все они встречались на заседаниях общества «Свободная эстетика».
Осенью Серов работал в Петербурге над портретом председателя правительства графа С. Ю. Витте, заказанного ему ремесленным училищем имени цесаревича Николая. Из-за большой занятости председатель правительства часто переносил сеансы позирования, и в свободное время Серов решил написать портрет Дягилева. Он работал над ним на квартире Сергея Павловича, где располагалась и редакция «Мира искусства».
Уже второй год Дягилев посвящал собиранию по дворянским имениям сохранившихся у их владельцев старинных портретов для задуманной им и поддержанной царским двором грандиозной выставки, долженствующей показать трехсотлетнее развитие России в лицах тех знаменитых и полузабытых деятелей, кто творил ее историю.
В русской живописи, не считая современного ему периода, Дягилев особо ценил презираемый его оппонентом Стасовым XVIII век, и в частности творчество Левицкого. Этому мастеру портрета Сергей Павлович посвятил превосходную монографию и собирался продолжить ее, уже готовил другие тома для задуманной им «Истории русской живописи в XVIII веке». Но неугомонный нрав, требовавший от его обладателя работы живой, сиюминутной, так и не позволил ему завершить блестяще начатое дело. Организация же новой, беспримерной по размаху выставки хотя и была сопряжена с огромной затратой времени и сил, гораздо более отвечала натуре Сергея Дягилева.
Само собой, что во время сеансов позирования разговор возникал о том, что более всего занимало мысли Дягилева.
– Все эти старинные родовые имения, – рассказывал он, – эти отживающие свой век дворянские гнезда с подернутыми паутиной портретами предков на стенах напомнили мне, Валентин, об исключительной прозорливости Антона Павловича Чехова, показавшего нам обитателей этих гнезд в «Вишневом саде». Они действительно сознают свою старомодность, никчемность, свое бессилие сохранить уходящий в прошлое милый их сердцам быт. Их жизнь скрашивают лишь воспоминания о былом, об их молодости, об увешанных орденами славных отцах и дедах, которые с сознанием выполненного перед Отечеством долга глядят с портретов на своих постаревших сыновей, внуков и правнуков. У каждого из них есть любимый слуга, хранящий, как чеховский Фирс, верность хозяевам, есть если не вишневый, так яблоневый сад, своя любимая сосновая роща, которую из-за нехватки средств приходится отдавать на продажу. Сколько мне пришлось за эти месяцы разъездов по провинциальной России выслушать печальных и горьких исповедей, сколько утереть старческих слез, какой тоской полнилось и мое сердце! И как грустно, поверь, сознавать, что ход времени никогда, в отличие от стрелки часов, нельзя повернуть назад, как жаль мне этих милых, добросердечных дворян, оказавшихся с их заброшенными имениями где-то на обочине жизни и с тревогой вслушивающихся в гудок проходящего рядом поезда, в который они не успели вскочить…
Говорили и о Врубеле, выражая надежду, что худшее у Михаила Александровича уже позади. Выписка из клиники Врубеля и переезд его вместе с женой, получившей ангажемент в Мариинском театре, в Петербург стали радостным событием для всего кружка «Мира искусства». На недавнем собрании в редакции у Дягилева все присутствовавшие – Серов, Бакст, Бенуа, Философов, Нурок и недавно вошедший в редакцию молодой и многообещающий художник Мстислав Добужинский, стараясь особо не афишировать свое внимание, приглядывались к Врубелю. Он пришел вместе с женой, Надеждой Ивановной, был франтовато одет, бледен, несколько флегматичен. Почти не говорил, больше слушал. Вроде бы, и прежний Врубель, и не совсем тот. Дягилев спросил его, сможет ли он предоставить что-либо для готовящейся выставки исторических портретов, и Врубель пообещал что-нибудь дать.
К концу года стало очевидно, что журнал «Мир искусства», как ранее и художественные выставки под его флагом, прекращает свою славную жизнь. Вспоминая это время, А. Н. Бенуа писал, что последней попыткой сохранить журнал было предложение княгини М. К. Тенишевой вновь взять на себя расходы по его изданию, но при одном, с ее стороны, условии: чтобы третьим редактором журнала, помимо Дягилева и Бенуа, стал очень близкий ей Н. К. Рерих. Ни Дягилева, ни Бенуа кандидатура Рериха не устроила, хотя, признавал Бенуа, его талант художника они ценили высоко.
Был и другой момент. По словам Бенуа, «прекращение издания „Мира искусства“ не причинило нам большого огорчения. Все трое, Дягилев, Философов и я, устали возиться с журналом, нам казалось, что все, что нужно было сказать и показать, было сказано и показано, поэтому дальнейшее явилось бы только повторением, каким-то топтанием на месте, и это особенно было нам противно».
Еще год назад, на базе распавшегося выставочного объединения «Мир искусства» и группы «36», возникло новое художественное объединение «Союз русских художников». 31 декабря 1904 года в Петербурге открылась вторая выставка «Союза». Ал. Бенуа представил на ней иллюстрации к «Медному всаднику» Пушкина и картины «Парад при Павле I» и «Прогулка Елизаветы Петровны», Л. Бакст – иллюстрации к «Носу» Гоголя, И. Билибин – иллюстрации к былине «Вольга» и поэме Лермонтова «Песня про купца Калашникова». Серов, как и Врубель, выставил несколько графических работ.
На собрании художников, предшествовавшем открытию выставки «Союза», по предложению бывших участников «Мира искусства», была направлена приветственная телеграмма Дягилеву. Текст ее гласил: «„Союз русских художников“, единогласно избрав Вас своим членом, вместе с тем считает своим долгом выразить чувство своего глубокого удивления перед тем исключительным талантом и той железной энергией, которые дали Вам возможность за 10 лет бескорыстной и горячей работы создать так много для дорогого нам русского искусства. Открыв в настоящем году свою первую выставку в Петербурге, „Союз“ ясно сознает, что он призван продолжать то дело, которое Вы начали, и пользуется случаем выразить свою надежду, что судьбы искусства в России еще долго будут связаны с Вашей драгоценной деятельностью.
Примите этот знак уважения и истинной преданности».
Наряду с именами Сомова, Грабаря, Билибина, Добужинского, Лансере, Юона, Бакста, Бенуа под телеграммой была подпись и Серова.
В начале января 1905 года, в связи с открывшейся выставкой «Союза», Серов все еще находился в Петербурге. Вероятно, он уже готовился к отъезду, когда обстановка в городе начала накаляться. Накануне ожидавшейся 9 января большой рабочей манифестации в Петербург стянули войска, и даже в здании Академии художеств был размещен на ночевку взвод улан. Серов, живший в это время поблизости, в казенной квартире профессора Академии В. В. Матэ, надо полагать, эти приготовления к встрече рабочих видел и понимал, что назревают события чрезвычайные. В связи с занятием здания уланами студенты Академии в знак протеста объявили о бойкоте занятий.
В тот морозный солнечный день 9 января Серова неотвратимо влекло к зданию Академии, где, как он догадывался по действиям солдат, может быть один из рубежей их встречи с рабочей манифестацией. Серов уговорил Василия Васильевича Матэ пойти в Академию вместе. Попасть туда едва успели: академический сторож пояснил, что один из офицеров приказал вход в здание запереть и никого больше не впускать и не выпускать. В одной из аудиторий на втором этаже, из окон которой открывалась панорама 5-й линии с видом на Николаевский мост, где стояли солдатское оцепление и эскадрон улан, Серов и Матэ повстречали скульптора И. Я. Гинцбурга, воспитанника Антокольского, с которым Серов был знаком еще с детства. То, что вскоре пришлось увидеть всем троим, известно из сделанной по свежим следам памятной записи Гинцбурга.
В ней Гинцбург упоминает, что еще до начала столкновения Серов, расположившись у окна, начал набрасывать в альбоме часть улицы, где стояли уланы. Толпы рабочих еще не видно, а ждущие их солдаты уже готовятся: кавалеристы – шашки наголо, солдаты Финляндского полка, припав на колени, берут в прицел ружей еще не видимую сверху цель. И вот толпа демонстрантов показалась, она большая, в ней рабочие, мужчины и женщины, студенты. Слышен женский крик солдатам: «Братцы, не стреляйте! Мы мирно пойдем! Не убивайте, ведь мы – ваши же!»
Но поздно. Приказы уже отданы, и кавалеристы, размахивая шашками, врезаются в толпу. Начали стрельбу солдаты, побоище набирает силу. На снегу – кровь, разрубленные саблями тела. Толпа в панике разбегается.
«Машинально, – записал Гинцбург, – я отскакиваю от окна, падаю на товарищей, Серова и Матэ, которые стоят бледные, как смерть». Вот этого, что все будет так беспощадно и ужасно, Серов никак не ожидал. Он понимал одно: жизнь трагически переломилась и отныне все будет уже не так, как прежде.
По возвращении в Москву Серов рассказал жене Ольге Федоровне о том, какую кровавую бойню ему довелось наблюдать:
– В чем же провинились беззащитные люди? Лишь в том, что несли петицию царю, хотели встречи с ним. Значит, теперь в России за это можно и убивать? – с отчаянием говорил он. – И кто же мог отдать приказ стрелять, рубить шашками? Известно: командующий Петербургским военным округом и он же президент Академии художеств великий князь Владимир Александрович! Да как же после этого можно состоять в Академии под началом президента ее, чьи руки в крови?!
Жена пыталась успокоить, напоминала о перенесенной операции, призывала не волноваться, думать прежде всего о собственном здоровье, о семье.
– Нет, – отмел ее уговоры Серов, – не думать нельзя, и каждый, в ком еще не умерла совесть, должен отозваться на это, выразить протест.
Но какой смысл протестовать в одиночестве? Надо было заручиться поддержкой коллег, авторитетных в художественном мире. И прежде всего Серов подумал о Репине. Первый его наставник и самый видный из современных живописцев – вот кого надо уговорить на призыв к солидарным действиям! И Серов сел писать письмо Илье Ефимовичу. Оно вылилось в едином порыве и отразило все, что накипело на душе.
«Дорогой Илья Ефимович!
То, что пришлось видеть мне из окон Академии художеств 9 января, не забуду никогда – сдержанная, величественная, безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и ружейному прицелу, – зрелище ужасное.
То, что пришлось услышать после, было еще невероятнее по своему ужасу. Ужели же, если государь не пожелал выйти к рабочим и принять от них просьбу – то это означало их избиение? Кем же предрешено это избиение? Никому и ничем не стереть этого пятна.
Как главнокомандующий петербургскими войсками в этой безвинной крови повинен и президент Академии художеств – одного из высших институтов России. Не знаю, в этом сопоставлении есть что-то поистине чудовищное – не знаешь, куда деваться. Невольное чувство просто уйти – выйти из членов Академии, но выходить одному не имеет значения…
Мне кажется, что если бы такое имя, как Ваше, его не заменишь другим, подкрепленное другими какими-либо заявлениями или выходом из членов Академии, могло бы сделать многое.
Ответьте мне, прошу Вас, Илья Ефимович, на мое глупое письмо. С своей стороны готов выходить хоть отовсюду (кажется, это единственное право российского обывателя).
Ваш В. Серов».
Однако Репин, к громадному разочарованию Серова, ответил уклончиво, в том духе, что вины великого князя Владимира Александровича в случившемся нет. По имеющимся у него сведениям, писал Репин, приказ применить против рабочих оружие был отдан кем-то другим, полицейскими чинами, а не великим князем. Зачем же тогда выходить из Академии?
Помощь и полное понимание своих действий Серов нашел у Поленова. Василий Дмитриевич был не менее младшего коллеги возмущен происшедшим в Петербурге.
– Даже если выразим протест только мы двое, – заявил он, – это будет иметь эффект. И совесть наша будет чиста.
Совместно составили текст заявления для оглашения его на собрании членов Академии художеств: «Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных людей, и в памяти запечатлена картина этого кровавого ужаса.
Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководительство над этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии художеств, назначение которой – вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов».
Узнав об отказе Репина поставить под этим текстом свою подпись, заколебались и другие видные художники. Но Серов с Поленовым все же послали свой протест в Академию накануне предстоящего собрания ее членов.
И все же оправдались худшие прогнозы. Вице-президент Академии граф И. И. Толстой не посчитал возможным довести письмо до общего собрания, и в этой ситуации Поленов сделал ход назад. «Мне кажется, – сообщил он в письме из Петербурга Серову, – что наш гражданский долг теперь не позволяет нам уходить; надо стоять твердо, а если придется, так и нести последствия. Я нашу Академию от всей души люблю, все лучшее я получил от нее и поэтому искренне желал бы ей послужить…»
«Эх!» – только и крякнул в досаде Серов, прочитав письмо Поленова. Собственное решение он менять не собирался и вскоре, в ответ на отказ обнародовать их с Поленовым заявление, письменно уведомил графа Толстого о сложении с себя звания действительного члена Академии.
Полное одобрение своих действий Серов неожиданно получил от В. В. Стасова. Весьма заинтересованный упоминанием Репина о письме, посланным ему Серовым, Стасов настоятельно попросил ознакомиться с ним, после чего сообщил Серову свое восторженное мнение: «Великая Вам честь и слава за Ваше гордое, смелое, глубокое и неколебимое чувство правды и за Ваше омерзение к преступному и отвратительному…» Через близкого к нему И. Гинцбурга Стасову стали известны подробности того, что они видели из окон Академии и что Серов пытался зарисовать в своем альбоме. И далее Стасов писал: «Желаю нашему дорогому отечеству, чтоб то, что в тоске, ужасе и несравненном отчаянии было набросано тогда в Вашу записную книжку, могло появиться в Ваших талантливых красках и линиях, на холсте».
Протестующий голос Серова не был одиноким. Из Петербурга пришло известие, что студенты Академии художеств после событий 9 января отказались посещать классы и постановили не возобновлять занятий до сентября. Неспокойно было и студенчество Петербургской консерватории и других учебных заведений. Напряжение в обществе нарастало.
События 9 января отразились на Серове глубочайшим душевным кризисом. Не по собственной воле – так уж повернула судьба – стал он некогда придворным живописцем. Тех людей, кто правил Россией, он наблюдал во время портретных сеансов много раз, очень близко, один на один. Пытливым взглядом психолога он всматривался в их лица, глаза, в манеру держаться и часто ловил себя на тревожной мысли: да по плечу ли такому вот человеку, слабохарактерному, слишком уязвимому для давлений со стороны, направлять дела огромной державы, отвечать за судьбы миллионов подданных?
Война с Японией открыла неустойчивость и губительные просчеты власти. Расстрел же мирной демонстрации показал, насколько глубокая пропасть разделила в России власть и народ. Случившееся в январе оттолкнуло от самодержца интеллигенцию. Ряды тех, кто оправдывал и защищал власть, стремительно редели.
Смятенное состояние духа подталкивало Серова к общению с личностью, олицетворяющей для него непререкаемый моральный авторитет, и потому без раздумий принял он переданное через Остроухова предложение Литературно-художественного кружка написать к тридцатилетию ее служения сцене портрет актрисы Малого театра Марии Николаевны Ермоловой. В глазах Серова, как и в глазах тысяч и тысяч поклонников Ермоловой, Мария Николаевна была не только великой драматической актрисой. Ее особенно любило студенчество: в образах, создаваемых ею на сцене, молодежь видела воплощение своих романтических стремлений, зримое выражение свободолюбивых тенденций, какими жило общество, предвестие необходимых перемен.
Образ Жанны д'Арк, однажды поразивший Серова в картине Бастьен-Лепажа на Всемирной выставке 1889 года, несколько лет спустя вновь завладел его сердцем и потряс до глубины души – теперь уже на сцене, в пьесе Шиллера «Орлеанская дева», где в полном расцвете таланта блистала в роли Жанны Ермолова.
Серов писал Марию Николаевну в ее доме на Тверском бульваре. Для позирования был избран большой зал, украшенный портретами Шиллера и Шекспира, с несколькими зеркалами на стенах. Здесь актриса иногда репетировала роли. Уже в первые дни, определяясь с позой модели и с ракурсом, Серов понял, что должен «взять» фигуру Ермоловой с нижней точки, чтобы создать такое впечатление, какое производила актриса на публику в партере. Нет ли небольшой скамеечки, на которую он мог бы присесть перед мольбертом? Скамеечка нашлась, и теперь обоим оставалось лишь набраться терпения, чтобы успешно довести дело до конца.
Гордая осанка актрисы, замкнутые в кольцо руки, трагическая задумчивость – в этом портрете каждая деталь играет на образ женщины необыкновенной, способной к сильным страстям, к глубочайшим душевным переживаниям.
Вскоре после завершения портрета увидевший его архитектор Ф. О. Шехтель выразил свое мнение о нем в письме И. С. Остроухову: «У меня все время, пока я смотрю на этот удивительный портрет, – ощущение то холода, то жара. Чувствуешь, что перед тобой произведение как бы не рук человеческих. Помимо трогательного сходства, на что большие художники не очень вообще склонны, Серов гениально одухотворил ее, запечатлев в этом портрете высшие духовные качества ее артистического творчества. Это памятник Ермоловой! С этого холста она продолжает жечь сердца. Дирекция решила выразить ему в письме волнующие ее чувства и благодарность за этот неожиданный для Л-х. кружка дар, так как считает назначенную Серовым плату много ниже действительной. Постановлено в дороге и в Петербурге застраховать портрет в 10 000 рублей».
У этого портрета есть еще одна особенность: размышления о трагизме жизни, в которые погружена Ермолова, отражают и собственное настроение в ту пору Серова. Недаром, вспоминая в книге «Далекое-близкое» переворот, произведенный в душе Серова январскими событиями, Репин писал: «С тех пор даже его милый характер круто изменился: он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим; особенно удивили всех его крайние политические убеждения, появившиеся у него как-то вдруг».
Для Историко-художественной выставки русских портретов неутомимому Дягилеву удалось собрать более трех тысяч полотен. Выставка была развернута в специально предоставленном для этого Таврическом дворце. Точнее, вспоминал Мстислав Добужинский, это был «чудесный Потемкинский дворец в Таврическом саду, много лет пустовавший и стоявший еще совершенно не тронутым, каким он был при Екатерине II».
Каждый зал посвящался тому или иному периоду русской истории: здесь был и «Петровский» зал, и «Екатерининский», и залы других государей. Лев Бакст декорировал интерьер цветами, задрапировал стены красной материей – все это придавало экспозиции торжественно-праздничный вид.
Сергей Павлович посчитал необходимым устроить и современный отдел и уговорил художников – Серова, Сомова, Врубеля, Кустодиева и других внести в экспозицию свой вклад.
Разумеется, в одиночку даже сил Дягилева не хватило бы, чтобы осуществить эту гигантскую работу. Он сделал главное – за несколько месяцев странствий по России произвел своего рода инвентаризацию сокровищ русской живописи, хранившихся в провинциальных имениях. Уточнить авторство некоторых портретов Дягилеву помогали Александр Бенуа, Игорь Грабарь и молодой искусствовед Николай Врангель. Заполучить картины для выставки стало возможным с помощью писем их владельцам за подписью великого князя Николая Михайловича, которому Дягилев предложил возглавить организационный комитет. Николай Михайлович, которого А. Н. Бенуа считал «самым культурным и самым умным из всей царской фамилии», слыл любителем живописи и знатоком русских портретов, истории которых он посвятил многотомный труд. Председатель оргкомитета помог получить для выставки государственную субсидию и для ее размещения – тот самый старинный дворец екатерининских времен.
Накануне открытия выставки Серов писал Д. В. Философову: «Надо же видеть, черт возьми, портретную выставку, хотя более неудобного времени, кажется, нельзя и выбрать было. Все же ход событий чрезвычайный». Резко обострившееся у него политическое чутье подсказывало: открытие подобной выставки вскоре после зловещих событий косвенным образом как бы оправдывает все, даже самые неприглядные, действия царской власти.
Но на этой выставке посетители как будто на время забыли о печальной современности. Серов был ошеломлен увиденным. Какое мастерство, не уставал восхищаться он, какие дивные лица! Особенно хороши были «смолянки» Левицкого – портреты воспитанниц Смольного института. А Рокотов, Боровиковский, Карл Брюллов! Выставка вызвала огромный интерес, залы Таврического дворца полнились оживленно дискутировавшей публикой.
Казалось, Дягилеву была незнакома усталость. Накануне открытия он не спал ночами, помогая служителям развешивать полотна, а днем как ни в чем не бывало расхаживал в своем модном фраке по залам, готовясь принять высоких гостей, и уточнял попутно спорные вопросы атрибутики работ, кто же изображен на том или ином портрете: «Да разве вы не узнаете? Это же портрет молодого князя Александра Михайловича Голицына». Энергия и память у него поразительные, – отмечал наблюдавший его в это время Игорь Грабарь.
Первые отклики на выставку в печати были полны восторженных похвал. Искусствовед Врангель считал ее «замечательным событием в художественной жизни Петербурга». «Не только по количеству выставленных номеров, но также и по качеству, – писал рецензент, – выставка эта должна занимать первое место среди всех когда-либо устраиваемых в России художественных собраний». Другой критик, ранее не баловавший Дягилева благосклонностью, назвал выставку в Таврическом дворце «феерической» и посоветовал каждому интеллигентному человеку непременно посетить ее, и не один раз.
В Петербурге Серова встретило еще одно приятное событие: Илья Семенович Остроухов на собрании гласных Московской городской думы был избран попечителем Третьяковской галереи. Это было личной победой и Серова. Зимой, в преддверии выборов попечителя, он организовал коллективное письмо художников в Думу с поддержкой кандидатуры Остроухова. Его поддержали свыше двадцати художников, и среди них Репин, братья Васнецовы, Поленов, Врубель, Коровин… На предварительном заседании Думы свою лепту внес один из гласных, врач Синицын, заявивший, что незадолго до смерти сам Павел Михайлович Третьяков указал на Остроухова как на человека, которого он считает своим преемником. Свое слово в Думе сказал и Савва Иванович Мамонтов, обративший внимание не только на знания Остроухова в искусстве, но и на его деловую хватку.
Воодушевленные победой, Серов и Дягилев направили Илье Семеновичу из Петербурга совместную поздравительную телеграмму. Они верили в то, что с таким попечителем в галерею не попадет ничего второразрядного, недостойного ее стен и собрание будет прирастать лишь лучшими полотнами мастеров.
В знак протеста по поводу избрания попечителем Остроухова совет Третьяковской галереи покинули Цветков и Вишняков. Они обычно препятствовали пополнению галереи картинами тех авторов, живописи которых не понимали и считали «декадентской».
По мнению Серова, современный раздел дягилевской выставки уступал показанным на ней полотнам старых мастеров. Но не все были с этим согласны. Так искусствовед Н. Н. Врангель писал: «Серов на выставке предстал, как никогда, в блеске своего замечательного таланта. Портрет Ермоловой – такая изумительная психология, такое виртуозное мастерство, такая простота и величие красок, которых он, может быть, не достигал еще ни в одном портрете. Молодой граф Сумароков-Эльстон с собакой будет со временем прямо классическим портретом… Современное искусство создало немало прекрасных произведений, так как нельзя иначе назвать произведения Серова, Врубеля, Сомова».
Узнав о предстоящем приезде Дягилева в Москву, восхищенные проделанной им титанической работой москвичи решили, по инициативе Остроухова, почтить его обедом в недавно отремонтированном ресторане «Метрополь». Собралось человек двадцать – художники, коллекционеры живописи, писатели. Пришел и сильно постаревший после судебного процесса, но отнюдь не потерявший вкуса к жизни Савва Иванович Мамонтов.
Когда-то, вспоминал Серов, Мамонтов мечтал переоборудовать бывшую гостиницу Челышева в общегородской центр искусства с театром, зимним садом, с залами для танцевальных вечеров, маскарадов, выставок современной живописи. По его задумке фасад здания украсился майоликовыми панно, выполненными в абрамцевской керамической мастерской по рисункам Врубеля и Головина, – «Принцесса Греза», «Поклонение божеству» и «Поклонение природе», «Орфей играет». Арест Мамонтова и все, что за этим последовало, помешали осуществить намеченные планы, и интерьер здания, так и оставшегося гостиницей с модным рестораном, оформляли уже другие художники, которых подыскали новые хозяева – Санкт-Петербургское страховое общество.
Торжественный обед по праву организатора открыл Остроухов и предоставил слово Брюсову. Поэт несколько пространно, но с большим чувством отметил роль Сергея Павловича в объединении молодых художественных и литературных сил через созданный им и умело руководимый журнал «Мир искусства», недавно, увы, прекративший свою славную жизнь, к общему сожалению всех, кому он был дорог. Журнал, говорил Валерий Яковлевич, воспитывал вкус, пропагандировал новое искусство, приобщал русскую живопись, философию к общеевропейским исканиям, и в этом его непреходящая заслуга.
Особо отметил мэтр влияние кружка «Мира искусства» на развитие культуры издания книг в России, работу в этой области художников, группировавшихся вокруг журнала.
Савва Иванович Мамонтов напомнил, что не будь Сергея Павловича с его журналом, так много сделавшим для популяризации кустарной промышленности в России, еще вопрос, смогли бы изделия наших мастеров получить столь высокую оценку на последней Всемирной выставке в Париже. Честь ему за это и хвала, провозгласил Мамонтов, и глубокая от всех нас благодарность.
Само собой, не были забыты и огромные заслуги Дягилева в организации беспримерной выставки исторических портретов, и в связи с этим в коллективно слагаемую оду добавил свое слово и Серов.
В заключение встал слегка раскрасневшийся от выпитого вина и несколько смущенный комплиментами по его адресу виновник торжества и сказал, что чрезвычайно взволнован и чувствует себя неподготовленным «принять такое трогательное выражение внимания к тому, что всеми нами сделано, выстрадано и отвоевано».
– Я, конечно, далек от мысли, – элегически продолжал Дягилев, – что сегодняшнее чествование есть в каком-либо отношении конец тех стремлений, которыми мы жили до сих пор, но я думаю, что многие согласятся: вопрос об итогах и концах в наши дни все более и более приходит на мысль. И с этим вопросом я беспрерывно встречался за последнее время моей работы. Не чувствуете ли вы, что длинная галерея портретов больших и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца, есть лишь грандиозный и убедительный итог, подводимый блестящему, но, увы, и омертвевшему периоду нашей истории?..
Я заслужил сказать это громко и определенно, так как с последним дуновением летнего ветра я закончил свои долгие объезды вдоль и поперек России. И именно после этих жадных странствий особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Это я наблюдал не только в блестящих образах предков, так явно далеких от нас, но главным образом в доживающих свой век потомках. Конец быта здесь налицо. Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием дворцы, обитаемые людьми милыми, но не выносящими тяжести прежних парадов. Здесь доживают не люди, а доживает быт. И для меня теперь очевидно, что мы живем в страшную пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. Могу смело и убежденно сказать: не ошибется тот, кто уверен, что мы – свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но нас же и отметет…
Серов покидал «Метрополь» под впечатлением этой многозначительной речи, в которой так явственно и убедительно звучали пророческие мотивы. Дягилев этой речью произвел впечатление и на Брюсова, опубликовавшего ее в журнале «Весы».
В начале лета Серов провел несколько дней на даче Коровина близ станции Итларь в Ярославской губернии. Компанию им составил Федор Шаляпин. Друзья рыбачили, подшучивали друг над другом. Шаляпин пел русские народные песни.
Вероятно, Федор Иванович рассказал приятелям о своей недавней гастрольной поездке на юг, в Харьков, и триумфальном выступлении там в Народном доме, перед большой рабочей аудиторией. Накануне концерта его вызвал к себе местный цензор и с пристрастием расспрашивал о репертуаре. Артист невозмутимо назвал из песен лишь классику: «Ночной смотр» Глинки, «Старый капрал» и «Мельник» Даргомыжского и т. п. Но на концерте поддался настроению и ожиданиям слушателей и с подъемом исполнил издевательскую по отношению к власть предержащим «Песню о блохе» Мусоргского, «Марсельезу» и вместе с дружно подпевавшим залом – артельную «Дубинушку».
Смелость Федора импонировала Серову. Да и время было такое, когда не пристало честному человеку стоять в стороне от «злобы дня»…
Этот совместный отдых на реке нашел красочное отображение в рассказах и воспоминаниях Коровина и Шаляпина.
«Веселые были наши рыболовные экспедиции, – вспоминал Шаляпин. – Соберемся, бывало, с Серовым и Коровиным на рыбную ловлю. Целый день блаженствуем на реке. Устанем до сладостного изнеможения. Возвращаемся домой, в какую-нибудь крестьянскую избу… располагаемся на отдых. Серов поставил холст и весело, темпераментно, с забавной улыбкой на губах быстро заносит на полотно сценку, полную юмора и правды. Коровин лежит на нелепой кровати, устроенной так, что ее ребра обязательно должны вонзиться в позвоночник спящего на ней великомученика, у кровати – огарок свечи, воткнутой в бутылку, в ногах Коровина, прислонившись к стене, в великолепном декольте, при портках, – бродяга в лучшем смысле этого слова, Василий Князев. Он слушает, иногда возражая. Это Коровин рассуждает о том, какая рыба хитрее и какая дурачливее… Серов слушает, посмеивается и эту рыбную диссертацию увековечивает…»
Упомянутую Шаляпиным картину, запечатлевшую отдых бывалых рыбаков, Серов назвал «Рассуждение о рыбе и прочем» и посвятил ее Федору Шаляпину. Покидая в 20-х годах Россию, Федор Иванович взял эту картину с собой во Францию, и, должно быть, она не раз воскрешала в нем счастливые дни, которые даровали ему русская природа и компания веселых друзей.
А на финском взморье тем летом дни стояли жаркие, вода в заливе прогрелась, и дети Серовых, отдыхавшие с родителями на даче в Ино, с утра плескались в море. Иногда купали и недавно приобретенных для нужд хозяйства лошадей.
Их дача стояла на отшибе, и это позволяло мальчикам, не стесняя себя одеждой, принимать морские ванны обнаженными. Как-то Серов загляделся на стройную фигуру Саши, зашедшего в воду вместе с молодым жеребцом. Поодаль купались и другие мальчики. Солнце серебрило залив, сверкало на мокром теле юноши и смирно стоявшем рядом с ним жеребце. Эта невзначай увиденная утренняя сценка послужила темой для очень светлой по настроению картины.
Сюда, в Ино, как и в соседние финские селения, облюбованные для отдыха петербургскими и московскими художниками и литераторами, всё, происходившее в этом году в России, доносилось в интерпретации отечественной и зарубежной прессы. Серов жадно ловил последние новости, тем более что в Финляндии цензурные запреты не были столь суровыми и можно было без помех читать и французские, и немецкие газеты, подробно освещавшие грозную российскую жизнь. В них сообщалось о массовых стачках, захлестнувших южные и центральные области страны и Польшу. Особый размах забастовки приобрели после восстания моряков на броненосце «Князь Потемкин Таврический» и в связи с полугодовой датой расстрела январской демонстрации питерских рабочих.
Те январские события очень напугали Александра Бенуа, и вскоре после них Александр Николаевич поторопился покинуть Россию и вновь поселиться с семьей во Франции. «Эх ты, эмигрант, – отреагировал на известие о его предстоящем отъезде Серов. – Не хочешь с нами кашу есть. Пожалуй, не без удовольствия будешь за утренним кофе пробегать известия из России. Издали оно совсем великолепно».
В это время Серов, вероятно, уже обдумывал, как средствами живописи и графики выразить свое негодование по поводу антинародных действий власть предержащих. И потому ему оказалась понятной и близкой идея организации сатирического журнала. Организационное собрание состоялось в Куоккале, на даче, которую снимал Горький. Одним из «заводил» этого дела был приехавший из Мюнхена художник Зиновий Гржебин, знакомый Грабаря. Помимо Грабаря в собрании на даче Горького присутствовали и двое финских художников, Галлен и Ернефельд. Из писателей был Леонид Андреев. Упоминая об этом собрании в Куоккале, И. Э. Грабарь писал в воспоминаниях «Моя жизнь», что «деятельное участие во всех вопросах принимал Серов».
Сам же Серов скупо коснулся этого события в письме, отправленном И. С. Остроухову из Ино в июле: «Затевается журнал юмористический, собирались тут – но ведь цензура все равно всё похерит».
Определение журнала как «юмористический», вероятно, использовано Серовым из тех же цензурных соображений.
Вскоре после приезда Серова из Финляндии в Москве появилась и его мать. Она еще больше поседела, но была, как и прежде, неугомонной. Сыну Валентина Семеновна объяснила, что полицейские чины окончательно уверились в ее неблагонадежности и предложили ей покинуть Судосево.
– Был повод? – поинтересовался Серов.
– Повод они всегда найдут, – с иронией ответила мать. – Когда преследовали Римского-Корсакова, я организовала письмо от местных крестьян в его поддержку. Может, это. А может, и что другое. Меня же спрашивали в деревне, что происходит в стране. Я объясняла, что началась революция и она направлена к тому, чтобы крестьянам и рабочим жилось лучше. Вероятно, кто-то донес приставу, а ему только того и надо: давно питал ко мне самые «добрые» чувства. Потребовал быстренько собрать вещички и – тю-тю! – куда-нибудь подальше.
С началом стачек Валентина Семеновна тут же определила, чем ей заняться. Имея опыт помощи голодающим Поволжья, она с прежней энергией взялась за организацию бесплатных столовых для бастующих и тормошила сына просьбами обеспечить через друзей и знакомых денежные пожертвования. По мере сил помогали Коровин, Остроухов и особенно Шаляпин.
Серов писал на квартире Шаляпина портрет друга – углем, во весь рост. Он изобразил Федора Ивановича во фраке, развернувшегося лицом к зрителю, – таким, каким его видели на концертных выступлениях. В это время слава Шаляпина достигла, казалось, апогея. Поклонники осаждали его и дома, и на улице, и Федор воодушевился мыслью, что теперь поет не только для избранного «света», – он стал кумиром народных масс.
Почти сразу после окончания портрета Шаляпина представилась возможность написать приехавшего в Москву и поселившегося на Воздвиженке, недалеко от дома, где жили Серовы, Максима Горького. Эти работы, как и исполненный в начале года портрет Ермоловой, служили для Серова источником душевных сил. Если раньше в чем-то он и заблуждался, то теперь для него было очевидно: отнюдь не особы из царской семьи, а скорее люди искусства, такие как Ермолова, Шаляпин, Горький, в ком аккумулируются таланты и нравственный опыт народа, олицетворяют собой лучшее, что есть в России.
В связи с чрезвычайными событиями еще с февраля и «вплоть до особого распоряжения» были приостановлены занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества, где преподавал Серов. Но и в этой ситуации, как вспоминала его двоюродная сестра, художница Н. Я. Симанович-Ефимова, он, единственный из преподавателей училища, «развил активность в преодолении создавшегося положения».
По словам Симанович-Ефимовой, Серов подыскал помещение поблизости от училища, в одном из складов во дворе почтамта, распорядился сделать небольшой ремонт, побелить стены, после чего учащимся его мастерской была предоставлена возможность бесплатно работать там. И сам Серов вместе с учениками неоднократно рисовал и писал акварели с натурщиц, тем более что, как вспоминала та же Симанович-Ефимова, «натурщицы стояли первоклассные». «Материально, – по словам мемуаристки, – устроено это было „по-серовски“. А именно: одна состоятельная дама просила его давать уроки своей дочери. Вместо гонорара себе Серов потребовал, чтобы она оборудовала студию, содержала ее и оплачивала модель. Это позволяло дочке ежедневно писать в мастерской, где атмосфера была строго рабочая, в компании художников».
В октябре студенты Училища живописи, поддерживая объявленную всеобщую стачку, организовали в его здании, с согласия преподавателей, столовую и лазарет для рабочих. Спустя два дня после опубликования царского манифеста от 17 октября, в котором провозглашались неприкосновенность личности, свобода слова, собраний и союзов, кое-кто из студентов принял участие в рабочей манифестации. Участники ее прошли по Мясницкой улице с красными флагами, пели «Марсельезу». Неожиданно на улицу выехал взвод драгун. Обогнав колонну, кавалеристы развернулись лицом к демонстрантам, прозвучала резкая команда офицера, и всадники с обнаженными шашками помчались на толпу, рубя древки флагов и полосуя людей. Ошеломленные, явно не ждавшие нападения демонстранты врассыпную кинулись кто куда, некоторые – в подъезд училища, другие – во двор расположенного напротив почтамта.
Опять! – в ярости думал Серов. Да как же так? Зачем же тогда этот манифест? Значит, все это надувательство, обман!
Вероятно, он и сам был свидетелем этой сцены. Одна из написанных им в это время работ называется «Разгон казаками демонстрантов в 1905 году».
Во всяком случае, когда Серов писал для первого номера сатирического журнала «Жупел» свою известную темперу «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?», на ее решение наложились не только впечатления от разгона манифестации 9 января, но и подобная же расправа с демонстрантами в октябрьской Москве 1905 года.
В те же дни стало известно об убийстве одного из лидеров рабочих Москвы Николая Баумана, и Серов решает принять участие в его похоронах. Уговорил пойти и Константина Коровина. Заполонившая улицы огромная манифестация шла молча и скорбно, но, судя по отдельным репликам, сердца людей были полны ненависти к тем, кто убил их товарища, и к тем, кто отдал приказ убить его. Обстановка в многотысячной толпе была как в пороховом погребе: достаточно поднести фитиль – и последует взрыв.
Взрыв грянул в декабре, но приближение его ощущалось весь предыдущий месяц. Вдруг решили вооружаться студенты Училища живописи и обратились к совету преподавателей с просьбой посодействовать им материально. Уж на что либерально были настроены некоторые их наставники, как Серов и Касаткин, но поддержать подобное они не могли.
А события между тем приобретали все более угрожающий оборот. Вслед за политической стачкой в разных концах Москвы, на Садовой, Тверской, в районе Пресни, началось строительство баррикад. Рабочие отряды вступали в вооруженные столкновения с полицией и солдатами. По городу ползли невероятные слухи: уже взят Кремль, толпа штурмует дом генерал-губернатора и требует немедленно выдать Дубасова, гарнизон же отказывается стрелять в рабочих.
Движение на улицах почти замерло. То и дело слышалась ружейная и пушечная пальба. Редко встречавшиеся извозчики требовали за риск доставки пассажиров сумасшедшие деньги.
– Ты слышал? – однажды сказала Серову мать. – В город для подавления восстания вводят свежие части – гвардейский Семеновский и Сумской полки.
– Что ж, гвардейцы постараются, – мрачно реагировал Серов.
По ночам полыхали пожары. Недавно выпавший снег отражал пламя, и небо над городом окрасилось в кровавый цвет.
– Что же это творится? Когда это кончится? – слышал Серов от прохожих, пытавшихся, как и он, пробиться к своим домам мимо забаррикадированных улиц и военных кордонов.
– Стой, дальше нельзя, предъявите документы! – потребовал офицер конного разъезда, и, подчиняясь ему, Серов покорно полез в карман. Но офицер уже не смотрел на задержанного. Его внимание привлекли двое, бегом пересекавшие пустынную улицу.
– Чего ждете?! – криком взорвался он на подчиненных. – Уйдут! Стрелять!
Спешившиеся казаки быстро припали к винтовкам. Раздались выстрелы. Упал один. Второй, петляя, как заяц, почти достиг спасительных домов. Но следующий залп остановил и его. Будто споткнувшись, он взмахнул руками и рухнул на снег.
Офицер вновь повернулся к Серову, внимательно изучил протянутый ему документ.
– Куда вы все лезете? Жить надоело? – зло сказал он. – Видите же, что происходит!
– Семеновцы? – сдерживая себя, хрипло спросил Серов.
– Нет, – не без корпоративной гордости ответил молодой офицер. – Сумской полк.
Добравшись до дома, Серов, не говоря ни с кем из близких, уединился в кабинете и, достав альбом, по свежим впечатлениям, стал набрасывать рисунок: почти пустынная улица, одинокий, похожий на виселицу, фонарь, голые деревья. Двое стреляющих казаков. На снегу – труп одной из их жертв и убегающий к домам, без шапки, второй мужчина. Сейчас убьют и его! На рисунке, чтобы навсегда запомнить этот день, написал: «14 декабря 1905 г. Сумской полк».
Ожесточенная пальба продолжалась еще несколько дней. Говорили о тысячах убитых. В городе шли обыски, массовые аресты… И сила восторжествовала. Однажды наступила мертвая тишина: восстание было подавлено. В Москве бесчинствовали разделявшие радость победы обыватели – сторонники самодержавной власти.
Развитие событий в Москве во многом оказалось для Серова неожиданным. Нужно ли было это восстание с оружием в руках? Кто и зачем толкнул на него рабочих? На что рассчитывали? Не лучше ли было закреплять достигнутое мирным путем? Теперь же возник прекрасный повод ликвидировать ранее объявленные свободы. Мол, ни к чему путному это все равно не привело.
Эти мысли не давали ему покоя в те дни, когда на улицах убирали трупы и один за другим закрывали печатные издания, обвиненные в разжигании политических страстей.
Бенуа в Париже никак не угонится за стремительной российской жизнью. В последнем письме не без иронии спрашивал: «Бунтует ли у вас прислуга? Дети еще не забастовали?» Пора дать ему отчет о случившемся. Серов писал: «Да – непонятное для меня вооруженное восстание, расчет на переход войск – все это оказалось совершенно неподготовленным, а в результате изрядное количество погибших, израненных лиц (больше любопытной публики), сожженных домов, фабрик. Войска оказались в деле подавления вполне на высоте своей задачи и стреляли из орудий по толпе и домам во всё и вся гранатами, шрапнелью, пулеметами, затем доблестные расстрелы, теперь обыски и тюрьмы для выяснения зачинщиков и т. д. и т. п., всё как следует. В одном, пожалуй, были правы наши крайние партии – что не следует очень доверять манифесту 17 октября…»
В том же письме Серов упомянул, что появилась «масса плохих сатирических журналов» и о выходе первого номера «Жупела», который, он считал, «приличнее» других.
Задуман «Жупел», «еженедельный журнал художественной сатиры», как представляла его редакция, был с размахом. Среди участвующих в нем художников значились Л. Бакст, И. Билибин, О. Браз, З. Гржебин, С. Иванов, Д. Кардовский, Б. Кустодиев, Е. Лансере, А. Остроумова, К. Сомов, В. Серов, финские художники А. Галлен и Е. Ернефельд.
Представителен был и список выразивших желание сотрудничать в журнале писателей: Л. Андреев, А. Амфитеатров, К. Бальмонт, И. Бунин, М. Горький, С. Гусев-Оренбургский, В. Жаботинский, А. Куприн, С. Скиталец, Н. Тэффи, Д. Философов…
Впрочем, из-за краткости жизни журнала (до запрета цензурой вышли лишь три номера) далеко не всем потенциальным участникам удалось опубликоваться на его страницах. В первом номере, помимо Серова, опубликовался со своей графической работой «Октябрьская идиллия» (кровь на тротуаре после разгона демонстрации, рядом – впопыхах брошенная ребенком кукла) М. Добужинский. Стихами были представлены И. Бунин, С. Гусев-Оренбургский и К. Бальмонт.
И так революционный 1905 год завершался для Серова его дебютом в сатирическом журнале, бичующем деяния царского правительства.
Близкие друзья Дягилева, осведомленные о том, сколько сил отняла у него Историко-художественная выставка портретов в Таврическом дворце, полагали, что на некоторое время Сергей Павлович угомонится. Но этих ожиданий Сергей Павлович не оправдал и в начале 1906 года вновь доказал, что бездействие и ожидание «лучших времен» ему противопоказаны. Появившись с кратким визитом в Москве и заехав к Серову, он ознакомил его со своей очередной идеей – организовать в Петербурге новую выставку художников, когда-то объединенных «Миром искусства». В выставке, говорил Дягилев, уже дали согласие участвовать Бакст, Малявин, Сомов, Грабарь, Бенуа… Но ему хочется привлечь и молодежь. Кое у кого из молодых художников он уже побывал и видел интересные вещи. «Пусть, – с присущим ему напором убеждал Дягилев, – кто-то тешит себя мыслью, что как нечто целое мы скончались и никогда не восстанем из гроба. Мы можем вновь громко заявить о себе».
Совместно с Дягилевым Серов обсудил, что он сможет представить на выставку. Пообещал показать там портрет Шаляпина и недавно исполненный по заказу Литературнохудожественного кружка портрет актрисы Федотовой. А также картины «Купание лошади», «Крестьянин с лошадью у сарая» и еще кое-что.
Третий номер «Жупела» из-за опубликованной в нем карикатуры на Николая II был, как и первый, конфискован, и цензурные органы приняли решение о запрете журнала. Некоторые его сотрудники, художники Б. Анисфельд и Д. Кардовский, были допрошены полицией, а И. Билибин подвергся кратковременному аресту. Более всех пострадал З. Гржебин, попавший в тюрьму «Кресты». Но любопытно, что, по свидетельству Ал. Бенуа, вызволить Гржебина из «Крестов» помог близкий к «Миру искусства» лейб-медик С. С. Боткин, убежденный монархист. По просьбе друзейхудожников он выехал в Царское Село и добился аудиенции у Николая II, во время которой был решен вопрос о досрочном освобождении из тюрьмы больного туберкулезом Гржебина.
Некоторые мысли в связи с появлением на свет «Жупела» выразил Д. Философов в статье, опубликованной в первом номере за 1906 год нового журнала «Золотое руно». «Одна форма искусства, – писал Философов, – могла бы пережить в настоящую минуту „эпоху возрождения“. Это область иллюстрации, область политической карикатуры, социальной сатиры. События бегут с такой быстротой, жизнь не только с внешней, но и с внутренней стороны так изменилась и так с каждым днем изменяется, в ней открылось столько своеобразной, трагической эстетики, что запечатлеть ее можно только, так сказать, фотографическим способом, быстрым карандашным наброском. Ужасные московские дни, не говоря уже об осенних митингах, об октябрьских днях, были полны такой своеобразной, грозной красоты, что художники обязаны увековечить их своим карандашом. В Петербурге была сделана попытка создать, с помощью наших лучших художественных сил, истинно современный, революционный журнал, революционный не в смысле „вооруженного восстания“, а в смысле беспощадного бичевания всего благополучного, мещанского, косного. Я говорю о „Жупеле“. К сожалению – стараниями судебных скорпионов – он приостановлен».
Потребность отразить средствами графики переживаемые Россией политические события выразилась у Серова не только в исполнении той единственной его работы («Солдатушки…»), появившейся в «Жупеле», но и в других, которые, как он сознавал, нигде не могут быть в настоящее время ни выставлены, ни опубликованы. К ним относились и упомянутый «Сумской полк», и «Похороны Баумана», и карикатуры на царя и царицу. В одной из них, «После усмирения», Николай II, стоя на рядком уложенных трупах, с теннисной ракеткой под мышкой, награждает крестами взвод вытянувшихся перед ним туповатых солдат.
К тому же циклу, «на злобу дня», надо отнести «Виды на урожай» (на пустых полях – снопы, сложенные из винтовок), «Казнь» (виселица на тюремном дворе), «Везут ссыльных» (вереница телег на зимней дороге под конвоем жандармов) и ряд других. Когда совесть возмущена – она идет в бой.
В двадцатых числах февраля, к открытию организованной Дягилевым выставки, Серов приехал в Петербург. Он разыскал на Конюшенной здание шведской церкви, арендованное Дягилевым для проведения выставки. Было еще рано, и в помещении гулко звучали голоса двоих, говоривших на повышенных тонах.
– Что за капризы, – грозно рокотал баритон Дягилева, – что за детские игры?! Он, видите ли, передумал! Да что мне за дело до того, что вам это полотно уже не нравится. Кто, в конце концов, организатор выставки, кому принадлежит здесь последнее слово? Может, вы, Игорь Эммануилович, уже не доверяете моему вкусу? Так я готов повторить еще раз, вы написали великолепное полотно, и оно украсит нашу выставку. Снимать с нее эту картину я вам запрещаю!
Под сводами церкви нахохлившиеся, как готовые к бою петухи, стояли друг против друга Дягилев и Грабарь. Серов подошел и молча пожал обоим руки. Он пока не понимал, из-за чего спор, но взгляд его уже скользил по расставленным у стены картинам Грабаря. С каждым годом творчество этого художника нравилось Серову все больше. Грабарю особенно удавались весенние пейзажи с подтаявшим снегом, сверкающим под ярким мартовским солнцем, с голубоватыми тенями на снегу от берез. Он использовал при написании картин новейшую технику, разработанную французами, не смешивая краски на палитре, а добиваясь смешения цветовых пятен на самом полотне. Вот и сейчас привез очень свежие по настроению и живописи картины: несколько натюрмортов – хризантемы и сирень с незабудками, а также вид засыпанного снегом балкона загородного дома и заиндевевших деревьев.
Одно полотно стояло как бы особняком, и Серов тут же понял, что оно и послужило яблоком раздора. Картина действительно выглядела необычно. Она изображала сидящих рядком, друг возле друга, очень толстых женщин, увешанных драгоценностями, в декольтированных платьях, с тупыми, сытыми лицами. Их пухлая розово-красная плоть назойливо выпирала из платьев. Взгляд художника на свои модели был откровенно ироничным.
– Довольно! – оборвал Дягилева Грабарь. – Вы меня, Сергей Павлович, не убедили. Раньше мне казалось, что с точки зрения гротеска это полотно представляет определенный интерес. Вот вы видите в картине издевательский апофеоз банкирщины, денежной аристократии. Мне же она теперь представляется отвратительной, и я передумал ее выставлять.
– Вздор! – решительно отмел его рассуждения Дягилев и, как к третейскому судье, воззвал к Серову: – Что скажешь, Валентин Александрович? Рассуди нас.
– Игорь Эммануилович прав, – поддержал коллегу Серов. – Мне тоже эта картина кажется неудачной. Она может, конечно, вызвать интерес и даже скандал. И я уверен, Сергей Павлович, что именно со скандальной стороны она тебя в первую очередь и привлекает. Вопрос лишь в том, хочет ли скандала сам автор, будет ли он польщен зубоскальством по поводу его полотна. И если он этого не хочет, зачем же поступать вопреки его воле. Это нехорошо.
– Всякое новое искусство когда-то начиналось со скандала, – упрямо гнул свое Дягилев. – Но если уж и Серов на вашей стороне, я с вами, Игорь Эммануилович, более спорить не буду. Упаковывайте картину и убирайте ее куда хотите. Я же остаюсь при своем мнении: это ваша лучшая вещь, и вы делаете ошибку, отказываясь экспонировать ее.
В этом инциденте проявилось нечто весьма характерное не только для Дягилева, чьи диктаторские замашки были известны художникам. Характер проявил, несмотря на дружбу с Дягилевым, и Серов. Его слово, его художественный вкус в кругу «Мира искусства» пользовались огромным авторитетом, и потому с ним считался и Дягилев.
В мемуарах «Моя жизнь» И. Э. Грабарь рассказал, что сценку, послужившую темой для картины «Толстые женщины», он увидел на приеме в доме одного парижского банкира, куда попал с помощью знакомых французских художников. Отдав должное принципиальной позиции Серова в споре с Дягилевым, Грабарь упоминает, что после того, как он снял свою картину с выставки, они с Дягилевым полгода не разговаривали. «По природе скандалист и озорник, – выражает свое мнение о Дягилеве Грабарь, – он не мог простить мне, что я лишил его удовольствия поиздеваться над петербургскими светскими барынями и снобами, которые были бы неслыханно скандализированы картиной и ее сюжетом».
Организованная Дягилевым выставка вызвала у Серова смешанные чувства. На ней, безусловно, был ряд превосходных полотен. Большая картина Малявина «Вихрь» – группа баб в ярко-красных сарафанах кружится в танце. Наиболее «прозорливые» критики видели в ней чуть ли не олицетворение русской революции.
Явно удался портрет самого Дягилева с няней кисти Льва Бакста. В период работы над ним Бакст рассказывал, что Сергей Павлович капризничает, просит изобразить его потоньше и покрасивее. Но автор проигнорировал уговоры модели и изобразил Дягилева таким, каков он и был, – самоуверенным, вальяжным, привыкшим диктовать свои условия. Будто только что спорил с кем-то и вот на мгновение замер, полуобернувшись к зрителю, руки в карманах брюк, в темных глазах светится насмешливый ум. На заднем плане, сложив руки на коленях, сидит его верная нянюшка, «Арина Родионовна», как в шутку звали ее друзья Сергея Павловича.
С тонкими, несколько манерными, что отличало его стиль, работами выступил Константин Сомов. Бенуа показал новые листы из цикла его иллюстраций к «Медному всаднику» Пушкина.
И особенно приятно было присутствие на выставке Михаила Врубеля. Через жену художника Дягилеву удалось получить два ее превосходных портрета – на фоне березок и у горящего камина («После концерта»). Как и мастерский портрет Брюсова, выполненный Врубелем для журнала «Золотое руно», организованного на средства миллионера Рябушинского. От Дягилева Серов узнал, что портрет Брюсова Врубель исполнил совсем недавно, в психиатрической клинике Усольцева, где он теперь содержался. Стало быть, дела Михаила Александровича не так плохи. Несмотря на болезнь, он, похоже, вновь переживал творческий подъем.
Что же до привлеченной Дягилевым молодежи, картин Анисфельда, Павла Кузнецова, Милиоти, Ларионова, Судейкина, то в них заметно было сильное влияние новейшей французской живописи – и в яркости колорита, и в упрощенной почти до примитива трактовке сюжетов.
В первые дни работы выставки, навестив по приглашению Дягилева его квартиру на Фонтанке, Серов застал в гостях у Сергея Павловича Евгения Лансере, с которым довелось вместе посотрудничать в недавно закрытом журнале «Жупел». Лансере привез на показ Дягилеву три вышедших номера журнала и, объясняя повод для его закрытия, продемонстрировал напечатанную в нем карикатуру Билибина на царя («Осел в 1/20 натуральной величины»).
Однако с похвалами коллегам Сергей Павлович не спешил. Для начала напомнил свою известную близким друзьям позицию, что он – вне политики. Затем заговорил более резко:
– Неужели вы и впрямь чувствуете себя героями? И зачем вы, чистые и талантливые художники, ввязались в политику? Чего вы хотите, чего надеетесь добиться этими своими рисунками и карикатурами? Надеетесь исправить своим творчеством этот мир? Бесполезно. Вы всего лишь следуете дурному примеру передвижников, портивших искусство вносимой в него злободневной тенденцией.
И далее Дягилев сел на своего любимого конька и стал говорить о том, что художник – творец прекрасного и должен ловить и выражать разлитую в мире красоту, и в этом, а не в графической публицистике, его истинное призвание.
Вспоминая встречу с Дягилевым, Лансере привел и ответ ему Серова, говорившего о том, что, когда народ истекает кровью в борьбе с правящими им авантюристами, художник не должен закрывать глаза на беды страны и людей, не может оставаться к этому безучастным и скептически наблюдать со стороны.
Эта дискуссия с Дягилевым вспомнилась Серову, когда он прочитал в очередном номере журнала «Золотое руно» статью «Художественные ереси» продолжавшего жить в Париже Бенуа. Александр Николаевич, старавшийся, как и Дягилев, держаться в стороне от политики и весьма настороженно воспринявший русскую революцию, призывал художников объединиться в служении красоте: «Красота – последняя путеводная звезда в сумерках, в которых пребывает душа современного человека. Расшатаны религии, философские системы разбиваются друг о друга, и в этом чудовищном смятении у нас остается один абсолют, одно безусловно – божественное откровение – это красота. Она должна вывести человечество к свету, она не даст ему погибнуть от отчаяния. Красота намекает на какие-то связи „всего со всем“».
В культе красоты как последнем прибежище истерзанного страстями человека Бенуа и Дягилев были единомышленниками.
Между тем последняя выставка, организованная Сергеем Павловичем, вызвала критику со стороны скульптора Ильи Гинцбурга, который год назад был вместе с Серовым свидетелем событий 9 января. Гинцбург увидел в этой экспозиции явное падение художественного уровня по сравнению с тем, что демонстрировалось на дягилевских выставках прежде. Особенно резко он прошелся по работам молодых живописцев и заключил: «Если рассматривать эту выставку как степень развития того искусства, которое г. Дягилев и его товарищи вывезли из Парижа лет десять тому назад, то очевидно, как они прогрессивно падают».
В своем ответе Гинцбургу, тоже через газету, Дягилев решительно отмел обвинения в том, что пропагандируемые им художники подражают французам: «Не мы вывезли наше молодое русское искусство из Парижа, а нас ждут в Париже, чтобы от нас почерпнуть силы и свежести».
В марте Серов получил письмо от Дягилева. Сергей Павлович писал: «Дорогой друг! Выставка поживает великолепно, она, что называется, „превзошла все ожидания“. Закрываем ее 26 марта, после чего я тотчас же еду за границу – сначала на Олимпийские игры через Константинополь, а затем через Италию в Париж. Вернусь к июню и тогда серьезно займусь изданием моего „Словаря портретов“. На выставке настроение оживленное, а на душе – кислое. Летом, надеюсь, будем видеться. Ты как будто в этот раз остался недоволен выставкой, но ты не прав. Нельзя засиживаться, необходимо хоть ощупью да подвигаться, это трудно и много ошибаешься, но что же из этого?
Читали ли мою полемику с Гинцбургом в „Руси“ и „Речи“? Впрочем, интересного мало».
С начала года Серов писал в Москве по заказу Московской городской думы портрет князя В. М. Голицына. Владимира Михайловича знал он достаточно хорошо. Князь Голицын несколько лет прослужил губернатором Москвы, а последние восемь лет, до замены его в 1905 году Николаем Ивановичем Гучковым, был городским головой Москвы. Возглавляя Московскую городскую думу, он руководил и советом Третьяковской галереи, хотя в живописи совершенно не разбирался. В вопросах же приобретения новых картин для галереи Голицын частенько полагался на мнение Цветкова и Вишнякова, постоянно конфликтовавших с Серовым, Остроуховым и А. П. Боткиной. И потому отношение к В. М. Голицыну со стороны Серова было весьма сдержанным, с внутренним холодком.
И это отразил написанный Серовым портрет Голицына. На нем князь, сидящий в кресле, бережно поглаживает пальцами свои чуть свисающие вниз роскошные усы, и рассматривающий портрет зритель поневоле думает: «Прекрасные усы, и как он их лелеет, холит!» Недаром увидевший портрет Коровин с одобрительной усмешкой сказал Серову: «А здорово ты его поддел!»
И с совершенно другим настроением приступил Серов к исполнению заказа, поступившего от совета присяжных поверенных в Петербурге, написать портрет председателя их совета, известного адвоката Александра Николаевича Турчанинова. Его коллеги собирались таким образом отметить исполняющееся в апреле сорокалетие адвокатской деятельности Турчанинова.
То, что Серову удалось узнать о Турчанинове, вызывало большую симпатию к нему. Турчанинов считался одним из могикан отечественной адвокатуры. В 1905 году он возглавил комиссию, решавшую вопрос об ответственности некоторых чиновников за расстрел мирных граждан. Он имел репутацию неподкупного человека. Славился своим ораторским даром. При личном знакомстве заочное расположение к нему лишь усилилось. Серов, дабы лучше понять адвоката, ходил на судебные заседания с его участием, беседовал с ним, читал статьи, публиковавшиеся в газетах в связи с юбилеем. «Начиная от Соловьева и кончая Карповичем, – писала о Турчанинове „Петербургская газета“, – он был духовником многих борцов за свободу русского народа, он не только защищал их по долгу присяги, но принимал их последний вздох, слушал их признания, не предназначенные для суда, который эти люди принципиально отрицали».
В итоге же и портрет известного адвоката получился удачным, с очевидным расположением к модели. Турчанинов восседал на портрете мудрым, благодушно настроенным старцем, довольным исходом только что законченного дела и справедливостью приговора суда.
А в это время звучали и совсем иные речи и одобрительные слова, восхвалявшие тех, кто чинил расправу над восставшим народом. Газета «Московские ведомости» опубликовала благодарственную речь, обращенную Николаем II к солдатам и офицерам лейб-гвардии Семеновского полка. На полковом смотре в Петергофе царь отдал им должное за то, что «благодаря доблести, стойкости и верности Семеновцев крамола в Москве была сломлена».
В редакционном комментарии «Московских ведомостей» говорилось: «С мрачных времен Московского декабрьского уличного бунта Семеновский полк занял в истории России особое, высокое, символическое значение: он олицетворил в себе высочайшую доблесть идеального Русского воинства…»
И далее автор редакционной колонки плавно переходил к недавнему роспуску Государственной думы и навязывал читателям свои умозаключения: «Еще вчера все крамольное отребье Государственной думы дерзновенно хвасталось, что Царь считает их, крамольников, „лучшими людьми“… Великий подвиг Царской твердой Воли, выразившийся в разгоне бунтовщической Думы, впервые открыл глаза всей России на истинные чувства и намерения Государя Императора. А ныне еще яснее проявилось духовное настроение Русского Царя в Его речи к Семеновцам, ибо теперь уже ни для кого не может быть малейшего сомнения, кого Государь считает „лучшими людьми“».
Находясь летом на даче в Ино и узнав о возвращении Дягилева из Парижа, Серов поехал в Петербург на встречу с ним. От весеннего «кислого» настроения Сергея Павловича не осталось и следа. Ныне преобладало чувство окрыленности: он воодушевился после визита во Францию новым грандиозным проектом и поторопился рассказать о нем Серову:
– Помнишь мой ответ Гинцбургу о том, что нас, наше искусство, ждут в Париже? Интуиция меня не подвела. Там действительно ждут нас. Я понял это, еще находясь проездом в Константинополе, лишь просматривая парижские газеты. Встретившись в Париже с Бенуа и с французскими деятелями искусства, убедился, насколько был прав. Наша революция вызвала во Франции огромный интерес к России, ко всему русскому, и это важный для нас момент. Есть и другой. Я зондировал после приезда сюда некоторых влиятельных лиц при царском дворе и встретил с их стороны такое понимание, на какое, признаться, и не рассчитывал. Наши верхи очень озабочены, как бы исправиться в глазах Европы после подавления народных волнений, как бы выглядеть теперь более привлекательно. Но если это пойдет на пользу русскому искусству, зачем же нам терять такую возможность? Мы должны ухватиться за предоставленный шанс обеими руками. Мне намекнули, что с этим проектом гарантирована солидная материальная помощь через посредство одного из великих князей…
– Так объясни, наконец, в чем же состоит твой новый проект, – нетерпеливо прервал его Серов.
– Ах, да… – опомнился Дягилев. – Идея в том, чтобы на Осеннем парижском салоне развернуть экспозицию русского искусства – ретроспективу двухвекового развития живописи и скульптуры. Основа есть – это прошлогодняя выставка в Таврическом дворце. В Европе даже не представляют, каково было мастерство русских художников восемнадцатого-девятнадцатого веков. Там не знают ни Левицкого, ни Венецианова, ни Брюллова, как и более поздних. Нам есть что показать и из современной живописи. Наконец, там же можно представить и коллекцию древнерусских икон – пусть увидят, что русское искусство развивалось не на пустом месте, что своими корнями оно уходит в далекую старину. Эта выставка может произвести переворот в умах. Пелена спадет с глаз, заблуждения развеются. Вместо дикой, полуварварской страны, какой до сих пор, увы, Россию представляют себе французские обыватели, и не только они, парижане увидят художественно очень развитую державу с тонким и прекрасным искусством. Так стоит ли овчинка выделки?
– Стоит, – подтвердил Серов. – Но уверен ли ты, что тебе удастся это осуществить?
– Теперь, когда уже обсуждался вопрос о финансировании, уверен полностью. Признаться, проблеск этой идеи был у Шуры Бенуа еще до моего приезда в Париж, и он пытался соблазнить ею князя Щербатова и Рябушинского. Но не сумел, потому что не видел этот проект в такой перспективе, как его вижу я. Для меня же он – логическое развитие тех планов, которые я уже осуществил, пропагандируя русское искусство в Германии и Австрии. Ныне настал черед Парижа. Так я могу положиться на тебя, на твое содействие? Очень хотел бы получить для Парижа лучшие из твоих последних работ.
И Серов обещает, что постарается заполучить у владельцев картин все, что кажется ему стоящим показа в Париже. За годы знакомства с Дягилевым он убедился, что, загоревшись какой-либо идеей, Сергей Павлович не остановится на полпути. Он пойдет вперед, как таран, преодолевая любые препятствия. Вдохновит своими планами всех, кого считает нужным вдохновить. Выбьет, если понадобится, деньги из последнего скряги. Разогреет пылкими речами самое черствое и задубевшее сердце.
Но помощь Серова Дягилеву нужна не только в предоставлении им собственных работ. Сергей Павлович просит написать письмо Остроухову и передать его, дягилевскую, просьбу предоставить на парижскую выставку некоторые из имеющихся в собрании Ильи Семеновича картин, а именно Венецианова, Варнека и Федотова («Горбун»). А заодно и упомянуть между делом, что этот самый Дягилев недавно купил специально для собрания Остроухова очень милый пейзажик Васильева у петербургского антиквара.
– Но как же «Словарь портретов»? – вдруг вспомнил Серов задумку Дягилева подготовить и издать сводный указатель по материалам Историко-художественной выставки в Таврическом дворце.
И Дягилев поясняет: сейчас не до этого, сейчас главное – эта выставка в Париже. Тем более что времени до открытия Осеннего салона в обрез. А надо ковать железо, пока оно не остыло. Что же до «Словаря», так к нему можно вернуться и позже.
О шумном успехе в Париже дягилевской выставки Серов узнал поздней осенью, в ноябре, от побывавших на ней супругов Гиршман.
С четой Гиршман, Владимиром Осиповичем, владельцем фабрики и торгового дома «Гиршман и сын», и его молодой женой Генриеттой Леопольдовной, Серов состоял в хороших, почти дружеских отношениях. Их дом в Мясницком переулке, выходивший окнами к триумфальным Красным Воротам, был одним из культурных центров Москвы, нередко собиравшим художников, актеров, музыкантов.
Гиршман был известен как страстный коллекционер картин, антикварной мебели, хрусталя, фарфора. Из современных художников он отдавал предпочтение кругу «Мира искусства» и имел в своем собрании произведения Добужинского, Борисова-Мусатова, «Демона сидящего» Врубеля и его же картину «Тридцать три богатыря». Приобрел Владимир Осипович и несколько работ Серова. В начале же этого года сам Серов, увлеченный красотой Генриетты Леопольдовны, предложил исполнить ее портрет. Но пока, до отъезда супругов в Париж, успел сделать лишь предварительный рисунок.
Вместе с Дягилевым ему пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Владимира Осиповича дать на выставку в Осенний салон работы Врубеля. В конце концов, боясь, как бы картины не были повреждены в дороге, хозяин сам упаковал их в ящики и повез в Париж, прихватив заодно и очаровательную супругу.
А когда после возвращения с выставки Серов навестил их в Москве, Владимир Осипович взахлеб начал рассказывать ему о триумфе русской живописи на Осеннем салоне. О том, что тамошние газеты посвятили русской экспозиции немало лестных слов и «Фигаро» назвала ее уникальной. Некоторые участники удостоились от французов особых почестей: Бенуа и Бакст были награждены орденами Почетного легиона. Один из этих орденов хотели вручить Дягилеву, но он отказался в пользу Бакста, что лишний раз свидетельствует о широте души Сергея Павловича. Но и Лев Самойлович, увлеченно продолжал Гиршман, имел полное право на этот орден – и не только как автор замечательных картин. Он изумительно оформил выставочные залы: картины и скульптуры очень выгодно смотрелись на фоне изящной обивки стен и множества цветов.
Если говорить об экспозиции, то «старики» – Левицкий, Боровиковский, Карл Брюллов – произвели фурор. Но и современные мастера, Врубель, Бакст, Сомов, Грабарь, Рерих, имели несомненный успех. Недаром почти все они приняты в постоянные члены Осеннего салона.
– А мы с Генриеттой Леопольдовной, – важно приосанился Гиршман, – удостоились за содействие выставке звания почетных членов Салона.
– Я вас поздравляю! – счел нужным вставить Серов. Он ждал, что Гиршман упомянет, как были восприняты на выставке и его, серовские, работы. Как-никак дал Дягилеву девятнадцать полотен, и среди них значительные – портреты Ермоловой, Юсупова-младшего, актрисы Федотовой, Коровина, Таманьо, акварели к изданию Кутепова о царской охоте…
Словно прочитав его мысли, Гиршман заговорил и об этом, но не сразу. А сначала рассказал, что перед отъездом они собрались в гостиничном номере Дягилева и Сергей Павлович подвел некоторые итоги: выставка явно удалась, оправдала его ожидания, открыла французам неизвестную им Россию, показала ее огромный художественный и культурный потенциал, чему способствовал и концерт русской музыки во дворце Елисейских Полей, на который были приглашены французские художники и музыканты. Словом, все замечательно, но его, как и Грабаря, огорчило то, что французы явно недооценили одно очень дорогое всем участникам выставки имя, «ваше имя, дорогой Валентин Александрович», – участливо глядя на Серова, конкретизировал Гиршман, и его усы скорбно поникли.
– Где уж мне, – не сдержавшись, с горечью бросил Серов, – состязаться с привлеченными Дягилевым молодыми – Кузнецовым, Ларионовым, Милиоти, Судейкиным, Юоном. Кое-кто из них, кстати, мои ученики, и теперь они, должно быть, думают, что превзошли учителя. Хоть их успеху порадуюсь.
– Вот-вот, – подхватил Гиршман, – вся штука в том, что Осенний салон имеет левую репутацию.
– А я уже кажусь им старомодным, – с иронией резюмировал Серов.
– Нет-нет, – запротестовал Гиршман, – серьезные критики отметили и вас. В одном из парижских изданий писали, что Серов – мастер, достойный войти в историю искусства, с изумительным рисунком и чувством колорита.
Разговор о выставке был продолжен и за обеденным столом. Последняя реплика об оценке его творчества несколько успокоила Серова, и он даже позволил себе комплимент по адресу хозяйки дома, отметив, что ее новое парижское платье очень ей к лицу.
– Вы считаете, платье идет мне? – тут же оживилась Генриетта Леопольдовна. – Так, может, я буду позировать именно в нем? – напомнила она о намерении художника писать ее портрет.
– Посмотрим-посмотрим, – с улыбкой обронил Серов и обратился к Гиршману:
– А что, Сергей Павлович тоже вернулся?
И Гиршман пояснил, что нет, Дягилев остался в Париже – готовить русскую выставку к показу в Берлине, а затем, какую-то ее часть, – и в Венеции. Есть, продолжал Владимир Осипович, у Дягилева и другие планы. Успех выставки и сопровождавшего ее концерта помог ему завязать весьма полезные связи с представителями высшего света Парижа, и теперь Сергей Павлович подумывает, не организовать ли в будущем году в Париже фестиваль русской музыки с приглашением и участием в нем отечественных композиторов и исполнителей.
– Что ж, – неопределенно хмыкнул Серов, – должно быть, заниматься лишь живописью ему кажется слишком тесным для его широкой натуры. Большому кораблю – большое плавание. А, право, жаль, если изменит нашему делу.
В очередное посещение этого дома Серов окончательно определился с идеей портрета. Будет писать красавицу Генриетту в ее будуаре, в темном платье и горностаевой накидке на плечах, которую дама поправляет изломанным жестом рук, на фоне отражающего ее фигуру зеркала. Тут же – разные женские безделушки, флакончики с духами и иной парфюмерией. А что еще надо для портрета готовящейся к выходу на званый вечер или на концерт молодой и пользующейся успехом в обществе «светской львицы», какой, без сомнения, сознавала себя Генриетта Леопольдовна? Почему бы, по примеру Веласкеса, не написать отраженного в зеркале и самого себя, взирающего на модель из-за мольберта?
Символ переживаемого Россией мрачного времени некоторые увидели в рисунке Мстислава Добужинского «Дьявол», опубликованном в первом номере журнала «Золотое руно» за 1907 год. На нем изображен замкнутый тюремный двор с зарешеченными окнами наверху. Внизу – темный круг людей-букашек – выведенных на прогулку заключенных. Их сторожит огромный, выше тюремных стен, опирающийся длинными лапами на каменные плиты двора паук с выпученными глазами-фарами. Жуткая, достойная Гойи фантазия. Но так ли уж далека она от действительности?
В удушливой атмосфере этих дней, когда реакция торжествовала победу, хотелось бежать из России куда-нибудь подальше, к свету и солнцу. Идею Серову подал Лев Бакст, заявивший во время встречи в Петербурге, что собирается совершить путешествие по Греции, и предложивший ехать вместе. После недолгого раздумья Серов согласился. Он знал об интересе Бакста к Античности, выразившемся в декорациях к постановкам трагедий Еврипида и Софокла на сцене Александринского театра. Вероятно, Лев Бакст давно мечтал об этой поездке. Но разве можно предвидеть, чем обернется и для тебя далекое странствие, тем более на землю, которую считают родоначальницей классического искусства, какой даст оно импульс и твоему творчеству?
В путь отправились пароходом 5 мая из Одессы курсом на Константинополь. Первые впечатления, которые Серов сообщает в письмах жене, Ольге Федоровне, – самые наилучшие. «Прекрасно доехали, – пишет он 8 мая из Константинополя. – Море – масло. Незаметно оказались в Босфоре, а затем в Золотом Роге – Константинополе. Очень хорошо-с…»
11 мая, уже из Афин: «А хоть и жарковато, но хорошо здесь… Акрополь (Кремль афинский) нечто прямо невероятное. Никакие картины, никакие фотографии не в силах передать этого удивительного ощущения от света, легкого ветра, близости мраморов, за которыми виден залив, зигзаги холмов… В музеях есть именно такие вещи, которые я давно хотел видеть и теперь вижу, а это большое удовольствие. Храм Парфенона нечто такое, о чем можно и не говорить, – это настоящее действительное совершенство…»
И спустя годы Серов с восторгом в глазах вспоминал, с каким упорством в жаркий майский день они поднимались, минуя прихотливо рассыпанные в траве каменные блоки, на пламенеющий маками холм, где воздвигнут Акрополь. А поднявшись, утерев с лица пот и с восхищением озирая открывшуюся отсюда панораму, он признается Баксту, испытывающему примерно те же чувства: «Плакать и молиться хочется».
В городском музее Афин он зарисовывает раскрашенных мраморных кор, с удлиненными глазами, заплетенными косами, в ниспадающих к их ногам одеждах. Когда-то эти скульптуры составляли часть ансамбля Акрополя.
В очередном письме из Афин несколько строк уделены коллеге по путешествию: «Бакст – приятный спутник, но ужасный неженка и боится все время всевозможных простуд, и еле ходит, боится переутомления – кушает ничего себе».
16 мая Серов извещает жену, что они отплывают на Крит.
Вероятно, по пути на остров друзья-художники вспоминали, что плывут примерно тем же маршрутом, что плыл некогда, в греческих мифах, принявший образ быка Зевс, неся на спине прекрасную Европу. Недаром впоследствии Серов использовал этот сюжет для своей известной картины «Похищение Европы». И как же не вспомнить заодно, что от связи Зевса с Европой родился великий царь Крита Минос, и не подумать о древнем городке Кносс на Крите, где раскопаны развалины дворца и знаменитого лабиринта, где будто бы поджидал своих жертв чудовищный Минотавр. Там, в Кноссе, они тоже будут, и на память пришли три мудреца из диалога Платона, как неторопливо шли они из Кносса, мимо оливковых и кипарисовых рощ, к святилищу Зевса и рассуждали по пути о законах, которые следует установить в идеальном государстве. Там, у Платона, есть замечательная мысль, что в мире всех прекраснее местности, где чувствуется некое божественное дуновение, и это родина гениев. И очевидно, что философ имел в виду и материковую Грецию, и греческие острова.
Многие детали этого путешествия известны из изданной годы спустя богатой подробностями очерковой книжки Бакста с описанием совместной с Серовым поездки.
Разве не удивительно, например, что на пароходе среди пассажиров, критян и итальянок, оказалась и группа русских солдат с «полковницей» из русского гарнизона, стоящего в городке Рэтимно на северном побережье Крита? И сюда добрались!
В этой книге Бакст признается, что спутник по греческому путешествию Серов, с его некоторой тяжеловесностью и задумчивым прищуром глаз, напоминал ему «маленького слона». И Бакст завидует Серову, что, в то время как сам он спал в душной каюте, мучимый кошмарами и предчувствием морской болезни, Серов всю ночь одиноко простоял на палубе, всю ночь он плыл «точно один на греческой триреме – мимо малоазиатского берега, мимо Трои» и испытывал «трепетное чувство близости (может быть, атавистическое, кто знает?), страшной близости в такую ночь к старым берегам, к настоящей Трое… Где его мысли? В Греции Миноса?..».
В Кноссе приятели работают по утрам в местном музее, зарисовывая предметы искусства и быта, собранные английским археологом Эвансом при раскопках царского дворца. Это тот самый дворец, в лабиринтах которого, по преданию, герой Тезей сражался с Минотавром и откуда, убив чудовище, вышел с помощью нити из клубка, дарованного ему Ариадной.
Вечно подтрунивая друг над другом, упоминает Бакст, они «усердно рисовали, искали современную манеру изображения греческого мифа».
Путь от гостиницы к музею лежит через базар. Днем, в жару, он пустует, лавки закрыты, но с наступлением темноты, приносящей прохладу, все оживает. Слышны зазывные выкрики торговцев, музыка, и друзья любят проводить вечера в арабской кофейне, где коротают время и экспансивные греки-критяне, и турки и где танцует, развлекая публику, изящная, как статуэтка, Паца-Паца. Ей пятнадцать лет, у нее пышные, стянутые обручем черные волосы, смугло-матовая кожа, миндалевидные глаза, полные страсти, и тело гибкое, как тело змеи.
Серов любит расположиться в кофейне, сидя, как и все, на циновке, неприметно, чтобы не обращать на себя внимание. И хотя очень хочется зарисовать в альбоме и Пацу-Пацу, и задумчиво курящих кальян посетителей, он воздерживается, чтобы не привлекать внимания: здесь, насколько он слышал, местные жители, особенно турки, не любят ни фотографов, ни художников с их привычками бесцеремонно вторгаться туда, куда никто их не приглашал. Но Бакст, несмотря на предупреждения Серова, предпочитает поступать по-своему и иногда заигрывает с Пацой-Пацой.
Они не знают, как на самом деле зовут танцовщицу, но иной раз общаются с ней, пока она отдыхает, на языке жестов. Однажды, рассказывая о ссоре со своим дружком, девушка показала, какие крепкие оплеухи надавал ей рассерженный влюбленный, и при этом энергично повторила: «Паца-паца, паца-паца!» Так и стали они звать ее между собой.
В этот вечер Паца-Паца, как обычно, танцует для наблюдающих за ней посетителей кофейни. Завершив танец, обходит по кругу, собирая монеты. Рыжеволосый посетитель с лихо подкрученными вверх усиками платит особенно щедро. По обычаю ее племени щедрость надо как-то отблагодарить, и, обращаясь к Баксту, она объясняет на пальцах, что завтра в три пополудни она приглашает его пить кофе в ее маленьком домике возле музея. Она будет сидеть у открытого окна и ждать его.
Но Баксту этого мало, он хочет уточнить, что они будут делать после кофе. И Паца-Паца грациозными, но достаточно откровенными движениями показывает, что будет дальше. Сконфуженный Серов укоризненно качает головой и говорит Баксту: «Уйми же ее, неприлично!»
– Она не княгиня, – смеется Бакст и, подняв вверх три пальца в знак того, что он понял ее, подтверждает согласие на свидание.
Однако на следующее утро эта договоренность Бакста с танцовщицей обернулась ссорой между путешествующими художниками.
В кругу «Мира искусства» Левушка Бакст пользовался шутливой репутацией «покорителя женских сердец». Отличавшийся большой любвеобильностью, Бакст нередко завязывал романы и в России, и за границей и хотя не единожды убеждался в том, что женщины бессовестно обманывали его, продолжал вновь пылко увлекаться ими. Серову же подобное поведение коллеги не нравилось, особенно в этой поездке, когда, как он знал, жена Бакста, Любовь Павловна, [2] готовилась стать матерью.
Во время утреннего кофе в гостинице Серов делится с Бакстом своими планами: сначала он пойдет в пароходную компанию, чтобы узнать насчет обратных билетов, потом – к морю, писать этюды. А днем, около трех, собирается поработать в музее, рисовать раскопки Эванса.
– А ты? – спрашивает он Бакста. – Кажется, в три у тебя свидание?
Пора, думает Серов, проучить Бакста с его донжуанскими замашками. Левушка неловко обороняется, и все переходит в ссору. «Я больше всего не люблю такие ссоры, холодные, „европейские“, – замечает по этому поводу Бакст. – Каждый притворяется спокойным, равнодушным. Возмутительная вежливость заступает место недавних ругательств».
Впрочем, исход этой «любовной аферы» стал неожиданным для обоих. Около трех, как намечали оба, они встречаются в музее, рисуют. В три Серов подходит к окну музея и видит, что танцовщица Паца-Паца действительно, как и обещала, выглядывает из верхнего окошка небольшого соседнего домика. Бакст подходит к Серову, становится рядом. Но кому это посылает сигналы молоденькая танцовщица, призывая зайти внутрь? У дверей домика мнется тучный, «степенный араб в желтых туфлях», как описывал его в своих заметках наблюдательный Бакст. Но вот, отбросив сомнения, поощренный адресованными ему знаками, араб решительно поднимает кожаную дверь и протискивает внутрь свой большой живот. Паца-Паца исчезает в окошке.
Пораженные таким финалом, Серов, а за ним и Бакст, молча отходят от окна. Бакст публично унижен, да и Серов со своей «принципиальностью» чувствует себя дурак дураком. Разве поймешь этих арабов и их коварных танцовщиц? «Мы долго не можем поднять друг на друга пристыженные, отяжелевшие глаза», – заключает описание этого несостоявшегося приключения Лев Бакст.
Отголосок ссоры, вероятно, сказался и во время дальнейшего путешествия по Греции. В письмах жене, Любови Павловне, Бакст упоминает, что они с Серовым обычно располагаются в разных комнатах: «Это удобнее… можно работать не стесняясь и не пряча мыслей художественных друг от друга…»
В другом письме Бакст признается, что присутствие Серова мешает ему работать, жалуется, что Серов будто бы берет его мотивы: «…Это очень художнику неприятно! Я же стараюсь не смотреть даже, что он работает, – из самолюбия – не хочу, чтобы походило на его этюды!»
В Дельфах, где древние вопрошали оракулов о своей судьбе, к расположенному на вершине храму добирались в экипаже. По дороге сетовали, что вот и путешествию скоро конец, а много ли видели людей, представляющих настоящий греческий тип, потомков тех, кого ваял Пракситель? До сих пор, и на материке, и на Крите, встречались и арабы, и турки, и албанцы, и причудливые помеси всех их с греками, но чистый греческий тип словно ускользал от них.
Но вот – нечаянная встреча. Сверху спускается по дороге с гор ведомая двумя белыми быками большая повозка, и в ней – целая семья: несколько девушек, два подростка, два старика. Парни, тормозя на крутом спуске быков, что-то гортанно кричат, но Серов и Бакст смотрят не на них, а на девушек. Они в коротких, открывающих ноги платьях, черноглазые, с безупречно греческими чертами лиц, с сильными, идеально сложенными телами – словно явились сюда из гомеровских времен. Художники не сводят с них восхищенных глаз, и Бакст умиленно говорит, что такими надо любоваться преклонив колени. И Серов с ним согласен. Одна из гречанок напомнила ему «деву» из Акропольского музея, и очень жаль, что они сейчас скроются и «никогда больше не увидим таких – прощайте, статуи, на века!».
За обедом в гостинице Серов и Бакст вспоминают Дягилева. Как раз в это время в Париже он знакомит французскую публику с лучшими достижениями русской музыки. Сергей Павлович склонил к участию в организованных им концертах Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина, Шаляпина, дирижера Артура Никиша, пианиста Иосифа Гофмана. Неужели такой блестящий ансамбль не произведет впечатления на парижан? Дягилев даже программы концертов решил оформить по-особому, иллюстрировать портретами русских композиторов.
– Перед нашим отъездом, – потягивая апельсиновый сок, говорил Бакст, – я сделал по его просьбе портрет Балакирева.
– Он спрашивал у меня разрешения поместить и мой портрет Глазунова, – вставил Серов. – Неужели он навсегда променял живопись на музыку?
После Дельф путешественники решили напоследок завернуть на остров Корфу. Их странствие заканчивалось, и его итогом для Серова были многочисленные работы, в основном акварели и рисунки, выполненные в этой поездке. Здесь изображения пристаней, «Королевский сад в Афинах», «Коринфский залив близ города Итеа», наброски мулов, осликов и рисунки кор, дельфийский пейзаж, вид Корфу и афинский Акрополь…
На острове Корфу, просматривая газеты, Серов узнал тревожные новости из России. После роспуска Первой Государственной думы теперь, через год, под предлогом обвинения социал-демократической фракции в заговоре, распущена и вторая Дума. Часть фракции арестована. Славно! Что же дальше? Ясно лишь, что борьба оппозиции с правительством не утихнет – слишком остры противоречия русской жизни. Новый закон о выборах в Думу дает бесспорные преимущества землевладельцам и другим собственникам. А большинство, чьи права ущемлены, будут молчать?
Эти мысли нашли выход в проникнутом негодованием письме жене, отправленном с Корфу. «Итак, – писал Серов, – еще несколько сотен, если не тысяч, захвачено и засажено, плюс прежде сидящие – невероятное количество. Посредством Думы правительство намерено очистить Россию от крамолы – отличный способ. Со следующей Думой начнут, пожалуй, казнить – это еще более упростит работу. А тут ждали закона об амнистии. Опять весь российский кошмар втиснут в грудь. Руки опускаются, а впереди висит тупая мгла».
Вернувшись с Корфу на материк, коллеги распрощались: Серов держал путь на родину, а Бакст решил завернуть в Париж.
Уже дома Серов ознакомился с еще одним откликом на роспуск Думы в редакционном комментарии известных своей монархической направленностью «Московских ведомостях».
«Вторая крамольная Дума распущена! – ликовала газета. – Камень свалился с сердца Русского Народа!
Единодушно возносит он хвалу Царю царствующих за избавление России от того тяжкого стодневного кошмара, который сжимал православных Русских людей в железных тисках никогда еще не испытанного ими ужаса.
Единодушно приносит Русский Народ своему Отцу-Самодержцу верноподданническую благодарность за Царское слово, которым Он осчастливил Россию в знаменательный отныне день 3 июня 1907 года…
Манифест 3 июня полагает окончательный передел всем этим „конституционным“ иллюзиям. Правда оказалась на стороне тех Русских людей, которые ни на минуту не колебались после „государственного переворота“ 1905 года и неизменно утверждали, что Манифест 17 октября никакому ограничению Государеву Самодержавную власть не подчинил, что Самодержавие Государя осталось и останется, по собственным Его Величества словам, „таким же, каким оно было встарь“, и что Государь, ответствуя лишь перед Господом Богом, может Своей Властью изменить всякий изданный им закон, коль скоро того потребует благо России…»
Итак, реакция торжествовала.
Получив причитающиеся ему в Училище живописи деньги, Серов не мешкая выехал на дачу в Ино, где находилась семья. Уже оттуда отправил 15 июня горько-ироническое по тону письмо И. С. Остроухову. «…Ну вот, – писал он, – Думы нет – все по-старому, по-хорошему. А позвольте спросить, какому же собственно манифесту отдать преферанс и какого же придерживаться? Ни одного закона без Думы – все же реформы без Думы – очень просто.
Нет, должно быть, есть лишь два пути – либо назад в реакцию, впрочем, и виноват, это и есть единственный путь для Революции. Ну до свидания».
После средиземноморской жары умеренный климат северного взморья действовал целительно и благотворно. Отдохнув в Ино несколько дней, Серов почувствовал необходимость навестить петербургских друзей. В числе первых встретился с Дягилевым. Дав ему краткий отчет о совместном с Бакстом путешествии по Греции, поинтересовался, как прошли музыкальные концерты в Париже. И Дягилев, слегка окрашивая победный тон легкой иронией по поводу неизбежных тягот своего дела, рассказывал:
– Пять полных сборов в «Гранд-опера» – это не шутка! Да вот беда, расходы оказались такими, что до сих пор приходится ломать голову, как расплатиться с кредиторами. Шаляпин и Никиш были выше всяческих похвал, но еще выше были требуемые ими гонорары.
– И главное в ином, – воодушевленно продолжал Дягилев. – Французы наконец осознали, что в России творится музыка, о какой они и не подозревали. Они, конечно, раньше слышали кое-что из Чайковского, Глинки, но Римский-Корсаков и прежде всего Мусоргский стали откровением. И есть надежда, что после этих концертов загадочная славянская душа стала им ближе и намного симпатичнее.
Однако… Рахманинова и Скрябина французская публика явно недооценила, они не встретили такого внимания к себе, какого заслуживали. Но зато Шаляпин и московский тенор Смирнов затмили даже итальянских звезд, Карузо и Феррари, выступавших в Париже в то же время. После успеха этих концертов подумываю, не познакомить ли тамошнюю публику с русской оперой.
Серов был искренне удивлен. Но Дягилев подтвердил, что эти планы вполне серьезные, если только не помешает Теляковский, который видит в нем опасного конкурента: не может простить критику спектаклей в Мариинском театре. Поддержки от него не дождешься, а каверзы будут наверняка. А для парижских выступлений нужны декорации, костюмы. Необходимо согласие Теляковского отпустить некоторых солистов и прежде всего Шаляпина.
– И все же, – твердо заключил Дягилев, – я надеюсь на благоприятный исход. В Париже я завязал очень нужные связи с благоволящими к моим начинаниям аристократами в лице влиятельных дам – графини Греффюль, леди Гревс, баронессы Ротшильд. Когда такие дамы говорят на светском рауте, что на представление, которое привезли русские, стоит сходить, к ним, поверь, прислушиваются.
– Мы с Бакстом, – счел нужным посетовать Серов, – обсуждали в Греции твой поворот к музыке и очень пожалели, что живопись уходит у тебя на второй план.
Дягилев пристально взглянул на Серова.
– Я понимаю вас, – сказал он, – но мне кажется, что на парижскую публику наибольшее впечатление произведет синтетическое искусство – опера или балет. И здесь никак не обойтись без художников. И Бакст, и ты имеете опыт в этом деле. У нас немало и других талантов – в первую очередь это работающие у Теляковского Коровин и Головин. Я хорошо знаком с парижскими оперными и балетными спектаклями и со всей ответственностью могу заявить, что таких декораторов, как у нас в России, у них нет.
– Кстати, – оживился Дягилев, – ты знаешь, что и Шура Бенуа сейчас в Петербурге. Вернулся из Парижа воодушевленный: его балет на музыку Черепнина «Павильон Армиды» заинтересовал Мариинский театр. В Париже я выхлопотал для него отдельную ложу в «Гранд-опера», и он посещал с друзьями все русские концерты. В благодарность тиснул в одной из наших газет хвалебный отзыв.
Покопавшись в бумагах, Дягилев протянул Серову номер газеты «Слово» со статьей Бенуа. Серов быстро прочел, обратив внимание на основную идею: «Страна, давшая Глинку и Гоголя, Достоевского и Римского, Толстого и Чайковского, Иванова и Врубеля, не имеет права запереться за своими стенами. Она принадлежит всем, и даже тогда, когда все отворачиваются от нее, долг ее – напомнить о своем прекрасном и великом значении. Это категорический императив: концерты нужно было устроить и нужно было сейчас, не раньше и не позже».
В заключение разговора Дягилев признался, что от всей этой суеты чертовски устал и не мешало бы ему немного отдохнуть, после чего будет готов со свежими силами осуществлять свой новый план по ознакомлению парижан с русской культурой.
– В вашей помощи, – прощаясь, сказал он, – твоей, Бенуа, Бакста, я не сомневаюсь.
– Только призови, – со сдержанной радостью ответил Серов, – а мы готовы.
Тем летом, в Ино, Серов встретился с писателем Леонидом Андреевым. Он сблизился с ним во время подготовки к изданию сатирического журнала «Жупел» и уже тогда убедился, что их взгляды на происходящее в России во многом совпадают.
Год назад издатель журнала «Золотое руно» Н. П. Рябушинский заказал Серову исполнить для журнала портрет Леонида Андреева и при этом передал в письме поставленное писателем условие: Андреев хочет, чтобы его портрет рисовал именно Серов. Но обстоятельства развели их, и лишь через два месяца Серов получил письмо от Андреева из Берлина. Глухо упомянув о своем внезапном исчезновении «в пределы недосягаемости», писатель признавался: более всего жалеет, что «не придется мне быть написанным Вами».
В том же письме Андреев прозрачно намекал на свое участие в июльском восстании матросов Балтийского флота в Свеаборге, после чего он вынужден был скрываться от ареста в Норвегии. И далее упоминал, что с семьей, тоже выехавшей из России, он встретился в Стокгольме. Они решили обосноваться в Берлине.
И вот новая встреча, и Серов поражен произошедшей с писателем переменой. Два года назад, на даче Горького в Куоккале, когда обсуждали планы создания «Жупела», Андреев выглядел совсем иным, глаза сверкали задором, весь облик его источал энергию. Как и Серова, его возбуждала идея бросить вызов власти. Теперь же взгляд потух, на лице заметны глубокие морщины – отпечаток внутренней муки, словно пережил тяжелую болезнь.
В беседе открылись причины этих перемен: смерть в Берлине, в ноябре, жены, Александры Михайловны, при рождении второго сына, Даниила. После ее кончины оставаться в Берлине уже не мог, уехал на Капри, к Горькому. Горький убедил – спасение в работе. Преодолевая себя, он начал вновь писать, закончил повесть на евангельский сюжет – о Христе и Иуде.
– И вот опять здесь, – устало закончил Андреев, – и, между прочим, купил участок по соседству для строительства дачи, в шести верстах отсюда, на Черной речке.
Серов, пытаясь отвлечь писателя от печальных мыслей, рассказал немного о себе, о недавнем путешествии по Греции. Договорились, что после обеда, которым уже занята Ольга Федоровна, приступят к работе над портретом: надо же отчитаться перед Рябушинским.
– Я не против, – согласился Андреев. – Пока не грянули другие «события», надо торопиться.
Осенью в ряде газет стали появляться сообщения о том, что Репин намерен оставить преподавание в академическом Высшем художественном училище, где он руководил самой популярной среди будущих живописцев мастерской. Причины при этом назывались разные: и будто бы обидные высказывания о Репине некоторых его учеников, и его конфликтные схватки с коллегами в совете Академии художеств, и, наконец, желание мастера целиком посвятить себя творчеству.
Корреспондент газеты «Столичное утро» пожелал узнать по этому поводу мнение Серова и заодно прозондировать, не изменилось ли отношение самого известного ученика Репина к своему знаменитому учителю.
Серов ответил, что, по его мнению, истинная причина решения Репина – в его взаимоотношениях с советом Академии: «Он был слишком крупной, самобытной и своеобразной величиной, чтобы идти в ногу с этой серой толпой академических преподавателей, путающихся в цепях условностей, трафарета, банальности и погони за отличиями. Репин был одинок в Совете. Ему приходилось по малейшему поводу выдерживать схватки то с Владимиром Маковским, то со скульптором Бахом, то со скульптором Залеманом. Репин и Матэ – кроме них буквально никого не было».
И далее: «Я знаю, какие перепалки происходили у Репина с Советом из-за Малявина, и, если бы не Репин, то Малявин так и не окончил бы Академии, уволенный за неспособность».
На вопрос корреспондента, как Серов относится к утверждению, что Репин «с его колоссальным размахом только вредил ученикам» и что «он был слишком художником, чтобы быть хорошим преподавателем», Серов ответил: «Не знаю, не знаю… Знаю только, что из класса „плохого учителя“ Репина вышли Малявин и Кустодиев – два настоящих художника. А что дали старательные профессора?.. Наконец, я сам учился одно время у Репина и знаю его как очень чуткого преподавателя. Я ему очень… благодарен… благодарен – не то слово, слишком банальное».
По следам этих событий Серов получил в начале ноября письмо, подписанное старостой мастерской Репина от имени шестидесяти своих коллег-учеников. «Для мастерской, – говорилось в письме, – Ваше руководство будет лучшим залогом успеха в совместной работе на пользу родного искусства. Наша любовь и симпатии к Вам будут лучшим вознаграждением за Вашу деятельность».
Серов колебался, думал. Принять на себя мастерскую Репина призывал из Петербурга и верный друг Василий Васильевич Матэ: «Почему-то я верю, что ты своим гением и умом много сделаешь и у нас в Академии. Возьми мастерскую!»
В том же письме Матэ упоминал, что недавно со скульптором Беклемишевым навестил Репина в Куоккале и Илья Ефимович им говорил, что никакой злобы на Академию у него нет, но пора и себе самому принадлежать, а так два дня из недели у него пропадали – и бремя это носил он пятнадцать лет. По словам Матэ, выглядит Илья Ефимович свежо и бодро, полон желания работать и показал им новую большую картину «Запорожцы на Днепре».
Серов тоже не сидел без дела. Летом и осенью он напряженно работал над эскизами декораций и костюмов для новой постановки отцовской оперы «Юдифь» в Мариинском театре. В связи со своими разысканиями по материальной культуре Ассирии и Палестины он обращается к С. П. Щурову – хранителю отдела изящных искусств и классической древности в Публичном и Румянцевском музеях в Москве.
К ноябрю работа была завершена, о чем имеется запись в дневнике директора императорских театров В. А. Теляковского от 1 ноября 1907 года: «Приходил Серов и принес свои эскизы для оперы своего отца „Юдифь“, предполагаемой к постановке в будущем сезоне. Эскизы очень удачны и красивы. Писать с них будет Коровин».
После нелегких раздумий Серов все же принял решение возглавить оставленную Репиным мастерскую в академическом училище, но выдвинул при этом ряд условий. В рапорте собранию Академии ректор Высшего художественного училища В. А. Беклемишев перечислил эти условия. Среди них значились такие: Серов поступает руководителем мастерской по вольному найму, он ведет только свою мастерскую, участвует на экзаменах, где обсуждаются работы только его мастерской, пользуется неограниченным правом принимать или не принимать учащихся в мастерскую.
Кроме того, в газетах упоминалось, что, дав свое согласие, Серов выдвинул условие, что только изредка будет приезжать в Петербург и не оставит Московского училища живописи.
Однако на общем собрании Академии, состоявшемся 17 декабря, было решено большинством голосов, что условия Серова неприемлемы, и 19 декабря газета «Голос Москвы» информировала читателей, что «кандидатура Серова на место Репина провалилась». Не исключено, что на это отрицательное мнение по поводу кандидатуры Серова повлияло его интервью «Столичному утру» с иронической оценкой «серой толпы академических преподавателей».
Сам же Серов к финалу этой истории отнесся довольно спокойно и 25 декабря писал В. В. Матэ, поздравляя его с Рождеством: «…Чуть-чуть было не попал в Академию, но, к моему счастью, дело это расстроилось… Либо Академия, Либо Московская школа, одно из двух – если брать руководство полностью. Но в сущности (не по уставу) Академия могла бы принять мои условия, ну, это уж ее дело – я же доволен».
Более всего ущемленными таким исходом дела посчитали себя ученики мастерской Репина, написавшие Серову после решения собрания Академии: «Мы не знаем, чем руководствовалось большинство собрания Академии при решении вопроса. Мы знаем только, что оно не руководствовалось ни интересами мастерской, объединяющей нас, ни интересами Высшего художественного училища, которое, имея вас в числе профессоров-руководителей, могло бы гордиться этим, ни интересами искусства, одним из превосходнейших служителей которого являетесь вы – наш желаемый учитель…»
С солидной задержкой до Серова все же дошло известие о реакции на показ дягилевской выставки русской живописи в Германии, куда она была отправлена после Парижа. И особенно приятно было, что своим впечатлением поделился в письме Серову его учитель рисования гравер Карл Кёппинг. Он написал, что год назад видел его работы на выставке русского искусства: «Я хотел сказать Вам, как они понравились мне, а также другим берлинским художникам, как большие портреты, так и маленькие вещи, особенно три восхитительные гуаши, изображающие исторические охотничьи выезды. Хотя я с большим запозданием выражаю свою радость по поводу Вашей выставки, но это происходит от всего сердца».
Похвала Кёппинга убедила Серова, что, увлекшись работами на исторические темы, живописующие славное прошлое России, он на верном пути. И потому с охотой включился в образовательный проект, затеянный московским издателем Иосифом Николаевичем Кнебелем. Он предложил группе художников, Серову, Бенуа, Лансере, Добужинскому, Кустодиеву, исполнить работы, связанные с прошлым России, для последующего размножения их и демонстрации в школьных классах на уроках русской истории.
Александр Бенуа, выполнивший весьма изящно «Парад при Павле I», признал и несомненную удачу Серова с его картиной «Петр I». Серов изобразил царя-реформатора при строительстве заложенного им Петербурга. Худой, высокий государь, опираясь на трость, размашистым шагом идет с непокрытой головой по набережной города. За ним, клонясь под порывами северного ветра, едва поспевает свита. Что ж, с удовлетворением признавал Серов, пожалуй, в этой картине удалось выразить образ Петра во всей его энергии, в неудержимом порыве к намеченной цели.
После прекращения художественных выставок журнала «Мир искусства» все большую силу набирало новое объединение, созданное на базе распавшихся «Мира искусства» и «36», – «Союз русских художников». Очередная выставка «Союза» открылась в январе 1908 года. Бродя по ее залам, Серов мимоходом бросает взгляд и на свою работу – выполненный темперой большой портрет Генриетты Гиршман. Вроде бы вышло в конце концов недурно. Внимательный зритель может заметить отражение в зеркале самого художника перед мольбертом – шалость, навеянная воспоминанием об одной из картин Веласкеса.
Портрет этот вызвал немалый интерес, и художественный критик П. Муратов в отклике на выставку, назвав его «замечательным» и «блестящим», заключил: «Это мастерское произведение может с полным правом почитаться центром текущей выставки». Недаром его воспроизвел на своих страницах журнал «Золотое руно». А вот Игорь Грабарь, освещавший выставку в журнале «Весы», отметив портрет Гиршман, все же отдал предпочтение картине Серова «Петр I».
Знакомясь с выставкой, Серов, как обычно, присматривается, что из показанных работ стоит приобрести для Третьяковской галереи. Хороши «Испанки» Головина, как и очень современный по решению темы «Человек в очках» Добужинского – в нем что-то острое, непривычное. А Бенуа с «Купанием маркизы» по-прежнему заворожен элегией давно ушедших времен – сценами из жизни французской знати. Лучше бы, думает Серов, побольше делал таких вещей на русские темы, как «Парад при Павле I», или продолжил цикл иллюстраций к «Медному всаднику».
«Японская кукла» – детский портрет талантливого ученика Репина Бориса Кустодиева подтверждает, что молодой художник прогрессирует год от года. Значит, правильным было их решение приобрести для Третьяковки кустодиевскую «Ярмарку» с прошлогодней выставки «Союза».
А вот и портрет Мамонтова, написанный лет десять назад тогда еще здоровым и полным сил Врубелем, и он вновь обращает мысли Серова к тяжкой судьбе товарища юности. Содержать больного в частной психиатрической клинике – дело накладное, и надо бы как-то помочь его родным, облегчить их бремя.
В начале года Серов работает в Москве и Петербурге над несколькими заказными портретами, в основном женскими. Среди них есть блестящие по живописи работы, и к ним в первую очередь относятся портреты М. Н. Акимовой и Н. С. Познякова.
Портрет Акимовой, написанный в эффектном сочетании красных, золотистых и синих тонов, некоторые критики, например М. Миклашевский, считали истинным шедевром. Чрезвычайно удачным находил его и художественный критик газеты «Слово» И. Лазаревский, полагавший, что по уровню мастерства он превосходит серовский портрет Г. Л. Гиршман (у зеркала). С ними солидарен и Игорь Грабарь, относивший портрет Акимовой к десяти лучшим портретам кисти Серова.
Высоко в целом был оценен современниками и портрет молодого московского богача Н. С. Познякова, тесно связанного с музыкально-артистическими кругами. Особенно эффектное впечатление эта работа произвела несколько лет спустя на выставках, организованных в Киеве и Одессе.
Менее известен портрет красавицы Е. Л. Алафузовой, начатый художником в ноябре 1907 года и законченный весной 1908 года. Однако эту работу современники смогли увидеть лишь на посмертной выставке Серова.
Среди заказных портретов не так уж часто встречались такие, где сама модель вызывала восхищение Серова, желание запечатлеть во всех нюансах ее красоту. Бывали и иные, в которых «злой» Серов тонко, быть может, и незаметно для портретируемого, иронизировал над моделью, подчеркивал те черты, которые ему казались малопривлекательными. К таковым можно отнести показанный, наряду с портретом Гиршман и картиной «Петр I», на выставке «Союза» портрет обряженной в драгоценности, с кукольным личиком и пустоватой улыбкой Е. С. Морозовой, жены известного коллекционера Ивана Абрамовича Морозова, бывшей кафешантанной певицы.
Об этом портрете есть интересное свидетельство художественного критика С. С. Голоушева (С. Глаголя). Касаясь особенностей портретов Серова, Голоушев писал: «Он умел, подходя к человеку, выхватить его существенную черту; и, если эта черта была карикатурного характера, если она была отрицательна, напоминая какое-нибудь животное, имела какуюнибудь отталкивающую сторону, он смело брал именно ее и подчеркивал. Я помню один портрет, который мне очень не понравился. Выходя с выставки, я столкнулся с Серовым. „Что, – спрашивает, – понравилось?“ – „Нет“. – „Почему?“ – „Да вы знаете, есть что-то странное в портрете, точно какая-то раскрашенная деревянная кукла, а не человек“. – „Очень вам благодарен. Я именно это и хотел сделать: эта женщина и в самом деле только красивая деревянная статуя“».
Примерно так же оценивал портрет Е. С. Морозовой И. Э. Грабарь: «Серову хотелось, по-видимому, подчеркнуть черту вульгарности модели».
О том же портрете «женщины в жемчугах и бриллиантах» вспоминал московский критик Н. Е. Эфрос: «Это был настоящий портрет, и прекрасный, но, право, никакая карикатура не могла бы, по-моему, быть злее… И многие тогда дивились, как это дама разрешила выставить».
В апреле Серов в Петербурге встречается с сестрой Врубеля Анной Александровной. Здоровье художника, находившегося на излечении в петербургской психиатрической клинике доктора Бари, резко ухудшилось: он почти ослеп и уже не мог работать.
После разговора с Анной Александровной Серов вместе с В. В. Матэ пишет письмо в совет Академии художеств с просьбой предоставить материальную помощь для оплаты содержания Врубеля в лечебнице. Получив положительный ответ от Академии, он письмом извещает А. А. Врубель, что такая ежемесячная помощь от Академии художеств будет оказана, сообщает, что в Москве говорил с некоторыми членами «Союза русских художников» о сборе дополнительной суммы на содержание в лечебнице Врубеля, но вопрос откладывается на осень, до общего собрания «Союза», где он будет поставлен.
В том же письме Серов советует Анне Александровне отправить в Москву богатому любителю искусств Михаилу Павловичу Рябушинскому, брату издателя «Золотого руна», вариант врубелевского «Демона», который Рябушинский видел на одной из петербургских выставок и хотел приобрести.
Наконец, в конце мая, вновь находясь в Петербурге, Серов пишет И. С. Остроухову, что владелец картины Врубеля «Демон поверженный» В. В. фон Мекк готов продать это полотно Третьяковской галерее. Хотя картина, упоминает Серов, и несколько потемнела, он выступает за то, чтобы она была куплена. На этот раз Остроухов не возражал, и месяц спустя совет Третьяковской галереи приобрел «Демона поверженного» за 8 тысяч рублей. Так закончилась длившаяся шесть лет история полотна Врубеля для знаменитого собрания русской живописи.
Как-то в газете Серов наткнулся на ошеломившее его известие: 22 июня во время дуэльного поединка в Санкт-Петербурге убит граф Николай Феликсович Сумароков-Эльстон.
Сразу вспомнилась княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, ее привязанность к сыновьям. Как она должна переживать! Николай остался в памяти Серова замкнутым и надменным юношей, но из разговоров с его младшим братом Феликсом Валентин Александрович уяснил, что братья были очень дружны. Какой удар для всей семьи!
Серов тут же пошел на почту и отправил телеграмму соболезнования в Петербург, на адрес особняка Юсуповых на Мойке. Волею судьбы, несмотря на разделявшую их социальную дистанцию, эта семья стала ему близка. Теперь Феликс, вероятно, главный наследник несметного состояния. Как распорядится он этим богатством, какой дорогой оно поведет его? Вспомнились беседы в Архангельском, когда он рассказывал Феликсу о примерах щедрого меценатства и благотворительности на пользу России – и Третьякова, и Мамонтова, и других, кто строили больницы, помогали талантливым людям. Феликс слушал внимательно, благодарил. Но он был еще в том возрасте, когда так легко можно попасть и под хорошее, и под дурное влияние. Его дружбы будут домогаться многие. Сможет ли он устоять на пути добра?
Лето Серов вновь проводил в Финляндии, на даче в Ино, но выезжал и в Петербург, чтобы встретиться с друзьями – Дягилевым, Бакстом, Вальтером Нувелем. Сергей Павлович продолжал оставаться для него тем мощным магнитом, неиссякаемым генератором новых идей и проектов, который неудержимо втягивал в свое силовое поле.
Из писем Л. Бакста жене, Любови Павловне, летом 1908 года известно, что 12 августа к нему приезжал Серов, а накануне они вместе с Дягилевым посетили Международную художественно-промышленную выставку мебели в Михайловском манеже.
В конце месяца, следует из той же переписки, Серов снова был в Петербурге и ночевал у Бакста. При этом Бакст упоминает о совместном обеде: Серов, Дягилев, Вальтер Нувель и гость Петербурга – директор Римской академии художеств.
Среди новых работ Бакст показал Серову эскизы костюма Саломеи для постановки драмы Оскара Уайльда «Саломея», выполненные гуашью и графитными карандашами и изображавшие сладострастную диву в полупрозрачной одежде, с браслетами и перстнями на руках. На эскизах Бакста Саломея изображена в танце – это был своего рода апофеоз искушения, коварства и соблазна. Этот образ Саломеи напомнил Серову росписи греческих ваз с изображениями пляшущих вакханок, которыми они с Бакстом любовались в афинском музее.
Лев Самойлович пояснил, что со спектаклем «Саломея» возникли проблемы из-за возражений цензоров Синода, посчитавших постановку безнравственной. В одном из концертов был исполнен лишь фрагмент – «Танец семи покрывал», и он произвел фурор. Можно представить, вздыхал Бакст, какие эмоции вызвал бы весь спектакль – постановку его готовил Мейерхольд, а музыку написал Глазунов.
Об исполнительнице роли Саломеи Бакст заметил, что она его новое открытие. «Профессионального образования, – пояснил Бакст, – у Иды Рубинштейн нет, но есть бесспорный талант, огромная любовь к танцам и очень выигрышные внешние данные». Что-то от ее облика читается в исполненных им эскизах. У нее такие же пышные волосы, огромные черные глаза и призывная улыбка.
Серов удивился: как же она танцует, не имея балетной школы? И Бакст охотно рассказывает, что он представил Иду молодому балетмейстеру Мариинского театра Михаилу Фокину и тот давал ей уроки. Фокин тоже увлечен ею и верит в ее звезду. Ида – из баснословно богатой харьковской семьи, в столице живет с теткой. Она не лишена тщеславия, убеждена, что ее ждет слава. И кто знает, многозначительно улыбнулся Бакст, быть может, ее мечты сбудутся.
От Дягилева Серов узнал об итогах его последнего проекта в Париже, осуществленного этой весной, и о дальнейших планах. Сергей Павлович рассказал о необыкновенном впечатлении, произведенном на парижан постановкой «Бориса Годунова» с Шаляпиным в главной роли. Триумфу не помешали даже козни со стороны руководства «Гранд-опера», в здании которой шел спектакль. Шаляпин вновь, как и год назад, потряс публику, особенно в сцене смерти Бориса. За заслуги перед искусством он был награжден французским правительством орденом Почетного легиона.
Благодарить надо было щедрых российских меценатов, давших деньги на эту роскошную постановку. Увы, сожалел Сергей Павлович, показать в этот раз и «Хованщину» уже не было возможностей.
Несомненный успех порадовал высоких покровителей во главе с одним из великих князей. Разговор зашел о том, чтобы на будущий сезон привезти в Париж не только оперу, но и пару балетов. Например, «Павильон Армиды» Черепнина и, быть может, одно из действий «Спящей красавицы» или «Щелкунчика» Чайковского. Спектакли же, вероятно, будут проходить уже не в «Гранд-опера», а в театре Шатле, где зрительских мест больше, чем в Большой опере.
И тут же Дягилев оговорился, что относительно оперных спектаклей, как, впрочем, и балета, полной ясности пока нет. Все будет решать специальный комитет, созданный для уточнения репертуара и состава исполнителей. «Лично мне, – признался Сергей Павлович, – хотелось бы привезти в Париж „Псковитянку“ Римского-Корсакова и еще чтонибудь с Шаляпиным». И он вспомнил, что в Мариинском театре готовится новая постановка «Юдифи», и пообещал Серову: «Вполне возможно, что мы возьмем в Париж и „Юдифь“, хотя бы одно ее действие, где Шаляпин-Олоферн особенно хорош». «Когда репертуар будет определен окончательно и начнутся репетиции, – добавил Дягилев, – я хочу, Валентин, чтобы ты посмотрел на исполнителей, особо – на танцовщиц. К показу в Париже нужна эффектная афиша. Прошу, посодействуй в этом. Было бы прекрасно, если бы ее исполнил именно ты».
Серов пообещал… Теперь и он хотел быть причастным к пропаганде русского искусства и музыки, которую с таким блеском осуществлял в Париже Дягилев.
В середине августа, все еще находясь в Ино, Серов пишет письмо своему доброму знакомому, врачу и коллекционеру русской живописи Ивану Ивановичу Трояновскому, с семьей которого его связывали дружеские отношения.
Поводом для письма послужила начавшаяся работа И. Э. Грабаря над монографией о жизни и творчестве Серова. Для ее иллюстрирования нужны были фотографии с серовских картин. За содействием в получении фотографий Грабарь через Трояновского обратился к Серову. В ответном письме Серов между прочим просит Ивана Ивановича передать поклон Виктору Петровичу Обнинскому. И этот поклон Обнинскому с многозначительными словами Серова («думаю, ему теперь легко – вот тем, кто гуляет на полной свободе, потруднее – совестно») намного интереснее, чем приведенная в письме справка о фотографиях, и свидетельствует об умонастроении Серова в то время.
Как уже говорилось ранее, к Виктору Петровичу Обнинскому, бывшему депутату Первой Государственной думы, и его жене Серов испытывал искреннюю симпатию. Более того, есть все основания полагать, что В. П. Обнинский оказал значительное влияние на политическое развитие Серова.
За участие в составлении и подписании Выборгского воззвания по поводу роспуска Первой думы группа бывших депутатов во главе с председателем Первой думы профессором С. А. Муромцевым была осуждена к тюремному заключению. В одной из московских тюрем отбывал наказание и Обнинский. А поскольку супруга И. И. Трояновского, Анна Петровна, приходилась родной сестрой Виктору Петровичу Обнинскому, Трояновские, как близкие родственники, имели право на свидание с осужденным. Смысл слов Серова очевиден: время ныне в России такое, что люди честные и бескомпромиссные должны сидеть в тюрьме.
К слову сказать, примерно в это время, 11 августа, группа приговоренных к одиночному тюремному заключению во главе с С. А. Муромцевым, чьи сроки заключения закончились, была освобождена из Таганской тюрьмы, но В. П. Обнинского среди освобожденных не было. [3]
Публикуя информацию об этом событии, газета «Русские ведомости» (12 августа – «Освобождение выборжцев») привела выступление князя В. П. Долгорукова, принимавшего в своем доме от имени партии народной свободы Муромцева и его товарищей. В его речи звучали такие слова: «Все эти три месяца русское общество болело вашими болями и страдало вашими страданиями». В ответ профессор Муромцев говорил: «Правда, реакция еще сильна, но, может быть, правда и то, что реакция успела уже заплутаться в темноте захолустных тупиков, из которых, пожалуй, ей не найдется выхода, в то время как на больших дорогах начинает брезжить свет нового движения».
В начале ноября Серов присутствовал в Петербурге на генеральной репетиции «Юдифи» в Мариинском театре. Исполнением декораций к опере по его эскизам художниками К. А. Коровиным и Н. А. Клодтом он остался недоволен, о чем и написал директору императорских театров В. А. Теляковскому: «Непонимание местами дошло до абсурда: принять беседку Юдифи за рощу пиний с ручьем и мельничным колесом на месте двери и окон, намеченных в доме Юдифи, при всей эскизности моей работы – все же нельзя. Беседка эта, между прочим, теперь переделывается Головиным, но что из этого получится, неизвестно ни мне, ни К. А. Коровину, который увидел декорацию эту лишь вчера».
Очевидно, благодаря стараниям Головина возмутивший Серова абсурд с мельничным колесом был устранен, как и ряд других досадных огрехов. Во всяком случае, недовольство Серова по поводу декораций театральная критика никак не разделяла. Напротив, как писала «Петербургская газета», «новые декорации талантливого В. А. Серова очень живописны. В них много знойной яркости, дышащего огнем воздуха».
Высоко оценила декорации и газета «Обозрение театров»: «Знаменитый сын написал декорации к опере своего знаменитого отца…» И далее – восторженный гимн не только декорациям к «Юдифи», но и искусству всех современных художников-декораторов – Коровина, Головина, Бенуа, князя Шервашидзе…
Большой успех новой постановки «Юдифи» с Шаляпиным в ведущей партии закрепила и восторженно принявшая его публика. Художественным памятником ей стала известная картина Александра Головина, написанная в 1908 году, «Шаляпин в роли Олоферна», на которой великий артист, изображающий ассирийского военачальника, возлежит на диване с чашей в руке.
Процесс над Мамонтовым расколол не только его семью. Волей-неволей он разрушил тот чудесный мир, который с детских и юношеских лет был связан у Серова с имением Абрамцево. В памяти всплывали воспоминания о шумных пикниках, кавалькадах, веселых спектаклях, где верховодил Савва Иванович, о творческом порыве, вызвавшем к жизни и «Богатырей» Васнецова, и репинские «Проводы новобранца», и нестеровского «Отрока Варфоломея», и удивительную керамику Врубеля, и его, серовскую, «Девочку с персиками».
Словно злой рок преследовал с некоторых пор семейство Мамонтовых. Давно ли венчалась счастливая муза Серова, Верушка, а в прошлом году и она, уже мать троих детей, безвременно ушла из жизни. Смерть любимой дочери подкосила и казавшуюся такой несокрушимо крепкой Елизавету Григорьевну. Хмурым ветреным днем поздней осени в Абрамцеве провожали в последний путь и ее.
Проститься с Елизаветой Григорьевной, сделавшей на своем веку так много добрых дел, собралась вся округа. Из Москвы приехали, помимо родственников, художники – бывшие члены объединившего их всех мамонтовского кружка. На отпевании в местной церкви Серов со свечой в руке стоял возле поседевшего Саввы Ивановича и, погруженный в горестные мысли, почти не слушал обязательные при такой церемонии слова. Но вот в голосе совершавшего прощальный обряд священника зазвучало нечто свое, выстраданное:
– Памятна будет для всех та нежная заботливость, с которой она входила во все вещественные и духовные нужды, незабвенным останется ее материнское попечение о детях окружных селений, которых она просветила светом учения. О, молитесь же в простоте веры о той, которая в жизни своей явила вам столько христианской любви…
Гроб вынесли к яме у церковной ограды подле могил сына Андрея и дочери Верушки. Один за другим подходили для прощания родные Елизаветы Григорьевны. Жалостливо причитали деревенские бабы. Серов тоже подошел, но, едва склонился над гробом, как силы изменили ему, и он затрясся в беззвучных рыданиях.
Начало следующего года, как не раз случалось прежде, поставило Серова перед вопросом: доколе ему, признанному в России и за границей художнику, получать бесцеремонные щелчки по носу, не пора ли прекратить всякие отношения с государственными учреждениями и зажить вольным художником?
Весь сыр-бор разгорелся в связи с желанием скульптора Анны Петровны Голубкиной, ранее уже занимавшейся в Училище живописи, ваяния и зодчества, вновь, для совершенствования в творчестве, посещать его классы. Серов выступил ходатаем за нее перед советом преподавателей, и тому были веские причины. Голубкину он считал сложившимся, талантливым скульптором и несколько лет назад помог ей получить заказ на оформление каменного фриза для здания Художественного театра в Москве.
Совет преподавателей поддержал коллегу, но попечитель училища московский генерал-губернатор Гершельман отказал Голубкиной, сочтя ее просьбу, как было сказано в официальном ответе, «не заслуживающей уважения».
Что ж, опять, мрачно думал Серов, судьбу творческой личности решают далекие от искусства чиновники. О том, что повлияло на решение Гершельмана, он догадывался. Два года назад Голубкина за распространение антиправительственных прокламаций была предана суду и приговорена к тюремному заключению. Тогда, в 1907 году, велось особенно яростное наступление на «крамолу». Борьба с инакомыслием затронула и Училище живописи. По воспоминаниям В. С. Мамонтова, от служащих всех казенных учреждений требовали подписку – обязательство не состоять членом противоправительственных политических партий. Серов и Коровин, как профессора училища, тоже должны были дать такую подписку. «Серов, – вспоминал В. С. Мамонтов сцену, свидетелем которой ему довелось быть, – наотрез отказывался, несмотря на то, что за этот отказ ему грозило увольнение со службы. Коровин, безропотно подписавший обязательство, всячески уговаривал и упрашивал друга последовать его примеру. „Ну, не ходи в пасть ко льву – подпиши… Ну, что тебе стоит. Подмахни, не упрямься“. Никакие увещевания… не подействовали – Серов остался непреклонен, подписи не дал…»
– Вот такие, Лёлечка, складываются дела. – После одиноких раздумий Серов рассказал жене о конфликте вокруг Голубкиной. – Дела, видишь сама, скверные. Раз говорят, что просьба сия «не заслуживает уважения», то понимай прямо: как же осмелились вы хлопотать о неблагонадежной? И посему решил уведомить директора училища князя Львова о сложении с себя обязанностей преподавателя училища.
Поданное им уведомление произвело, как было сказано в ответном письме А. Е. Львова и группы преподавателей, «удручающее впечатление». Его просили, взывая к духу корпоративности, образумиться и отказаться от принятого решения. Вслед за преподавателями Валентина Александровича принялись уговаривать и учащиеся: они прислали ему коллективное письмо, которое подписали около ста сорока человек – это намного больше, чем занималось в мастерской Серова.
Серов был непреклонен. В утешение ученикам он пообещал, что впредь ни в каких казенных училищах и академиях преподавать не станет. Следом Серов получил телеграмму, текст которой был принят общим собранием учащихся: «Дорогой учитель, Валентин Александрович, скорбя о потере нашего незаменимого учителя, с которым связаны наши лучшие порывы и надежды, мы в лице Вашем горячо приветствуем художника, который выше всего ставит свободное искусство. Глубоко благодарны за то, что Вы дали нам за все Ваше пребывание в школе, и твердо надеемся вновь увидеть Вас как учителя не в этой казенной, а в другой свободной школе».
Это послание Серова по-настоящему растрогало, задело сердце. В ответ написал: «Благодарю собрание за доброе чувство ко мне. Буду хранить вашу телеграмму как самую дорогую мне награду».
Распрощавшись с Училищем живописи, Серов в марте выехал в Петербург. Поводом для поездки был заказ на портрет крупного нефтепромышленника Эммануила Людвиговича Нобеля, племянника известного изобретателя и учредителя премии своего имени А. Э. Нобеля. Вспоминая позднее последнюю встречу с Серовым, случившуюся в мастерской Матэ, Василий Дмитриевич Поленов писал жене Наталье Васильевне, что портрет Нобеля давался Серову с большим трудом и потому он непомерно много курил.
Тогда же, в Петербурге, обозначилась перспектива получения еще одного заказа – на портрет самой элегантной женщины петербургского высшего света княгини Ольги Константиновны Орловой.
В свободное время Серов решил навестить друзей и начал с Бакста. Лев Самойлович, радостно возбужденный от хорошо идущей творческой работы, сразу выложил последние новости: на парижский проект Дягилеву обещана государственная субсидия. Костюмы и реквизит выдадут из Мариинского театра. Уточнен репертуар. В Париж берут «Павильон Армиды» Черепнина и «Египетские ночи», но под другим названием – «Клеопатра». Вместо музыки Аренского, которая ему не нравится, Дягилев предложил использовать в этом балете более эффектные мелодии – своего рода попурри из Римского-Корсакова, Мусоргского, Глазунова… И он, Бакст, будет оформлять этот спектакль. Повезут также созданный Фокиным балет «Сильфиды» на музыку Шопена и «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» в постановке Фокина. К участию в балетах привлечены блестящие танцовщицы – Анна Павлова и Тамара Карсавина. А в «Клеопатре», особо выделил эту новость Бакст, главная партия отдана Иде Рубинштейн. По слухам, в Русском сезоне будет участвовать и знаменитая Матильда Кшесинская. Репетиции уже идут вовсю в специально предоставленном для этого театре «Эрмитаж».
Все это было крайне любопытно, и Серов отправился в «Эрмитаж». Репетициями созданного на музыку Шопена балета «Сильфиды» руководил живой, как огонь, молодой и стремительный Михаил Фокин. Он и сам был прекрасным танцовщиком и, когда требовалось, мог показать, чего ждет от участников спектакля.
Прошел день, второй… Серов, так и не приступая к работе над рисунком к будущей афише, продолжал терпеливо изучать движения танцовщиц. Для начала стоило сделать портретные рисунки обеих солисток. Тамару Карсавину он изобразил со спины. Она чуть повернула голову к зрителю, веки ее были полуопущены. После нескольких попыток удалось передать контуры ее грациозной фигуры с предельной экономией, как будто сразу найденной безупречной по красоте линией. Рисунок Анны Павловой Серов выполнил в той же экономной манере. Оба портрета, безусловно, удались, но все же это была статика, в них отсутствовало пленительное волшебство движения, которое превращает балерин в эльфов, бабочек или в призрачных сильфид.
Раз за разом наблюдая за Павловой, он наконец понял, что нашел решение композиции плаката. Танцуя мазурку, взлетая в легких прыжках над сценой, Павлова в какой-то миг замирала, стоя на вытянутом носке ноги и взмахивая руками, словно стремясь вновь оторваться от земли. Именно такой, подобной бабочке, порхающей на синем, как небо, фоне, и решил запечатлеть ее Серов.
Между тем над проектом Русских сезонов неожиданно нависли грозовые тучи, и Дягилев созвал у себя на квартире экстренное совещание ближайших помощников. Он информировал собравшихся, что внезапная кончина покровителя их парижского проекта великого князя Владимира Александровича странным образом совпала с попыткой примадонны Матильды Кшесинской диктовать ему, Дягилеву, свои условия. Согласившись танцевать в «Павильоне Армиды», она вдруг стала претендовать и на другие роли и требует не брать в Париж балерину Большого театра Веру Коралли. Когда ей было сказано, что принять эти требования невозможно, она заявила, что разрывает контракт. А за ней отказался от парижских выступлений и другой солист – Павел Гердт.
И вот новый удар. Дягилев поднял лист гербовой бумаги: «Это письмо, только что полученное мною из Министерства двора за подписью барона Фредерикса. И суть его в том, что нас лишают государственной субсидии, выделенной на парижский сезон, и возможности репетировать в театре „Эрмитаж“». По мнению Дягилева, письмо было следствием козней против них всесильной Матильды Кшесинской.
Отступать поздно, продолжал Дягилев, слишком много подписано контрактов, слишком много вложено сил. Надо срочно искать другие средства обеспечения проекта – и здесь, в России, и за границей. Придется ужать расходы и сократить репертуар. И срочно арендовать для продолжения репетиций другой театр.
Через несколько дней Дягилев вновь информировал коллег, что положение понемногу поправляется, кое-какие средства уже найдены. Вместо «Эрмитажа» репетиции будут продолжены в Екатерининском театре. Он связывался по телефону с парижскими друзьями, мадам Эдвардс и графиней де Греффюль, и те обещали действенную помощь. Но репертуар все же пришлось ужать. Из опер в полном виде будет показана лишь «Псковитянка» Римского-Корсакова, но под другим названием – «Иван Грозный», а «Князь Игорь» и «Юдифь» – лишь во фрагментах. Однако балеты будут показаны без купюр. На днях он выедет в Париж для окончательного решения всех вопросов.
Посетив несколько репетиций в Екатерининском театре, Серов был особенно очарован с блеском поставленными Фокиным «Половецкими плясками» из «Князя Игоря», такими достоверными в их языческой пластике, идеально отвечавшими музыке Бородина. Стоило почтить хореографическое мастерство Фокина, и Серов нарисовал его портрет – в полосатой, как шкура тигра, рабочей блузе, воодушевленного успехом, смотрящего прямо на зрителя с молодым задором в темных глазах.
К отъезду Дягилева Серов закончил работу над афишей Русского сезона, изображавшей танцующую в «Сильфидах» Анну Павлову.
– Великолепно! – похвалил Дягилев. – Я всегда знал, что могу положиться на тебя. В Париже сделаем копии, и к приезду труппы она будет расклеена по всему городу, обещая зрелище чудесное, сказочное…
Дягилев имел и иную причину быть благодарным Серову. Зная, что Серов пишет в Петербурге портрет отнюдь не бедного Э. Л. Нобеля, Сергей Павлович попросил его уговорить шведского промышленника оказать материальную помощь благородному делу пропаганды в Европе оперно-балетной культуры России. Как следует из написанного год спустя письма А. Н. Бенуа Серову, в тот момент «щедрый Нобель» такую помощь «странствующей труппе Дягилева» оказал.
Спектакли Русских сезонов должны были начаться в середине мая. Серов в это время находился на кратковременном отдыхе в Крыму, но сердцем он был в Париже, с друзьями, переживая за их успех. Из Кореиза послал телеграмму на имя Дягилева и Бенуа: «Приветствую вас и „Армиду“». Именно этот балет, оформленный Бенуа, открывал, как было известно Серову, программу русских спектаклей в Париже.
В начале июня Серов обосновался на даче в Ино. Еще в Петербурге он начал писать темперой портрет княгини Орловой, да вот беда – краски закончились. Пришлось обратиться с письмом к Н. К. Рериху, напомнить о его обещании снабдить темперными красками. Этой весной Серов пишет, тоже темперой, портрет супруги Н. К. Рериха, Елены Ивановны, и просит передать ей поклон. Заодно касается и показа русских балетов в Париже: «Поздравляю Вас с успехом декораций Ваших в Париже – они и мне (эскизы) очень понравились. Вообще в Париже идет, или уже прошло, очень успешно – жаль, что не удалось съездить в Париж – был этот месяц в Крыму…»
Бенуа, напечатавший в газете «Слово» восторженную статью о русских спектаклях, сравнил нынешнее появление русских артистов и художников в Париже с завоеванием в давние времена Рима. «Варвары, – писал он, – еще раз покорили Рим, и любопытно, что современные римляне приветствуют это свое пленение, ибо чувствуют, что им же от этого будет благо, что пришельцы своим свежим и ясным искусством вольют новую кровь в чахнущее тело. Не Бородин, и не Римский, и не Шаляпин, и не Головин, и не Рерих, и не Дягилев были триумфаторами в Париже, а вся русская культура, вся особенность русского искусства, его убежденность, свежесть и непосредственность, его дикая сила…»
В конце мая Серов смог ненадолго вырваться в подмосковное Архангельское, чтобы выполнить пожелание хозяина имения, графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, написать еще один его портрет с очередной любимицей – лошадью караковой масти. Портрет этот предназначался для руководимого графом полка. На этот раз позировал граф не верхом, а стоя рядом с лошадью.
При новой встрече с княгиней Серов заметил в лице Зинаиды Николаевны больно тронувшую его перемену. В глубине ее светлых глаз затаилась неизлечимая, казалось, печаль. Видимо, она до сих пор не могла смириться с трагической смертью старшего сына Николая.
Но приезд из Англии на каникулы младшего, Феликса, ныне студента Оксфордского университета, преобразил ее. К немалому удивлению родителей, Феликс доставил с берегов Альбиона самую разную живность – для облагораживания, как он говорил, местных пород: четырех коров, быка, несколько свиней, петухов, кур… Счастливая мать воспринимала вдруг пробудившийся интерес Феликса к племенной животноводческой работе как безобидную блажь. Отец же видел в новом увлечении сына желанный поворот к серьезному делу будущего хозяина бесчисленных семейных имений.
Феликс Юсупов заметно повзрослел. Его глаза смотрели на мир с уверенностью и дерзостью юноши, который может позволить себе такое, о чем и не смеют мечтать многие его сверстники. В его облике проступало что-то восточное – наследие горячих кровей далеких предков.
С Серовым он встретился просто и даже сердечно. Самолюбию Феликса, вероятно, льстило, что его портрет с бульдогом получил высокую оценку на выставках в России и Европе и благодаря этому он стал некоторым образом знаменит.
И все же держался он значительно сдержаннее, чем прежде, – быть может, уже сказывались и уроки английского воспитания, – и, обмолвившись как-то, что вот и год прошел после трагической гибели брата Николая и что погиб он изза любовной истории, доверительных бесед, что бывали между ним и Серовым прежде, избегал. Да и Серову было не до этого. Закончив в августе портрет Юсупова-старшего, он выехал вместе с сыном Александром, поступившим в Петербургский политехнический институт, в Северную столицу.
При встрече в Петербурге А. Н. Бенуа более подробно рассказал Серову о том, какие эмоции вызвал у французов привезенный Дягилевым в Париж русский балет.
По его словам, «Клеопатра» с декорациями Бакста и с Идой Рубинштейн в заглавной партии поистине свела французов с ума. Один из парижских критиков, рассказывал Бенуа, писал, что теперь он понимает троянских старцев, покоренных Еленой, что привезенная русскими «Клеопатра» вызывает те же чувства преклонения перед совершенной красотой.
Взыскательные парижане заметили всё – и волшебство музыки русских композиторов, и декорации – к «Клеопатре», «Армиде», пляскам в половецком стане… Имена танцовщиков и танцовщиц – Павловой, Нижинского, Карсавиной, Рубинштейн – были у всех на устах. И Фокин вкусил заслуженное признание. После «Половецких плясок» зрители будто обезумели – в экстазе кинулись к оркестровой яме с криками «браво!», в восторге размахивали руками, кидали цветы…
– Моя афиша с Павловой, ее заметили? – робко спросил Серов.
– Валентин, – с мягким укором, что он еще сомневается в этом, ответил Бенуа, – она чуть не затмила успех самой Павловой! И вот теперь, после этого триумфа, руководство «Гранд-опера» смотрит на нас уже другими глазами, предлагает свои услуги и контракт на будущий год. Но оперу, даже в отрывках, Сережа везти в Париж уже не намерен: говорит, слишком дорого это обходится. В его планах на будущий год – только балет. И французы не возражают. После того, что они увидели, они всецело полагаются на интуицию и вкус Дягилева. Балет так балет – в Париже осознали, что русские понимают под этим зрелищем что-то совершенно иное, совсем не то, что привыкли видеть французы в исполнении собственных трупп. Ты, право, многое потерял, что не был с нами в Париже.
Серов согласился с ним и пообещал, что следующий показ в Париже русских балетов постарается увидеть своими глазами.
Случилось, однако, так, что ему пришлось выехать во Францию, не дожидаясь, пока туда вновь повезет балетную труппу Дягилев. У сына Антона разболелись ноги, врачи определили у мальчика костный туберкулез и порекомендовали для излечения санаторий на побережье Нормандии, в городке Берк. Сам же Серов предпочел, отправив в санаторий сына, пожить пару месяцев в Париже, чтобы иметь возможность изредка навещать Антона.
Париж, как и прежде, действовал на него возбуждающе, сам парижский воздух наполнен вдохновляющей свободой, так и хочется остановить первую встреченную девушку и уговорить ее позировать. Впрочем, для тренировки руки вполне достаточно посещений частной студии Коларосси, где бок о бок с начинающими художниками представляется возможность писать обнаженную натуру.
Здесь, в Париже, он повстречал молодых русских и даже родственников – одну из младших сестер Симанович Нину со своим мужем – скульптором-анималистом Иваном Ефимовым. Серов имел основания считать их своими учениками: когда-то преподавал им и в Училище живописи, и в частной студии Званцевой. В Париже Нина избрала своим наставником Анри Матисса, а Иван Семенович брал уроки у Огюста Родена.
Молодые русские жили в дешевом пансионате, а мастерской им служила домовая церковь монастыря Шапель: с некоторых пор, привлеченная дешевой арендной платой, в монастыре обосновалась интернациональная колония художников и скульпторов из разных стран мира. Примкнуть к ним Ефимовы уговорили и Серова.
Мрачная готическая церковь, с поддерживающими свод колоннами из розового мрамора, с огромными продолговатыми окнами, украшенными витражами, сразу полюбилась ему своей гулкой пустотой и средневековой торжественностью. В выделенном помещении были поставлены кровать, чертежный стол с наклоном, соломенное кресло. Из-за массивных стен внутрь почти не проникал шум огромного города, но утром и вечером при открытых окнах слышалось воркование голубей на карнизах, шелест сдуваемых ветром сухих листьев в монастырском саду.
И вот – новое свидание с Лувром. Серов опять стоит перед скульптурой Ники Самофракийской, перед «Джокондой». В зале, где демонстрируется «Большая одалиска» Энгра, ожидал сюрприз. Почти напротив царственной в своей красоте «Одалиски» бросалось в глаза новое музейное приобретение – когда-то опальная «Олимпия» Эдуарда Мане. Насколько он помнил, ранее это полотно находилось в Люксембургском музее.
– Давно ли картина в Лувре? – спросил Серов старенького музейного служителя.
– Всего два года, месье. В Лувр «Олимпию» перевезли по инициативе друзей покойного художника – Клода Моне, Ренуара… В газетах по этому поводу писали разное: некоторые считают ее безнравственной, недостойной висеть рядом с такими мастерами, как Энгр. Другие же полагают, что Мане давно заслужил эту честь и «Олимпии» самое место рядом с «Одалиской».
Во второй половине ноября похолодало. Выпал снег. Серов мерз в остывшем помещении огромной церкви. Пришлось обзавестись теплым свитером, шерстяными носками и зимними башмаками. Поддерживать тепло помогала поставленная рядом с кроватью железная печь.
Но и в это время Париж не терял для него своего очарования, и Серов писал доктору И. И. Трояновскому: «…Здесь, в Париже, превосходно, отличный город, ну, чрезвычайно доволен, что могу в нем пожить (ведь в школу не нужно – и то хорошо)», – радовался он свободе от необходимости вести занятия в Училище живописи.
Еще в первые дни пребывания в Париже Серов, по договоренности перед отъездом из Москвы, составил компанию коллекционеру живописи Ивану Абрамовичу Морозову и сходил вместе с ним на аукцион в отеле Друо. Визит туда оказался успешным: по совету Серова Морозов приобрел для своего собрания два полотна Ван Гога – «Красные виноградники» и «Прогулка заключенных». Морозову хотелось купить еще одну-две картины Эдуарда Мане, но в этом им не повезло. Однако встреченный на аукционе торговец картинами Амбруаз Воллар пообещал, что через месячишко сможет уступить им в своем магазине на улице Лаффит очень симпатичную вещь Мане. Морозов, торопясь вернуться в Россию, попросил Серова навестить Воллара и, если картина стоит приобретения, тотчас ему телеграфировать.
Помня о просьбе Морозова, Серов дважды навещал магазин Воллара на улице Лаффит, но хозяина не заставал. Впрочем, эти прогулки, независимо от практического результата, всегда были ему приятны. Здесь, у Дюран-Рюэля и других торговцев картинами, можно было увидеть выставленные на продажу малоизвестные полотна Коро, Делакруа, Домье, Стейнлена и, разумеется, молодых художников, лишь пробивающих себе дорогу в будущее. По словам продавцов, наиболее быстро росли в цене полотна импрессионистов, и на этой волне стали пользоваться спросом и картины увлеченных их примером современных новаторов.
С третьей попытки Серов все же застал Воллара. Выражение лица хмурого торговца сразу стало приветливым, едва он узнал в пришедшем приятеля состоятельного русского клиента:
– Помню, помню, вы друг Морозова. К вашему приходу я припас одну вещицу Мане, его позднего, зрелого периода.
Воллар достал небольшое полотно и гордо выставил на обозрение. Что ж, подумал Серов, это далеко не «Олимпия». Назвать эту вещь картиной было бы слишком смело. Всего лишь быстро выполненный этюд с видом залитой солнцем улицы в праздничный день, с домами, украшенными флагами. На переднем плане ковыляет спиной к зрителю одноногий инвалид. Поодаль, на той же стороне, мужчина в черном котелке выходит из экипажа. Несколько прохожих – вот и все.
– Я ценю вкус господина Морозова, – азартно верещал Воллар, – и мне приятно выполнить его просьбу. После того как Мане признали и в Лувре, на рынке он стал появляться все реже и реже. Спрос на него растет. Вот и эту вещицу я откопал с большим трудом…
Серову всегда нравилась живость, с какой Мане писал людей. Эта манера была близка и ему самому. Но в предлагаемом эскизе люди лишь намечены. Нет, эта вещь для Мане не характерна, не дает представления о его индивидуальности. Морозов почти наверняка будет разочарован. И об этом, с присущей ему прямотой, не ходя вокруг и около, он заявил Воллару.
Покинув лавку, послал телеграмму Морозову, что эта вещь Мане неинтересная и приобретать ее не стоит.
В середине декабря он выехал обратно в Россию. Антону стало лучше, его больная нога заживала, но врачи рекомендовали оставить мальчика до весны в том же санатории в Берке.
По возвращении Серова в Москву Остроухов при встрече сообщил ему, что опять началась атака на совет Третьяковской галереи.
– Бьют нас, Валентин Александрович, и бьют крепко, – мрачно заявил он Серову.
Новые обвинения против совета галереи выдвинули двое гласных Московской городской думы. Они утверждали, что в галерее творятся безобразия: хранение картин плохое, некоторые полотна повреждены и замыты служителями. Самого резкого осуждения, считали гласные, заслуживает закупочная политика совета, упускают, мол, возможности приобрести картины у самих художников и в итоге переплачивают частным коллекционерам. В доказательство неоправданных затрат приводились примеры с приобретением картин Врубеля «Пан» и «Демон поверженный».
Серова неприятно задело, что свое полено в костер, на котором собирались поджарить членов совета, кинул Илья Ефимович Репин. Газета «Русская жизнь» опубликовала статью, в которой Репин, отдав должное усилиям П. М. Третьякова по собиранию уникальной коллекции, заканчивал прямо на похоронной ноте: «И теперь ее наполняют наследники мусором художественных разложений: такова мода».
Несмотря на все уважение к былому наставнику, оставлять эту заметку без реакции со своей стороны Серов не счел возможным. Вопрос о «мусорности», написал он Репину, вечен, и часто то, что сначала считалось мусором, потом по достоинству оценивалось. Пришлось указать и на то, что выпад Репина прозвучал синхронно с недостойной травлей Совета галереи. «Обидно» – таким признанием заключил он письмо.
Поддержка пришла со стороны художественных критиков. Сергей Голоушев увидел в этих дрязгах плохо замаскированную попытку заменить неугодный кому-то совет галереи, предварительно скомпрометировав его. Солидарность с членами совета выразил и сподвижник Серова по «Миру искусства» Дмитрий Философов. «Поразительно, – писал он в „Русском слове“. – Все жалуются, что в России нет людей, что никто ничего не делает. Но как только находятся люди, умеющие и желающие работать, так сейчас же их начинают оплевывать, травить. И становится грустно, страшно за нашу безумность. Ведь надо обладать железной волей и бесконечным бескорыстием, чтобы, несмотря на все эти интриги, прежде всего неумные, продолжать начатое дело».
Пора было заняться и живописью, и Серов начал с заказанного ему портрета фабриканта и коллекционера Ивана Абрамовича Морозова. Несколько лет назад И. А. Морозов с пониманием отнесся к «кукольному» портрету своей любящей пококетничать жены и, хотя и углядел в нем налет тонкой иронии, но в общем портрет ему понравился. Дела коллекционные, посодействовать которым он попросил в Париже и Серова, улучшили взаимопонимание между ними. Серов писал Морозова сидящим за столом в модном костюме на фоне картины Анри Матисса, темперой на картоне, и сама живопись портрета словно стилизовала манеру любимых Морозовым французов.
В то же время шла работа над композициями картин, связанных с образом Петра I. Но теперь Серову хотелось запечатлеть великого царя-реформатора таким, каким он был в повседневной жизни. Вот Петр завязывает у окна галстук в спальне дворца Монплезир. Вот он с компаньонами после веселой гулянки. Вот скачет на лошади… Петр на этих полотнах – не монумент, а человек, которому не чуждо ничто человеческое. Ни один из этих замыслов не был доведен до конца, некоторые остались лишь в карандашных набросках, но само направление поисков художника симптоматично.
В начале февраля Серов получает письмо от А. Н. Бенуа. Петербургский друг, обращаясь к нему «Дорогой Антон», напоминает, что скоро весна и «странствующая труппа Дягилева» вновь собирается в поход за границу.
«Что касается материала и исполнителей, – пишет Бенуа, – то все обстоит великолепно, но, увы, того же нельзя сказать про финансы. Строго между нами: последние плохи, и даже цель моего письма находится в зависимости от этого обстоятельства».
А далее Бенуа без обиняков писал, что собирается использовать Серова: «Думаем снова обратиться к щедрому Нобелю и на сей раз, ввиду Твоего отсутствия, хотим подать челобитную от имени художников… Разумеется, без Тебя это нельзя сделать и, наоборот, в Твоем участии вся соль. Не позволишь ли Ты поставить Твое имя рядом с нашими?..»
Вероятно, Серову не вполне понравился тон письма. В прошлом году он участвовал в антрепризе Дягилева хотя бы написанием афиши с танцующей Анной Павловой, а в этом году хотят ограничить его участие лишь содействием в получении денежной субсидии? А знают ли они, как это нелегко и каждый раз неприятно для него – просить деньги?
После недолгого размышления Серов телеграммой послал свой ответ: «Очень прошу не обращаться от моего имени Нобелю». В конце концов, думал он, у Дягилева сейчас много влиятельных и состоятельных друзей в Париже. Они помогли в прошлом году, помогут и сейчас.
Начало года было омрачено смертью близких Серову людей. В конце января внезапно, на пятьдесят первом году жизни, в Петербурге скончался Сергей Сергеевич Боткин. Серов был настолько потрясен его кончиной, что сообщил овдовевшей Александре Павловне: «Не в силах приехать хоронить друга».
На могиле С. С. Боткина на кладбище Александро-Невской лавры он побывал лишь в конце марта, когда приехал в Петербург, чтобы ознакомиться с открывшейся там седьмой по счету выставкой «Союза русских художников». На вернисаже Серов обратил внимание на несколько работ молодой художницы Зинаиды Серебряковой («За туалетом», «Зеленя», «Крестьянка»), особо выделив в письме И. С. Остроухову автопортрет художницы у зеркала («За туалетом»): «Очень милая свежая вещь». Эти картины Серебряковой были приобретены советом Третьяковской галереи.
Понравились Серову и показанные на выставке новые акварели Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой.
Приезд в Петербург имел и другую цель – возобновление работы над портретом княгини О. К. Орловой. Очень родовитая, происходившая аж от Рюриковичей, Ольга Константиновна Орлова в высшем петербургском обществе слыла личностью некоторым образом легендарной. С юных лет она умела так разумно организовать свою жизнь, что оказывалась в Париже как раз в тот момент, когда местные кутюрье изобретали что-то совершенно новое и необыкновенное, достойное немедленной демонстрации в петербургских и московских салонах, и потому каждый приезд Орловой из Парижа обещал дамам высшего света сенсационные открытия.
Впрочем, Орлова была интересна не только этим дамам. Ее вспоминал, например, А. Н. Бенуа, рассказывая в своих мемуарах о светском рауте, устроенном князем Сергеем Волконским в 1899 году по случаю его назначения директором императорских театров. На этот аристократический вечер с музыкально-литературными номерами организатор пригласил нескольких литераторов и художников. По словам Бенуа, они с Костей Сомовым, забравшись в уголок, откуда был лучше виден «весь спектакль», могли «вдоволь любоваться чудесной фигурой княгини Ольги К. Орловой, одетой в изумительное желтое платье с золотыми блестками, специально к этому вечеру прибывшее из Парижа».
Увидев однажды исполненный Серовым портрет княгини Юсуповой, которую Орлова считала самой серьезной соперницей в умении одеваться современно и изысканно, Ольга Константиновна обратилась к Серову с просьбой написать и ее. Княгиня не без основания полагала, что эта работа прославленного мастера даст потомкам достойное представление о том, что считалось модным у аристократии в начале XX века.
И вот уже согласовано время очередного сеанса, но княгиня неожиданно приболела, и встречу пришлось отложить. А потом и Серову стало не до Орловой: в лечебнице Бари скончался от воспаления легких Михаил Александрович Врубель.
На отпевании собралось немало преподавателей и учеников Академии художеств, коллег покойного и почитателей его таланта. Утончившееся в смерти лицо Врубеля как будто помолодело.
Врубеля хоронили на следующий день. Священник Новодевичьего монастыря был краток: «Художник Михаил Александрович Врубель, я верю, что Бог простит тебе все грехи, ибо ты был работником». Возвышенно говорил Александр Блок, назвавший почившего гением, который сложил в искусстве новые слова и видел недоступное другим.
Сообщая в письме жене Ольге Федоровне о церемонии похорон, Серов писал: «Похороны были хорошие, не пышные, но с хорошим теплым чувством. Народу было довольно много, и кто был – был искренне. Ученики Академии и других школ на руках пронесли гроб на кладбище (очень далеко, через весь город)».
В начале мая Серов отправляется в заграничную поездку. Основная ее цель – наконец увидеть воочию нашумевшие в Европе представления труппы «Русский балет», организованные Дягилевым. Но по пути в Париж он заезжает в Италию и проводит там около трех недель, сначала в Риме, а затем посещает Сиену, Орвиетто, вновь осматривает полюбившиеся дворцы Генуи.
Впрочем, в Италии он не только профессионально искушенный в искусстве турист. У него все яснее вызревает творческий замысел, толчок к которому был дан во время греческого путешествия с Бакстом, – написать картину на сюжет мифа о похищении Европы. И потому в одном из писем жене из Рима – неожиданное упоминание о быках: «Вчера меня катали вечером по Риму – недурен ночью Колизей. Сегодня еду в один дворец, где имеется и скот – быки. Разумеется, картина моя продолжает быть секретом…»
Сюжет картины уже сложился в голове – царская дочь на спине быка посреди бескрайнего моря. Кто-то посоветовал Серову, когда он заговорил о быках, посетить итальянский городок Орвиетто, где быки отличаются особой мощью, и Серов без раздумий едет туда. В его альбомах, отразивших подготовительную работу над «Похищением Европы», можно найти не только акварель с видом «Критского моря», но и многочисленные фигуры обнаженной женщины и изображения быков: «морда быка», «голова быка», «бык со спины» и т.д.
По прибытии в Париж Серов, как и прошлой осенью, поселяется в домовой церкви монастыря Шапель, где продолжают работать супруги Ефимовы.
В этом году Дягилев, прежде чем везти труппу в Париж, устроил своего рода генеральную репетицию в Берлине, и Бакст при встрече рассказывает Серову, что и там, в германской столице, все прошло превосходно и, по немецким меркам, даже бурно. Но немцы, конечно, не столь открыты в изъявлении своих чувств, как французы, и туговато воспринимают новаторство и потому отдали предпочтение вполне традиционному «Карнавалу», а вот «Клеопатра», увы, не разогрела их сердца, что тоже понятно: эта вещь для публики с темпераментом.
Настал день и парижских премьер, и Серов, пристроившись в зале рядом с Бакстом, в нетерпении ожидает начала балетного спектакля в «Гранд-опера». По мнению встреченного им накануне Дягилева, если уже в первый вечер не повторится их прошлогодний триумф, то это будет плохим знаком.
Серов осматривает переполненный зал. В глазах рябит от роскоши дамских туалетов, блеска драгоценностей и обнаженных женских плеч. Слышны возбужденные голоса, и в репликах, которыми обмениваются балетоманы, звучат имена Карсавиной, Фокина, Нижинского, Рубинштейн… На вопрос о Павловой друзья ответили Серову, что в этом году в труппе Дягилева она не участвует, выступает где-то самостоятельно.
С угасанием люстр шум в зале затих. Раскланялся с публикой появившийся у оркестровой ямы дирижер Николай Черепнин. Взмахнул палочкой, и зазвучала увертюра шумановского «Карнавала» в оркестровке Римского-Корсакова. Изящно-простая декорация Бакста – на огромной сцене не было ничего, кроме стоящих на фоне зеленого задника диванов в стиле моды середины прошлого века, – как будто разочаровала зрителей, но, едва начались танцы Арлекина и Коломбины в исполнении Нижинского и Карсавиной, по залу прошло волнение, раздались аплодисменты. Финальное вращение Нижинского – он был в черной полумаске и в костюме, украшенном разноцветными ромбами, – его медленное, как у исчерпавшего свою энергию раскрученного волчка, приседание на пол вызвало у знатоков взрыв бурно выразившего себя энтузиазма.
И все же пока Серов не понимал, как это зрелище может завладеть сердцами парижан. Конечно, это мило, искусно, но не более того. Такие пируэты, пожалуй, по силам артистам и других театров. Однако Дягилев, как оказалось, все рассчитал верно: «Карнавал» служил своего рода прелюдией. Основным же зрелищем вечера была «Шехеразада».
Первая часть симфонической поэмы Римского-Корсакова, на музыку которой был создан балет, исполнялась при опущенном занавесе, но, едва открылась сцена и зрители увидели горящую, как созвездие драгоценных камней, декорацию, загремел шквал аплодисментов. Сотворивший это декоративное чудо Лев Бакст заерзал на своем кресле и польщенно огляделся по сторонам. Изумрудного цвета драпировки резко оттенялись кроваво-красным цветом покрывавшего пол ковра. Те же зеленые и красные тона во множестве оттенков повторялись в изготовленных по рисункам Бакста костюмах одалисок и рабов, задумавших устроить любовную оргию в отсутствие уехавшего на охоту шаха Шахрияра. Замерший в ожидании увеселений гарем оживал, и действие развивалось стремительно, с неотвратимостью рока. Танцы одалисок словно возбуждали главных героев: жену шаха Зобеиду и ее возлюбленного – Золотого раба в исполнении Вацлава Нижинского. Он кружился вокруг Зобеиды с грацией дикой кошки, с любовной жаждой распаленного жеребца. Высокая и гибкая Ида Рубинштейн вела партию Зобеиды томно и чувственно, то приближая к себе своего избранника, то отталкивая его, – так паук медленно подтягивает к себе уже безвольную жертву.
Но нежданно, в разгар оргии, появляется шах со своими воинами в синих плащах. Он ошеломлен представшей его глазам картиной. Гнев мгновенно переходит в жажду мщения, и начинается кровавая бойня. Как царственно спокойна Зобеида-Рубинштейн, когда по приказу шаха убивают ее возлюбленного и он в смертельной агонии, как червь, еще дергает руками и ногами и медленно замирает на полу. И с каким блеском провела танцовщица сцену, предшествующую собственной смерти! Не чувствуя ни вины, ни раскаяния, она равнодушно смотрит, как шах подходит к бездыханному телу Золотого раба и ногой брезгливо переворачивает его. Последняя дуэль взглядов Зобеиды и шаха – нет, она ни о чем не жалеет и не будет просить о пощаде. И тогда по знаку шаха евнух заносит над ней кинжал, и срезанным стеблем она падает к ногам своего властелина.
Мастерски выверенное действие балета завершалось при нарастающем громе оваций в какие-нибудь двадцать минут. Заполонившая театр знать, артисты и художники не сдерживали себя в своих эмоциях. Серов сжал руку Бакста, удостоверяя его победу. Левушка не только писал декорации и эскизы костюмов. Он приложил руку и к замыслу балета. Недаром в программе «Шехеразады» значилось: «Балет Бакста». Лев Самойлович сиял, крутился на месте, отвешивал кому-то благодарные поклоны.
Подспудно труппа верила в свою звезду. Недаром еще на репетиции «Шехеразады», когда артисты увидели декорацию Бакста, Дягилев публично обнял и расцеловал его, а танцоры стали подкидывать художника на руках.
Окончание спектакля, завершившегося хореографической композицией «Пир», оправдало самые смелые надежды: овации не смолкали несколько минут, восхищенные поклонники бросали на сцену цветы и долго не отпускали артистов.
В последующие дни почти в любой из парижских газет можно было встретить хвалебные, а то и прямо восторженные отклики. Отдавалось должное художественной стороне зрелища, хореографии Фокина, мастерству солистов и кордебалета. Париж был вновь покорен русскими.
Находясь в Париже, Серов продолжал обдумывать сюжет картины о похищении Европы. Композиция ее созрела. Бурное море и плывущий через него могучий бык. В отдалении резвятся дельфины. Европа, в легком, до колен, платье, должна походить на греческую кору, каких они видели в афинском музее во время совместного с Бакстом путешествия по местам древней Эллады. Хотелось, чтобы и в живописном плане полотно было новаторским.
Встретившись как-то с художником Досекиным, снимавшим в Париже мастерскую, Серов обратил внимание на его натурщицу – стройную темноглазую итальянку Беатрису. Ее внешность и фигура в чем-то отвечали задуманному образу Европы. Договорились о сеансах позирования, и вот рисунок уже готов. Серов изобразил ее обнаженной, стоящей на коленях, как должна, по его замыслу, стоять Европа на спине быка, легко опираясь на опущенную вниз правую руку.
Дела художественные Серов продолжал чередовать с посещением «Гранд-опера». Русские балеты шли через день, и благодаря тому, что наряду с новыми постановками Дягилев привез и прошлогодние, представилась возможность посмотреть почти весь репертуар.
Скорее всего через Бакста Серов лично познакомился с Идой Рубинштейн. Балет о сладострастии и смерти в покоях гарема оставался гвоздем сезона, и газеты наперебой превозносили дивное мастерство его оформителя Бакста и обольстительность Рубинштейн в роли Зобеиды. Кому первому пришла в это время мысль написать портрет Иды Рубинштейн, Дягилеву или Серову? На сей счет суждения современников расходятся. По мнению И. Э. Грабаря, неоднократно беседовавшего с Серовым в процессе подготовки монографии о нем, «Серов был до такой степени увлечен ею, что решил во что бы то ни стало писать ее портрет». Но художественный критик газеты «Новое время» Г. Магула утверждал, что Серов писал портрет Рубинштейн «для Дягилева», по его заказу. Если это и так, то заказ Дягилева полностью совпадал с тем же намерением Серова. Но то, как написал Серов Рубинштейн, Дягилева, вероятно, не устроило, и потому портрет остался в собственности Серова.
Решив запечатлеть образ покорившей Париж танцовщицы, Серов раздумывает, как же написать ее так, чтобы подчеркнуть всю необычность балерины, выступавшей в рискованном, на грани приличия, наряде, придуманном для нее Бакстом. А нужны ли вообще наряды для ее портрета? Вдруг вспомнилась «Олимпия» Эдуарда Мане, висящая теперь в Лувре. Не согласится ли Ида позировать обнаженной? В конце концов, история европейской живописи знает портреты реальных лиц, прекрасных женщин, позировавших обнаженными, и почему бы не продолжить эту традицию?
По свидетельству брата Л. Бакста, сотрудника «Петербургской газеты» И. С. Розенберга, свою просьбу, чтобы Ида Рубинштейн позировала обнаженной, Серов передал через дружившего с танцовщицей Льва Самойловича. И Рубинштейн на пожелание художника ответила согласием.
Вспоминая выступления Иды Рубинштейн в балетах «Клеопатра» и «Шехеразада», А. Н. Бенуа писал в своих мемуарах: «…Она отличалась удивительными и даже единственными странностями: она готова была идти для достижения намеченной художественной цели до крайних пределов дозволенности и даже приличия, вплоть до того, чтобы публично раздеваться догола. При этом она была бесподобно красива и удивительно одарена во всех смыслах».
Известив супругов Ефимовых, что он собирается писать Иду Рубинштейн, Серов попросил их ничем не выдавать своего присутствия в церкви Шапель во время сеансов, а еще лучше – отправляться в это время на прогулку по городу.
Писать обнаженную женщину, облачась в цивильный костюм и при галстуке, представлялось Серову довольно нелепым. Для этой работы он приобрел в универсальном магазине грубую черную блузу. И заодно – плотную синюю скатерть. Ею накрыл сооруженный в церкви пьедестал, на котором должна была позировать танцовщица.
В Париже Иду знали уже многие, особенно обосновавшиеся в монастыре Шапель художники. И когда она в сопровождении камеристки появлялась в монастырском дворе, из окон высовывались выражавшие любопытство физиономии: восточная красота и чувственность создаваемых ею образов стали в Париже легендой.
Как обычно, вначале Серов сделал несколько карандашных эскизов модели. Определившись с позой (танцовщице было предложено сидеть на пьедестале со слегка скрещенными ногами и опираясь на него одной рукой), Серов приступил к работе над полотном. Ида позировала, несмотря на прохладу в церкви, ни на что не жалуясь, с достойным уважения терпением.
Однажды она сказала во время сеанса, что завтра в «Гранд-опера» идет обновленная «Клеопатра» с ее участием, и пригласила художника посетить спектакль.
Театр вновь, как и все эти дни, был заполнен до отказа, и зрители не уставали аплодировать игравшей Клеопатру Рубинштейн – с момента ее эффектного появления на исписанных иероглифами носилках, напоминавших саркофаг, медленного выхода из них, закутанной, как мумия, в покрывала. Их разматывали прислужницы царицы, наконец оставляя госпожу в искусительном, почти прозрачном наряде. Теперь Серов понимал, что в «Шехеразаде» Дягилев, Бакст, Фокин и другие создатели балета представили публике новую вариацию той же драмы, повествующей о любви и смерти, какая с блеском и триумфом удалась им в поставленной ранее «Клеопатре».
Вопреки традиции, шедшей от Тициана, Рубенса и иных великих мастеров, Серов решил написать обнаженное тело танцовщицы без всякого налета чувственности и намеренно очертил контуры ее худой фигуры резкими, угловатыми линиями. Образ ее, с головой, отягощенной пышным пучком черных волос, и ртом, как кровавая рана, и взглядом, в котором словно отразилась мечта о далеких веках, был необычен сам по себе.
Вскоре после показа первых спектаклей из Парижа неожиданно исчез Александр Бенуа. Он даже не дождался премьеры оформленной им «Жизели». Все это выглядело странно. Впрочем, странным был и угрюмый вид Бенуа на фоне общей радости по поводу горячего приема публикой «Шехеразады».
За разъяснениями Серов обратился к Дягилеву, и Сергей Павлович рассказал, что Бенуа впал в глубокую хандру и устроил ему сцену, когда увидел, что в программе «Шехеразады» автором балета значится Бакст. Бенуа доказывал, что у него больше прав на авторство этого балета, хотя, пояснил Дягилев, балет создавался сообща и именно Бакст первый подал его идею, а Бенуа лишь принимал участие в развитии замысла. И разве Бенуа, а не Бакст, напомнил Серову Дягилев, создал поразительные декорации и костюмы, которые завоевали сердца парижан? И потому, заключил Дягилев, все претензии Бенуа на авторство «Шехеразады» неосновательны.
– Его отъезд, – поделился своей озабоченностью Дягилев, – создал для нас некоторые проблемы. Все же он был художественным руководителем и осуществлял общий контроль за постановками. Место это осталось вакантным, и я бы хотел, Валентин Александрович, если это тебя не обременит, чтобы ты взял эти обязанности на себя. Работы, поверь, не так уж много: сейчас надо лишь следить, чтобы не было изъянов в декорациях, костюмах и, если таковые обнаружатся, вовремя их устранить.
Серов согласился. Ему было приятно хоть чем-нибудь помочь общему делу.
Необходимость кое-что поправить возникла уже перед премьерой «Жизели». После развески написанных по эскизам Бенуа декораций художественный совет в лице Дягилева, Серова и Бакста тщательно обозрел их и согласно решил, что кое-где они смотрятся бледновато и не мешает их освежить. За работу взялся, взобравшись на лестницу, Левушка Бакст, и Серов помог ему корректировать цветовую гамму.
У Бакста настроение в эти дни было превосходное. Он с упоением и простодушной гордостью пожинал плоды своего триумфа. Его эскизы к «Шехеразаде» уже приобрел Парижский музей декоративного искусства. Самые модные французские портные заказывали ему рисунки костюмов. У парижских дам вошло в моду одеваться a la Bakst – в легкие шаровары и цветистые тюрбаны, что подметили артисты и художники труппы, побывав на устраиваемых в их честь великосветских приемах.
Некоторая натянутость этих встреч отпугнула Серова, и он предпочитал отдавать свободное время завершению портрета Иды Рубинштейн. Работал увлеченно, страстно, на одном дыхании. Получалось что-то очень сдержанное по колориту, изысканное, не похожее ни на одну из его прежних работ. Пожалуй, с уклоном в модерн. Он усмехался про себя, думая, какие возмущенные вопли может вызвать эта вещь у последовательных сторонников традиций.
Еще одной показанной в Париже новинкой был балет «Жар-птица», поставленный на специально сочиненную для него музыку Игоря Стравинского – молодого композитора с большим, по мнению Дягилева, дарованием. Первое представление балета, созданного на сюжет русской сказки, как и «Шехеразада», вызвало восторженный прием зрителей и прессы. Именно в «Жар-птице», совместном творении Стравинского, Фокина и художника спектакля Головина, критики увидели идеальный синтез хореографии, музыки и декораций, особенно выделив в изобразительном плане картину сада Кощея, это, как писали в одной из рецензий, «дивное видение из цветов, деревьев и дворцов».
Восхищаясь, как и многие зрители, виртуозно танцевавшим Вацлавом Нижинским, Серов сделал его карандашный портрет – нарисовал его таким, каким, внешне скромный и неприметный, он появлялся на светских приемах. Но те, кто, как Дягилев, знал, с какой поразительной самоотдачей танцует Нижинский, находили, что в этом портрете, за внешней сдержанностью Вацлава, Серову удалось выразить энергию готового к прыжку льва.
Незадолго до отъезда Серов посетил мастерскую скульптора Аристида Майоля. Изваянные им по заказу И. А. Морозова статуи полнотелых, воплощавших здоровье женщин, «Помона» и «Флора», отличались самобытностью и совершенством, о чем Серов с радостью сообщил коллекционеру.
Что же касается сбежавшего из Парижа А. Н. Бенуа, то Александр Николаевич доказал, что интересы общего дела для него все же выше личных претензий к кому-либо из друзей. Пока Серов был еще в Париже, Бенуа 11 июля опубликовал в газете «Речь» статью о показе русских балетов, в которой, в частности, писал: «Нужно лишь удивляться, что власть имущие, что вся административная машина не видит того, что эти спектакли дают в смысле подъема престижа России, в смысле прямо ее реабилитации больше, чем все „русские отделы“ на всемирной выставке, нежели все рутинные, официальные демонстрации. Занять в Париже, в самый разгар сезона, этого ежегодного мирового экзамена, первенствующее положение – это нечто подлинно лестное. После этого больше не „стыдно смотреть людям в глаза“».
Серов покидал Париж в счастливом состоянии духа. А труппе Дягилева еще предстояло, по просьбе зрителей, дать несколько дополнительных спектаклей в Париже, после чего артистов ждали гастроли в Бельгии.
На даче в Ино, куда Серов поспешил, вернувшись из Парижа, жарко, и он с наслаждением купается в море. Но опять тревожат плохие новости, и в письме Остроухову он горюет о безвременной кончине исторического живописца Сергея Васильевича Иванова: «Что было с ним? Еще ведь такой молодой?!. Что-то затаенное и печальное как будто сидело в нем, несмотря на энергию и бравость».
Но, зная Серова, каким помнили его современники в те годы, понимаешь: это сказано не только об Иванове, но, подсознательно, и о самом себе, хотя в тот момент Серов едва ли предвидел, что и ему отпущен в жизни одинаковый с Ивановым срок – сорок шесть лет.
В письме Остроухову Серов выражает беспокойство по поводу опасной, как прочитал он в «Речи», болезни Станиславского. Знаменитого артиста и режиссера Серов знал еще по абрамцевскому художественному кружку, где вместе играли в любительских спектаклях. Пару лет назад, в 1908 году, Серов создал удачный графический портрет Станиславского.
И еще одно огорчение – прочитанная в Ино книга жены Репина Н. Б. Нордман-Северовой «Интимные страницы», покоробившая Серова развязностью признаний автора, о чем он тоже пишет Остроухову.
В сентябре Серов перебирается в Сестрорецк: модный адвокат Оскар Осипович Грузенберг пожелал, чтобы известный художник написал его портрет вместе с супругой. Дело идет с трудом, нет и в помине вдохновения, какое испытал в Париже при работе над «Идой Рубинштейн». В очередном письме тому же Остроухову Серов жалуется: «Застрял и завяз я тут в Сестрорецке с одним портретом, не выходит проклятый». И уже с налетом шутки добавляет: «Везет мне на евреев в последнее время».
С заказными портретами всегда возникала проблема, особенно если человек не вызывал у художника симпатию. Одно дело, когда видишь внешнюю и угадываешь внутреннюю красоту модели, и совсем другое, когда обнаруживается несоответствие. Недаром опасливо спрашивал он в письмах, когда друзья упоминали о возможности получения заказа на портрет: «Не рожа ли?»
Год назад ему пришлось писать заказной портрет пожилой дамы А. В. Цетлин из семьи московских толстосумов, и ее внешний облик большой приязни у Серова не вызвал. Как упоминал, характеризуя этот портрет И. Э. Грабарь, «художник не польстил модели, передав всю неприятность и вульгарность ее фигуры».
Видимо, то же чувство внутреннего сопротивления тормозило его работу над портретом супругов Грузенберг. Оба самодовольные, раскормленные, они словно не умещаются в рамку портрета. По словам Грабаря, знакомого с историей создания этого портрета, адвокат и его супруга немилосердно торговались с Серовым относительно стоимости его работы, изрядно ему надоели, и он «за это отомстил портретом, чего, впрочем, они не уразумели».
Когда Серов скептически относился к той или иной своей работе, он именовал ее «портрет портретыч» или, более того, – искаженным «патрет». Вот и в этом случае он пишет из Сестрорецка жене Ольге Федоровне: «…патрет все-таки, хотя и грязен, но то, что я хотел изобразить, пожалуй, и изобразил, – провинция, хутор чувствуется в ее лице и смехе…»
Жадность заказчиков была ему особенно неприятна. Ибо очень нужны были деньги. Последнее путешествие в Париж (а во Францию ездила весной и старшая дочь Ольга, навещавшая брата Антона в Берке) изрядно ударило по семейному бюджету, заставив Серова, как не раз бывало, обращаться за финансовой помощью к Остроухову.
Находясь в Сестрорецке и просматривая как-то свежие номера газет, Серов обратил внимание на интервью директора императорских театров Теляковского. Хотя из текста интервью было не вполне ясно, видел ли Теляковский парижские спектакли Дягилева или судит о них понаслышке, Владимир Аркадьевич позволил себе пренебрежительный вывод: «Постановки г. Дягилева не считаю художественными».
Как же так, размышлял Серов, на Дягилева поработали те же художники – Головин, Коровин, Бакст, Рерих, Бенуа, которые неоднократно оформляли и спектакли императорских театров. В них участвовали те же танцоры, за исключением разве что Иды Рубинштейн, те же хореографы. А результат, по Теляковскому, получился плачевным. Тогда, надо полагать, неудача постигла Дягилева прежде всего с теми новаторскими спектаклями, которые специально создавались для показа в Париже и не шли на сцене Мариинского театра. Это и «Шехеразада», и «Клеопатра», и «Жар-птица». Опять неувязка: именно эти спектакли пользовались в Париже наиболее громким успехом, и все, кто видел их, знают об этом.
Единственный упрек, считал Серов, который можно предъявить Дягилеву, – вольное обращение с музыкой русских композиторов – и в «Клеопатре», и в «Шехеразаде»: из симфонической поэмы Римского-Корсакова была выпущена одна часть, не выигрышная для танца. Но уже французские критики заметили, что слегка сокращенная музыка этого сочинения идеально соответствует созданной для нее хореографии и, стало быть, игра стоила свеч.
Свой ответ Теляковскому он решил направить в газету «Речь».
«На мой взгляд, – писал с позиции свидетеля торжества русского балета, – единственное, на что можно было смотреть и смотреть с удовольствием этой весной в Париже, были именно эти балеты в Grand Opera. Все остальное, мною виденное, было именно нехудожественно, порой старательно, но и только, как „Золото Рейна“ Вагнера и „Саломея“ Штрауса…»
Успеху зрелища, подчеркнул Серов, в немалой степени способствовало то, что «в театрах у нас работают лучшие художники, что пока не принято в Европе».
Расхождение программной музыки Римского-Корсакова с сюжетом поставленного на нее балета тоже, по мнению Серова, оправдывалось без малейших усилий: «Так много вложено в эти танцы истинной красоты, красоты одеяний, фона, красоты самих существ, движимых пленительной музыкой Римского-Корсакова, что забываешь эту разницу текста, а видишь и ощущаешь близость Востока и признаешь сказку из „Тысячи и одной ночи“».
И, наконец, последнее. Утверждение Теляковского, что все затеи Дягилева – журнал, выставки, постановки русских опер в Париже и нынешний балет – были сугубо коммерческими предприятиями, с целью наживы, тоже требовало отповеди. Уж кому-кому, а друзьям Сергея Павловича было слишком хорошо известно, что ни журнал «Мир искусства», ни последующие его предприятия, включая балет, до сих пор, увы, не принесли издателю, постановщику и импресарио в одном лице никакой прибыли. Более того, Дягилев никак не мог рассчитаться с долгами, в которые залез с прошлого года, когда вместе с оперой впервые показал в Париже русский балет.
«Это не только несправедливо, но и смешно», – с оттенком горечи по поводу высказываний Теляковского о стремлении Дягилева к наживе за счет искусства завершил статью Серов.
При посредничестве Вальтера Нувеля статья Серова была переправлена в газету «Речь» и 22 сентября 1910 года опубликована, о чем вполне удовлетворенный автор сообщил из Сестрорецка Ольге Федоровне: «Написал тут письмо в защиту Дягилева… весьма великолепное и веское письмо, да-с».
Если не считать интервью, которые время от времени давал Серов, это его единственное прямое обращение в прессу. Надо было очень сильно задеть Валентина Александровича, чтобы заставить его писать в газету. Даже его письма последние годы были весьма лаконичными. Серов, избегая всякой «лирики», высказывался словно сквозь зубы, часто понятными только друзьям намеками. Еще в большей степени это касалось его поведения в обществе: за исключением круга близких друзей, где он вел себя иначе, его считали великим молчальником.
Из Парижа Серов привез сувениры друзьям и родным. Один из них, мартышку, он подарил княгине Ольге Константиновне Орловой. Хотелось таким образом напомнить о себе и о том, что пора заканчивать начатый еще год назад портрет. Сувенир княгине понравился, и она черканула Серову небольшое письмецо: «…Очень благодарю Вас за чудесную мартышку – она меня так насмешила, и я, право, очень тронута, что Вы меня вспомнили и привезли на память милую игрушку».
Но и тут же княгиня дала понять, что она чрезвычайно занята и потому сеансы позирования едва ли состоятся: «По приезде домой меня совсем затормошили, и прямо не было свободной минуты. К тому же весь день в городе в таком виде, что прямо негде сидеть…»
И еще сообщила, что через несколько дней вновь уезжает за границу. Но, чтобы автор ее будущего портрета уж совсем не расстраивался из-за невозможности встречи, пригласила приехать позавтракать в их загородное имение в Стрельне. Но это было не совсем то, чего хотелось Серову.
Ничего не поделаешь, придется подождать. Пока же Серов все же надеется, что к открывающейся весной в Риме Международной художественной выставке он все же сможет закончить портрет Орловой и показать его там. И об этом сообщает в письме устроителю русского отдела выставки Д. И. Толстому, перечислив вместе с портретом Орловой полтора десятка своих картин и портретов, которые намерен показать в Риме. В том же письме сообщает, что в ближайшие дни выезжает в Биарриц и, если возникнет необходимость в дальнейшей переписке, просит адресовать письма туда, на виллу Цетлиных.
Отъезд в Биарриц был связан с желанием семейства Цетлиных продолжить начатую Серовым портретную галерею славных представителей их рода и написать теперь Марию Самойловну, не так давно сочетавшуюся браком с Михаилом Самойловичем Цетлиным. Поначалу у Серова были опасения: не дай бог и эта столь же неприятна внешне, как и ее свекровь, которую он писал ранее. Но Мария Самойловна оказалась совсем иной – стройная, с живым и одухотворенным лицом.
Писать портрет художнику было предложено во французском курортном городке на побережье Бискайского залива, где Цетлины обычно отдыхали осенью на принадлежавшей им вилле. Предложение это Серов принял, имея в виду, что на отдых в Биарриц должна была приехать, как он знал, и княгиня Орлова и есть надежда поработать заодно и над ее портретом.
По пути в Биарриц Серов на несколько дней заезжает в Париж и встречает там друзей – Бакста, Дягилева и Нижинского, приехавших из Венеции, а также Иду Рубинштейн – она отдыхала в Африке и подстрелила там льва. В Париже он посещает своих родственников – Львовых, Осенний салон и Лувр и в начале ноября выезжает в Биарриц. По прибытии шлет небольшое письмо Ольге Федоровне: «Да, океан здесь ничего себе – такие волны, что мое почтенье…»
Но пока ему все нравится: «Вилла стоит у самого моря… Отвели мне отличную комнату на море – гудит – я люблю…» Единственное, что его раздражает, так это комарики, вынуждающие спать под кисейным пологом. В том же письме – упоминание об Орловой, что она, кажется, здесь и он намерен ее разыскать.
Из Биаррица он пишет и А. Н. Бенуа, в основном – по поводу дел художественных и проекта создания нового объединения под прежним названием – «Мир искусства». О себе скупо: «Здоровеннейшие волны сейчас кипят в океане – живу у одних богачей на вилле… комфорт до отупения».
До завтрака, выпив лишь чашку кофе, Серов уходил побродить по влажному в отлив песку – так много разной живности оставляют волны: и скрученные, пахнущие йодом водоросли, и ядовито окрашенных медуз, и крабов. Затем – короткий сеанс с приготовившейся позировать у окна, на фоне моря, Марией Самойловной. До обеда – еще один час живописи, а далее весь день свободен для отдыха: поездки на лимузине в горы, вечером – визит в казино, где можно испытать судьбу и сыграть в рулетку, сделав ради азарта небольшую ставку.
Иногда вместе с Марией Самойловной и ее мужем заходили в один из кабачков, где, все в черном, словно у них траур, попивая дешевое винцо, с мрачным ожесточением резались в карты ни на кого не обращавшие внимание крестьяне-баски.
Часто, особенно ночью, гремели грозы, озаряя спальню яркими вспышками молний, и волны, при солнце веселые, отливавшие малахитом, становились в штормовую погоду темными и свирепыми. И потому как истинное избавление от начавшей мучить его мигрени воспринял он отъезд на несколько дней хозяев виллы в Париж, что давало ему возможность прокатиться в это время в близкую отсюда Испанию.
Целый день Серов бродил в мадридском музее Прадо, любуясь Тицианом, Веласкесом, Эль Греко… Восхищали Мантенья, Дюрер, Рафаэль, о чем пишет жене. А вот прославленный Гойя оставил его равнодушным. Портреты знаменитого живописца казались написанными небрежно, почти по-дилетантски.
Эскориал и особенно Толедо привели в восторг, но бой быков, точнее, «бойня в сущности», как назвал зрелище в письме, вызвал чувство, близкое к тошноте. После кровавого зрелища даже не хотелось есть.
И опять – возвращение в Биарриц, работа над портретом и попытки уснуть под неумолчный, будто чем-то грозящий ему рев волн за окном.
Ухудшению настроения способствовало и то, что он узнал об Орловой. Оказывается, сообщает Серов жене, что в Биаррице сей княгини еще нет и уже не будет. Незадолго до его приезда сюда Орлова с мужем уехали в Париж, а затем вернулись в Петербург. И теперь, чтобы дописать обещанный к Римской выставке портрет, княгиню надо разыскивать в Петербурге.
Однажды он встал среди ночи, чтобы закрыть окно от проникавшего в комнату рева волн, и тут вспышка молнии и резкий, как пушечный выстрел, удар грома заставили его замереть на месте. Предательски кольнуло сердце. В письме жене написал: «Кажется, я больше не выдержу близости океана – он меня сломил и душу издергал – надо бежать».
Тогда же задумался, не стоит ли здесь же, в Биаррице, застраховать свою жизнь. Много ли еще суждено прожить? А вдруг случится неожиданное, и с чем останется тогда семья? Сообщая об этой идее Ольге Федоровне, пишет: «Если будет возможность здесь же дать осмотреть себя врачам (что мне как резаному не особенно желательно), то и ладно. Ведь это надо будет сделать – не думаю, чтобы я прожил больше 10–15 лет». Не мог и предвидеть, что все не так и срок ему отпущен намного меньший.
Иногда вспоминались слова жены Лёли, что он счастливый человек, потому что посвятил жизнь любимому делу – живописи. Он уважаем, всеми признан. Да полно, Лёля, хотелось возразить ей, много ли счастья доставляют ему заказные работы? И так ли уж приятно жить в роскошном и почти пустом особняке в эту мерзкую погоду, когда и рев волн, и грозы не дают спать? Почетный пленник в золотой клетке – вот он кто! И потому, опровергая Лёлю в ее мнении, что он счастливый человек, признается, что это «счастье» он никак не чувствует, не ощущает. Напротив: «Странно, у меня от всего болит душа. Легко я стал расстраиваться». И с портретом, который пишет здесь, тоже непросто: «Кончаю портрет, что мне всегда мучительно».
В Биаррице Серов узнал о всполошившем весь мир уходе Толстого из Ясной Поляны и кончине писателя на маленькой железнодорожной станции. Великий старец и перед смертью сумел удивить мир.
Лев Толстой, по свидетельству самого преданного и близкого Серову ученика Николая Ульянова, был его любимым писателем, что подтверждают и другие современники. Надо полагать, Серов ценил в Толстом не только могучий художественный дар, но, в неменьшей степени, и публицистику писателя, гражданскую позицию, напряженное правдоискательство, что отличало и самого Серова.
О Толстом он пишет из Биаррица Остроухову: «…Человек этот большой и много мучился… Побег его не шутка». И о предстоящих и, вероятно, пышных похоронах враждовавшего с властью Толстого: «Что другое, а хоронят у нас в России преотлично и любят».
Ту же тему Серов затрагивает в письме Ольге Федоровне: «Рад я, что Лев Толстой закончил свою жизнь именно так, и надеюсь, что похоронят его на том холме, который был ему дорог по детству. Рад я, что и духовенства не будет, так как оно его от церкви отлучило…»
Лишь в начале декабря портрет М. С. Цетлин, стоящей в проеме окна с морем за ее спиной, был завершен. И по композиции, и по колориту в жемчужно-серых тонах вышло недурно. Все бы ничего, если бы не погода. Чувствуя себя совершенно разбитым от измучивших его штормов, Серов выехал в Париж, а затем – и в Берк, к заскучавшему там сыну Антону. Нога у парнишки заживала, и врач сказал, что операции можно избежать. Сын вытянулся, похудел, ни на что не жаловался, выглядел молодцом. Но как же сказалось на нем годичное пребывание в зарубежной клинике! Говорить и писать он теперь предпочитал пофранцузски.
Хотелось, чтобы сын совсем не офранцузился, забрать его на родину, однако, по совету врачей, Антона пришлось вновь, до полного исцеления, оставить в Берке.
Наступление нового, 1911 года Серов встретил в семейном кругу. Свой день рождения – стукнуло сорок шесть – отметил лыжными прогулками в засыпанном снегом Домотканове. Как только вернулся обратно в Москву, возобновил хлопоты, связанные со сбором своих картин для Международной выставки в Риме, намеченной на весну.
Как это всегда нелегко, вновь убедился Серов, буквально выклянчивать свои работы у музеев, общественных организаций и частных лиц. Иной раз упираются так, будто отдать его полотно на выставку – значит потерять безвозвратно. А хотелось бы, по возможности, предстать перед публикой в Риме широко и разнообразно. Что же пугало, например, коллекционера Владимира Осиповича Гиршмана? Вроде давно знакомы, размышлял Серов, и отношения прекрасные, неоднократно писал и рисовал его жену, прелестную Генриетту, но и Гиршман заартачился, стоило попросить для выставки находившийся у него портрет знаменитого итальянского певца Таманьо. Едва удалось его уломать, и то при условии, что другие художники, которым Гиршман отказался дать их картины из своей коллекции для показа в Риме, ничего об этой уступке знать не будут. А еще Гиршман пожелал в обмен, так сказать, за «услугу», чтобы Серов исполнил в ближайшее время и его портрет – в пару к сделанному ранее портрету жены. Пришлось пойти и на это.
В разгар хлопот по сбору картин для выставки случилось событие, направившее мысли Серова совсем в иную сторону. В газетах, особенно петербургских, замелькало имя Шаляпина, притом в самом негативном контексте. Похоже, против популярнейшего певца и друга началась клеветническая кампания. Но, знакомясь с новыми и новыми публикациями на ту же тему, Серов приходил к выводу, что Федор Иванович действительно «вляпался» в весьма неприглядную историю. Даже благоволивший к певцу Влас Дорошевич, с блеском писавший о новых ролях Федора, о его выступлениях в «Ла Скала», в Москве и Петербурге, дал в редактируемом им «Русском слове» ядовитую карикатуру с подписью «Монархическая демонстрация в Мариинском театре во главе с Шаляпиным».
Газеты на все лады расписывали инцидент в театре во время спектакля «Борис Годунов», на котором присутствовали Николай II и члены царской семьи. Во время представления хор оперы, а с ним и Шаляпин неожиданно встали на колени. Хор запел гимн «Боже, царя храни». Инцидент трактовался в печати по-разному. Монархическая пресса умилялась верноподданническими чувствами артистов. Отклики в демократических изданиях были проникнуты негодованием: как же Шаляпин, любимец народа, мог унизить подобным образом свое достоинство?
Этого не мог понять и Серов. Хотелось немедленно разыскать Федора и объясниться с ним, узнать от него самого, нет ли в газетных отчетах искажений того, что было в действительности. Но оказалось, что Шаляпин чуть ли не сразу после злополучного спектакля укатил на гастроли в Монте-Карло. И все же, считал Серов, надо ему выразить свое мнение о прискорбном инциденте. Серов собрал накопившиеся у него газетные публикации об этом и вложил в конверт с собственной короткой припиской: «Что же это за горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился бы». Конверт послал в оперный театр Монте-Карло на имя Шаляпина.
В конце января Серов выезжает в Петербург, где вместе с матерью и сыном Сашей присутствует на церемонии торжественного открытия мемориальной доски на доме по Лиговской улице, где последние годы жил и скончался отец. Событие это было приурочено к сорокалетию со дня смерти Александра Николаевича. Днем была отслужена панихида в храме Воскресения, вечером состоялся концерт с исполнением отрывков из опер Серова. Все бы хорошо, иронизировал сын композитора в письме жене Ольге Федоровне, но уж совсем «премило», что инициатор установления памятной доски, граф Шереметев, и себя не забыл и собственную фамилию на доске, удостоверяя, что сию доску установило музыкальное общество имени графа Шереметева, распорядился обозначить такими же по величине буквами, как и фамилию чтимого доской. Ох уж это человеческое тщеславие!
В письмах жене из Петербурга Серов упоминает, что «у Дягилева работы в самом разгаре». Круг сподвижников Сергея Павловича готовится к новым спектаклям в Париже. Но есть и план перед Парижем показать русские балеты еще кое-где, например в Риме, к открытию там Всемирной выставки. Теперь и Серов хочет внести свою лепту в оформление балетов и по предложению Дягилева делает эскиз занавеса к балету «Шехеразада». Восточный материал для эскиза он собирает в петербургских музеях, особенно в Русском музее Александра III, в этнографический отдел которого поступили великолепные персидские миниатюры.
«Вчера, – сообщает он Ольге Федоровне, – показал эскиз комитету, то есть Дягилеву, Бенуа, Баксту… Никто не ожидал увидеть то, что сделал… довольно сильно и благородно, и в ряду других ярких декораций и занавесей она будет действовать приятно – скорее похожа на фреску персидскую». Сам же занавес по этому эскизу он собирался расписывать уже в Париже вместе с родственником, художником и скульптором Ефимовым.
В том же письме жене Серов сообщает, что успешно пишет портрет княгиня Орловой: «Она пока терпеливо сидит, хотя и обманщица…»
Единственное, что беспокоит, так это близкий уже суд по обвинению его в оскорблении власти. История эта заварилась в октябре прошлого года при выезде Серова за границу, в Биарриц. Полицейский пристав отказался выдать справку о благонадежности, необходимую для получения заграничного паспорта, без личного свидания с художником. Серов же, со своей стороны, пригласил пристава пожаловать к нему домой. После чего пристав счел себя оскорбленным при исполнении служебных обязанностей да еще и откопал статейку законодательства, на основании которой возбудил судебное дело. История эта, думал о ней Серов, конечно, глупая, но характерная для российских нравов. Как справедливо заметил Салтыков-Щедрин, в таких-то ситуациях и есть возможность для всякой мелкой чиновной сошки проявить «административный восторг».
Но если дело повернется серьезно, то могут и на четыре месяца в тюрьму запрятать, и уж тогда придется распрощаться с планами выехать в Рим и Париж.
Хорошо, что есть верные друзья. Илья Семенович Остроухов просил особо не переживать, не беспокоиться. Обещал использовать свои связи, чтобы спустить это дело на тормозах.
И вот портрет Орловой завершен. Княгине придраться вроде было не к чему: и далекому от светской жизни человеку сразу видно, что изображена завзятая модница. Какое роскошное на ней платье, какие туфельки, накидка, а уж огромная шляпа с широкими полями способна прямо-таки свести с ума! И опять же, чувствуется, что она очень занята, ей всегда некогда, ее где-то с нетерпением ждут, и потому так неустойчива ее поза – на минуту, выбросив вперед ножку, присела в кресло в одном из залов своего роскошного петербургского дворца и уже готова в следующий миг мчаться дальше.
Более внимательный взгляд обнаруживал в лице княгини и пустоватое высокомерие, и свойственную ей легкость чувств и мыслей, направленных исключительно к предстоящим удовольствиям. Казалось, художник, запечатлев ее в момент порхания с бала на бал, с концерта в оперу, из Петербурга в Париж или в Лондон, не может сдержать улыбки: это же сама Ольга Константиновна Орлова, а ей многое позволено!
Портрет получился в высшей степени светским, но с каким подтекстом! Впрочем, сама заказчица, при всем ее верхоглядстве, кое-что в нем, вот эту едва заметную улыбочку, все же подметила. И потому реакция на портрет с ее стороны была далекой от восторга и по-аристократически сдержанной.
С тем же примерно чувством принял свой портрет и Владимир Осипович Гиршман. От Серова, всегда искавшего деталь в облике, точно отражающую тип и привычки человека, не ускользнул вальяжный жест, каким Владимир Осипович доставал из внутреннего кармана бумажник, чтобы расплатиться. Этот жест и стал на портрете изюминкой, сообщившей пикантность образу фабриканта и купца. «Может, руку-то не надо так?» – несмело протестовал заказчик. Но Серов был непреклонен: «Да почему же не надо? Вот так и хорошо!»
Словом, потел не зря, оба портрета вышли социально острыми, а заказчик подуется, да и стерпит: не кто-то, все же сам Серов писал!
На фоне портретных удач и суд с приставом благодаря своевременно принятым оборонительным мерам прошел благополучно, и ответчик, по мнению друзей, отделался легким испугом – всего-то штрафом в 5 рублей.
Теперь можно было без опасений о будущем готовиться к предстоящей поездке в европейские столицы.
В путь отправились вдвоем с Ольгой Федоровной. Надо и жене, решил Серов, посмотреть балеты Дягилева, как и Международную выставку, организованную по поводу пятидесятилетия объединения Италии. Если же ему суждено задержаться в Париже или в Лондоне, куда пригласили дягилевскую труппу в связи с торжествами, посвященными предстоящей коронации Георга V, Ольга Федоровна заедет в Берк за Антоном и отвезет его домой.
Они остановились в Риме в том же отеле «Италия», где проживали во время последнего совместного путешествия. Номер, выходивший окнами в сад примыкающего к отелю палаццо Барберини, был заказан заранее, и, как и прежде, из сада с благоуханием цветов и птичьими трелями доносился монотонный, успокаивающий плеск фонтана. Там, у входа в сад, стоит статуя прославленного датского скульптора Торвальдсена. Когда-то датчанин жил вблизи палаццо и ваял здесь свои скульптуры, вдохновляясь, быть может, тем же журчанием струй, теми же молодыми римлянками, что гуляют по окрестным улицам, и собранными в картинной галерее дворца Барберини полотнами – «Форнариной» Рафаэля, «Кардиналом Бембо» Тициана, портретом Беатрисы Ченчи кисти Гвидо Рени.
С вершины холма, с которого спускается улица Четырех фонтанов, видна церковь Санта-Мария Маджоре, а поодаль – другой холм, Пинчио, где спряталась среди зелени вилла Медичи. Если же пройти вниз, к площади Барберини, увидишь на углу ее капуцинский храм во имя Пресвятой Девы и фонтан с изображением тритона, пускающего струю воды из морской раковины.
Словом, все прекрасно, но, увы, прежнего волшебного впечатления от Вечного города, какое испытал Серов в свой первый приезд, уже не было. По улице вдоль отеля пустили в обе стороны трамвай, и его железное громыхание выводило Серова из себя. Свою досаду он изливает в письме Ивану Семеновичу Ефимову, с которым в Париже предстоит писать занавес для балета «Шехеразада»: «…Рим сам стал как-то похуже – глупое веселье ему не к лицу, а кроме того, современный итальяшка провел ради удобства повсюду трамваи, всё истраваено (как Париж изавтомобилен).
Черт бы ее драл, эту цивилизацию с трамваями, кинематографами, граммофонами – излишняя торопня».
В специально построенном по проекту архитектора Щуко павильоне России на Международной выставке лишь двум художникам, Репину и Серову, с учетом их вклада в современное искусство, были отведены отдельные залы и предоставлена возможность выставить свои картины без предварительного жюри. Другие же теснились в общих залах.
Картины Репина уже развесили в отведенном ему зале, но встретиться с Ильей Ефимовичем Серову пока не удалось. На взгляд Серова, репинскую экспозицию явно портили включенные в нее картины пяти-шестилетней давности «на злобу дня» – «Какой простор!» и «17 октября» – на ней запечатлено народное ликование в день опубликования царского манифеста. Последующие события в России показали, что восторги художника оказались, увы, неоправданными.
Что же до показа собственных работ, то Серов был удовлетворен тем, что все же удалось заполучить портреты Таманьо, Орловой, М. С. Цетлин, Турчанинова, Иды Рубинштейн, виды царской охоты, такие работы, как «Баба в телеге», «Лошади на взморье». Они должны показать его творчество в развитии, от вполне традиционных вещей до новых, таких как «Ида Рубинштейн».
Узнав о прибытии из России своих работ, Серов появился на выставке и у входа в русский павильон нос к носу столкнулся с Репиным. «Вижу, – вспоминал их последнее свидание Репин, – навстречу приближается знакомая коренастая, меланхолически покачиваясь, небольшая фигура, вся в сером: сам Серов…
Изящный, оригинальный, с самодовлеющей властью в походке, Серов был в хорошем настроении, и я был особенно рад ему и любовался им.
Он был одет с иголочки: серый редингтон и прочее всё, одного, серо-дымчатого цвета; платье сидело на нем великолепно, роза в зубах так шла к его белокурым волосам и приятно розовому цвету лица».
Встреча была радостной.
– Как удачно, что все же дождался тебя! – вскричал Репин. – Уже собирался уезжать из Рима, да было бы обидно не увидеть твои последние работы.
– Неужели из-за них задержались? – лукаво сощурился Серов. – Так идемте, Илья Ефимович, посмотрим.
Он попросил рабочих-итальянцев открыть ящик, в котором находилась «Ида Рубинштейн». Картину выставили напоказ, и Серов выжидательно взглянул на Репина: что-то он скажет? Репин же словно проглотил язык. Он с изумлением и оторопью рассматривал полотно. Рот его скривился в скептической гримасе. «Мне показалось, – описывал он свои ощущения в тот момент, – что потолок нашего щепочного павильона обрушился на меня и придавил к земле… я стоял с языком, прилипшим к гортани; кругом все задернулось мглой злокачественного „сирокко“».
Наконец Репин выдавил из себя:
– Это что же значит, Антон, кто это?
– Это Ида Рубинштейн, танцовщица в балетах Дягилева.
– И это ты ее написал – вот такой?
– Я ее такой и написал, – с вызовом ответил Серов, уже понимая, что комплиментов ждать не приходится, картина не нравится Репину, вызывает у него протест.
– Знаешь, – хмуро заключил Репин, – если бы я не видел сейчас тебя и не слышал ясно твоего голоса, я бы не поверил.
На том они расстались. Серову было досадно, что они так далеко разошлись с Репиным в понимании современного искусства. Впрочем, припомнил он, у Ильи Ефимовича и раньше, по поводу новых приобретений для Третьяковской галереи, появлялся совершенно нетерпимый тон. Кажется, ему трудно понять, что его собственный стиль не есть конечный путь живописи.
В середине апреля в Рим прибыли Александр Бенуа и молодой композитор Игорь Стравинский, привлеченный Дягилевым к сочинению музыки для балетов. По рекомендации Серова они поселились в том же отеле «Италия». Прогуливаясь по городу вдвоем с Серовым, Бенуа рассказал ему, что у них со Стравинским самый разгар работы над новым балетом на тему масленичных балаганов под названием «Петрушка».
После последней ссоры с Дягилевым в Париже Бенуа хотел было прервать всякое сотрудничество с ним. Но именно в это время «Сережа», как по-свойски именовал Дягилева Бенуа, нашел интересного композитора Стравинского. Возникла идея нового балета, но самому «Сереже» заниматься этим недосуг, и тут он вспомнил, что есть у него друг Шура Бенуа, с детства неравнодушный к балаганам и к образу Петрушки…
Все началось, рассказал Бенуа, с мелодии, сочиненной Стравинским: что-то вроде плача или отчаяния Петрушки. Игорь Федорович проиграл ее Дягилеву, и «Сережа», с его дьявольской интуицией, увидел новаторство на грани гениальности и возможность создать балет о Петрушке и балаганах. И вот теперь, когда они работают сообща со Стравинским, уже многое ясно – представить драму балаганных кукол, Петрушки, Балерины, Арапа, их любовь, ревность, измену, страдания, как драму людей.
Сначала Бенуа сочинил сюжет на уже готовую музыку Стравинского, а теперь, когда дело идет к концу, они обсуждают развязку кукольной драмы вместе. Дягилев, надеясь, что законченный балет будет разучен в срок, хочет видеть в роли Петрушки Нижинского, а партия Балерины будет отдана Карсавиной.
Вскоре Серову довелось оценить творчество Стравинского: в номере отеля Игорь Федорович наиграл на фортепиано последнюю сцену балета – гулянье на площади и пляску ряженых. Стравинский умело использовал в музыке темы народных песен «Вдоль по Питерской» и «Ах вы, сени мои, сени».
Серов сразу уловил это, похвалив замысел и музыку, предложил:
– А вот здесь, где веселье, пляски, не вставить ли еще эпизод с медведем? Какое же масленичное гулянье без дрессированного медведя?
Стравинский с Бенуа переглянулись и согласно кивнули – медведь действительно должен быть, упустили. Стравинский добавил:
– Это несложно. Я допишу представление медведя. Его тяжеловесность создаст нужный контраст перед бойким народным плясом.
К открытию выставки в Рим во главе с Дягилевым прибыла балетная труппа. Она уже успела дать несколько спектаклей в Монте-Карло, и, по словам Дягилева, гастроли прошли успешно. Но сейчас его более волновало, как обстоят дела с «Петрушкой» и другие детали, связанные с показом балетов в Париже. Прослушивание «Петрушки» в номере Стравинского он совместил с совещанием своего «штаба».
Музыку балета Дягилев одобрил и выразил надежду, что с постановкой танцев Михаил Михайлович Фокин не подкачает. Времени в обрез, напомнил он, и подготовку хореографии надо начинать немедля, здесь, в Риме, используя любую свободную минуту. Заодно Сергей Павлович поинтересовался у Бенуа насчет декораций и костюмов к «Петрушке».
– Ты же знаешь, – успокоил тот, – большую часть я сделал еще в Петербурге. К нашему приезду в Париж их туда доставят. Остальное закончил здесь.
– Покажешь! – тоном приказа бросил Дягилев и подвел некоторые итоги. Он теперь видит, что именно «Петрушка» может стать ударным номером парижских выступлений. Готовиться к ним надо серьезно. Говорят, мало взять штурмом крепость. Важно и удержаться в ней. А сейчас, когда сформирована самостоятельная труппа, от выступлений здесь, в Риме, и особенно в Париже будет зависеть ее будущее. Кстати, спросил он, как занавес к «Шехеразаде»?
Наступила очередь отчитаться и Серову, и он рассказал, что по пути в Рим, находясь проездом в Париже, договорился с супругами Ефимовыми, что они выполнят по его эскизу подготовительную часть, а когда он сам приедет в Париж, будут заканчивать вместе.
Завершая разговор, Дягилев сказал:
– В нашем распоряжении примерно месяц, и сделать за это время предстоит немало. Парижские выступления начнем с «Карнавала» и новых балетов – «Нарцисс» и «Призрак розы». А спустя неделю покажем вторую программу – вместе с «Шехеразадой» пойдет и «Петрушка». Афиши сделаны, отступать нам некуда. Впрочем, – усмехнулся он, – это и не в наших обычаях.
Спектакли русского балета в театре «Констанца» начались одновременно с открытием в Риме Международной художественной выставки. В «Шехеразаде» роль любимой жены шаха Зобеиды ныне исполняла Тамара Карсавина. Причину замены Серову объяснили тем, что Ида Рубинштейн предпочла создать собственную труппу и готовила в Париже постановку специально написанной для нее итальянцем Габриеле д'Аннунцио мистерии «Мучения святого Себастьяна».
В новом балете «Призрак розы» та же Карсавина была очень хороша в паре с Вацлавом Нижинским, и все действие пленительной танцевальной сюиты развертывалось как прекрасное сновидение утомленной после бала героини.
Вопреки откровенному недоброжелательству, с каким встретили приезд дягилевской труппы некоторые римские и миланские газеты – из опасений, что русские танцоры создадут конкуренцию итальянской опере, – и несмотря на угрозы, что спектакли освищут клакеры, выступления шли блестяще, а энтузиазм зрителей смешал все карты тех, кому не нравилось появление труппы в Риме. Пресса вынуждена была признать: русский балет стоит своей славы. И лишь немногие знали, какой ценой даются эти выступления: днем в плохо приспособленном душном зале шли репетиции Фокиным «Петрушки», вечером – спектакли. Времени на отдых у артистов почти не оставалось.
К Александру Бенуа вскоре присоединилась приехавшая из Швейцарии жена Анна Карловна, а к Тамаре Карсавиной – ее брат Лев Платонович, уже заявивший о себе как историк и религиозный мыслитель, и, когда выдавался свободный денек, три пары – Серовы, Бенуа и Карсавины – бродили по Риму вместе, иногда выезжали полюбоваться окрестностями Вечного города в Альбано, где когда-то писал этюды для своей знаменитой картины Александр Иванов.
Много позже, вспоминая то время и Серова, А. Н. Бенуа писал И. С. Зильберштейну: «Он ненавидел снимки с себя любительского характера и всячески от таковых увертывался. Все же я его украдкой снял во время той чудесной прогулки (в 1911 г.), которую мы в компании с Тамарой Карсавиной, с ее братом, с Ольгой Федоровной и с моей женой совершили в Альбано. Это была удивительная пора, когда мы с женой и Серовы (и Стравинские) жили в Риме в одном отеле и почти не расставались».
Это время сохранилось и в памяти И. Ф. Стравинского. В книге «Хроника моей жизни» он писал: «Я вспоминаю всегда с исключительным удовольствием эту весну в Риме… где мы все поселились – А. Н. Бенуа, художник В. А. Серов, которого я искренне полюбил, и я – мы находили время для прогулок, ставших крайне для меня поучительными благодаря Бенуа, человеку разносторонне образованному, знатоку искусства и истории, обладающему к тому же даром чрезвычайно красочно воскрешать в своих рассказах эпохи прошлого…»
После недолгого пребывания во Флоренции, где была развернута еще одна крупная художественная выставка, Серов выезжает в Париж. К тому времени Ольга Федоровна уже съездила в Берк и привезла оттуда Антона.
В письме из Парижа А. Н. Бенуа Серов сообщает свои последние новости: «Завтра пишу занавес, все приготовлено и нарисовано. Жену и сына отправляю сегодня в Россию и превращаюсь в артиста чистой воды, так сказать».
В том же письме – впечатления от разочаровавшей его постановки «Святого Себастьяна»: «„Себастиан“ не очень хорош, Рубинштейн не плоха, но вообще в смысле постановки всей вещи – если бы Д'Аннунцио и Бакст держались бы итальянских примитивов, то могло бы быть и очень хорошо, так как Ида справилась бы с движениями…»
Как и год назад, огромный молельный зал домовой церкви Шапель на бульваре Инвалидов стал для Серова мастерской, где предстояло написать занавес к «Шехеразаде». За то время, пока он находился в Риме, супруги Ефимовы исправно выполнили подготовительную часть – по его эскизам нанесли на холст рисунок шахской охоты. Справа на полотне видны всадники – это шах со своей свитой возвращается домой. Один из всадников держит на руке сокола. Перед ним скачут леопарды, лань. Слева, в пышной зелени, виден и шахский дворец, а на заднем плане – панорама моря с барашками волн и скользящими к берегу парусными лодками.
Теперь надо было оживить рисунок красками, создать живописную симфонию, не контрастирующую с яркими декорациями Бакста, а как бы дополняющую, их – в тех же, но более сдержанных красно-зеленых тонах. С таким занавесом первая часть балета, в которой прежде лишь музыка и текст либретто подсказывали зрителю пролог действия – сцену шахской охоты, обретала законченное масштабно-художественное решение.
Напряженный труд длился по двенадцать часов в сутки. Лишь вечера были свободны, и Серов отправлялся в театр «Шатле», где, как и в первый балетный сезон, проходили спектакли дягилевской труппы. Пока все шло успешно, и новые, оформленные Бакстом постановки – «Призрак розы» и «Нарцисс» – были встречены парижанами с энтузиазмом, вызывавшим у Дягилева радостное предчувствие, что парижский триумф, если не выйдет осечки с «Петрушкой», может быть повторен в третий раз.
Между делом Серов ознакомился с немало польстившим его самолюбию отзывом на римскую выставку Александра Бенуа, опубликованным в петербургской газете «Речь». «Прекрасная мысль, – писал Бенуа, – была предоставить целую комнату Серову. До сих пор Серов не был как-то по заслугам оценен на Западе. Его все принимали за „трезвого реалиста“, за „продолжателя Репина“, за „русского Цорна“. Ныне же ясно, что Серов просто один из чудеснейших художников нашего времени, настоящий красавец живописец, „классик“, занимающий обособленное, совершенно свободное, самостоятельное положение… Если и короновать коголибо на Капитолии за нынешнюю выставку, так это его, и только его».
Похвала местами казалась даже неумеренной, вводила в смущение. Бенуа превозносил «благородство» искусства Серова, его «гордую скромность», «исключительный вкус», считал портрет княгини Орловой таким же «чудом живописи», как «Иннокентий X» Веласкеса, хвалил «крепость линий» и «изящество стиля» в «Иде Рубинштейн» и напоследок еще раз повторил, что короновать на римской выставке можно лишь Серова, а с ним и сербского скульптора Мештровича.
Согласие и мир в среде русских артистов и художников вдруг, накануне премьеры «Петрушки», были нарушены ошеломившей всю труппу ссорой между Бенуа и Бакстом. По прибытии из Петербурга декораций к спектаклю Бенуа с огорчением заметил, что одна из них, с изображением комнаты Петрушки, изрядно попорчена в дороге и более всего пострадал портрет хозяина балагана, Фокусника, на стене комнаты. Из-за нарыва на локте, причинявшего ему сильную боль, Бенуа не мог сам поправить живопись портрета, и за реставрацию взялся Бакст. Его работу сам автор смог оценить лишь на генеральной репетиции в театре «Шатле». Неожиданно для многих, невзирая на присутствие в театре избранной публики и представителей прессы, Бенуа громогласно закатил скандал Баксту.
– Что ты сделал! – выскочив на сцену, заорал он, тыкая в портрет Фокусника и потрясая папкой со своими эскизами. – Ты все испортил! Это уже не мой Фокусник. Черт знает что! Снять декорацию, немедленно снять!!!
Ослепленный злобой, Бенуа швырнул свою папку на сцену и, красный от гнева, выбежал из театра.
Не потерявший самообладания Дягилев принес извинения публике и приказал продолжить репетицию. После ее окончания Бакст выразил свое крайнее расстройство по поводу выпада против него Бенуа, считая, что всему виной зависть Бенуа к его, бакстовскому, успеху.
Вместе с женой Бенуа Анной Карловной Серов поехал в отель, чтобы попытаться решить миром некстати вспыхнувшую ссору художников-сподвижников. Он призывал Бенуа успокоиться, заверил, что по его эскизам сам вернет портрету Фокусника первоначальный вид, увещевал, что сейчас не время враждовать и тем более сводить личные счеты на глазах посторонних.
Но Бенуа, находившийся в состоянии, близком к истерике, не хотел ничего слушать, твердил, что дело не только в искажении Фокусника, что Дягилев с Бакстом обокрали его, приписав авторство «Шехеразады» Баксту, в то время как это он, Бенуа, сочинил этот балет. Не владея собой, в заключение Бенуа бросил грубое ругательство в адрес Бакста.
Серов дал слово разобраться и в обстоятельствах авторства, и в других спорных вопросах, чтобы восстановить миролюбие и справедливость.
В письме жене Серов коснулся неприятного инцидента: «Бедняга Бенуа совсем истеричная женщина – не люблю. Очень тяжело видеть сцены, которые пугают и отдаляют. Он совершенно не выносит Бакста. В чем тут дело – не знаю, уж не зависть ли к его славе (заслуженной) в Париже».
Результаты проведенного Серовым расследования оказались не в пользу Бенуа. По общему мнению, авторами «Шехеразады» были все же Бакст и Дягилев, хотя кое-какой вклад внес и Александр Николаевич. Об этом Серов и сообщил в письме Бенуа, продолжавшему обитать отшельником в номере отеля.
Заключая письмо, начатое обращением «Милый Шура!», Серов грустно заметил, что со стороны Бенуа прорвалась по отношению к Баксту «сила ненависти, годами скопившаяся». «Быть может, – писал Серов, – есть еще что-либо, за что ты столь его возненавидел, но, во всяком случае, твоя брань по его адресу до „жидовской морды“ включительно не достойна тебя и, между прочим, не к лицу тебе…»
Размышляя по поводу всей этой истории, Серов думал, что ему посчастливилось развиваться и выражать себя в творческих сообществах, будь то абрамцевский кружок или «Мир искусства», где национальные различия никогда не мешали общему делу и разумная терпимость служила залогом успеха. Однако, похоже, теперь кое-что изменилось…
Следует заметить, что Бенуа, как свидетельствуют его письма и мемуары, до конца своих дней глубоко переживал возникшую по поводу Бакста ссору с Серовым, сознавая, что, грубо обругав Бакста, «как-то косвенно оскорбил при этом милого Серова». «Знай я тогда, – винился в „Воспоминаниях“ Бенуа, – что именно Серова, своего лучшего друга, я больше не увижу в живых, я, разумеется, на коленях умолил бы простить меня».
Премьера «Петрушки» окончательно убедила труппу, что мечта Дягилева вновь покорить русскими балетами парижан сбылась. Счастливый сплав, достигнутый в «Жар-птице», благодаря совместной работе композитора, художника и хореографа с еще большей яркостью осуществился в «Петрушке». Карсавина с Нижинским сотворили изящное чудо. Роль страдающего Петрушки с виртуозно выраженными в танце порывами надежды и взрывами отчаяния была будто специально создана для воплощения ее Вацлавом Нижинским. «Гений», «волшебник танца» – восторженно писали о нем парижские газеты. Стравинский же в день премьеры был удостоен похвалы присутствовавшего на ней прославленного итальянского маэстро Джакомо Пуччини.
Полное удовлетворение испытывал после этого вечера и Серов. «Шехеразада», показанная следом за «Петрушкой», имела еще больший успех, чем в прошлом году. Аплодисменты зазвучали сразу, как только оркестр заиграл увертюру и зрители увидели занавес, сделанный по эскизу Серова и расписанный им.
На пути из Парижа в Лондон, куда отправилась труппа Дягилева, Валентин Александрович пишет письмо И. С. Остроухову, касается в нем и своего «персидского занавеса», по достоинству оцененного отечественными и французскими художниками.
В том же письме Серов упоминает, что портрет Иды Рубинштейн после настоятельных просьб председателя музея Александра III Д. И. Толстого он решил отдать в этот музей и потому теперь может позволить себе поездку и в Лондон.
Визит в английскую столицу был слишком кратковременным, чтобы по достоинству оценить ее холодноватое очарование. Да и публика в театре «Ковент-Гарден», украшенном в честь высоких гостей, прибывших на коронацию Георга V, тысячами роз, была весьма специфичной – посланцы королевских домов всей Европы, владыки восточных стран, индийская знать… Сдержанные аплодисменты звучали, из-за не снимаемых с рук перчаток, подобно шелесту сухих осенних листьев.
Имея в виду особенность этой аудитории и не надеясь с первого раза сломить известный консерватизм англичан, Дягилев не рискнул показать в Лондоне такие новаторские балеты, как «Жар-птица» и «Петрушка» и слишком смелую по своей чувственности «Клеопатру». Лондонский репертуар состоял из спектаклей романтического плана – «Карнавал», «Павильон Армиды», «Сильфиды» и «Призрак розы». Единственное исключение было сделано для «Шехеразады». Однако Серов, хотя ему и хотелось посмотреть, как публика оценит его занавес, дожидаться показа в Лондоне «Шехеразады» не стал. Сказывалась накопившаяся усталость, да и в России ждали некоторые дела.
Возвращаться домой он решил морем, на теплоходе. Перед отъездом зашел попрощаться с Дягилевым. Сергей Павлович посетовал, что слишком он торопится, подождал бы «Шехеразады», уверял, что в ближайшие дни на их балеты пойдет иная публика, и те, другие зрители, не будут столь скромны в выражении своих чувств.
Разговор касается дальнейших планов Дягилева: он намерен к концу года показать в Лондоне «Лебединое озеро» и «Жизель», на главные партии пригласил Кшесинскую. Серов, вспомнив, как капризная прима-балерина уже навредила им, высказывает сомнения относительно этой идеи. Однако Дягилев уверяет, что с Матильдой Феликсовной он помирился и новых подвохов с ее стороны можно не бояться. Напоследок напоминает Серову, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ним и ждет от него эскизов декораций к намеченной постановке «Дафниса и Хлои» на музыку Равеля. Серов, раздосадованный намерением Дягилева вновь иметь дело с Кшесинской, отвечает уклончиво. На том они расстаются, не предвидя, что более встретиться им не придется.
Уже из России, в письме Марии Самойловне Цетлин, Серов пишет, что уехал, «не дождавшись конца в Лондоне блистательных балетов», и что они имели «успех более чем большой», и что его занавес к «Шехеразаде», как сообщили друзья, «имел специальные аплодисменты», и это его «тешит более, чем что-либо другое».
Жена и особенно дети, с нетерпением ждавшие в Ино возвращения отца, засыпали его расспросами, что да как там, за морем, где он побывал. Порадовались незамысловатым подаркам. Рассказов хватило ненадолго. Почему-то с особым удовольствием Серов вспоминал, как с Ниной Симанович-Ефимовой покатался верхом в Париже, где можно было взять напрокат лошадей, а потом, уже один, и в лондонском Гайд-парке.
Дома окружили обычные заботы. Надо опять что-то писать для хлеба насущного. Но разве не может он позволить себе заняться пока чем-то и «для души»?
Поднимаясь наверх, в мастерскую, он непроизвольно задерживал взгляд на висящей на стене афише с изображением танцующей Анны Павловой, выполненной для первого балетного сезона в Париже. Жаль, право, что талантливая балерина отошла от Дягилева. А впрочем, каждый творчески одаренный человек имеет право на собственный путь к успеху.
В Ино установились жаркие дни. Искупавшись поутру, Серов уединялся в мастерской, перечитывал очередную басню Крылова и, поразмышляв о забавных странностях, роднящих животный мир с миром людей, брался за карандаш. Сколько лет уже он иллюстрировал крыловские басни, находя в этой работе истинное отдохновение. Пора бы, думал, отгравировать и издать иллюстрации отдельной книгой.
Виденное в Риме, Париже и Лондоне по-прежнему занимало его мысли, и в письме из Ино В. Ф. Нувелю, упрекая, что Вальтер Федорович так крепко засел в своей петербургской канцелярии, Серов шутливо замечает: «Ну, какие там могут быть дела? Единственным делом признаю я балет, остальное все пустяки…»
Словом, все шло своим чередом, хотя домашние, прежде всего жена Ольга Федоровна и старшая дочь, заметили, как быстро утратил он живость и веселый настрой после возвращения из-за границы. Он начинал верить в дурные приметы, и потому так взволновал его случай с как-то залетевшим в мастерскую через открытое окно зеленым попугайчиком. Откуда ему было взяться здесь? Должно быть, стремясь порезвиться на воле, выпорхнул из какой-нибудь соседней дачи.
Поначалу нежданный гость немало радовал. Художник нежно брал его в руки, поглаживал по шелковистому оперению, показывал детям, сажал возле оправленного серебром зеркала, давая птичке возможность полюбоваться на свое отражение и сам любуясь сочетанием серебряного блеска с изумрудными перьями. Но однажды, зайдя в мастерскую, увидел, что попугай бездыханно лежит на полу и глаза его мертвы.
Попугайчика закопали возле дома. Младшие дети даже всплакнули. Да и Серов задумался: стоило ли улетать от хозяев и, вероятно, жившей в том же доме подруги, чтобы через несколько дней умереть в тоске? Странная история – не к добру!
Перед отъездом из Ино газеты принесли весть о происшествии, всполошившем весь культурный мир: из Лувра похищена самая ценная жемчужина музея – «Джоконда» Леонардо да Винчи. «Лувр без нее не Лувр, – в письме делился горем Серов с отдыхавшим в Карлсбаде Остроуховым. – Ужасная вещь. Терзаюсь не на шутку».
Ладно бы похитил вор с целью продажи в частную коллекцию. Такую знаменитость не спрячешь. Рано или поздно найдется. А ну как это дело рук умалишенного? Тогда ведь может пропасть навсегда.
В том же письме делится печальной новостью о внезапной кончине хорошо знакомого обоим высокопоставленного чиновника и коллекционера русской живописи П. М. Романова, умершего в Царском от расстройства желудка в одну ночь. Вот так судьба играет человеком!
Прежде чем возвращаться в Москву, Серов решил на пару недель заехать в столь любимое им Домотканово, к Дервизам. Конечно, финское взморье – это славно, но все же природа средней России была ему намного ближе. Недаром дочь художника О. В. Серова вспоминала: «Несмотря на то, что в Финляндии у нас на даче было очень хорошо, папа ужасно скучал по русской деревне и мечтал купить себе небольшой участок в средней полосе России».
В Домотканове он продолжает работу над иллюстрациями басен Крылова, вновь берется за начатый ранее портрет местной учительницы М. Д. Шеламовой, заинтересовавшей его «хорошим русским лицом».
Наблюдая за играми молодых, Серов и сам испытывает желание «тряхнуть стариной». Н. Я. Симанович-Ефимова вспоминала: «Прекрасная тихая, солнечная осень. В такие дни чувствуешь, как хороша жизнь и как благородна она бывает. И вот Серов не утерпел – в веселом настроении присоединился к нашей игре в городки в боковой аллее, где стволы лип загораживали ноги зрителей от летящих по земле палок, сделал несколько сильных и метких ударов, „разбил город“ и почувствовал себя плохо».
Не задерживаясь более в Домотканове, он уехал в Москву.
Из Москвы в первой декаде сентября Серов пишет письмо В. Ф. Нувелю, опять касаясь волнующего его балета Дягилева: «Да, да, по всей вероятности, Сергей Павлович решил-таки по-своему, как мы с Нижинским не отговаривали, – пригласить Кшесинскую. Как-никак, на мой взгляд, это – позор. Во-первых, при всех гимнастических достоинствах она не артистка. Во-вторых, она Кшесинская – это тоже кое-что…
Уж нет ли здесь желания иметь близость и дела с так называемыми сферами, то есть с великими князьями, и т. д. и т. д.
Все это весьма печально и отбивает охоту у меня, по крайней мере, иметь какое-либо касательство к балету, к которому имею некоторую привязанность…»
В заключение письма – и о собственном настроении: «Погодка-то круто изменилась – холодно, довольно скверно и вообще не очень что-то весело».
Примерно в это время Серов показался лечащему врачу Д. Д. Плетневу. Беспокоило сердце. Сделали рентгеновский снимок, и врач, изучив его, мрачно насупился, советовал бросить курить, не налегать на работу. Очевидно, он предупредил Серова, что его «сердечные дела» обстоят далеко не лучшим образом. Рентгеновское исследование, как позднее рассказал Плетнев корреспонденту газеты «Раннее утро», показало развитие склероза аорты, и потому, признал врач, «печальной развязки можно было ожидать ежеминутно».
Очевидно, Серов сознавал всю меру грозящей ему опасности, и это не могло не влиять на его настроение. По воспоминаниям матери, встретившись с сыном в Москве (до этого они виделись летом в Ино, в Финляндии), она заметила в нем перемены: «Во всей фигуре выражение покорности судьбе, угрюмый взгляд и снова кошмарный вопрос: „А как умер отец? Расскажи…“» Серов, без сомнения, знал, что грудная жаба (стенокардия) у него болезнь наследственная: от нее умер и отец, и, по некоторым данным, дед с отцовской стороны.
Однако, оправившись от прихватившей его в начале сентября болезни, он энергично берется за разного рода творческие и организационные дела. В отсутствие отдыхавшего в Биаррице И. С. Остроухова Серову приходится в одиночку отбивать новые атаки гласных Московской городской думы на совет Третьяковской галереи. Совет обвиняют и в плохом хранении картин, и в неверной закупочной политике. Через газету «Утро России» Серов в беседе с ее сотрудником считает нужным ответить на все эти обвинения. «Да разве мы обязаны говорить, – касается он закупочной стороны деятельности совета, – почему, на основании каких мотивов мы приобретаем ту или другую вещь?.. Раз мы нашли, что вещь хороша, достойна быть помещенной в Третьяковской галерее, то мы и стараемся ее приобрести».
Сообщая об этих нападках Остроухову и отсылке ему почтой газетных вырезок на эту тему, Серов также упоминает в письме, что совместно с А. П. Боткиной занимались перевеской некоторых картин в залах галереи.
Его тянет в «свет», и он посещает генеральную репетицию «Живого трупа» в Художественном театре. В тот вечер на спектакле присутствовали члены семьи Л. Н. Толстого и видные деятели литературы и искусства – В. Я. Брюсов, М. Н. Ермолова, С. В. Рахманинов, Л. В. Собинов… В спектакле был занят артистический цвет театра, ранее Серов рисовал многих из них – И. М. Москвина, В. И. Качалова, К. С. Станиславского.
Не исключено, что именно тогда Серов договорился со Станиславским о работе в ближайшее время над новым его портретом и вскоре, в перерыве между репетициями, написал его – «пастель большого художественного очарования», как оценил этот портрет И. Э. Грабарь.
С одной из своих последних моделей, Марией Самойловной Цетлин, у Серова установились дружески-доверительные отношения, и художник даже признается ей в некоторых особенностях своего характера. «Когда я здоров совершенно, – упоминает он в письме, отправленном в конце сентября, – то я охотно готов расстаться с жизнью, так сказать, но как только нездоров, то совершенно даже наоборот. Весь этот месяц болел и кис, теперь ничего, оправился и опять принялся за писание портретов кабинетного размера».
Помимо портрета Станиславского он имел в виду портрет выступавшего в Художественном театре А. А. Стаховича, который в спектакле «Живой труп» играл роль князя Абрезкова. Актером Стахович, орловский помещик, отставной генерал и пайщик Художественного театра, стал лишь в последние годы жизни.
Серов в это время, словно предвидя приближение рокового конца, стремился увидеть многое, везде побывать. Он посещает не только Художественный театр, но и театр миниатюр «Летучая мышь», где дают шуточное представление «Похороны живого трупа». Один из современников, театральный критик Н. Э. Эфрос, вспоминал: «Не раз я видел его на развеселых собраниях в артистическом кабачке „Летучей мыши“, которую Серов любил, даже тратил иногда свое время на рисование плакатов-карикатур для украшения кабачка».
А на следующий день его можно видеть на «вечере пластических танцев», устроенном в Московской консерватории последовательницей Айседоры Дункан Э. И. Книппер-Рабинек. Либо на показе последних женских мод в ателье московской художницы и модельера Н. П. Ламановой в сопровождении лекции ее французского коллеги Поля Пуаре. Это зрелище Серов смотрел вместе с И. Э. Грабарем, и о том, что оба они получили от него «огромное наслаждение», Игорь Грабарь извещал в письме Александру Бенуа.
По свидетельству Сергея Саввича Мамонтова, Серов еще весной 1911 года начал писать цветными карандашами портрет Надежды Петровны Ламановой. Затем, в связи с отъездом за границу и Ламановой, и самого Серова, сеансы прекратились и возобновились только осенью.
Последние дни октября отмечены началом работы над портретом княгини П. И. Щербатовой, супруги московского коллекционера князя С. А. Щербатова, о чем Серов извещает М. С. Цетлин: «Пишу в настоящее время княгиню Щербатову, портрет коей должен быть не хуже „Орловой“ – такова воля господ заказчиков, да…»
Любитель художеств князь Сергей Александрович Щербатов когда-то учился живописи в Мюнхене. По возвращении в Россию через И. Э. Грабаря сблизился с кругом художников, объединенных «Миром искусства», начал покупать их картины. Особенно ценил он Врубеля. К Серову, как очевидно из написанной в эмиграции мемуарной книги «Художник в ушедшей России», Щербатов особой симпатии не питал. Желание запечатлеть облик Полины Ивановны, как излагает историю портрета Щербатов, возникло у самого Серова, и это свое желание Серов через Остроухова передал ему.
«За сеансами, – вспоминал С. А. Щербатов, – когда Серов приступил к портрету жены, он мне гораздо больше понравился. Он стал добродушнее, проще, уютнее, по-товарищески острил и, что меня обрадовало, не только мило, но серьезно, без малейшей обидчивости, со мной советовался и даже выслушивал критику… К жене он относился с явной симпатией, любуясь моделью и, видимо, желая распознать в разговорах ее нутро (с моделями Серов много разговаривал: „А то лицо маской становится, а так глаз – живой“, – говорил он)…»
Отдыхая от портретов, Серов берется сделать монументальную роспись столовой в особняке Носовых на Введенской площади. Сюжет ее навеян греческими мифами – «Диана и Актеон» по мотивам «Метаморфоз» Овидия. В поисках композиции он делает множество эскизов.
Напряженными поисками отмечена и подготовительная стадия работы над портретом княгини Щербатовой. Модель позирует то сидя, то стоя у перил лестницы, то с рукой, возложенной на мраморную вазу. Последний вариант наконец удовлетворил и самого князя. «Я верил, – вспоминал Щербатов те дни в их особняке, когда Полина Ивановна в дымчатого тона шелковом платье позировала возле большой мраморной вазы екатерининской эпохи с золоченой бронзой, – что Серов сделает хорошую вещь, и как было не сделать хорошо, раз натура так много подсказывала…» Князь ностальгически умиляется всей гаммой «красок платья, золотых волос, белоснежных плечей и рук, нежного румянца лица, нитей жемчугов и вазы нежно-абрикосового тона с золотом. Все вместе было восхитительно красиво, равно как и поющие линии фигуры в этой позе».
Свое внимание к П. И. Щербатовой Серов делил с сеансами в доме Гиршманов. Ему хотелось сделать еще один портрет Генриетты Леопольдовны. Прежний, у зеркала в будуаре, ныне казался ему несколько манерным. Хотелось сделать что-то более близкое к великим образцам, классически ясное. Серов сам руководил выбором костюма Генриетты. Остановился на наряде в восточном стиле: свободно ниспадающее платье, синий тюрбан на голове. Предложил ей сесть в кресло, облокотясь рукой о его спинку и полуобернувшись к нему.
Генриетта была послушна, и с ней, в отличие от княгини Щербатовой, художнику легче достичь взаимопонимания.
– Вот так! – похвалил он найденную позу и шутливо добавил: – Чем я не Рафаэль, чем вы не Мадонна?
Подобно некоторым работам Рафаэля, он решил заключить пастельный портрет в овал.
Той осенью, незадолго до смерти, Серова навестил самый близкий ему из учеников, художник Николай Ульянов. Сидели у рабочего стола. Серов перебирал фотографии, сделанные с некоторых его картин и портретов. Остановил взгляд на «Иде Рубинштейн». Признался: «Одно могу сказать – рисовал я ее с большим удовольствием… Не каждый день приходится делать такие находки… Да и глядит-то она куда? – в Египет…»
Его внимание привлекает фотография с портрета присяжного поверенного Турчанинова, и он протягивает ее собеседнику со словами: «Вот такие лица мне ближе всего. Писать таких – мое настоящее дело!»
Стоит напомнить, что Александр Николаевич Турчанинов был симпатичен Серову не только внешне, но и взглядами, убеждениями. Из реплики художника ясно: была бы его воля, он бы писал только таких. Но часто сама жизнь, необходимость работать ради «хлеба насущного» вынуждали его писать иных людей, кто был ему не только малосимпатичен, но и, временами, неприятен.
Потом в беседе с учеником он вспоминает Дягилева, и если раньше, по замечанию Нестерова, Дягилев был для Серова солнцем, то теперь он видит на этом солнце и пятна: «Сергей Павлович – человек с глазом. Второго такого не сыщешь… Подумать – сколько наворотил этот человек и сколько в нем самом наворочено. Много в нем хорошего, а еще больше плохого, отвратительного. Более чем кого бы то ни было я ненавижу его и, представьте, люблю!»
О том, что он считает в Дягилеве «плохим, отвратительным», Серов по свойственной ему деликатности говорить не стал.
Ульянов замечает, как много курит Серов, одну папиросу за другой. «Зачем курю? – с вызовом отвечает Серов на укоряющий вопрос Ульянова. – Ха! Доктора запретили, а я курю… Что хотите брошу, только не это».
Ульянов с горечью думает, что Серов тяжело болен и оставаться дома с мыслями о смерти ему нельзя. Предлагает проехаться, например, в театр, и Серов тут же соглашается. Смотрят водевили, и после спектакля Серов упрашивает спутника поехать куда-нибудь еще. Но Ульянову не хочется беспокоить поздним своим возвращением знакомых, у которых он временно остановился, и он с болью в сердце отказывает Серову в этой просьбе.
В эти дни Серова тянет в компании, где собираются приятные ему люди, – артисты, художники, и кабаре «Летучая мышь» – одно из таких мест. В начале ноября там чествовали артистку М. М. Блюменталь-Тамарину в связи с 25-летием ее служения сцене. Собралось немало артистов Художественного театра – Леонидов, Москвин, Лужский, из поэтов – Брюсов, художники – Жуковский, Добужинский. Остроухов привез гостившего в Москве Анри Матисса. Было шумно, весело, в общую беседу пытались втянуть и Серова. Он, как обычно в большом обществе, предпочитал наблюдать за всем молча, с сочувственной улыбкой.
Тогда же, в конце ноября, Серов присутствовал в Художественном театре на репетиции новой постановки «Гамлета». Как-то после репетиции одна из артисток театра предложила подвезти его домой. Серов согласился и, называя свой адрес, мрачновато пошутил: «Только не спутайте. Ваганьковский переулок, а не Ваганьковское кладбище».
Этот ноябрьский день почти ничем не отличался от предыдущих. Первый визит Серов делает к Щербатовым. Княгиня вновь принимает свою привычную позу – с рукой на мраморной вазе. Она, без сомнения, очень хороша, и фигура превосходная, но как замкнуто ее лицо – словно через руку, положенную на мраморную вазу, ей передается холод камня.
От Щербатовых – к Красным Воротам, где особняк Гиршманов. Здесь работать ему приятнее. В отличие от Щербатовой лицо Генриетты полно жизни.
– Скоро закончим, – обещает он, прощаясь с ней.
По пути домой думает: не напоминает ли ее лицо одну из моделей Энгра?
Дома застает дочь Владимира Дервиза Машу. Она учится в Училище живописи, ваяния и зодчества, дружит со старшей дочерью Серова Ольгой.
– Как дела? – приветливо спрашивает ее. Маша пожимает плечами:
– Ничего нового.
– Да ну? – недоверчиво усмехается Серов. – Так уж невесело?
– Нет уж! – с задором отвечает Маша. – На днях веселились у знакомых. Устроили маскарад, танцевали…
Наконец вернулась домой Ольга к радости ожидавшей ее Маши. Заглянув к отцу, дочь увидела, что он задумчиво сидит на диване.
– Ты что, папа, загрустил?
Серов, взглянув на нее, выдал ответом плохое настроение:
– Да разве просто так объяснишь! Жизнь, Оленька, в сущности, скучная штука, а умирать-то все равно страшно.
Она хотела сделать ему выговор за мрачные мысли, но в передней прозвучал звонок. Не желая ни с кем встречаться, Серов попросил дочь:
– Подожди открывать. Принеси из передней мою шубу и шапку. Мне надо уйти.
Быстро одевшись, выскользнул из квартиры черным ходом: предстоял еще сеанс на Тверском бульваре, в доме заказчицы, «модного мастера дамского платья» Надежды Петровны Ламановой. Через пару часов покинул и ее. Но домой пока не хотелось. Не заглянуть ли к врачу Трояновскому? Кажется, сегодня у него собираются любители перекинуться в карты. Скоротать вечер сгодится и это.
Там действительно оказалось двое гостей, приветствовавших нежданное, но приятное для всех появление Серова.
– Мы, Валентин Александрович, как обычно, по маленькой, – предупредительно сказал Иван Иванович Трояновский. – Составите компанию?
– Почему бы и нет? – отозвался Серов.
За игрой вдруг опять напомнила о себе боль в груди, и Серов пожаловался на сердце.
– Летом, – попытался успокоить его Трояновский, – мы отправим вас в Баден-Баден. Вернетесь богатырем.
– Какой из меня богатырь! – отшутился Серов. – Мне бы зиму как-то пережить.
Домой? Рано, решил он, распрощавшись с засидевшейся у Трояновского компанией. Можно и к Илье Семеновичу заглянуть. И там гость – хранитель галереи Третьяковых Николай Николаевич Черногубов, знаток иконописи, немало помогавший Остроухову в пополнении его уникальной личной коллекции икон.
Остроухов рассказывал о недавнем визите к нему Анри Матисса и о том, какое впечатление произвели на известного французского художника иконы.
– Он увидел в русской живописи возвышенную простоту, сказал, что она ближе ему, чем даже Беато Анджелико, – заметил Остроухов. – В ваших иконах, мол, чувствуется сердце художника, их писавшего. А потом, после визита в мой дом, и репортерам сообщил, что, глядя на иконы, нашел в душе русского народа несметные богатства.
– Ну, это он так, из вежливости, – чтобы сбить с Семеныча важность, подзадорил Серов.
– Ну уж, не скажи! – упрямо замотал головой Остроухов и тут же предложил отметить столь прекрасные слова рюмочкой доброго винца.
Разговор свернул на дела Третьяковской галереи, потом на музыкальные события, и Остроухов рассказал о недавно виденной в Большом театре постановке «Парсифаля» Вагнера с превосходным оркестром под управлением Артура Никиша. Но гордость удачливого собирателя заставила хозяина дома вновь вернуться к самой интересной для него теме:
– Я уж Николаю Николаевичу показывал, взгляни и ты. Остроухов протянул гостю несколько рисунков Репина и Виктора Васнецова, недавно пополнивших его коллекцию. Рассматривая их, Серов рассеянно заметил:
– Меня недавно опять мой врач Плетнев смотрел. Пришлось наведаться из-за болей в сердце. Признал, что состояние пациента неважное.
Серов бросил взгляд на Остроухова и, будто шутя, с улыбкой добавил:
– Так что, в случае чего, Илья Семеныч, ты уж не забудь про мое семейство. Сам знаешь, все же шестеро детей…
– Опять ты за старое! – недовольно пробурчал Остроухов. – Ты, помнится, однажды уже умирал.
– Да что с вами, Валентин Александрович, не давайте вы волю таким мыслям, – поддержал хозяина дома Черногубов.
И Серов устыдился.
– Помнишь, Илья Семеныч, Венецию, набережную Скьявони, где мы жили, историю с устрицами? – сказал он. – Как молоды мы были, и все было еще впереди.
– Как не помнить, славное было время! – согласился Остроухов.
В половине первого гости распрощались с хозяином, и Остроухов приказал своему кучеру развезти их по домам.
Проснувшись утром, Серов подумал, что сегодня опять надо ехать к Щербатовым и Гиршманам. Позвал няню, чтобы принесла в комнату младшую дочь, трехгодовалую Наташу. Любимица отца, озорница начала по обыкновению кувыркаться на кровати, заливисто смеялась. И вдруг опять сильно кольнуло сердце, и Серов, напрягая голос, позвал:
– Возьмите Наташу. Я встаю.
Когда няня унесла дочь, он все же сделал попытку подняться и опять почувствовал резкую боль в груди. Больше ничего сказать он не смог. Через пятнадцать минут, в начале десятого утра, Серов скончался от сердечного приступа.
Его внезапная кончина потрясла русское общество. Похороны были пышными, и на отпевании вместе с близкими друзьями присутствовали высокие официальные лица во главе с московским губернатором генерал-майором В. Ф. Джунковским.
Над его гробом и в прощальных газетных откликах было сказано немало хороших слов. Сподвижник по «Миру искусства» Д. В. Философов, отдавая дань памяти покойному, писал: «Мы потеряли не только замечательного художника, но и громадную моральную силу. Серов знал, как трудно примирить красоту с добром. Сам мучился их враждой, но уважал обе ценности, никогда не предавал одной во имя другой.
С его смертью художественная семья может распасться. Нет больше связующего звена, живого морального авторитета, перед которым одинаково преклонялись бы и старые, и молодые».
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников / Сост. вступ. ст., коммент. И. С. Зильберштейна, В. А. Самкова. T. 1–2. Л., 1971.
Валентин Серов в переписке, документах и интервью / Сост., вступ. ст., прим. И. С. Зильберштейна, В. А. Самкова. Т. 1. Л., 1985; Т. 2. Л., 1989.
Валентин Серов. Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство / Сост. Д. В. Сарабьянов, Г. С. Арбузов; вступ. ст. Д. Сарабьянова. Л., 1982.