Вячеслав Козляков
Василий Шуйский
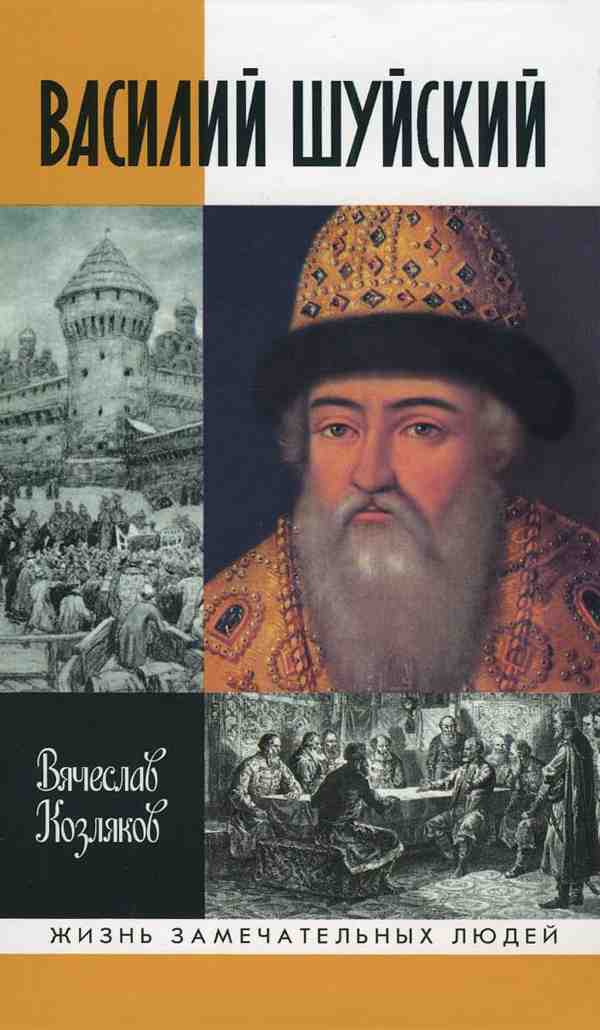
«Он представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера… и в своем падении сохраняет больше достоинства и силы духа, нежели в продолжение всей своей жизни»[1]. Эти пушкинские слова, сказанные про Василия Шуйского, лучше всего объясняют судьбу известного и неизвестного нам исторического героя. Кто он? Еще один царь Смуты? «Лукавый царедворец»? Или государь, первым принявший присягу своему народу и насильственно сведенный им с трона? В годы правления царя Василия Шуйского в начале XVII века гражданская война — первая в истории России — достигла своего апогея. Произошел раскол территории, как никогда раньше разгорелась социальная борьба, последовали походы обездоленных на Москву, появились новые самозванцы и многочисленные тушинские «перелеты», едва не была потеряна национальная святыня — Троице-Сергиев монастырь… Достаточный перечень, чтобы согласиться с приговором истории, не позволившей этому, действительно последнему, Рюриковичу на троне ни продолжить традицию правления предков, ни создать свою собственную династию.
Здесь можно было бы поставить точку, если бы не вспоминалось еще и другое. Заговорщик, свергнувший самозванца Лжедмитрия I, — это тоже он — пока еще боярин князь Василий Иванович Шуйский. И потом, в противостоянии с войском Ивана Болотникова, Лжедмитрием II и польско-литовскими наемниками, не царские ли силы сохранили столицу от разграбления, и не «царево ли Васильево осадное сиденье» стало вехой в создании потомственных вотчин русских дворян? Это уже оставшиеся без царя бояре впустили в Москву польско-литовский гарнизон и позволили разграбить и царскую казну, и государственные земли. Напротив, время царя Василия Шуйского, при всей его сложности, запомнилось еще и попытками кодификации права, принятием уложений о крестьянах и холопах. А его личная трагедия, обратившаяся в национальное унижение, когда сведенный у себя на родине с престола русский царь принужден был на Варшавском сейме 1611 года целовать руку заклятого врага, короля Речи Посполитой Сигизмунда III?.. Но прошло немного времени, и ведь те же современники вернули прах царя Василия Шуйского и с почестями перезахоронили его в Архангельском соборе Кремля, вместе с другими царями и великими князьями, раз и навсегда разрешив вопрос о месте этого правителя в русской истории.
Четыре столетия, прошедшие с того времени, не сделали понятной оценку противоречивого периода царствования Василия Шуйского в 1606–1610 годах. Современники, как им и полагается, были пристрастны, они даже придумали ему прозвища —
Словесные характеристики царя Василия Ивановича, которые остались в летописях и повестях, благоразумно вспоминать хотя бы не сразу, чтобы еще больше не утвердиться в неприятии Шуйского. По крайней мере, стоит хоть что-то рассказать про того человека, которого рисует автор «публицистической» повести о Смуте князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский: «Царь Василей возрастом мал, образом же нелепым, очи подслепы имея, книжному поучению доволен и в рассужении ума зело смыслен; скуп вельми и неподатлив; ко единым же к тем тщание имея, которое во уши ему ложное на люди шептаху, он же сих веселым лицем восприимаше и в сладость их послушати желаше; и к волхвованию прилежаше, а о воех своих не радяше»[2]. К сожалению, настоящего художественного портрета, а не пристрастного мемуарного отрывка о невысоком, подслеповатом старике, доверяющем одним волхвам и «ушникам», не сохранилось. Есть «парсуна» царя Василия Шуйского в «Титулярнике» — книге, созданной в 1672 году, шестьдесят лет спустя после его смерти[3]. В собрании Государственного исторического музея сохранился и другой портрет, на котором царь Василий выглядит как дородный русский боярин из костюмированной драмы эпохи театрального реализма[4]. Музейный портрет никак не соотносится с характеристикой князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, скорее наоборот — противоречит ей. Еще один графический портрет царя Василия Шуйского опубликован в Кракове в 1611 году в «Хронике Европейской Сарматии» Александра Гваньини, но он вообще является карикатурой, а не достоверным прижизненным изображением[5]. Словом, увидеть, как выглядел герой настоящей книги, практически невозможно.
С таким же ускользающим обликом князя Василия Шуйского встречаются историки и при изучении письменных текстов. Надо сначала разобраться в своеобразии средневековых русских летописей, сказаний, актов, разрядных книг, боярских списков и не пропустить что-либо важное. Но сделать это, особенно когда речь идет о биографии человека Московской Руси, можно, лишь идя от источника, «расспрашивая его», по выражению В. О. Ключевского, а не подверстывая источник под модные течения исторической антропологии и любых других исследовательских «практик», стремящихся превратиться в самодостаточные интеллектуальные упражнения. Жизнь князя Василия Шуйского проходила в пространстве боярских хором, разрядных шатров, воеводских дворов, кремлевских приказов, дворцов и церквей. Историк обязан составить свой путеводитель по той далекой эпохе и расшифровать ее язык, символику и этикет.
Например, одна короткая запись в разрядах или, наоборот, отсутствие такой записи очень много значили для любого служилого человека, в том числе князя Василия Шуйского. Почти вся ранняя коллективная биография князей Шуйских в книге построена на сведениях разрядных книг. Но что именно могут дать записи разрядов, в которых фиксировались воеводские и административные назначения? Для того, кто впервые встречается с текстом разрядных книг, они скорее всего покажутся малопонятным нагромождением незнакомых имен, в котором совершенно невозможно ориентироваться. Надо еще учесть, что существует несколько редакций разрядных книг, составлявшихся частными лицами, заинтересованными иногда в том, чтобы «подправить» историю задним числом в интересах своего рода[6]. Разрядные книги заполняли дела о местнических спорах бояр. Сам князь Василий Шуйский неоднократно отстаивал честь своих предков, скрупулезно выясняя, кому можно («вместно»), а кому нельзя («невместно») служить в одном с ним чине или выше его. С точки зрения человека, не знакомого с обычаями Московского царства, такие местнические дела легко принять за обычное во все времена соревнование личной спеси. Однако это будет глубочайшим заблуждением и непониманием того времени, в котором жил герой настоящей книги.
Лучшим литературным путеводителем по эпохе Смуты остается историческая драма Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» (1825). Как известно, Василий Шуйский тоже попал на ее страницы, более того, его образ является одним из ключевых. С разговора двух бояр, Воротынского и Шуйского, в Кремлевских палатах 20 февраля 1598 года начинается само действие «Бориса Годунова». Пушкин хорошо передает неприятие «природными князьями» узурпатора трона Бориса Годунова — «вчерашнего раба, татарина, зятя Малюты» (слова из монолога Шуйского). А сама тема принадлежности к «старой аристокрации» и «уединенного почитания славы предков» очень занимала Пушкина, судя по одному из набросков к предисловию «Бориса Годунова».
Если внимательно вчитаться в текст пушкинской драмы, то можно заметить, что Василий Шуйский более симпатичен автору, чем Годунов. Из уст царя Бориса звучит: «Противен мне род Пушкиных мятежный»; Шуйский же, наоборот, произносит: «Прав ты, Пушкин». Поэт писал о своих предках, выводя их на сцену в «Борисе Годунове», как он сам признавался, «
Историческая наука, хотя и была связана — в отличие от литературы — рамками научного повествования, тоже вынесла нравственный приговор Василию Шуйскому. Даже писать о нем на фоне царя Ивана Грозного или Бориса Годунова для историков всегда было почти неинтересно. Эта инерция восприятия
Василий Шуйский — один из отрицательных героев русской историографии XIX века. Классики русской исторической науки Сергей Михайлович Соловьев и Василий Осипович Ключевский писали о нем немало, но всегда без сочувствия. Как иначе можно было воспринимать Шуйского после приговора, вынесенного в специальном биографическом очерке другого известного историка Николая Ивановича Костомарова: «Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем… когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле»[8]. Добавил черных красок в облик «царя-заговорщика» В. О. Ключевский в «Курсе русской истории», повлиявшем не на одно поколение студентов Московского университета и читателей, интересовавшихся периодом Смуты. По его мнению, Василий Шуйский был «человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся»[9].
Правление Василия Шуйского считал «поворотным» периодом Смуты, связанным с «разрушением государственного порядка», Сергей Федорович Платонов. Автор «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.» — лучшего исследования той эпохи — писал о Шуйском как о «вожаке олигархов». С его избранием в цари, по мнению историка, восторжествовала «реакционная партия», а «несочувствие общества и ряд восстаний ниспровергли олигархическое правительство княжат»[10].
В начале XX века появилось обширное исследование Дмитрия Владимировича Цветаева, которое заставило читателя задуматься о более сложной и трагичной судьбе царя Василия Шуйского после сведения с трона. Для своей работы Д. В. Цветаев привлек большое число новых, в том числе польских источников, скрупулезным образом рассказав о пути царя Василия из Москвы под Смоленск и далее на Варшавский сейм и к месту своего заточения в Гостынском замке[11]. Тогда же были изданы обширные сборники дипломатической документации и «Акты времени правления царя Василия Шуйского»[12]. Но пришли другие времена, когда события вокруг царского трона в 1917 и 1610 годах стало просто опасно сравнивать.
Советская историография с господствующей парадигмой «классовой борьбы» и «крестьянских войн» при «феодализме» естественно была сосредоточена на разоблачении «царизма». Все усилия в изучении периода правления Василия Шуйского сосредоточились на «крестьянских выступлениях» под предводительством Ивана Исаевича Болотникова, в которых стали видеть высшую точку
«Отличился» царь Василий Иванович и в закрепощении крестьян — еще одной теме, находившейся в фокусе зрения советской историографии. Этот процесс был детально исследован в 1960–1970-е годы в монографиях и публикациях Вадима Ивановича Корецкого, нашедшего немало новых материалов о той эпохе. Была ли это новая летопись, или переписка тушинцев между собой, или какая-либо грамота, выданная от имени царя Василия Шуйского, все обязательно подверстывалось к теме «источников по истории восстания Болотникова». И так продолжалось до конца 1980-х годов. Только новейшие труды по истории Смутного времени Александра Лазаревича Станиславского и Руслана Григорьевича Скрынникова в полной мере показали неприменимость понятия «крестьянская война» к восстанию под руководством Ивана Болотникова[14]. Сложнее стали подходы историков к проблеме крестьянского закрепощения, которую невозможно понять без учета того, как менялись сами «феодалы».
Возможно, еще и поэтому таким одиноким оказался прорыв Глеба Владимировича Абрамовича к теме своей книги «Князья Шуйские и русский престол», вышедшей в свет лишь в начале 1991 года в издательстве Ленинградского университета[15]. Это была заветная работа почти отлученного когда-то от академического мира историка, создавшего ранее известный специалистам труд по проблемам поместного землевладения. Интерес к фигуре царя Василия Шуйского был для Г. В. Абрамовича почти что «краеведческим», учитывая корни историка, связанные с ивановской Шуей. Работа писалась «на пенсии», для души, поэтому она получилась скорее научно-популярной, чем исследовательской. Ее отличал объективный тон и рассмотрение истории нескольких поколений рода суздальских князей Шуйских (с приложением генеалогических таблиц). В книге Г. В. Абрамовича содержался хороший обзор основных событий царствования Василия Шуйского и действий рати «народного героя» князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.
На фоне появившихся в новейшей историографии исследований и публикаций, посвященных эпохе Лжедмитрия II[16], «польско-литовской интервенции в Россию»[17] и истории того же «восстания Болотникова»[18], стало как-то особенно очевидно, что у царя Василия Шуйского по-прежнему нет своей биографии. Несколько лет назад эту лакуну отчасти заполнил Р. Г. Скрынников. Впрочем, книга, названная «Василий Шуйский», не совсем точно вписывается в биографический канон, так как освещает в основном историю событий, которые были фоном жизни Василия Ивановича. К тому же она издана в массовой читательской серии, поэтому содержит упрощенный текст без всякого справочного аппарата[19].
Итак, восприятие Василия Шуйского связано с большой литературной и историографической традицией, берущей начало еще в XVII веке и окончательно оформившейся в пушкинскую эпоху. Практически все классики русской исторической науки вынесли ему свой приговор. Время правления царя Василия Шуйского попало еще и в советские «колодки» описания исторического прошлого. Сегодня в науке больше не существует прежних предубеждений относительно обстоятельств Смутного времени. Однако биографии его героев по-прежнему «замутнены», ускользают от современного понимания, обремененного актуальным политическим контекстом. Значимым же остается лишь то, что всегда интересовало людей: добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство. Такие прямые оппозиции могут даже оттолкнуть читателя, защищенного иронией и скепсисом. Но дело не столько в поучительности или занимательности биографии Василия Шуйского, сколько в так и не узнанной нами жизненной драме человека и правителя далекого века.
Князья Шуйские — «бедные родственники» Рюрикова дома. Нет, с точки зрения личного богатства у них было все в порядке — они неизменно входили в аристократическую элиту, благосостояние которой было обеспечено поколениями знаменитых воевод и администраторов. Однако их права наследственных владетелей Владимирского княжеского дома давно уже стали историческими воспоминаниями, а сами они превратились в слуг московских князей. Между тем счет прав у Рюриковичей, как и у других княжеских и боярских родов, велся по старшинству предков. Но и московские великие князья Калитовичи, и суздальские князья Шуйские возводили свой род к самому Александру Невскому. Правда, споры о происхождения князей Шуйских велись еще и при жизни царя Василия Ивановича. Впоследствии в XIX веке в трактовке генеалогии суздальских князей разошлись такие историки, как H. М. Карамзин и С. М. Соловьев. Первый доверял родословцам, в которых писали о начале «рода суздальских князей и новгородцких»: «Князь Ондрей Ярославич сын Ярославу был, брат меньшой великому князю Олександру Ярославичю Невскому. А князь Ондрей Ярославич был на великом княженье на Володимерском. А у князя Ондрея дети: князь Юрьи, бездетен, Васильи. А княж Васильевы дети Олександр бездетен, да Костянтин. А у князя Костянтина 4 сыны: Ондрей бездетен, да князь Дмитрей был на великом княжении на Навгородцком, а женился у него князь великий Дмитрей Иванович Донской; третий Борис, четвертый Дмитрий Одноок»[20]. С. М. Соловьев, напротив, воспринял версию, шедшую от самого царя Василия Шуйского, включившего указание на своего «прародителя» Александра Невского в грамоту о царском избрании: «Учинились мы на отчине прародителей наших царем и великим князем на Российском государстве, которое и даровал Бог прародителю нашему Рюрику, и потом в продолжение многих лет, до прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского, на Российском государстве были прародители мои, а потом на Суздальский удел отделились, не отнятием, не по неволе, но как обыкновенно большие братья на большие места садились»[21]. Согласно этому счету происхождение суздальских князей велось непосредственно от сына Александра Невского — городецкого князя Андрея Александровича, тоже занимавшего владимирский великокняжеский стол[22]. Более того, Андрей Александрович был старшим братом московского великого князя Даниила Александровича, а значит, с точки зрения царя из рода князей Шуйских, права суздальских князей на общее наследство Рюрикова дома были даже основательнее, чем у династии московских великих князей.
У царя Василия Шуйского были и другие генеалогические основания претендовать на занятие русского престола. Его предок, великий князь Дмитрий Константинович, сидел на Владимирском княжении еще в 1360–1362 годах. Сын князя Дмитрия Константиновича, Василий Кирдяпа, в 1364 году привез из Орды новый ярлык на Владимирское великое княжение для своего отца, но тот отказался. К этому времени великий князь Дмитрий Константинович выбрал не войну, а мир с московскими князьями. В 1366 году его дочь Евдокия Дмитриевна стала женой московского великого князя Дмитрия Ивановича[23]. Про брак суздальской княжны с Дмитрием Донским сообщают многие родословцы. В итоге князь Дмитрий Константинович оказался великим князем Нижегородского княжества. Власть суздальских князей распространялась на столы в Суздале, Нижнем Новгороде и Городце, пока в 1392 году ярлык на Нижегородско-Суздальское княжество не был выкуплен в Орде сыном Дмитрия Донского — великим князем Василием I.
Родоначальником ветви князей Шуйских, к которой принадлежал будущий царь Василий Иванович, стал князь Василий Дмитриевич Кирдяпа. Происхождение княжеской фамилии часто связано с названием родовых владений. Однако не стоит торопиться записывать город Шую, находившуюся в Суздальской земле, в число тех земель, которыми изначально владели князья Шуйские (откуда и могла пойти их фамилия). Вопрос о том, входила ли Шуя в число особых столов Суздальского княжения, не ясен. Как писал историк Ю. В. Готье о Шуйском уезде, «нельзя с достаточной достоверностью решить, имел ли этот уезд какое-нибудь отношение к Шуйским князьям, которые владели вотчинами и в других частях бывшего Суздальского княжения»[24]. И действительно, старинное название Шуи — Борисоглебская слобода. Местная легенда приписывает «переименование» города митрополиту Алексию, проезжавшему в Орду[25]. «Шуя» — левая сторона, а понятие левого, противопоставлявшееся более почетной правой стороне — «десной», имело еще дополнительный смысл злого и неправого. Даже в конце XVII века, когда создавалась «Бархатная» родословная книга, в главе, посвященной суздальским князьям, отдельная статья о князьях Шуйских называлась «Род Кирдяпиных»[26].
Князья Шуйские еще более упрочили свое родство с великими московскими князьями в начале XV века. Князь Александр Иванович Брюхатый, внук Василия Кирдяпы, в 1414 году отъехал к великому князю Василию Дмитриевичу в Москву. Спустя некоторое время он «взял мир с великим князем», который выдал за него дочь Василису. Так в 1418 году на суздальском престоле появился великий князь Александр Иванович Шуйский. Однако вскоре после женитьбы он умер. Самостоятельная история Нижегородско-Суздальского великого княжения окончательно прекратилась, и там стали править великокняжеские наместники. А. Е. Пресняков писал об этом в книге «Образование Великорусского государства», опубликованной в 1918 году: «В среде суздальского княжья еще долго жили традиции былой независимости, былого политического значения и владения. Сыну великого князя Василия Дмитриевича придется считаться с новыми вспышками суздальских притязаний, которыми сильно осложнена домашняя московская смута, да и позднее суздальские княжата — наиболее яркие представители „удельных“ княжеских традиций. Но суздальские притязания потеряли реальную почву самостоятельной исторической жизни и деятельности восточной украйны Великороссии и остались только пережитком в настроениях и местном влиянии княжат-вотчинников»[27].
Однако еще за сто лет до рождения будущего царя Василия Ивановича из рода князей Шуйских, около 1445 года, существовал, хотя и недолгое время, проект возрождения Нижегородско-Суздальского княжества. Представители этого рода князья Василий Юрьевич и Федор Юрьевич (последний и есть прямой предок царя Василия Шуйского) договаривались с московским великим князем Дмитрием Юрьевичем (Шемякой)[28]. Проект с восстановлением права распоряжения суздальских князей в родовых землях выглядит фантастичным. После падения независимости Нижегородско-Суздальского великого княжения в 1392 году[29] прошло уже более полувека. Но тогда, напомню, в русских землях распоряжались ордынские цари, поэтому ничто не могло помешать им устроить междоусобную борьбу в доме потомков князя Ивана Даниловича Калиты и столкнуть их с другими Рюриковичами. Скорее наоборот, в Орде всегда пытались применить излюбленный на востоке (и не только там) прием — «разделяй и властвуй». Когда-то московские князья с помощью Орды справились со своими соперниками в Твери. Вполне возможно, что суздальские князья хорошо усвоили тот урок и попытались использовать тот же прием в своих целях, а восстановление Суздальского княжения около 1445 года было связано именно с ордынским походом в Русскую землю.
Пересмотр территориальных приобретений московского великого князя, других князей и бояр в бывшем Суздальско-Нижегородском княжестве все же не случился. Недолгим было и пребывание Дмитрия Шемяки на московском столе. Но память об особом статусе суздальских князей, имевших права на самостоятельное княжение, продолжала держаться. И дело не только в докончании князей Шуйских с князем Дмитрием Шемякой, оформившем независимый статус Суздальского княжения в середине XV века (трактовка этого документа продолжает вызывать научные споры). Существовал еще более легитимный договор (докончание) 1449 года великого князя Василия II с городецким князем Иваном Васильевичем (родоначальником князей Горбатых), первым добровольно перешедшим на службу в Москву. Он представлял младшую ветвь рода суздальских князей, идущую от брата Василия Кирдяпы — князя Семена Дмитриевича. В этом документе речь уже не шла ни о каком суверенитете, московский князь Василий Темный был «господарем» для городецкого князя Ивана Васильевича, а также его братьев Александра Глазатого и Василия Гребенки, если бы они тоже захотели приобрести права служебного князя[30]. Такие ранние договорные отношения с московским великим князем проложили князьям Горбатым дорогу в элиту Русского государства. На какое-то время они даже опережали своих старших сородичей.
У князей Шуйских еще во второй половине XV века оставался выбор — кому служить? Они предпочитали становиться служилыми князьями и наместниками в Пскове и Новгороде, представляя там интересы московского «господаря». Например, князь Василий Юрьевич Шуйский (тот самый, который едва не стал независимым суздальским князем) помог новгородцам в 1444 году отстоять крепость Ям, осажденную войсками Ливонского ордена. Видимо, он был в этот момент новгородским служилым князем. Василия Васильевича Гребенку-Шуйского (младшего брата Ивана Васильевича Горбатого) псковичи «приаша честно» на княжение в 1448 году, вопреки воле великого князя. При нем строилась одна из стен «на Крому», то есть в Псковском кремле. Он пробыл здесь семь с половиной лет, оставив по себе яркую память. Псковичи упрашивали его остаться у них княжить и дальше, но Василий Васильевич этого челобитья «не приа» и вынужден был под натиском московского великого князя перейти на службу в Новгород.
Целая полоса в жизни Пскова связана с именем младшего брата князя Василия Юрьевича — князя Федора Юрьевича Шуйского (еще одного несостоявшегося самостоятельного суздальского князя). В 1463 году он привел московское войско, с помощью которого защитил Псков от «немцев» и заключил перемирие между Псковом и Ливонским орденом. В псковских летописях сохранилась торжественная речь князя Федора Юрьевича Шуйского, обращенная к псковичам: «Мужи псковичи, отчина князя великаго, доброволнии люди, Бог жаловал, святая живоначалная Троица, князя великаго здравием с немцы оуправы взяли, а по своей воли, а нынеча на вашей чьти вам кланяюся». Псковичи не забыли эту помощь, и князь Федор Юрьевич Шуйский стал московским наместником в Пскове (там же стал служить его сын Василий). Князю Федору Шуйскому удалось сделать много больше, чем другим наместникам, для упрочения политических позиций московских князей в Псковской земле. На время его правления пришлась известная реформа управления, согласно которой в апреле 1467 года князь-наместник распространил московский контроль на 12 псковских пригородов (вместо семи, как было ранее). Однако со временем отношение псковичей к этому наместнику изменилось, что нашло отражение в летописях. Псковичи жаловались, что князь Федор Юрьевич Шуйский «нача на Псков к великомоу князю засилати грамоти, а сам надо Псковом творячи сил но». Кончилось все тем, что наместник сложил на вече свое крестное целование. Посадник и его свита решили проводить князя Федора Юрьевича Шуйского до рубежа, но князь ограбил их, как только покинул пределы Псковской республики, которой он так долго служил.
Впрочем, справедливости ради надо сказать, что натянутые отношения у псковичей с «княжими людми» существовали почти всегда, независимо от того, какого князя они нанимали себе на службу. Дело доходило до открытых мятежей и кровавых стычек, в которых гибли как люди князя, так и жители Пскова. Великий князь Иван III разрешал псковичам менять неугодных им князей, говоря по этому поводу: «Кои будет вам наместник от меня вам князь надобе, я вам не стою». Договор Ивана III с Псковской республикой предусматривал именование его «царем всеа Русии и всего Пскова», а такое подчинение было дороже амбиций служебных князей. Кроме того, помощь Пскова, исторически враждовавшего с новгородцами, понадобилась тогда, когда Иван III начал свой поход на Новгородскую республику[31].
Князья Шуйские сыграли заметную роль в насильственном захвате Новгорода московскими князьями. Когда поздней осенью 1477 года великий князь Иван III появился со своим войском под стенами Новгорода, город должен был защищать князь Василий Васильевич Гребенка Шуйский (бывший псковский наместник). К этому времени он около двух десятилетий был служилым князем в Новгороде, и именно ему выпала печальная участь «сложить целование» Новгороду 28 декабря 1477 года, что стало прелюдией падения новгородской независимости[32]. Интересно, что под Новгород принять участие в осаде вместе с войском великого князя Ивана III пришел и едва вступивший в права княжеского наместника в Пскове князь Василий Васильевич Бледный (предок Скопиных-Шуйских). Он наместничал в Пскове несколько лет между 1477 и 1480–1481 годами, но оставил о себе дурную славу. «Бяше тогда князь в граде Пскове, токмо не воискыи, грубый, прилежаша многому питию и граблению, а о граде не внимаше ни мала», — писал псковский летописец.
Нелицеприятные оценки псковских патриотов становятся понятны, если вспомнить, что речь идет о самом напряженном периоде взаимоотношений московских великих князей с Новгородом и Псковом. Во всяком случае, великий князь Иван III продолжал доверять управление своим наместникам из рода князей Шуйских. Еще одним таким заметным администратором стал князь Василий Федорович Шуйский. Он начал службу в Пскове еще при своем знаменитом отце князе Федоре Юрьевиче Шуйском. Сразу после падения новгородской независимости в 1480–1481 годах он был наместником в Новгороде. В 1491 году состоялось его возвращение в Псков. Здесь, на службе, князь Василий Федорович Шуйский и умер в 1496 году. В Новгороде же началась карьера его сына Василия Васильевича Немого — боярина и опекуна малолетнего Ивана Грозного[33].
Так представители старшей и младшей ветвей князей Шуйских заложили прочную традицию связей своего княжеского рода с этими городами. Сначала они многократно защищали новгородские и псковские земли в ходе войны с Ливонским орденом, а потом наместничали там долгое время. Существование близких по родству и самостоятельных в своих действиях князей Рюриковичей в Новгороде и Пскове было своеобразным историческим компромиссом. Лишь с освобождением от ордынского ига суздальские князья окончательно становятся служилыми князьями у своих московских родственников. Они уже не имели таких прав суда и управления, которыми обладали ранее. Конечно, их почетные права генеалогического старшинства среди многих других княжеских родов соблюдались и обеспечивали им представительство в Боярской думе великого князя «всея Руси». Сохранялась также известная преемственность с прошлыми порядками, поэтому князья Шуйские еще долго будут связаны своими службами с Новгородом и Псковом[34].
Успехи великого князя Ивана III, ставшего государем «всея Руси», изменили взаимоотношения внутри княжеского дома Рюриковичей. Генеалогические споры о старшинстве ветвей князей Шуйских и московских великих князей уже не возникали, но и отменить их навсегда было невозможно. Почва для взаимного подозрения и недовольства все равно оставалась. «Старина» и предания о братском союзе князей Рюриковичей, конечно, являлись важным основанием службы князей Шуйских московскому великокняжескому дому. Однако червь гордыни подтачивал корни родословного дерева бывших владетелей Суздальского княжества. Случалось и так, что князья Шуйские, как сухие листья этого родословца, отпадали от корня, бежали «в Литву» (как это было около 1536 года с Иваном Дмитриевичем Губкой — племянником боярина Василия Немого). Другие князья Шуйские, не исключая самого будущего царя Василия Ивановича, неоднократно попадали в опалу и обвинялись в «измене».
Живший в начале XVI века прадед царя Василия Шуйского, князь Михаил Васильевич Шуйский, не был так заметен, как другие представители рода. Этому есть свое объяснение. Во-первых, его отец князь Василий Юрьевич умер очень рано, еще в 1446 году. Во-вторых, у него имелся старший брат Василий Васильевич Бледный, который и пользовался преимуществами службы. Если в процитированном выше отзыве псковского летописца об этом князе (особенно в части «прилежания к питию») была хоть часть правды, тогда становится понятным, почему вперед пошли представители другой ветви князей Шуйских, происходившие от князя Федора Юрьевича Шуйского (младшего брата князя Василия Юрьевича). Однако в том-то и состояла суть местничества, что оно не давало быстро захиреть различным ветвям аристократических родов, поддерживая их «коллективное» старшинство при любых обстоятельствах.
Про службы князя Михаила Васильевича Шуйского известно совсем немного. В 1495 году он был в свите Ивана III во время похода на Новгород. Кроме этого, он служил переславским наместником в 1508–1514 годах и у него была не очень-то почетная обязанность «стеречь» в Переславле-Залесском детей князя Андрея Углицкого. Хотя, с другой стороны, это явное свидетельство доверия к нему великого князя Василия III. Не случайно автор первой биографии князей Шуйских Г. В. Абрамович отозвался о прадеде будущего царя Василия Ивановича как о «единственном» из этого княжеского рода, кто «тянулся ко двору». «Характерно, — писал историк, — что любили двор и все потомки Михаила Васильевича»[35].
Дети Михаила Васильевича — Иван
Князь Василий Васильевич Немой Шуйский служил новгородским наместником в 1500–1506, 1510–1514 и 1517 годах, участвовал в походах и дипломатических переговорах с Литвой и Ливонией. Уже в 1512 году он получил чин боярина. О деловых качествах князя Василия Васильевича достаточно говорит назначение его наместником после взятия Смоленска в 1514 году. В сохранившемся приговоре Боярской думы 1520 года с имени князя Василия Васильевича начинался перечень членов Боярской думы. Но, надо думать, свое первенствующее положение он завоевал еще раньше, не случайно в походах его назначали первым воеводой Большого — самого главного — полка. О доверии великого князя Василия Ивановича к своему боярину достаточно говорит упоминавшееся назначение его опекуном малолетнего Ивана IV. Младший брат князя Василия Васильевича, Иван Васильевич Шуйский, получал заметные назначения уже с 1502 года. В 1512 году он был наместником в Рязанской земле (Перевитеске), а в 1514–1518 годах продолжил традицию службы князей Шуйских наместниками Пскова. Как и брат, в 1520–1522 годах он стоял во главе наместничьего управления Смоленска, назначался воеводой, а в 1526 году вел переговоры с Литвой. Но самой важной для великого князя Василия III оказалась поддержка князьями Василием и Иваном Шуйскими решения о его женитьбе на Елене Глинской в январе 1526 года. Жена князя Ивана Васильевича княгиня Авдотья была свахой на этой свадьбе[36].
Князья Иван и Андрей Михайловичи Шуйские в силу своего молодого возраста должны были еще заслужить место в окружении великого князя, но даже в этом случае у них было мало шансов завоевать такое же расположение, какое испытывал к их троюродным братьям великий князь Василий III. И они сделали свой выбор, решив, что им лучше служить брату великого князя Юрию Дмитровскому, у которого они скорее могли сделать боярскую карьеру. Первая попытка перехода князей Андрея и Ивана Шуйских на службу к князю Юрию Ивановичу, возможно, датируется 1528 годом. Однако в самолюбивом стремлении выделиться в роду князей Шуйских они как-то забыли, что в Русском государстве уже ничего не делалось без воли великого князя. Василию III не понравилось настойчивое стремление Шуйских отъехать к его младшему брату. Посланники великого князя отправились к князю Юрию Дмитровскому с требованием выдать князей Шуйских, после чего «князь великий же положи на них опалу свою, велел их, оковавши, разослати по городом»[37]. Из опалы их выручило только поручительство двадцати восьми князей и детей боярских, вынужденных уплатить огромный заклад в две тысячи рублей.
Сразу после смерти великого князя Василия III в декабре 1533 года князь Андрей Михайлович Шуйский снова втянулся в политическую игру вокруг удельного князя Юрия Ивановича Дмитровского. В этот момент родной дядя малолетнего наследника престола Ивана IV становился одним из возможных претендентов на власть. Летописи по-разному рассказывают об этих событиях. Но как бы их ни рассматривать, бесспорно, что князь Андрей Михайлович Шуйский оказался ключевой фигурой заговора в пользу брата великого князя — Юрия Дмитровского. «Летописец начала царства великого князя Ивана Васильевича» излагал мотивы действий князя Андрея Шуйского, стремившегося примкнуть к более сильному, как тогда казалось, правителю: «Князь великий еще молод, а се слова носятся про князя Юрья; и только будет князь Юрьи на государстве, а мы к нему ранее отъедем, и мы у него тем выслужим»[38]. Вдова Василия III Елена Глинская, как известно, сумела удержать власть в своих руках и подавить мятежи. Воскресенская летопись пишет даже о том, что именно князь Андрей Шуйский выдал планы заговорщиков овдовевшей великой княгине. Но если это так, то Елена Глинская весьма странно «отблагодарила» Андрея Михайловича — заключением в тюрьму. Другой брат — Иван Михайлович Шуйский — оказался в 1534 году на отдаленном Двинском наместничестве. Так молодые братья князья Шуйские получили запоминающийся урок и наказание за попытку вмешательства в дела престолонаследия в московском великокняжеском доме. Освободиться из темницы князь Андрей Шуйский смог только после смерти Елены Глинской (едва ли не насильственной, как были уверены окружающие) в 1538 году[39].
Дед царя Василия Ивановича Шуйского вообще-то оставил по себе недобрую память. В 1539 году князь Андрей Михайлович оказывается по традиции рода псковским наместником. Его старший брат князь Иван Михайлович Шуйский в то же время наместничал в Новгороде. Назначение князя Андрея Михайловича в Псков принесло псковичам невиданное горе. Вышедший из темницы князь Шуйский как будто попытался выместить все накопившееся зло на жителях Пскова. Ни до, ни после псковский летописец не писал так определенно о наместнике как о «злодее» — тут было $се: и вымогательство в громадных размерах, и невиданные подношения псковских гостей, и даровой труд мастеровых. Управитель, видимо, уничтожил всякую экономическую свободу, умудрившись в мирное время поднять цену на хлеб. Передача суда в руки самих псковичей (летописи упоминают о начале реформы местного управления) была воспринята как избавление от грабительского наместничьего суда: «А князь Андреи Михаилович Шюискои, а он был злодеи; не судя его писах, но дела его зла на пригородех, на волостех, старыа дела исцы наряжая, правя на людех ово сто рублей, ово двести, ово триста, ово боле, а во Пскове мастеревыя люди все делали на него даром, а болшии люди подаваша к нему з дары; а и хлеб тогда был дорог. И князь великии Иоан Васильевич пожаловал свою отчину Псков, дал грамоту судити и пытати и казнити псковичам разбойников и лихих людей; и бысть Пскову радость, а злыа люди разбегошася, и бысть тишина, но на не много и паки наместницы премогоша, а то было добро вел ми по всей земли»[40]. Кончилось все удалением князя Андрея Михайловича Шуйского из Пскова. Впрочем, печальные лавры псковского злодея он должен разделить со вторым наместником, служившим с ним какое-то время, — князем Василием Ивановичем Репниным-Оболенским[41]. С этого времени, между прочим, и могли сложиться какие-то доверительные отношения между родами князей Шуйских и Репниных-Оболенских, подкрепленные впоследствии родственными связями.
Другие братья, князья Василий Васильевич Немой и Иван Васильевич Шуйские, оказались на вершине власти в Русском государстве в 1530–1540-х годах. Это хорошо известная эпоха борьбы боярских группировок между собой в малолетство Ивана Грозного, и поведение князей-Рюриковичей Шуйских стало едва ли не нарицательным для обозначения кризиса, постигшего страну[42]. Боярская партия князей Шуйских боролась за власть с другой боярской партией — князей Бельских, находившихся в близком родстве с правящей династией (они были «сестричичи» — сыновья двоюродной сестры молодого великого князя Ивана Васильевича). Один из пленных, бежавших из Русского государства, описывал в Литве в августе 1534 года великую рознь бояр между собой, наступившую сразу после смерти великого князя Василия III. Бояре, по его словам, уже несколько раз едва «ножи не порезали» друг друга[43]. Когда великий князь Иван Васильевич, будущий Грозный царь, подрос, то он создал целую мифологию своего продвижения к абсолютной самодержавной власти. И князья Шуйские для него стали нарицательным именем для характеристики ненавистного боярского самовластия. Рассказать о своем трудном детстве, в котором оказались повинны исключительно князья Василий и Иван Шуйские, царь Иван Грозный сумел очень талантливо, представив себя брошенным сиротой во дворце собственного отца: «И тако князь Василей и князь Иван Шуйские самоволством у меня в бережении учинилися и тако воцаришася; а тех всех, которые отцу нашему и матери нашей были главные изменники, ис поимания их выпускали и к себе их примирили. А князь Василей Шуйской на дяди нашего княжь Андрееве дворе учал жити, и на том дворе сонмищем июдейским отца нашего и нашего дьяка ближнего Федора Мишурина изымав и позоровавша убили, и князя Ивана Федоровича Белского и иных многих в разные места заточиша; и на церковь вооружишася, и Данила митрополита сведше с митрополии, и в заточение послаша, и тако свое хотение во всем учиниша и сами убо царствовати начаша. Нас же со единородным братом моим, святопочившим Георгием, питати начаша яко иностранных или яко убожейшую чадь. Мы же пострадали во одеянии и в алчбе. Во всем бо сем воли несть; но вся не по своей воли и не по времени юности. Едино воспомянути: нам бо в юности детская играюще, а князь Иван Васильевич Шуйской, седя на лавке, лохтем опершися о отца нашего постелю, ногу положа на стул, к нам же не прикланяяся не токмо яко родителски, но ниже властителски, рабское же ничтоже обретеся. И такова гордения кто может понести?»[44]
Как не откликнуться на сиротские слезы, пролитые царем в первом послании к беглому князю Андрею Курбскому? Они вызвали сочувствие не у одного поколения историков. Здесь в нескольких предложениях рассказана вся история взросления будущего царя Ивана Грозного, вступившего на престол. И кто же, оказывается, больше всех препятствовал ранним проявлениям царского самовластия? Князья Шуйские! Упреки Ивана Грозного, возможно, были бы оправданы, но их автор превратился со временем в худшего тирана в отечественной истории. Оставшийся сиротой мальчик, великий князь, рос мстительным и злопамятным, чего не учли бояре, занятые своей междоусобной борьбой. Как писал автор биографии Ивана Грозного В. Б. Кобрин, «окружающие не только публично выражали малолетнему великому князю чувство покорности, но даже раболепно льстили ему, потакали любой детской прихоти… Но это были корыстные неискренние восхваления, а потому ребенок-государь часто чувствовал себя забытым и оскорбленным»[45]. Будущий царь видел и запоминал, как во дворец возвращались те, кого отправляла в ссылку его мать, великая княгиня Елена Глинская (напомню, что одним из них был дед царя Василия Шуйского — князь Андрей Михайлович Шуйский). Когда в 1537 году дядя великого князя Андрей Иванович Старицкий безуспешно пытался вмешаться в борьбу за власть и в итоге погиб в Москве, один из опекунов малолетнего князя Ивана Васильевича — старший из братьев Шуйских — едва ли не занял его место. Первый боярин Василий Васильевич Немой Шуйский породнился с семьей великого князя, взяв 6 июня 1538 года в жены Анастасию, дочь Евдокии — сестры великого князя Василия Ивановича и крещеного ордынского царевича Петра[46]. Он также переехал на кремлевский двор заключенного в темницу мятежного удельного князя. Расчет в свадьбе пожилого князя Василия Шуйского с молодой княжной был очевиден: ему хотелось утвердить своих потомков в правах старшинства в роде князей Шуйских, хотя возможно и другое — может быть, он задумывался о правлении во всем Русском государстве?
Трудно предположить, что семилетний ребенок, каким был тогда Иван IV, сумел самостоятельно разобраться во всех хитросплетениях политической борьбы. Скорее всего, у него были советники, рассказавшие мальчику обо всем так, как было выгодно им, а не князьям Шуйским. Кстати, именно на бывшем дворе Андрея Старицкого произошли события, связанные с казнью дьяка Федора Мишурина 21 октября 1538 года и упомянутые Иваном Грозным в процитированном первом послании князю Андрею Курбскому. Эта казнь[47] стояла в ряду других политических расправ — «поимания» князя Ивана Бельского и сведения с престола неугодного князьям Шуйским митрополита Даниила. Несколько дней спустя после расправы с великокняжеским дьяком князь Василий Шуйский умер, и партии суздальских князей надо было придумывать, как удержаться у власти.
События в великокняжеском дворце производили гнетущее впечатление на людей, посвященных в перипетии боярского правления. Бежавший в конце 1538 года за границу архитектор Петр Фрязин говорил в своих расспросных речах в Ливонии: «Как великого князя Василья не стало и великой княгини, а государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь… в земле Руской великая мятежь и безгосударство»[48]. С. Ф. Платонов в своем биографическом исследовании об Иване Грозном писал: «Действия Шуйских имеют вид дикого произвола, за которым не видать никакой политической программы, никакого определяющего начала. Поэтому все столкновения бояр представляются результатом личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политически организованных кружков. Современник по-своему определяет этот неизменный, своекорыстный характер боярских столкновений: „многие промеж их бяше вражды о корыстех и о племянех их; всяк своим печется, а не государьским, ни земским“»[49].
Слабая конструкция регентского совета, которую пытался создать перед смертью великий князь Василий Иванович, действительно стала рассыпаться с самого начала. После смерти великой княгини Елены Глинской власть несколько раз переходила из рук в руки то князей Шуйских, то князей Бельских. Иван Грозный не случайно больше всего запомнил оплошку боярина князя Ивана Васильевича Шуйского, дерзнувшего отдыхать в присутствии малолетнего правителя. Речь шла не столько о том, что князь Иван Васильевич Шуйский облокотился (по неосмотрительности, наверное) на великокняжескую кровать. После смерти брата он находился на вершине власти, пока летом 1540 года по настоянию нового митрополита Иоасафа не был снова освобожден князь Иван Федорович Бельский. Можно было бы снова говорить о восстановлении регентского совета, хотя даже формально этого не случилось. Летописец описывал реакцию князя Ивана Васильевича Шуйского: «И о том вознегодовал князь Иван Васильевич Шуйский на митрополита и на бояр учал гнев дрьжати, и к великому князю не ездити, ни з бояры советовати о государьских делех, ни о земскых, а на князя Ивана Бельского великое враждование имети и зло на него мыслити. И промежь бояр велик мятежь бысть»[50]. Все закончилось переворотом, осуществленным 3 января 1542 года Иваном Шуйским при поддержке своих сторонников в Москве и детей боярских из Владимира, где он находился на службе. И в этот раз снова присутствовали тайный арест, ссылка на Белоозеро, а затем и убийство «без великого князя ведома, боярьскым самовольством» князя Ивана Бельского. Началось единовластное правление князей Шуйских, и князю Ивану Васильевичу понадобились проверенные сторонники, которых он видел прежде всего в своих родственниках. Вперед пошли представители пребывавших в относительной тени старших ветвей рода князей Шуйских — князь Федор Иванович Скопин-Шуйский, а также братья Иван и Андрей Михайловичи Шуйские. При том, что никто из них лично уже не имел отношения к регентскому совету, создававшемуся великим князем Василием III. Для впечатлительного мальчика Ивана IV, подверженного мстительным инстинктам, придворная борьба стала символом боярского «самоволства» и «гордения», истреблять которые он стал очень рано. И начал именно с князей Шуйских.
Жертвой великокняжеского гнева прежде других стал князь Андрей Михайлович Шуйский. Именно по отношению к нему впервые был исполнен смертный приговор, вынесенный 13-летним Иваном Грозным. Трудно спорить с тем, что дед героя настоящей книги — будущего боярина и царя Василия Шуйского — действительно заслуживал наказания. По сообщению «Царственной книги», на такой шаг Ивана Грозного сподвигло стремление защитить от произвола князей Шуйских близкого к нему в тот момент Федора Семеновича Воронцова. Отвратительная сцена расправы с Воронцовым разыгралась прямо в присутствии молодого великого князя и нового митрополита Макария на заседании Боярской думы 9 сентября 1543 года. Между прочим, поставление книжника и высоконравственного новгородского архиепископа Макария во главе Русской церкви было одним из немногих положительных следствий переворота, произведенного князьями Шуйскими в 1542 году. Однако Макарий быстро перестал их устраивать (аналогичная судьба постигла митрополита Иоасафа), как только попытался вмешаться в боярскую рознь. Преследователи Федора Воронцова посмели оскорбить митрополита Макария, вступившегося за неугодного князьям Шуйским боярина, и даже разорвали на нем мантию. Великий князь вынужден был упрашивать (и упросил) князей Шуйских, чтобы те оставили жизнь Федору Воронцову: «И государь по Шуйских приговору велел Федора и сына его Ивана послати их на Кострому». Однако Иван Грозный навсегда запомнил уроки той истории и сделал свои выводы: «И тако ли годно за нас, государей своих, душу полагати, еже к нашему государьству ратию приходити и перед нами сонмищем июдейским имати и с нами холопу з государем ссылатися и государю у холопа выпрашивати?»[51]
Несколько месяцев спустя произошло событие, смысл которого трудно было бы понять, если бы мы не знали о многочисленных казнях, учиненных впоследствии Иваном Грозным. Злые и жестокие игры, которым он предавался в юности, стали предвестием террора, направленного на подданных и длившегося несколько десятилетий. Началом же всему была казнь возвысившегося первого боярина князя Андрея Михайловича Шуйского. Не случайно Иван Грозный постоянно возвращался к тому, чтобы обвинить князей Шуйских во всех возможных грехах в первом послании князю Андрею Курбскому и, возможно, еще в знаменитых приписках к «Царственной книге». В этой летописи тоже говорилось о казни боярина князя Андрея Михайловича Шуйского как наказании за «безчиние и самовольство» и «многие неправды», творимые боярами по отношению к «земле»: «…и великий государь велел поимати первосоветника их князя Андриа Шюйского и велел его предати псарям, и псари взяша и убише его». Летописец подобострастно завершил этот жутковатый рассказ нравоучительной сентенцией: «…и от тех мест начали боляре от государя страх имети». Но и этого оказалось мало анонимному редактору приписок к «Царственной книге» — возможно, самому Ивану Грозному, добавившему слова: «и послушание»[52].
Конечно, будущий царь Василий Шуйский должен был рано узнать о смерти деда. Историю эту передавали из уст в уста не в одной боярской семье. Так, князь Андрей Курбский не преминул напомнить в сочиненной в литовском изгнании «Истории о великом князе московском» о казни князя Андрея Михайловича Шуйского: «Он же сам повелел убити такожде благородное едино княжа именем Андрея Шуйского, с роду княжат суждалских»[53]. Однако князья Шуйские в годы правления Ивана Грозного никуда не исчезли из боярской элиты. Со временем сумел реабилитироваться перед царем брат казненного боярина — князь Иван Михайлович. Его сын князь Петр Иванович Шуйский стал одним из самых успешных воевод и близких приверженцев царя, добывавших ему славу под Казанью и в Ливонии (он погиб на службе в январе 1564 года). Клеймо сына изменника, казненного самим царем, не повредило карьере и князя Ивана Андреевича Шуйского. Более того, в апреле 1566 года отец будущего царя Василия Шуйского стал боярином и позднее даже возглавил Боярскую думу[54]. Время взросления его сыновей Василия, Андрея, Дмитрия, Александра и Ивана совпало с историческим поворотом в царствовании Ивана Грозного — опричниной.
Князь Василий Иванович Шуйский родился в 1552 году (7061-м по эре от Сотворения мира, принятой на Руси). Он принадлежал к тому поколению, которое появилось на свет во время славы, «бури и натиска» начала царствования Грозного. Василий был старшим сыном князя Ивана Андреевича Шуйского и княгини Анны Федоровны Шуйской. (К сожалению, неизвестно, из какого рода она происходила.) Отцу Василия первому пришлось испытать долю царского «холопа», чего добивался царь Иван Грозный, преследуя реальное и мнимое своеволие княжат и бояр. Так уже сын от отца должен был воспринять уроки покорности царской власти. Глядя на карьеру князя Ивана Андреевича Шуйского до определенного времени, нельзя даже представить его принадлежащим к роду, близкому к правящей династии потомков Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Более того, рассказывали почти античную историю о том, как он был спасен своим воспитателем («дядькой») от царского гнева после казни собственного отца, князя Андрея Михайловича Шуйского. Князь Иван Андреевич, если верить автору так называемого «Пискаревского летописца», воспитывался как пастух и крестьянин, а не князь-Рюрикович: «А как царь Иван повеле убита князя Андрея Михайловича Шуйского… а… князь Иван Андреевич в те поры был млад вельми. И дядька его взя да збежа с Москвы безвесно, да много лет пребываше с ним в нищете, укрывайся в Белоозерской стране, животину с ним пасяше и всякую страду страдаше. И не в кое время поеде царь Иван молитися к Троице в Сергиев манастырь. И тот дядька прииде в манастырь и почал бита челом царю государю о князе своем. И царь его пожаловал: на очи пустил и вотчину ему отца его и животы велел отдати; а дядьку пожаловал вельми за то»[55].
Служебное старшинство еще долго принадлежало не сыновьям и внукам казненного боярина, а другим представителям рода князей Шуйских. В числе доверенных людей молодого царя Ивана Грозного был боярин князь Иван Васильевич Шуйский и его сын, тоже боярин, князь Петр Иванович Шуйский, участвовавший во взятии Казани и ставший одним из первых воевод покоренного края. Высокое положение при царском дворе занимал также князь Федор Иванович Скопин-Шуйский. Когда в 1550 году царь Иван Грозный выбрал тысячу «лутчих слуг» и испоместил их под Москвою, князь Иван Андреевич Шуйский (отец нашего героя) был записан всего лишь в третью статью детей боярских, получивших по 100 четвертей (в первых двух статьях получали соответственно 200 и 150 четвертей). Рядом с его именем в третьей статье среди князей суздальских был записан и представитель самой «слабой», по определению С. Б. Веселовского, ветви суздальских князей — князь Петр Иванович Барбошин, чье прозвище происходило от слова «барбоша» — «бестолковый болтун»[56].
Имена князей Шуйских продолжают встречаться в источниках во время крутых исторических поворотов, впрочем иногда снова в раду тех, кто сопротивлялся воле царя, как это случилось во время знаменитого происшествия при царском дворе в 1553 году. Тогда царь Иван Грозный во время тяжелой болезни пытался заставить бояр присягнуть своему малолетнему сыну царевичу Дмитрию[57]. Параллель между событиями двадцатилетней давности, когда умирал великий князь Василий III, была очевидной. Как и тогда, возникли разговоры о передаче власти кому-то из удельных князей, на этот раз двоюродному брату царя великому князю Владимиру Андреевичу Старицкому. Первыми присягнули царевичу Дмитрию те, кто входил в самый ближний круг советников находившегося в тяжелой болезни царя Ивана Васильевича. Возвысившиеся после брака царя Ивана с Анастасией Романовной родственники царицы бояре Захарьины должны были в новейшем политическом раскладе (в случае царской смерти) получить первенство в регентском совете. Поэтому когда к присяге стали приводить членов Боярской думы, то один из ее первых бояр, князь Иван Михайлович Шуйский, не участвовавший в деятельности так называемой «Избранной рады», отказался присягать. В приписке к «Царственной книге», которую исследователи по-разному датируют временем рубежа 1560–1570-х годов, так говорилось об этом: «И боярин князь Иван Михайлович Шуйский учал противу государевых речей говорити, что им не перед государем целовати не мочно; перед кем им целовати, коли государя тут нет»[58]. Очень дипломатичные, надо сказать, слова, выдающие если не хитрость, то некие интересы суздальских Рюриковичей, конечно уже не связанные с претензией на власть. Неизвестно, в какой мере автор приписок следует точной канве событий при передаче истории «мятежа» в начале марта 1553 года. Слова, сказанные князем Иваном Михайловичем, если они действительно прозвучали, надо воспринимать не как прямое сопротивление воле царя Ивана Грозного. Старший брат казненного князя Андрея Михайловича Шуйского должен был сделать вывод об опасности таких речей. Как известно, царь расправился впоследствии с князем Владимиром Андреевичем Старицким и многими его сторонниками, но ни князь Иван Михайлович Шуйский, ни другие князья Шуйские не пострадали. Можно согласиться с оригинальным объяснением этого известия польским исследователем Иеронимом Гралей, предложившим «трактовать слова Шуйского дословно — как проявление ущемленной гордости Рюриковича и представителя думы», то есть как местническую претензию в борьбе за влияние на царя с князьями Мстиславскими и Воротынскими[59].
Со времени начала самостоятельного правления Ивана Грозного такая «охранительная» линия поведения князей Шуйских стала едва ли не главной в столкновении их интересов с другими князьями Рюриковичами и Гедиминовичами, а также с успешными при царском дворе родами Захарьиных-Юрьевых-Романовых (а впоследствии еще и Годуновых). Так, например, отец князя Василия Ивановича, князь Иван Андреевич Шуйский, в июле 1557 года подвергся царской опале в местническом споре со своим заклятым родственником и ближайшим врагом князем Иваном Дмитриевичем Бельским (мужем дочери князя Василия Васильевича Шуйского): «И государь писал ко князю Ивану Белскому, что он на князя Ивана Шуйского в том опалу свою положил для того, что он к нему не поехал и речи не говорил»[60]. На следующий год после этой опалы князь Иван Андреевич Шуйский служил в Дедилове одним из воевод Украинного разряда. Его же местническому оппоненту князю Ивану Дмитриевичу Бельскому поручалось командование Большим полком. Судя по всему, князь Иван Андреевич был молод и горяч, так как еще в 1559 году он служил рындою, то есть в чине, с которого обычно начиналась служба членов самых аристократичных семейств. Хотя он и был упомянут первым «рындою з болшим саадаком» в царском полку, другой князь Шуйский — Петр Иванович — возглавлял бояр, отправившихся в поход «с царем» из Москвы «по крымским вестем».
Начавшаяся Ливонская война позволила князю Ивану Андреевичу «реабилитироваться» и продвинуться выше по «лествице» чинов. Он назначался первым головою в Большом полку воеводы князя Ивана Федоровича Мстиславского, ходившего в январе 1560 года «в немецкую землю к городу Алысту и к иным порубежным городом». В 1563 году — году великого «полоцкого взятья» — князь Иван Андреевич Шуйский находился в «царевом и великого князя полку» и был на виду у Ивана Грозного. Он был первым царским «спалником», его имя открывало перечень «князей и детей боярских, которым спати в стану». Более того, князя Ивана Шуйского назначали головой становых сторожей и «прибирали в ясоулы», то есть поручали ему руководить охраной государева полка и обозов («кошей»)[61]. После завоевания Полоцка его старший родственник и один из воевод Большого полка боярин князь Петр Иванович Шуйский был назначен туда воеводой. На обратном пути из Полоцка царь остановился в Луках Великих, там же на воеводстве был оставлен князь Иван Андреевич Шуйский. Хотя в разряде Полоцкого похода нет сведений о личном распоряжении царя, очевидно, что воеводское назначение в такой ключевой пункт, лежавший на дороге из Полоцка в Москву, было заметной ступенью для князя Ивана Андреевича. Он оставался великолуцким воеводой до 13 марта 1565 года[62], пережив там смерть воеводы князя Петра Ивановича Шуйского, погибшего в неудачном походе от Полоцка к Орше в 1564 году. В Луках Великих князь Иван Андреевич должен был узнать и о небывалых изменениях в Московском государстве, связанных с учреждением опричнины.
Еще в очень ранних летах князь Василий Иванович Шуйский мог слушать рассказы старших о временах Казанских и покорения Астрахани, далеких походах Ливонской войны. Но учреждение опричнины — это уже событие, оставшееся в его собственной памяти. Начинавший многое понимать княжич должен был вместе со взрослыми пережить метаморфозы царя Ивана Грозного. Как можно судить из летописного рассказа о создании опричнины, пресловутый царский гнев в теплом декабре 1564 года обрушился на всех без исключения — и на великих, и на малых, и на сильных, и на убогих. Уезжавший из Москвы в Троицу необычный царский поезд задержали вскрывшиеся в неурочное время реки. Все такие природные предзнаменования прочитывались и запоминались надолго, но необычным поздний троицкий поход был еще и потому, что царь Иван Грозный как будто навсегда покидал Москву, взяв казну и окружив себя только самыми приближенными боярами и отрядом охраны из избранных дворян и детей боярских. 3 января 1565 года в Москве узнали про опалу, наложенную Иваном Грозным на все государство, «опричь» тех, кого он сам выбрал служить ему. Так началась опричнина, которую многие историки, особенно после работ С. Ф. Платонова, считали и считают направленной прежде всего против боярства и аристократических княжеских родов.
История князей Шуйских во время «опричнины» является как раз исключением из этого придуманного правила. Давно уже С. Б. Веселовский написал, что «в историографии пользуется незаслуженным успехом мнение, будто бы целью учреждения опричнины, и едва ли не главной, было уничтожение старого землевладения бывших удельных княжат». Сам историк показал, что история рода князей Шуйских в опричнину опровергает этот тезис (несмотря на то, что сведений об их родовых землях не сохранилось). С. Б. Веселовскому представлялось «несомненным, что отношения царя Ивана к суздальским князьям были вполне личными и что Суздаль и Шуя были взяты в опричнину вовсе не для того, чтобы искоренить родовые гнезда суздальских княжат, а по другим причинам, которые нам неизвестны»[63]. Однако разночтения продолжаются. Так, например, Р. Г. Скрынников видел направление «главных ударов» опричнины именно «против суздальской знати: князей Суздальских-Шуйских и их родичей». В. Б. Кобрин, подробно разобрав аргументы, приводимые Р. Г. Скрынниковым в обоснование этого тезиса, показал, что это «не совсем так»[64]. Если принять взгляд на борьбу с суздальскими князьями как на цель опричнины, то очень трудно объяснить пожалование князя Ивана Андреевича Шуйского в боярский чин в 1566 году. За все годы опричнины отец князя Василия Ивановича Шуйского сделает такую карьеру, что по ее окончании окажется во главе Боярской думы. Остальные князья Шуйские тоже оставались в ближнем кругу царя Ивана Васильевича.
Первое серьезное назначение князя Ивана Андреевича Шуйского было сделано в «береговой разряд» 1565 года, когда ему поручили возглавить сторожевой полк в Серпухове. Помимо всего прочего это означало, что он должен был все-таки подчиниться царской воле и смириться с тем, что его имя будет записано в разрядных книгах «ниже» князя Ивана Дмитриевича Бельского, возглавлявшего в том же разряде Большой полк в Коломне. Однако уже во время осеннего царского похода, «как царь крымской приходил к Волхову», князь Иван Андреевич был назначен воеводою полка левой руки. Впрочем, это не помешало ему затеять новые местнические споры с боярином князем Петром Михайловичем Щенятевым[65], назначенным воеводой передового полка, и боярином князем Иваном Ивановичем Пронским, возглавлявшим сторожевой полк[66]. Главный воевода князь Иван Дмитриевич Бельский не упустил возможности пожаловаться на своего прежнего местнического обидчика, отказавшегося проводить полковой смотр: «И ко государю писал боярин князь Иван Дмитреевич Бельской и все бояре и воеводы, что князь Иван Шуйской списков детей боярских не взял, а сказал, что ему в левой руке быти невместно для князя Петра Щенятева»[67]. Участников болховского похода наградили золотыми, но вряд ли среди награжденных был князь Иван Андреевич.
Г. В. Абрамович, назвавший князя Ивана Андреевича Шуйского «ловким царедворцем», заметил, что тому многое сходило с рук. Но, может быть, здесь сказывалось и значение рода князей Шуйских, которое не смогла отменить никакая опричнина. По мере того как уходило старшее поколение бояр и князей Шуйских (его дядя, князь Иван Михайлович, умер в 1559 году), освобождалась дорога в боярский чин для князя Ивана Андреевича. Уже 12 апреля 1566 года он упоминается среди бояр, поручившихся за князя Михаила Ивановича Воротынского[68]. Правда, в чуть более позднем по времени документе — Приговорной грамоте 2 июля 1566 года, решавшей судьбу перемирия с Великим княжеством Литовским и продолжения войны с Ливонией, — имени князя Ивана Андреевича нет среди членов Боярской думы. Он записан первым среди «царева и великого князя дворян первой статьи»[69]. Значительно ниже в этом перечне членов Государева двора, принимавших участие в соборных заседаниях, оказались имена князя Ивана Петровича Шуйского (сына боярина князя Петра Ивановича Шуйского, погибшего в 1564 году) и Василия Федоровича Скопина-Шуйского (его отец, боярин князь Федор Иванович Скопин-Шуйский, умер в 1557 году). В 1567 году князь Иван Андреевич Шуйский был назначен служить воеводой в Дорогобуже. Хотя он опять не назван боярином, но вторым воеводой в Дорогобуже был служивший в боярском чине Иван Васильевич Меньшой Шереметев; значит, это назначение вполне соответствовало статусу князей Шуйских. Одновременно в Ржеву Владимирову был назначен первым воеводой боярин князь Иван Иванович Пронский. Поскольку запись об этом помещена в разрядной книге следом за распределением воевод в Дорогобуже, получается, что хотя бы один местнический спор предшествующего года — с князьями Пронскими — князь Иван Андреевич Шуйский все же выиграл. В 1569 году князь Иван Андреевич служил уже смоленским воеводой, но из-за истории с побегом его слуги в Литву это воеводство в порубежных городах окончилось тем, что князя Шуйского вернули в Москву[70]. Царь Иван Васильевич не стал наказывать своего боярина за такую мелочь. Как оказалось, у него были другие планы.
Звезда князя Ивана Андреевича Шуйского взошла после расправы с князем Владимиром Андреевичем Старицким и его сторонниками (в числе которых был боярин князь Иван Иванович Турунтай-Пронский). Царь Иван Грозный взял боярина князя Ивана Андреевича Шуйского в свой мрачно знаменитый новгородский поход в конце декабря 1569 — начале января 1570 года. По разрядной записи, князь Иван Андреевич возглавил немногочисленную коллегию бояр при царе, куда кроме него вошли еще князья Петр и Семен Даниловичи Пронские и князь Василий Андреевич Сицкий[71]. Не во время ли этого похода князь Иван Андреевич настолько близко познакомился с пресловутым Малютой Скуратовым, что согласился женить своего сына Дмитрия на одной из его дочерей? Там же, кстати, был и другой будущий зять Малюты Скуратова — Борис Годунов, служивший рындою с копьем в полку царевича Ивана Ивановича. Так в страшное время расправы с вольными новгородцами завязались непростые узлы будущих связей родов Шуйских и Годуновых.
Из других служб князя Ивана Андреевича в период опричнины известно его участие в борьбе с крымцами в 1570 году, когда он возглавлял «береговой разряд» в Кашире и был первым воеводой сторожевого полка (здесь уже записан в чине боярина). В майском пожаре 1571 года погиб его давний соперник князь Иван Дмитриевич Бельский. После его смерти и многих опричных казней значение князей Шуйских в царской Думе только увеличивается. Весной 1572 года князь Иван Андреевич Шуйский прямо упоминается в разрядах как боярин «ис опришнины», в то время как другой князь, Иван Петрович Шуйский, вошел в земскую Боярскую думу[72]. Правда, очень скоро опричная Дума прекратила свое существование вместе с самой опричниной. В зиму 1572 года, когда был организован «поход государя царя и великого князя под Пайду, в Ливонскую землю, и взятье пайдинское», рядом с царем были глава земской Думы князь Иван Федорович Мстиславский и, очевидно, бывший первый боярин опричной Думы князь Иван Андреевич Шуйский. Нетрудно предположить, что и это был не предел его карьеры при дворе Ивана Грозного… Однако царский поход 1572/73 года стал последним для воеводы, сложившего голову в боях под Коловерью. Как писал автор «Пискаревского летописца», воеводу князя Ивана Андреевича Шуйского «не сыскаша: безвестно несть»[73], а это значит, что его дети даже не знали, как поминать своего отца — среди убитых или среди живых. Странная, надо сказать, судьба человека, пришедшего ниоткуда (вспомним рассказ о спасении его «дядькою» и белозерском детстве) и ушедшего в никуда…
К моменту гибели отца княжичу Василию Ивановичу Шуйскому было около двадцати лет. У него были младшие братья Андрей, Дмитрий, Александр и Иван. Всем им со временем предстояло войти большим кланом в состав Государева двора. Первые службы братьев князей Василия и Андрея Шуйских начинают фиксироваться в разрядных книгах примерно с 1574 года. На свадьбе Ивана Грозного с Анной Васильчиковой в начале 1575 года состоялся «дебют» молодых князей Василия, Андрея и Дмитрия в придворной службе. Князь Иван Петрович Шуйский тоже был на этой свадьбе и «на место государя звал», также он упомянут среди тех, кто «за столом сидели»[74].
Сыновья князя Ивана Андреевича — Василий и Андрей — начинали службу так же, как и их отец, в рындах (оруженосцах) «с болшим саадаком»{1}. Это были самые привилегированные назначения для молодых людей: остальные рынды — «с копьем», «з другим саадаком», «с рогатиною» — писались после и, следовательно, были ниже по статусу. Братья князья Шуйские служили спальниками и головами у ночных сторожей, в частности, во время серпуховского похода 1574 года и царского похода 1576 года в Калугу против крымского царя Девлет-Гирея. Князь Василий Иванович входил в состав «удельного двора» Ивана Московского (как назвал себя Иван Грозный после провозглашения царем крещеного татарина Симеона Бекбулатовича). Казус с добровольным отказом Ивана Грозного от власти в пользу касимовского царя, происходившего из династии Чингизидов, до сих пор выглядит труднообъяснимым шагом. Грозный, несомненно, играл, вовсе не собираясь навсегда оставаться обычным московским князем. Но у этой игры было серьезное продолжение, связанное с организацией «особого двора». «Иванец Васильев» не зря просил нового «великого князя Симеона Бекбулатовича», чтобы тот «ослободил людишек перебрать». Князья Шуйские, вместе с князьями Трубецкими и Годуновыми, оказались среди тех, кого позвали в ряды новой знати, приближенной к царю Ивану Васильевичу.
Князья Василий и Андрей Шуйские участвовали в «немецком» походе 1577 и ливонском 1579 годов[75]. К этому моменту уже возникла необходимость уточнить местническое положение молодых княжичей. Челобитчик на боярина князя Ивана Петровича Шуйского — боярин князь Василий Юрьевич Булгаков-Голицын — затронул их в деле, начатом 8 ноября 1579 года: «А князь Иван Петрович Шуйской в своем роду ровен третьему сыну князь Иванову Андреевича Шуйского. А князь Петр Щенятев в розрядех государевым жалованьем князя Ивана Андреевича Шуйского был болши. А князь Петр Щенятев отцу ево князю Юрью меншой брат. И государь бы его, князя Василья, пожаловал, велел его челобитья записать; а как служба минетца, и государь бы его пожаловал, велел ему дать суд в отечестве на князя Василья на князь Иванова сына Ондреевича Шуйского»[76]. Так местническое дело отца почти пятнадцатилетней давности должно было стать аргументом в спорах нового поколения князей Шуйских с князьями Голицыными. Князю Василию Ивановичу Шуйскому пришлось отвечать как самому старшему из братьев, и не только. У него было еще и генеалогическое старшинство в своем роду. Несмотря на более раннее пожалование в бояре, князя Ивана Петровича Шуйского считали равным всего лишь князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому. В боярской выписке по челобитной князя Михаила Никитича Одоевского на князя Василия Ивановича Шуйского 13 июля 1581 года писали: «А по лествице в родстве своем князь Иван Петрович таков, каков княж Иванов сын Ондреевича Шуйского князь Дмитрей. А князь Михайла Одоевской по счету менши князя Олександра Ивановича Шуйского (четвертого сына князя Ивана Андреевича —
То, что князь Василий Иванович Шуйский был уже у всех на виду, подтверждает его участие в качестве «дружки» на свадьбе царя Ивана Грозного с Марией Нагой осенью 1580 года. Вторым дружкой был любимец царя Богдан Яковлевич Бельский. Молодой княжич Шуйский даже несколько потеснил Бориса Федоровича Годунова. Годунов был царским дружкой на предшествующей свадьбе царя с Анной Васильчиковой, на новом же торжестве он довольствовался ролью «дружки царицы». Поэтому у будущего правителя и родственника царевича Федора могли уже появиться основания для ревности в искании царской милости. Хотя Борис Годунов должен был быть удовлетворен пожалованием его в боярский чин в сентябре 1580 года, в разрядной книге было отмечено, что «были на государеве радости по государеву указу во всех чинех, с месты»[78].
Царский дружка князь Василий Иванович Шуйский был на этой свадьбе не один, а вместе с женой, княжной Еленой Михайловной Репниной-Оболенской. О времени его женитьбы, к сожалению, почти ничего не известно. Обычно жену князя Василия Шуйского считают дочерью известного боярина князя Михаила Петровича Репнина, казненного в 1564 году[79]. Как рассказывал князь Андрей Курбский, причиной казни стал отказ гордого князя надеть потешную маску и быть царским шутом[80]. (В свадебном разряде 1580 года «князь Василья Ивановича Шуйсково княиня Олена», бывшая «свахой у государя», названа дочерью князя Михаила Андреевича Репнина[81]. Но по родословным росписям у князя Андрея Васильевича Репнина известен только один сын Александр, который был примерно одного возраста с князем Василием Шуйским. Очевидно, в свадебный разряд вкралась ошибка[82].) Брачный союз с дочерью казненного боярина выглядит нелогичным, особенно если учесть, что другой брат — князь Дмитрий Иванович — был женат на дочери Малюты Скуратова. Возможно, сказывались какие-то давние связи князей Шуйских и Оболенских, служивших вместе псковскими наместниками, но это не более чем предположение. Неизвестно также, сколько времени был женат князь Василий Иванович Шуйский на княжне Елене Михайловне Репниной-Оболенской и почему их брак прекратился. Во всяком случае, английский посол Джильс Флетчер, побывавший в Русском государстве в 1589 году, отмечал, что все четыре брата князья Шуйские «молодые люди и холостые»[83]. Детей у князя Василия Ивановича не было, и это дало основание исследователям для предположений о разводе. Отсутствие упоминаний о вкладах Василия Шуйского по своей первой жене в Новодевичий и Троице-Сергиев монастыри (где есть вклады по другим княгиням из рода Шуйских) тоже очень показательно.
Год 1581-й прославил князей Шуйских под Псковом. Обороной города от польско-литовского войска во главе с королем Речи Посполитой Стефаном Баторием руководил боярин князь Иван Петрович Шуйский. Именно его умелые ратные действия спасли Псков от отторжения, а Московское государство от сокрушительного поражения в Ливонской войне. Заключенное Ям-Запольское перемирие 5 января 1582 года, хотя и заставило царя Ивана Грозного расстаться с надеждой на овладение ливонскими городами, позволило сохранить как сам Псков, так и возвращенные «Литвою» Великие Луки и Себеж. После такого успеха, подаренного царю Ивану Грозному, князь Иван Петрович Шуйский становится одним из самых близких его советников.
Князь Василий Иванович Шуйский в 1581 году также получил повышение. Он был впервые назначен главным воеводой Большого полка «берегового разряда», а его брат князь Андрей Иванович Шуйский командовал передовым полком. Андрей Иванович сумел хорошо проявить себя на ратном поприще, отстояв Орешек от наступления шведского войска во главе с Якобом Делагарди в сентябре-октябре 1582 года. Третий из братьев, князь Дмитрий Иванович, носил высокий дворцовый чин кравчего, пожалованный ему после «повышения» Бориса Годунова в бояре.
Столкновение царя Ивана Грозного со своим сыном царевичем Иваном Ивановичем 9 ноября 1581 года, приведшее к гибели наследника престола, оказалось поворотным моментом в судьбе не только правящей династии Рюриковичей, но и князей Шуйских. Значимыми становились новые династические расчеты, согласно которым преемником царя Ивана Грозного на престоле должен был стать царевич Федор. Характер царевича Федора, сторонившегося мирских забот еще при жизни брата царевича Ивана, внушал опасения по поводу его способности править. И только сам Иван Грозный, у которого 19 октября 1582 года родился еще один сын, царевич Дмитрий, не давал разгораться борьбе за влияние на будущих наследников.
Вскоре князь Василий Иванович Шуйский должен был испытать, что означала царская опала. Трудно сказать, связано ли это со страстями у трона. В 1582/83 году его по неизвестной причине арестовали и затем отдали на поруки младшим братьям. Р. Г. Скрынников склонен видеть в этом наказание молодому княжичу за «честолюбие, изворотливость и ум»[84], однако источники не дают оснований доя подтверждения или опровержения этой догадки. Одновременно боярин князь Иван Петрович Шуйский снова был отправлен в Псков. Настроение Ивана Грозного, видимо, менялось быстро, поэтому царский гнев был кратковременным, и дело не завершилось более серьезным образом. Напротив, в тот момент царь Иван Грозный усиленно каялся и рассылал по монастырям синодики для поминания людей, казненных по его приказу. В 1583 году князя Василия Ивановича Шуйского вернули из опалы, и он снова был назначен в «береговой разряд», правда, воеводой полка правой руки. Но это не было ущемлением его местнических прав, ибо Большим полком командовал сам боярин князь Федор Иванович Мстиславский, чье первенство никем не оспаривалось[85].
Смерть царя Ивана Грозного, случившаяся 18 марта 1584 года, в одночасье изменила расстановку политических сил. Все задержавшиеся «на старте» честолюбцы, которыми Иван Грозный умело манипулировал, ринулись вперед, оказавшись без многолетнего патрона. Новый царь Федор Иванович казался слишком слабым для тех, кто привык повиноваться одному взгляду тирана. Что случится дальше, никто не знал, очевидно было только, что призрак «боярского своеволия», с которым так долго сражался Иван Грозный, снова возвращался. Именно с этого момента можно отсчитывать время исторического противостояния Бориса Годунова с князьями Шуйскими (и не ими одними), завершившегося грандиозной Смутой в Московском государстве.
Так же как когда-то при малолетнем великом князе Иване Васильевиче, был образован некий регентский совет для ведения дел после смерти самодержца. В него вошел и князь Иван Петрович Шуйский. Об этом согласно свидетельствуют как русские летописцы, так и иностранные наблюдатели. В перечне регентов встречаются еще имена первых бояр князя Ивана Федоровича Мстиславского, Никиты Романовича Юрьева и Бориса Федоровича Годунова. Совет был создан самим царем Иваном Грозным, а цели, которые при этом преследовались, назывались разные: «дабы их, государей наших, воспитали и со всяцем тщанием их царского здравия остерегали» («Повесть, како отомсти», «Иное сказание»); «приказал правити по себе великия Росии царство державы своея и сына своего… Феодора в самодержателстве… умудряти» (Хронограф редакции 1617 года). К сожалению, на русских авторов слишком повлияли последующие события Смутного времени. Из этих источников трудно понять, кто и какую роль играл в регентском совете, что стояло за декларацией о его создании[86]. Англичанин Джером Горсей, рассказывая об этой своеобразной четверобоярщине, кажется, вернее других называет состав «правительства», созданного «по воле старого царя». Во главе его был поставлен Борис Годунов, ставший впоследствии «лордом-правителем», а рядом с ним были князь Иван Мстиславский, князь Иван Шуйский и Никита Романович: «Они начали управлять и распоряжаться всеми делами, потребовали отовсюду описи всех богатств, золота, серебра, драгоценностей, произвели осмотр всех приказов и книг годового дохода; были сменены казначеи, советники и служители во всех судах, так же как и все воеводы, начальники и гарнизоны в местах особо опасных. В крепостях, городах и поселках особо значительных были посажены верные люди от этой семьи; и таким же образом было сменено окружение царицы — его сестры. Этими мерами он (Борис Годунов. —
На фоне такого определенного свидетельства малоубедительным выглядит описание событий, произошедших после смерти Ивана Грозного, сделанное имперским послом Николаем Варкочем. В его известии, записанном пять лет спустя, в 1589 году, говорилось о том, что царь Иван Грозный вообще исключил Бориса Годунова из числа своих душеприказчиков, «ни словом не упомянул» его и «не назначил ему никакой должности». Эта версия увлекла Р. Г. Скрынникова, построившего гипотезу о желании царя Ивана Грозного развести своего сына царевича Федора с Ириной Годуновой. Другой известный историк этой эпохи В. И. Корецкий тоже писал, что «Шуйские широко использовали против Годунова это завещание». Однако стоит все же согласиться с А. А. Зиминым, считавшим версию Николая Варкоча «недостоверной» из-за ее противоречия «традициям составления великокняжеских завещаний на Руси»[88]. К его аргументам можно добавить то, что современники понимали и прочитывали лучше всего, — участие боярина Бориса Годунова в церемонии венчания царя Федора Ивановича на самых почетных местах. Когда князь Федор Иванович Мстиславский держал царскую «шапку», другой князь Василий Федорович Скопин-Шуйский — «скипетр», Борис Годунов находился рядом с этими первыми аристократами Думы и держал «яблоко»[89].
Очевидно, что со смертью Ивана Грозного наступило новое историческое время, в котором снова стали иметь значение боярские амбиции знатнейших родов. В узком правящем кругу оказались по преимуществу ближайшие царские родственники князья Мстиславские и Шуйские, Романовы и Годуновы. Можно было бы ожидать такого же кризиса, который случился из-за противоборства боярских группировок в 1530–1540-е годы. Однако времена изменились, в Русском государстве остался лишь один удельный князь — царевич Дмитрий, весь немногочисленный двор которого составляли родственники его матери — Нагие. Его пребывание в Угличе, который Иван Грозный хотел отдать в удел своему будущему сыну (если бы таковой появился) еще в браке с Анной Колтовской в 1572 году, не таило бы в себе никакой опасности, если бы не слабость царя Федора и опасения его бездетной ранней смерти. Звучали аргументы, вроде того, что царевич Дмитрий — седьмой жены сын, а следовательно, не имеет канонических прав на престолонаследие (церковь признавала законными только три брака). Впрочем, как покажет время, они смущали только ортодоксов; вся остальная страна еще примет в цари того, кто назовется именем царевича Дмитрия. Главное же изменение состояло в том, что Иван Грозный приблизил к себе и воспитал настоящего преемника — Бориса Годунова. Этот лучший ученик школы Грозного царя, хотя и действовал другими методами, чем его покровитель, со временем достиг той же «высшей власти» и стал крестным отцом великой русской Смуты.
Князья Шуйские, как и другие аристократические рода, не были равнодушными наблюдателями возвышения Бориса Годунова. История столкнула их с «лордом-правителем» почти сразу же, как только улеглись страсти, связанные со сменой самодержца на троне. Удивительно, но ни в одном из преступлений, явных или мнимых, в которых обвиняют Бориса Годунова, он не оставил никаких улик. Все, что нам известно о последовавшей за смертью царя Ивана Васильевича политической борьбе, в том числе с князьями Шуйскими, лишь указывает на «почерк» Бориса Годунова, но никогда и нигде ни один сыщик не смог дойти по этому следу до двора правителя. Где-то по дороге след обязательно обрывался, и Борис Годунов оставался неуязвимым для своих критиков. Он был даже по-своему любим подданными царя Федора Ивановича, отдававшими должное мудрости первого боярина и его стремлению к наведению порядка.
Так получалось, что Борису Годунову помогал и случай. Сначала из правительства, созданного при новом царе Федоре Ивановиче, оказались выведенными старшие бояре Никита Романович Юрьев и князь Иван Федорович Мстиславский. Одного — Никиту Романовича — постигла тяжелая болезнь, вероятно, удар. Его семь сыновей Никитичей — Федор, Александр, Михаил, Никита, Василий, Иван и Лев — принадлежали к той же «золотой молодежи», что и князь Василий Шуйский и его братья. Оставшиеся старшими в роду Василий Иванович Шуйский и Федор Никитич Романов были ненамного моложе Бориса Годунова. Однако Борис Годунов стал покровительствовать Никитичам — по некоему «завещательному союзу дружбы» (по словам «Повести» князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского), заключенному с их отцом Никитой Романовичем.
Князь Иван Федорович Мстиславский в 1585 году отправился на богомолье в Соловки и затем принял постриг в Кирилл о-Белозерском монастыре. По известию Латухинской Степенной книги XVII века, князь Иван Мстиславский называл Бориса Годунова сыном, а «Борис его назва отцем себе». После ухода из мира князя Ивана Федоровича его место занял князь Федор Иванович Мстиславский. Эта рокировка была очень выгодна Борису Годунову, потому что молодой князь Мстиславский никогда, ни до, ни после, не обнаруживал амбиций правителя, которые полагались ему по происхождению.
Все эти изменения в правительстве, произошедшие в 1584/85 (7093) году, были охарактеризованы в одной из первых статей «Нового летописца», называвшейся «О розни и недружбе боярской». Согласно этому памятнику, созданному на рубеже 1620–1630-х годов и отразившему официальный взгляд на события Смуты и предшествовавшего ей времени, в самом начале правления царя Федора Ивановича началась «вражда меж бояр, розделяхуся надвое». Первую партию составили «Борис Федорович Годунов з дядьями и з братьями, к нему же присташа и иние бояре и дьяки и думные и служивые многие люди». Князья Шуйские оказались «з другую же сторону», где князь Иван Федорович Мстиславский возглавил оппозицию Борису Годунову вместе с родами тех же Шуйских, Воротынских, Головиных, Колычевых. К ним примкнули «иные служивые люди и чернь московская». О том же писал автор «Московского летописца»: «Потом ненавидяй враг добра роду человеческому нача возмущати боляр между себя враждовати, како бы друг друга поглотити, еже и бысть. Власть же и строение возложи на ся шурин царев боярин и конюшей Борис Федоровичь Годунов»[90].
Какие бы противоречия не существовали в аристократической элите, смена самодержца вполне благоприятно сказалась на положении князей Шуйских. Князь Василий Иванович получил боярский чин еще до венчания на царство Федора Ивановича, не позднее 20 мая 1584 года. Ему было поручено ведать Московскую судную палату. Известно разбиравшееся им 25 июля 1584 года дело некогда влиятельного дьяка Андрея Шерефединова. Князь Василий Шуйский, служивший в «особом дворе» Ивана Грозного, участвовал в расправе с одним из прежних его руководителей[91]. И это было только начало усиления позиций суздальских князей в Боярской думе, где со времен Ивана Грозного уже находились князья Василий Федорович Скопин-Шуйский и Иван Петрович Шуйский. Каждый из них получил богатейшие кормления и пожалования. Особенно был отмечен выдающийся воевода князь Иван Петрович Шуйский, которого пожаловали в кормление спасенным им Псковом, «обеима половинами и со псковскими пригороды, и с тамгою, и с кабаки, что никоторому боярину не давывал государь». Ему также удалось вернуть родовое вотчинное село Лопатничи, оказавшееся после казни в начале опричнины князя Александра Борисовича Горбатого и его сына Петра за Покровским Суздальским монастырем. Друг за другом получили боярский чин младшие братья князя Василия Ивановича — князь Андрей Иванович к апрелю 1585 года и князь Дмитрий Иванович, пожалованный боярством к весне 1586 года[92]. Все это дает основания предполагать, что братья князья Шуйские были «погодки» и между ними была небольшая разница в возрасте.
Увеличившееся представительство князей Шуйских в Боярской думе заставляло современников внимательно присматриваться к ним и даже сравнивать их друг с другом. Английский посол Джильс Флетчер, давая характеристику русской знати и членам Боярской думы, выделял князя Ивана Петровича Шуйского — «человека великой воинской храбрости», и князя Андрея Ивановича Шуйского, считавшегося «человеком большой мудрости». Присутствие князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского в Боярской думе воспринималось как дань его происхождению, а не «мудрости» и умению дать нужный совет (так же как другие, занимавшие первые места в Думе князья Федор Иванович Мстиславский и князь Иван Михайлович Глинский лишь украшали Думу своим присутствием). Выделялся, по мнению Джильса Флетчера, и молодой князь Василий Иванович Шуйский, заслуживший лестный отзыв английского дипломата. Героя настоящей книги считали «наиболее умным из других князей этого рода»[93].
Так в начале царствования Федора Ивановича знатные, богатые, умные, славные храбростью и службами своих предков родственники царя князья Шуйские снова оказались на виду. Однако пожалование в Боярскую думу еще не означало того, что князь Василий Иванович Шуйский занял положенное ему место одного из первых царских советников. Как известно, рядом с царем Федором оказался человек, который целью своей жизни поставил возвышение своего рода, — Борис Годунов, и усиление князей Шуйских невыгодно было, в первую очередь, именно ему. Не случайно, что князь Василий Иванович Шуйский очень быстро был удален из Москвы. С 1 апреля 1585 года ему было поручено «годовать» на Смоленском воеводстве, где он и находился вплоть до сентября 1586 года[94]. Под таким же почетным предлогом оказались вдалеке от столицы князь Иван Петрович Шуйский, вернувшийся в марте 1585 года на воеводство в Псков, а также князь Василий Федорович Скопин-Шуйский, ставший в 1585 году кормленщиком в Каргополе. Вот это и отличает, если так можно выразиться, почерк Бориса Годунова: формально князья Шуйские получили признание, а по сути очень скоро оказались за пределами какого-либо влияния на царя Федора Ивановича.
Ответ князей Шуйских не замедлил себя ждать. Пик их политического и личного противостояния с Борисом Годуновым пришелся на 1586 год. Формальным поводом оказались дипломатические дела, и прежде всего контакты с Речью Посполитой. Посол Михаил Гарабурда в открытую обсуждал в Москве в апреле 1586 года перспективы заключения «вечного мира» при условии, что русская сторона даст согласие возвести на русский престол, в случае бездетной смерти царя Федора, польского короля Стефана Батория[95]. Аристократические рода князей Мстиславских, Шуйских и другие поддерживавшие их члены Государева двора могли благосклонно смотреть на такую политическую комбинацию. Они уже успели вернуть себе почести и положение в Боярской думе, прекратив господство худородных выскочек, которых любил приближать к себе Иван Грозный, и разогнав его «особый» двор. Русские бояре могли рассчитывать на то, что они останутся в своем государстве на таких же прочных позициях, как магнаты Речи Посполитой, с одним существенным исключением, что уже ни у кого не будет столько власти над своими подданными, сколько присвоил себе Грозный. Однако вопрос престолонаследия относился к числу самых деликатных, и затрагивать его означало браться за обоюдоострое оружие. Кроме заботы о пользе государства, размышления на тему продолжения династии царем Федором Ивановичем напрямую касались рода Годуновых, чье нахождение в боярско-княжеской элите обеспечивалось именно их родством с царем по его жене — Ирине Годуновой. Не осознавать это князья Шуйские, и прежде всего оказавшиеся в тот момент в Москве князь Иван Петрович Шуйский и брат князя Василия Ивановича Андрей, конечно же не могли. Но не могли они, видимо, и дальше равнодушно наблюдать, как Борис Годунов ведет дело к тому, чтобы оказаться если не единоличным, то главным советником царя, окруженного лишь теми, кто был ему вполне лоялен.
Итак, князья Шуйские, ободренные поддержкой из Речи Посполитой, рассчитывали с помощью династического проекта справиться с возросшим влиянием Бориса Годунова. И, судя по отчетам посла Михаила Гарабурды, преуспели в этом: в Боярской думе случился мятеж против правителя, «даже дворяне великого князя отступили от Годунова… и к другой стороне пристали, открыто заявляя, что сабли против польского короля не поднимут, а вместе с другими боярами хотят согласия и соединения»[96]. Князья Шуйские сумели привлечь на свою сторону тех, кого не успел задобрить или исключить из игры Борис Годунов. Как рассказывал автор Хронографа редакции 1617 года, князь Иван Петрович Шуйский заручился поддержкой митрополита Дионисия, чтобы вместе с ним и своими сторонниками из числа «прочиих от больших боляр и от вельмож царевы полаты», а также «гостями московскими и всеми купецкими людми» убедить царя Федора Ивановича развестись с Ириной Годуновой. Все вместе они не позднее 14 мая 1586 года «учинишя совет и укрепишася между себя рукописанием», чтобы подать челобитную о вступлении царя в новый брак «царского ради чядородия»[97].
У Бориса Годунова в тот момент не было столько влияния, чтобы немедленно прекратить опасные для него действия политических противников. Неизвестно, как бы все стало развиваться дальше, но включение в борьбу московского «мира» изменило все расклады. События не смогли удержаться в мирном русле «совета», а окончились очень серьезными беспорядками, так что даже монахи Кремлевского Чудова монастыря вынуждены были закупать свинец, чтобы оборонять Кремль от вторжения возбужденной толпы. В этот момент ее действия направлял князь Андрей Иванович Шуйский, возглавивший «земских посадцких людей» (позднее его обвинили в том, что он «к бездельникам приставал»). Возможно, чтобы успокоить взволновавшийся московский посад, Борис Годунов и князья Шуйские заключили какой-то договор о «мире» при посредничестве митрополита Дионисия. «Новый летописец» очень правдоподобно описывает, как они «изшедшу от митрополита и приидоша к полате Грановитой; туто же стояху торговые многие люди, князь Иван же Петрович Шуйской, идучи, возвести торговым людем, что они з Борисом Федоровичем помирилися и впредь враждовать не хотят меж себя». Кто-то из торговых людей якобы прозорливо заметил на это: «Помирилися вы есте нашими головами, а вам, князь Иван Петрович, от Бориса пропасть, да и нам погинуть»[98].
Так все и произошло, как было предсказано. Борис Годунов не простил прямого выступления против него и его сестры, царицы Ирины Федоровны, никому. Не прошло и полгода, как митрополит Дионисий был сведен с престола, а над князьями Шуйскими был занесен карающий меч. Годунов не был бы Годуновым, если бы действовал прямолинейно. Сначала против князей Шуйских, в том числе и Василия Ивановича, было открыто следственное дело по обвинению в тайных сношениях с Литвой. Помня позицию князей Шуйских во время пребывания в Москве посла Михаила Гарабурды, поверить в такие обвинения было очень легко. После 15 сентября 1586 года князь Василий Шуйский больше не упоминался как смоленский воевода и был отозван в столицу. Согласно наказу русским посланникам в Речь Посполитую Елизару Леонтьевичу Ржевскому и дьяку Захарию Свиязеву, выданному в январе 1587 года, князь Василий Шуйский вместе с братьями Дмитрием, Александром и Иваном находился «в Москве». О двух других активных участниках майских событий в столице говорилось: князь Иван Петрович Шуйский «поехал к себе в свою отчину», а Андрей Иванович Шуйский сослан в деревню, но царь «опалы на него никоторые не положил»[99]. Время опалы пришло, чуть позднее, о ней говорилось в наказе послам в Речь Посполитую Степану Васильевичу Годунову и князю Федору Михайловичу Троекурову, выехавшим из Москвы 11 июня 1587 года. В первую очередь обвинение легло на самого заслуженного из князей Шуйских — князя Ивана Петровича: «Братья его князь Ондрей Шуйской з братьею учали измену делать, неправду и на всякое лихое умышлять с торговыми мужики… а князь Иван Петрович, их потакаючи, к ним же пристал и неправды многие показал перед государем. И государь нашь ещо к ним милость свою показал не по их винам, памятуя княж Иванову службу, опалы своей большой на них не положил: сослал их в деревни». Как дополнительное доказательство милосердия царя Федора Ивановича (читай, Бориса Годунова) приводилась ссылка на то, что «брат их болшой» князь Василий Федорович Скопин-Шуйский нисколько не пострадал: «слово до него не дошло, и он у государя живет по-старому при государе на Москве, ныне съехал с великого государева жалованья с Каргополя»[100].
Как обычно, картина, представлявшаяся для показа в дипломатических делах, сильно отличалась от действительности. Князь Василий Федорович Скопин-Шуйский, чьи упоминавшиеся личные качества не позволяли записать его в оппозицию Борису Годунову, был на самом деле оставлен в Боярской думе для представительства рода князей Шуйских. Весь же род ждала расправа, от которой он не мог оправиться целых двадцать лет. Князь Василий Иванович Шуйский и его братья Дмитрий, Александр и Иван были сосланы в опале в Галич и Шую (в появлении князей Шуйских в Шуе можно усмотреть некую злую усмешку их тюремщика). Их земли были «отписаны на государя», так что относительно некоторых не осталось и памяти о том, что ими когда-то владели князья Шуйские. Уже в 1587/88 году «в Суздалском уезде в селе в Ывановском, что было князя Василья з братьею», жил подьячий Иван Протопопов, которому был дан наказ «молотити стоячей отписной хлеб» и «продавати по отписной цене». Московский подьячий хозяйничал в отписных вотчинах князей Шуйских еще и в следующем 1588/89 году, так что о его злоупотреблениях били челом священники окрестных сел. Понятно, что опала должна была сказаться на многочисленных княжеских дворах, в которых добровольно служили выходцы из дворянских семей, имевших старинные связи с Шуйскими. Порой оторвавшиеся от своих сверстников-дворян, служивших государеву службу, и оставшиеся без покровителей княжеские люди (холопы) уходили даже в разбойники[101].
Главная опасность ссылки и опалы состояла в том, что за этим могло следовать тайное указание расправиться с опальным человеком, ставшим неугодным царю. Так случилось и с Шуйскими. 16 ноября 1588 года был казнен князь Иван Петрович Шуйский, сосланный до этого на Белоозеро и насильственно постриженный в монахи. Согласно летописи, он «удавлен бысть», а его палачом стал пристав князь Иван Самсонович Туренин, не досмотревший, а скорее выпустивший, когда было надо, дым из печи. Способ расправы с неугодными был настолько широко известен, что проник даже в записки Джерома Горсея, который писал, что князь Иван Петрович Шуйский был «удушен в избе дымом от зажженного сырого сена и жнива». Той же смертью погиб в Буй-городе в 1589 году второй и самый яркий из братьев князя Василия Ивановича Шуйского Андрей, носивший имя казненного царем Иваном Грозным деда. О его опале «Пискаревский летописец», с понятной только в Русском государстве обреченностью, заметил: «…поделом ли или нет, то Бог весть». Приставом-палачом боярина князя Андрея Ивановича Шуйского стал стрелецкий голова Смирной Юрьевич Маматов[102]. Казни и опалы коснулись других сторонников князей Шуйских, гостей и посадских людей, выступивших вместе с ними в мае 1586 года. Возможно, что следствием опалы стал уход из жизни матери князя Василия Ивановича Шуйского. 10 февраля 1589 года один из братьев, князь Александр Иванович Шуйский, сделал вклад — «поставил поникадило» в Суздальский Покровский монастырь «по матери своей княгине Анне иноке Марфе Федоровне»[103].
Смерть прославленного воеводы, боярина князя Ивана Петровича Шуйского, как писал Джером Горсей, «была всеми оплакана». По его точному определению, «это был главный камень преткновения на пути дома и рода Годуновых»[104]. Достигнув победы над князьями Шуйскими, Борис Годунов уже не останавливался на пути к царской власти. Для боярина князя Василия Ивановича Шуйского случившееся тоже имело важное значение. Он оказался старшим в роду и отвечал теперь за все, что происходило с князьями Шуйскими. Ему, оставленному в живых, надо было глубоко спрятать уязвленную гордость и никогда не показывать ее Годунову. Слишком велика была цена, которую уже заплатил род князей Шуйских. Но и самому правителю скрытая, кровная оппозиция князя Василия Ивановича тоже не предвещала ничего хорошего.
Возвращение князей Шуйских из ссылки произошло так же внезапно, как и их падение. Несколько лет о них не было ничего известно, кроме подтвердившихся слухов о гибели бояр Ивана Петровича и Андрея Ивановича. И вдруг едва ли не первым же назначением приехавшего из галичской глуши князя Василия Ивановича Шуйского стало расследование дела о смерти царевича Дмитрия. Неожиданное решение, если считать оправданными подозрения современников о причастности Бориса Годунова к устранению вероятного наследника династии Рюриковичей, жившего на уделе в Угличе. Со временем даже стали думать, что Борис Годунов намеренно поставил князя Василия Шуйского в такие условия, при которых он должен был вынести выгодный правителю вердикт. И князь Василий Иванович «оправдал доверие», подтвердив официальную версию о «самозаклании» царевича и получив тем самым постоянный пропуск в Боярскую думу, откуда его извергли за несколько лет до трагического происшествия в Угличе.
Смерть царевича Дмитрия нанесла непоправимый удар престолонаследию в династии наследников Ивана Калиты. Вина правителя Бориса Годунова, якобы подославшего убийц, остается недоказанной. Обвинители Годунова считали, что он, видя бездетность царской четы, уже задумался о собственном царствовании, а потому и приказал убить царевича. Однако вскоре у царя Федора Ивановича и царицы Ирины Годуновой родился ребенок — дочь Феодосия. Если принять логику обвинителей Бориса Годунова, то следует признать, что во всей этой истории он выглядит скорее непредусмотрительным и излишне торопливым в своем стремлении повлиять на династический процесс. Для того чтобы версия убийства царевича Дмитрия выглядела правдоподобной, Борису Годунову пришлось бы приписать и смерть царевны Феодосии (тем более что единственная наследница царствующей династии Рюриковичей прожила недолго и умерла в 1594 году). Но это выглядит уж совсем невероятным.
И все же Борис Годунов и князь Василий Шуйский оказались, хотя и по-разному, на века причастны к тайне гибели царевича Дмитрия. Что же все-таки стало причиной назначения главой следственной комиссии в Угличе именно князя Василия Ивановича? Чего больше было в этом? Желания беспристрастно разобраться в причинах трагического происшествия? Но если Борис Годунов действительно сам виновен в нем, почему он так рисковал, назначая князя Василия Шуйского главным следователем? Или же, наоборот, злодейство Бориса Годунова было столь велико, что он намеренно послал Шуйского в окружении преданных правителю других членов комиссии — окольничего Андрея Петровича Клешнина (бывшего «дядьки» царевича Федора) и дьяка Елизария Вылузгина? При таком «конвое» боярин князь Василий Иванович легко мог вернуться из Углича не в Москву, а снова в Галич или в еще более «отдаленные» места. Все эти вопросы так и останутся вопросами, сколько бы ни было построено версий.
Гибель царевича обычно пытаются трактовать, прежде всего, с точки зрения интересов Бориса Годунова. Здесь же уместно изменить традиционную точку зрения и посмотреть: а не было ли интересов князей Шуйских в этом деле?
Назначение князя Василия Шуйского в комиссию, расследовавшую обстоятельства гибели царевича Дмитрия, стало его первой службой после того, как имя боярина с 1586 года исчезло из записей о назначениях в разрядных книгах. Напомню, что официальной причиной опалы Шуйских стало обвинение их в тайных сношениях с Речью Посполитой. К 1590/91 году острый кризис в отношениях с «Литвой» миновал, на польском престоле сменился король. После смерти одного из самых больших врагов Русского государства Стефана Батория им стал Сигизмунд III из династии Ваза. Царь Федор Иванович и король Сигизмунд III заключили в январе 1591 года перемирие на двенадцать лет. Новый договор сопровождался даже обсуждением проектов унии, впрочем, оставшихся только на бумаге[105]. Дальнейшее содержание князей Шуйских в ссылке становилось анахронизмом, и они действительно были возвращены к царскому двору. Причем сделано это было на Пасху 1591 года: на следующий день «после Велика дни» (4 апреля) боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский участвовал в праздничном царском «столе»[106]. Во второй половине мая 1591 года боярин князь Василий Иванович Шуйский вел следствие в Угличе, а на «Введениев день», 21 ноября 1591 года, тоже был пожалован к царскому «столу»[107].
О том, что произошло в Угличе, на дворе удельных угличских князей, превращенном в место ссылки Нагих, 15 мая 1591 года, кажется, известно всем. Образ несчастного царевича, закланного, с перерезанным горлом, с выпавшими из безжизненных рук орешками, многим знаком по историческим хроникам, картинам и даже иконам. Пронзительность этой ужасной сцены подчеркивает еще одна деталь, которую и сейчас можно почувствовать, приехав в Углич на празднование памяти святого царевича Димитрия 28 (15) мая: и днем, и ночью в городе в это время всегда пели и поют соловьи, еще сильнее подчеркивая фатальный характер давней трагедии. Точно так же под соловьиные трели должна была появиться в Угличе следственная комиссия во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским, чтобы разобраться с тем, как могло произойти такое несчастье.
Автор «Нового летописца», передавая известия о приезде в Углич следственной комиссии, очень некстати рассказывает о реакции на происшедшее боярина князя Василия Ивановича Шуйского: «Князь же Василей со властьми приидоша вскоре на Углич и осмотри тело праведного заклана и, помянув свое согрешение, плакася горко на мног час и не можаше ничто проглаголати». В чем состояло «согрешение» князя Шуйского, что стало причиной его потрясения, кроме смерти царевича Дмитрия, летописец не сообщает, и об этом остается только догадываться. Конечно, официальный летописец, знавший о том, что произойдет позже, мог описать предполагаемые им душевные муки Василия Шуйского, понимавшего, что ему придется покривить душой и оправдать «злодейство» Бориса Годунова, «убившего» царевича. Но возможно, что ключ к разгадке связан с отношениями князей Шуйских и Нагих, уходящими корнями во времена существования «особого» двора Ивана Грозного, а может быть, и ранее. Нагие были записаны в Дворовой тетради по Переславлю, а там владел вотчиной князь Дмитрий Иванович Шуйский (полных сведений о землевладении князей Шуйских из-за конфискаций в связи с их опалой нет)[108]. Более определенным свидетельством о тесных связях князей Шуйских и Нагих является известный факт участия князя Василия Ивановича Шуйского в качестве дружки царя Ивана Грозного на его свадьбе с Марией Федоровной Нагой осенью 1580 года. Нагие были арестованы по приказу Бориса Годунова «тое же нощи» после смерти Ивана Грозного, что означало тогда очищение двора от худородных «приближенных царя Ивана»[109], с чем вполне были согласны князья Шуйские, вошедшие в 1584 году в регентский совет. Может быть, в этом и состояло их «согрешение», что они приняли участие в удалении Нагих из Москвы на удел в Углич и тем невольно способствовали происшедшему? Или речь снова шла о несбывшихся надеждах князей Шуйских на развод царя Федора Ивановича с Ириной Годуновой и несостоявшейся передаче трона царевичу Дмитрию?
Кроме Бориса Годунова, у Нагих были еще влиятельные противники из его «партии» — дьяки Щелкаловы. Это означает, что князья Шуйские должны были дружить с родственниками царевича Дмитрия по принципу «враг моего врага — мой друг». Кто знает, не обсуждали ли князья Шуйские перспективу воцарения Дмитрия в 1585/86 году, прежде чем Борис Годунов расправился с ними? Подчеркну также факт возможного происхождения из рода суздальских дворян мамки царевича Василисы Волоховой и ее сына Осипа, обвиненного (справедливо или нет, еще попытаемся разобраться) в убийстве царевича Дмитрия[110]. Во всяком случае, оборот «плакася горько» отнюдь не может быть случайным в устах книжника и летописца. Употребив эти слова, являющиеся цитатой из евангельского рассказа о троекратном отречении Петра от Христа, автор «Нового летописца» делает какой-то понятный его современникам намек. И не было ли отправление боярина князя Василия Ивановича Шуйского в Углич очередным наказанием со стороны Бориса Годунова, пославшего одного из князей Шуйских, чтобы он удостоверился, что ему больше нечего надеяться на царевича Дмитрия и Нагих?
Дело царевича Дмитрия — хорошо известный сюжет русской истории. Подготовленное комиссией во главе с боярином князем Василием Шуйским следственное дело было издано фототипически В. К. Клейном еще в 1913 году и оказалось полностью доступно для самостоятельного анализа[111]. Об этой теме писали все классики исторической науки, начиная с H. М. Карамзина и не исключая С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова и В. О. Ключевского. Все они практически были уверены в виновности Бориса Годунова. Другая исследовательская традиция связана с именем крупнейшего историка Смутного времени С. Ф. Платонова. Он считал все обвинения в адрес Бориса Годунова голословными и вообще говорил о «моральной реставрации» годуновского облика как о «прямом долге исторической науки»[112]. С теми или иными вариантами «обвинительный» разбор событий присутствовал в работах А. А. Зимина и В. Б. Кобрина, а «оправдательная» версия оказалась ближе Р. Г. Скрынникову[113]. Такое противоположное толкование событий случается тогда, когда исследователи обречены многократно изучать одни и те же источники. Для дальнейшего обновления темы уже не хватает ни палеографического анализа угличского следственного дела[114], ни построения оригинальных гипотез по собственному вкусу[115].
Из Москвы в Углич для разбора дела отправилось целое «посольство», возглавляемое митрополитом Сарским и Подонским Геласием, боярином князем Василием Ивановичем Шуйским, окольничим Андреем Петровичем Клешниным и дьяком Елизарием Вылузгиным. Состав следственной комиссии показывает, что она представляла как освященный собор в лице первого по значению митрополита Русской церкви, так и Боярскую думу. Представительство Боярской думы оказалось, впрочем, замысловатым, потому что боярину князю Василию Шуйскому пришлось вести следствие вместе с близким клевретом Бориса Годунова окольничим Андреем Клешниным, находясь тем самым под весьма недоброжелательным присмотром. Однако назначение в состав следственной комиссии окольничего Андрея Клешнина оправдывалось тем уже упоминавшимся обстоятельством, что он был в свое время дядькой царевича Федора Ивановича. Позднее ходили слухи, что Андрей Клешнин оказался причастен к делу царевича Дмитрия («точен крови»), а автор «Нового летописца» прямо обвинял его в организации зловещего убийства с помощью Битяговских[116].
Следственная комиссия боярина князя Василия Шуйского, как известно, сделала другой вывод — о несчастном случае, в результате которого погиб царевич Дмитрий. Дополнительные обвинения были выдвинуты в адрес Нагих, чья «измена» заключалась в бессудных расправах с дьяком Михаилом Битяговским и его сыном Данилой, с мальчиками Осипом Волоховым (сыном кормилицы) и Никитой Качаловым, торопливо обвиненными в смерти царевича. Также были наказаны за участие в убийствах и последовавших затем грабежах жители Углича, прежде всего чернь, рядовые посадские люди. Несколько сотен человек отправили в ссылку и даже показательно «казнили» вестовой колокол, собиравший угличан на царицын двор. Со временем официальная трактовка событий при прямом участии князя Василия Шуйского поменялась. Нагие в Смутное время сумели оправдаться. Правда, для этого потребовались сначала чудесное «воскрешение» Дмитрия из небытия, а потом торжественное погребение в Архангельском соборе тела царевича, перевезенное из Углича в Москву в 1606 году. Сам князь Шуйский трижды клялся в истинности своих слов — всякий раз утверждая прямо противоположное сказанному ранее: сначала, исполняя должность главы следственной комиссии, клялся, что Дмитрий умер случайной смертью; потом, в начале царствования Лжедмитрия I, — что Дмитрий вообще не умер, а спасся, и, наконец, вступив на царский престол, — что царевича Дмитрия Ивановича убили по приказу Бориса Годунова. По сходной дороге лжесвидетельств прошли Нагие, породнившиеся в 1604/05 году с тем, кого обвиняли в смерти царевича (дочь окольничего Андрея Клешнина Мария вышла замуж за царицыного брата и участника угличских событий Григория Федоровича Нагого). Поэтому вся история угличского дела 1591 года оказалась настолько запутанной, что у историков уже пятый век нет никакой надежды разобраться в том, что же действительно произошло на бывшем дворе удельных князей в Угличе в шестом часу субботнего утра 15 мая 1591 года. Известно только, что после обедни в праздничный день на «память отца нашего Исайи, епископа ростовскаго чюдотворца», царевича отпустили погулять под присмотром мамки и кормилицы и поиграть ножичками в «тычку» с «маненкими робятки». А дальше — звон всполошного колокола на угличской Спасской соборной церкви возвестил о вступлении Русского государства в эпоху Смуты.
Находясь в Угличе, боярин князь Василий Иванович Шуйский хорошо и быстро расследовал обстоятельства происшествия. У него уже был опыт службы в Московском судном приказе в 1584–1585 годах. Сколько бы кто потом ни пытался говорить о фальсификации дела, подготовленного комиссией Шуйского, оснований для этого нет. Никто из исследователей так и не смог доказать, что князь Василий Шуйский подделал результаты расследования. Разночтения вызывают лишь структура перепутанных листов дела, но не их аутентичность или наличие в изначальных материалах следствия. Реальные обстоятельства угличской драмы, известные из следственного дела и других источников, оставляют возможность только одной трактовки событий — как несчастного случая.
Комиссия боярина князя Василия Ивановича Шуйского, приехавшая в Углич «в вечеру 19 мая», сразу же стала расспрашивать, «которым обычаем царевича Дмитрея не стало» и «что его болезнь была»[117]. Во время допросов выяснялись также обстоятельства убийства дьяка Михаила Битяговского, его сына Данилы, Никиты Качалова, Данилы Третьякова, Осипа Волохова, а с ними еще посадских и дворовых людей Битяговских и Волоховых. Особо интересовало следователей, по какой причине Михаил Нагой пытался заставить городового приказчика Русина Ракова грубо фальсифицировать обстоятельства дела и подбросить к мертвым телам «ножи и питали и палицу железную и сабли». Из расспрос — ных речей выяснилось, что те, кого толпа обвинила в убийстве и с кем расправилась, даже не находились на дворе, когда ударил соборный колокол, возвещая о страшном происшествии. Было очевидно, что причиной расправ стали подозрения царицы Марии Нагой на мамку Василису Волохову и застарелая неприязнь, испытываемая Нагими к дьяку Михаилу Битяговскому, от которого они зависели во всех делах. Когда страшное известие о гибели царевича дошло до его матери, она явно пришла в беспамятство (выражаясь юридическим языком, в состояние аффекта) и, судя по всему, не очень отдавала отчет в последствиях своего гнева, обращенного на мамку Василису Волохову, действительно виноватую в том, что не доглядела за царевичем. Но ни ее самой, ни ее сына Осипа не было на царицыном дворе. По сказке «жилцов царевичевых» Петрушки Самойлова сына Колобова, Баженки Нежданова сына Тучкова, Ивашки Иванова сына Красенского, Гришки Андреева сына Козловского, которых прямо спрашивали, «хто в те поры за царевичем были», оказалось, что рядом были «кормилица Орина да постелница Самойлова жена Колобова Марья» и они сами. Из «сказок» (показаний) этих ребят — кстати, таких же маленьких, 8–9-летних сверстников царевича — выяснялось, что они играли в «ножички»: «Играл де царевич в тычку ножиком с ними на заднем дворе, и пришла на него болезнь — падучей недуг, и набросился на нож». Когда Дмитрий забился в припадке падучей болезни, другие дети, видимо, разбежались в страхе, а царевич умер на руках своей кормилицы Орины. Эта Орина, жена Ждана Тучкова, рассказала, что Дмитрий умер прямо у нее на руках: «и она царевича взяла к себе на руки, и у нее царевича на руках и не стало».
Подтверждался этот рассказ и Андреем Александровичем Нагим, одним из первых, кто застал картину происшествия. Он показал в «розпросе», что «царевич ходил на заднем дворе и тешился с робяты, играл через черту ножом, и закричали на дворе, что царевича не стало, и збежала царица сверху, а он Ондрей в те поры сидел у ествы, и прибежал туто ж к царице, а царевич лежит у кормилицы на руках мертв,
Из этих показаний, собранных комиссией боярина князя Василия Ивановича Шуйского, если доверять им, становится очевидным, что причиной смерти царевича Дмитрия стал несчастный случай, а все, что случилось потом, происходило из-за распространившихся слухов, основанных на первой реакции царицы Марии Нагой и ее брата Михаила. Нагие расправлялись не только со своими врагами в Угличе. Направлявшаяся ими толпа, состоявшая из черных «посадцких людей», не щадила никого из тех, кто вступался за невинных жертв[118]. Однако когда страсти немного улеглись, царица Мария Нагая стала сожалеть о своих поспешных обвинениях. При отъезде следственной комиссии из Углича в Москву, как говорил митрополит Сарский и Подонский Геласий (также член следственной комиссии) на освященном соборе, рассматривавшем дело о смерти царевича Дмитрия, мать погибшего царевича сама позвала его к себе и «говорила мне с великим прошеньем: как Михаила Битяговского с сыном и жилцов побили, и то дело учинилось грешное, виноватое, чтоб мне челобитье ее донести до государя, царя и великого князя, чтоб государь тем бедным червем Михаилу з братьею в их вине милость показал». Дополнительно на соборе, в присутствии патриарха Иова, была оглашена челобитная митрополиту Геласию угличского городового приказчика Русина Ракова, из которой выяснялось, что Михаил Нагой отдавал приказ об убийстве дьяка Михаила Битяговского с сыном, Никиты Качалова, Данилы Третьякова и Осипа Волохова, будучи «мертьво пиян».
Создается впечатление, что Нагие сознавали свою вину и пытались задним числом найти хоть какое-то оправдание своим действиям. Между тем боярин князь Василий Иванович Шуйский и другие члены следственной комиссии выяснили и включили в свой отчет очень тяжелое обвинение Нагим. Они показывали, что отнюдь не случайно и не под влиянием одних винных паров Михаил Нагой вместе с братом Григорием направлял действия сбежавшейся толпы на расправу с дьяком Михаилом Битяговским[119]. Сохранилась челобитная угличских рассылыциков Молчанки Суворова с товарищами, мелких служащих местной губной администрации, тоже видевших, как Михайло Нагой прискакал «пьян на коне» к царице на «двор». И они слышали, как в отчаянии Михаил Битяговский пытался перед смертью обвинить Михаила Нагого: «а Михайло Битяговской кричал, что Михайло Нагой велит убити для того, что Михайло Нагой добывает ведунов и ведуны на государя и на государыню, а хочет портить». За этот «розговор», то есть ссору, и был на самом деле убит дьяк Михаил Битяговский. Едва уцелевшая во время расправы с дьяком Михаилом Битяговским его жена Авдотья тоже говорила о многократных ссорах мужа с Михаилом Нагим из-за «ведунов и ведуней», добывавшихся Михаилом Нагим «к царевичю Дмитрею». По ее словам, одному такому ведуну, по имени Андрюшка Мочалов, Михаил Нагой «велел ворожити, сколко ты, государь, долговечен и государыня царица» (прозрачное гадание, связанное с интересом Нагих к своей дальнейшей судьбе при возможном воцарении Дмитрия). Донос на Нагих грозил серьезным расследованием «слова и дела государева», что и произошло.
Патриарх Иов и освященный собор, рассмотрев следственное дело, подготовленное митрополитом Геласием, боярином князем Василием Ивановичем Шуйским, окольничим Андреем Петровичем Клешниным и дьяком Елизарием Вылузгиным, сделали вывод, что «царевичу Дмитрею смерть учинилась Божьим судом», а «Михаила и Григорья Нагих и углетцких посадцких людей измена явная». Признав, что «Михайло Нагой з братьею и мужики углечане по своим винам дошли до всякого наказанья», на соборе не стали определять саму меру этого наказания. Это уже было делом царя Федора Ивановича: «а то дело земское, градцкое, в том ведает Бог да государь». Царь Федор Иванович поручил «углетцкое дело по договору вершити» Боярской думе. Она же заинтересовалась в первую очередь кормилицей Ориной, на руках у которой умер сводный царский брат, и ее мужем Жданом Тучковым. Было послано и «по ведуна Ондрюшу Мочалова» — значит, Нагих ждало продолжение следствия.
Исполнившему свое дело боярину князю Василию Ивановичу Шуйскому предстояли новые думские службы. Но Борис Годунов уже многое успел сделать для утверждения своей власти за время отсутствия Шуйского при дворе. 1591 год стал временем великого триумфа Бориса Годунова и окончательного оформления его статуса главного государева «слуги» после отражения нашествия на Москву войска крымского хана Казы-Гирея 4–5 июля. Даже утвердившись как единоличный правитель, Борис Годунов не выпускал князей Шуйских из поля своего зрения. Настолько, что князь Василий Иванович никак не мог решиться на новый брак. Борису Годунову было невыгодно умножение потомства старших представителей рода князей Шуйских, да и не их одних. Страх перед возможными расправами был настолько велик, что бояре вынуждены были осторожничать в вопросах продолжения своего рода. К тому же Борис Годунов — очевидно, по образцу Ивана Грозного — хотел влиять на родственные связи боярских семей между собою. Показательно, что младший из братьев Шуйских — князь Александр Иванович, — наоборот, породнился с Годуновыми, женившись на дочери Григория Васильевича Годунова Анне. Князя Александра Ивановича Шуйского, открывавшего перечень московских дворян, пожаловали шубой и кубком за участие в отражении набега Казы-Гирея. Получил награду и младший брат князь Иван Иванович Шуйский[120]. Отныне правила игры устанавливал только Борис Годунов, а князьям Шуйским, из которых одних жаловали и приближали, а других удерживали на расстоянии, оставалось одно — повиноваться.
Находясь между жалованьем и опалой, князья Шуйские много раз должны были смирять себя, понимая, что при Борисе Годунове они не могут рассчитывать на такую же власть и влияние, какие имели их предки у московских великих князей. Но правителю было этого мало, и он постоянно «работал» над тем, чтобы не дать князьям Шуйским снова усилиться. Испытанным средством распределения влияния внутри элиты были назначения в полковые воеводы, имевшие местническое значение и учитывавшиеся в разрядных книгах. Помощниками в проведении такой политики стали для Годунова князья Трубецкие. Эти потомки удельных князей особенно прославились вхождением в «опричный» и «особый» дворы, где и сблизились с Годуновым. Уже Иван Грозный назначал своих бояр в полки, «как хотел», поэтому в 1577 году князь Тимофей Романович Трубецкой получил местническое преимущество перед князем Иваном Ивановичем Голицыным. И сколько бы потом князья Голицыны не пытались оправдаться, их «потерька» продолжала учитываться и далее в назначениях времен царя Федора Ивановича[121]. Опираясь на покровительство Бориса Годунова, князь Тимофей Романович Трубецкой попробовал также покуситься и на положение князей Шуйских, бив челом «о местах» сразу же на старшего в роду боярина князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, отправленного в начале шведского похода в декабре 1589 года в Псков, а затем находившегося на воеводстве в Новгороде Великом. И эту челобитную «о щоте», поданную в сентябре 1591 года, приняли в Разрядном приказе, а значит, делу был дан законный ход и Трубецкого уже могли считать победителем в споре. Однако в таких случаях весь род защищал свою честь от местнических соперников. Поэтому князья Василий Иванович и Дмитрий Иванович Шуйские вступились за своего старшего родственника, пусть даже и происходившего из другой ветви рода. В разрядной книге потом записали об их челобитной: «Да били челом государю царю и великому князю Федору Ивановичю всеа Русии бояре князь Василей да князь Дмитрей Ивановичи Шуйские. А сказали, что писал ко государю боярин князь Тимофей Романович Трубецкой на боярина на князь Василья Федоровича Шуйского о местех не по делу; а боярину князю Тимофею мочно быть менши их меншова брата (использован обычный трафарет, применявшийся в местнических спорах. —
О службах боярина князя Василия Ивановича Шуйского в 1590-е годы известно немного. Его «реабилитация» после угличского следственного дела, видимо, уже не подлежала сомнению. Он стал «осадным воеводою» в Новгороде в «100-м» (1591/92) году, сменив князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского. Первое после долгого перерыва упоминание боярина князя Василия Ивановича Шуйского как участника царского «стола» 21 ноября 1591 года, скорее всего, могло быть связано с отъездом в Новгород. За время пребывания князя Василия Шуйского на воеводстве случился большой мор в Псковской и Новгородской землях. Когда опасность миновала, воевода вернулся в Москву[124].
Это было время всеобщей радости, потому что еще 29 мая 1592 года в семье царя Федора Ивановича и Ирины Годуновой родилась царевна Феодосия. При ее рождении была объявлена амнистия самым жестоким преступникам, распущены тюрьмы. Умевший прощать царь Федор Иванович, очевидно, хотел примирения и с князьями Шуйскими. Год спустя, на именины «царевны Федосьи Федоровны», было празднование, где присутствовали патриарх Иов, освященный собор, «да бояре ели все и окольничие». Причем, чтобы не омрачать торжество, все приглашенные были «без мест». 8 июля уже «на государев ангел» у царя за «столом» присутствовал боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский. 28 июля 1593 года в качестве приглашенных бояр на пиру «у государя», состоявшемся «в Девичье монастыре», упоминался уже сам князь Василий Иванович Шуйский (он был вместе с братом князем Дмитрием Ивановичем). Князя Василия Шуйского даже снова допустили до участия в дипломатических делах, и 3 сентября 1593 года он участвовал в приеме «кизылбашского посла», приехавшего от персидского шаха Аббаса I. Однако Борис Годунов продолжал пристально следить за действиями Шуйского. Случайно или нет, но с возвращением боярина князя Василия Ивановича с новгородского воеводства открылось какое-то дело «про ноугороцково дьяка Семейку Емельянова». Расследовать его должен был отосланный в «послах» в Новгород окольничий князь Иван Семенович Туренин (тот самый пристав, которого обвиняли в смерти боярина князя Ивана Петровича Шуйского)[125]. А это означало, что все происходило по известной русской пословице: «жалует царь, да не жалует псарь». Даже возвратив все внешние признаки почета и свое положение в элите Русского государства, князья Шуйские знали, что все это снова могло исчезнуть по желанию Бориса Годунова. Выжить в таких условиях человеку гордому и независимому было практически невозможно. Время требовало от князей Шуйских умения приспособиться к обстоятельствам, усмирить гордыню, быть, «как все». И если они выжили, значит, у них это получилось.
Правда, не все так однозначно. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике хранится ныне позолоченная водосвятная чаша с записью: «Лета 7103 (1594/95) сия чаша зделана бысть повелением князя Ивана Ивановича Шуйского и дана в дом Пресвятыя владычицы и Богородицы приснодеве Мария честнаго и славнаго ея Рожества в соборный храм во град Суждаль раде церковные потребы и на освящение вод в наследие вечных благ боярину князю Ондрею Ивановичу Шуйскому, а то за его поминати во все дни вином на литургеях и на литеях; аще хто восхощет преобидите святую церковь и изнести чашу сию, по святых отец правилом в каком сану ни будь хто, да извержется сана своего, аще ли величием негодованием негодовати начнеть, да будет проклять в сеи век и в будущем, аминь»[126]. Суздальский Рождественский собор был родовой усыпальницей как князей Скопиных-Шуйских, так и князей Шуйских. До сих пор место их семейного некрополя уцелело внутри храма. Сохранившийся вклад показывает, что князья Шуйские по традиции заботились об украшении Рождественского собора. Однако не зная всех перипетий, происходивших с князьями Шуйскими в годы правления Бориса Годунова, трудно понять, почему так поздно, спустя пять или шесть лет после смерти боярина князя Андрея Ивановича Шуйского, один из его братьев решил почтить его память дорогим вкладом. И почему только один младший брат князь Иван Иванович Шуйский, без участия старших братьев? Водосвятная чаша, отлитая в память о брате, обвиненном в государевой «измене», не могла быть обычным вкладом в Суздальский Рождественский собор. Прощение князей Шуйских, возвращенных ко двору, видимо, распространилось и на тех, кто погиб в ссылке. При этом отношение князей Шуйских (точнее, оказавшегося самым смелым из братьев — князя Ивана Ивановича Шуйского) к своим гонителям оставалось неизменным и, кажется, отразилось в выгравированной на чаше надписи. Там содержалось совсем не трафаретное по форме проклятие тому, кто «величием негодованием негодовати начнет», содержащее отсылку как к нраву, так и к фамилии правителя[127].
В апреле 1596 года в связи с ожидавшимся приходом с войною крымского царя в Русское государство имена князей Шуйских снова попали в число первых воевод «берегового разряда». Большим полком в Серпухове были назначены командовать боярин князь Федор Иванович Мстиславский «да слуга и боярин и конюшей» (так звучал его титул) Борис Федорович Годунов. Боярин князь Василий Иванович Шуйский был поставлен во главе следующего по значению полка правой руки в Алексине. В роспись полков «берегового разряда» «104 года» включено имя и другого брата, боярина князя Дмитрия Ивановича Шуйского, ставшего первым воеводой передового полка в Калуге. Князья Шуйские оказались на службе вместе с их местническим соперником боярином князем Тимофеем Романовичем Трубецким — первым воеводой сторожевого полка в Коломне, а тот, в свою очередь, со своим — боярином князем Иваном Ивановичем Голицыным, назначенным командовать полком левой руки «на Кошире». Во всем этом распределении воевод имело значение прежде всего то, что Борис Годунов, снова оказавшись в одном полковом разряде с князьями Шуйскими, мог возвыситься еще больше. Но не сделал этого. Согласно местническому порядку, установленному еще в начале царствования Ивана Грозного в 1550 году, «а хто будет другой воевода в Болшом полку, и до того другова воеводы правые руки болшому воеводе дела и счету нет, быти им без мест»[128]. Зато князья Шуйские и Трубецкие оказывались «не менши» друг друга в своих служебных назначениях, а князьям Голицыным снова пришлось бить челом «о щоте» на князей Трубецких.
Однако готовый уже вспыхнуть спор так и не случился. Приведенный полковой разряд остался только на бумаге. На службу «по полком» поехали 10 апреля 1596 года только третьи воеводы, но и они немало спорили друг с другом о местах. Исправленный разряд (князей Шуйских изменения не коснулись) тоже не внес успокоения. «Похода на берег большим и другим бояром и воеводам» по новой росписи тоже не было. Споры не утихали целый год, потому что боярин князь Василий Иванович Шуйский 12 июня 1597 года разбирал начавшийся тогда местнический спор князя Федора Андреевича Оболенского с Петром Никитичем Шереметевым (он остался нерешенным до 108 (1599/1600) года). 17 июня 1597 года боярин князь Василий Иванович Шуйский снова судил местническое дело Петра Никитича Шереметева, только на этот раз с Фомой Афанасьевичем Бутурлиным[129].
Летом 1597 года «береговой разряд» был уже действующим, с тем же распределением главных воевод, что и в предшествующем году. Поэтому «у сказки» 19 или 20 июня 1597 года боярин князь Тимофей Романович Трубецкой побил челом о местах на воеводу боярина князя Василия Ивановича Шуйского[130]. Старые счеты двух родов разгорались вновь, только князья Шуйские не были настолько слабы как по их возвращении после опалы в 1591 году. Наоборот, к 22 мая 1597 года состав Боярской думы пополнился еще одним князем Шуйским — Александром Ивановичем, а еще чуть позже — князем Иваном Ивановичем Шуйским[131]. Это уже было снова солидное думское представительство, опираясь на которое князь Василий Иванович мог рассчитывать на то, что несправедливым претензиям князя Тимофея Романовича Трубецкого не будет дан ход. Однако и сама необходимость доказывать очевидное тоже не могла доставить ему удовольствия.
Все расчеты, как обычно, отменили властно вмешавшиеся новые обстоятельства. На Богоявленьев день 1598 года царь Федор Иванович умер, не оставив после себя наследника престола. Перед Русским государством во всем своем трагизме встал вопрос о продолжении пути. И, конечно, не все связывали это продолжение обязательно с Борисом Годуновым. Однако многолетний правитель, как искусный политик (фактически первый, кого можно назвать настоящим политиком), не только не выпустил власть из своих рук, но и добился того, что династию Рюриковичей сменили Годуновы. А ведь происходило это тогда, когда Рюриковичи, и первые из них — князья Шуйские, были живы и вполне могли сами претендовать на осиротевший русский престол. Тут-то и сказалась предусмотрительность Бориса Годунова, давно расчищавшего себе путь к власти…
«Можно считать окончательно оставленным прежний взгляд на царское избрание 1598 года как на грубую „комедию“» — так давно уже написал С. Ф. Платонов о получении Годуновым царского венца[132]. Как же это утверждение соотносится с гениально обрисованной А. С. Пушкиным в «Борисе Годунове» театральностью царского избрания? Ведь поэт не придумал детали неискреннего и несвободного выбора царя Бориса, а писал вслед за современной повестью начала XVII века и трудом H. М. Карамзина. Нам, конечно, никогда не придется расстаться с пушкинской версией событий, но ее вечное обаяние не должно заслонить сути великих перемен, происходивших в самое неподобающее время разгульной сырной (масленой) недели перед Великим постом 1598 года. «Борисовы рачители» спустя много дней после смерти прежнего царя безуспешно попытались воздействовать на царицу Ирину, принявшую после кончины супруга, царя Федора Ивановича, монашеский постриг с именем Александра. Ей не удалось удалиться из мира, как она того хотела, «мир» доставал ее своими страстями: «И такоже докучаемо бываше от народа по многи дни. Боляре же и вельможи предстоящий ей в келии ея, овии же на крылце келии ея вне у окна, народи же мнози на площади стояше»[133]. Царица Александра Федоровна по-прежнему отказывалась и за себя, и за брата согласиться на обращенные к ней мольбы. Не случайно, что и позднее «Новый летописец» приводил сказанные ею слова, не подвергая их никакому сомнению: «Отоидох, рече, аз суетного жития сего; яко вам годно, тако и творите»[134].
Оставалось просить ее снова и снова. И тогда разыгралась знаменитая сцена получения согласия затворившейся в келье царицы-инокини Александры Федоровны на царствование ее брату Борису Годунову. Автор «Иного сказания» приводит подробности некоторых избирательных приемов того времени и описывает явное принуждение к голосованию. Во всем, что происходило в стенах Новодевичьего монастыря, не было никаких знаков Божественного промысла, а была лишь издевка и скомороший выворот обстоятельств, игра в выборы, сопровождавшаяся фальшивыми слезами и демонстрацией волеизъявления по команде закулисных дирижеров. «Мнози же суть и неволею пригнани, — писал автор повести, — и заповедь положена, аще кто не придет Бориса на государство просити, и на том по два рубля правити на день. За ними же и мнози приставы приставлены быша, принужаемы от них с великим воплем вопити и слезы точити. Но како слезам быти, аще в сердцы умиления и радения несть, ни любви к нему? Сия же в слез ради под очию слинами мочаше». На этом фантазия тех, кто непременно хотел склонить царицу Александру к выбору Бориса Годунова на царство, не иссякла. Автор «Иного сказания» убеждает читателей, что бояре заставили москвичей сыграть роль массовки в этом грандиозном спектакле, устроенном для одной потрясенной судьбой и обстоятельствами зрительницы: «и повелевают народу пасти на землю ниц к позрению ея, не хотящих же созади в шею пхающе и биюще, повелевающе на землю падати и, востав, неволею плаката; они же и не хотя, аки волцы, напрасно завоюще, под глазы же слинами мочаще, всях кождо у себе слез сущих не имея. И сице не единова, но множицею бысть. И таковым лукавством на милость ея обратиша, яко, чающе истинное всенародного множества радение к нему и не могуще вопля и многия голки слышати и видети бываемых в народе, дает им на волю их, да поставят на государство Московское Бориса»[135].
Главным в делах престолонаследия оказалось соблюсти преемственность с предшествующим правлением. Прямой переход власти к Борису Годунову был невозможен, и это понимали все, в том числе и сам правитель. Все должны были непременно видеть, что избрание Бориса в цари произошло не по желанию людей, а по Божьему промыслу. Поэтому дело царского избрания было проведено «всею землею», с помощью земского собора по окончании сорокадневного траура после смерти прежнего царя. На соборе, открывшемся 17 февраля 1598 года, по разным подсчетам, собралось около 500–600 человек, имена которых известны как из перечисления в самой «Утвержденной грамоте», так и из подписей («рукоприкладств») на обороте документа. Основные споры у историков вызывает характер соборного представительства, относящийся к более общей проблеме законности царского избрания. В. О. Ключевский первым отнесся к земскому собору 1598 года как к правильно избранному и показал его принципиальное новшество — «присутствие на нем выборных представителей уездных дворянских обществ». Как обычно, он выразил свою концепцию в афористичной манере: «Подстроен был ход дела, а не состав собора»[136]. С. П. Мордовиной в специальном исследовании об «Утвержденной грамоте» удалось уточнить многие детали созыва собора. Она оспорила мнение Ключевского о наличии на соборе выборного дворянского представительства и показала, что столичные служилые люди — стольники, стряпчие, московские дворяне (кроме одного чина — жильцов) были представлены на соборе по принципу «поголовной мобилизации», а выборные дворяне из «городов» тоже служили в это время в столице[137]. Другой исследователь истории избирательного собора 1598 года А. П. Павлов все-таки склонен видеть в его составе сочетание «чиновно-должностного» и «территориально-выборного» принципов представительства[138]. В любом случае у историков нет сомнений в правомочности собора, а разговоры о попытке правителя Бориса Годунова оказывать прямолинейное давление на его решения остаются беспочвенными.
Даже те, кто позднее обвинял Бориса в «похищении» престола, не могли разобраться: «хотя или не хотя, воцарился правитель Борис Федорович»[139]. Борис Годунов продолжал всячески демонстрировать, что смирился перед волею народа. Отказывая «о государьстве», Борис Годунов не отказывался «о земских делех радети и промышляти» вместе с другими боярами. Как напишет автор «Повести, как восхити царский престол Борис Годунов», «егда нарицали его царем, тогда в наречении являлся тих, и кроток, и милостив»[140]. Однако смирение Бориса было обманчиво, он продолжал деятельно работать над тем, чтобы все-таки найти свой путь к престолу. Вот здесь-то и развернулась настоящая агитация за избрание Бориса Годунова на царство. В ход шли самые разные приемы: подкуп, лесть, увещевание и запугивание. В Русском государстве впервые знакомились с тем, как должно происходить царское избрание. Борис Годунов действовал не сам по себе, а во главе целого клана своих друзей и ближайших родственников Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых, вполне обоснованно ожидавших для себя будущих царских милостей. Но активны были и противники Бориса Годунова, со слов которых воспроизводятся все обвинения в его адрес в принуждении к выбору именно его кандидатуры на царский престол.
21 февраля 1598 года Борис Годунов был наречен на царство прямо в Новодевичьем монастыре. «Учредительный акт, им совершенный, — „поставление“ главы государства, — писал Л. В. Черепнин, — во многом определил дальнейшее направление политики России»[141]. Важнейшей особенностью собора 1598 года стало то, что он показал, что государственную власть царь получает из рук «мира», от имени которого действовал патриарх с освященным собором и чье мнение выражал «совет всея земли». Еще одним следствием избрания на царство Бориса Годунова стало введение в систему власти определенного общественного договора. Однако уговорить всех, что состоялась передача власти самому достойному из бояр, не удалось. Многие из членов Боярской думы могли мысленно примерять на себя шапку Мономаха, а князья-Рюриковичи вообще должны были считать себя несправедливо обойденными этим царским выбором.
Итак, в ходе драматичных событий царского избрания в 1598 году князь Василий Иванович Шуйский остался всего лишь государевым боярином. Конечно, в его сторону посматривали, видя в нем возможного претендента на престол. В ходе перипетий предвыборной борьбы позиция князей Шуйских означала очень много. Автор «Нового летописца» позднее даже записал, что только представители этого княжеского рода и выступили против избрания на царство Бориса Годунова: «Князи же Шуйские едины ево не хотяху на царство: узнаху его, что быти от него людем и к себе гонению; оне же от нево потом многие беды и скорби и тесноты прияша»[142]. Показательно, что даже в этом контексте речь не шла о царских амбициях князей Шуйских. В 1598 году назывались имена других претендентов, сталкивались прежде всего в обсуждении прав тех, кто оказался ближе по родству к последним царям пресекшейся династии. И здесь у Бориса Годунова появился серьезный соперник в лице старшего сына Никиты Романовича Юрьева — Федора Никитича Романова-Юрьева. Князья Шуйские оказались «над схваткой», потому что Годуновых и Романовых многое связывало, включая родство и покровительство правителя Бориса Федоровича братьям Никитичам. Князья же Шуйские, как свидетельствует летописец, ожидали только повторения гонений (что и случилось, но не сразу).
В год своего триумфального избрания на царский престол царь Борис Федорович был готов облагодетельствовать всех, кого только мог. Не случайно подписи князей Шуйских, включая князя Василия Ивановича, присутствуют в «Утвержденной грамоте» об избрании Бориса Годунова на царство на самом почетном месте, следом за рукоприкладством главы Думы — князя Федора Ивановича Мстиславского. Первым же серьезным решением еще только «нареченного», но не венчанного на царство Бориса Годунова стал знаменитый Серпуховский поход 1598 года против «крымского царя». Собственно говоря, о походе крымцев были лишь одни неопределенные вести некоего татарского языка, что «крымской царь Каза Гирей збираетца со многими людьми, да к нему же прислал турской царь янычан 7000 человек; а идет крымской царь на государевы украины часа того»[143]. Но Борис Годунов стремился повторить то, что ему удалось под Москвой в 1591 году, когда он завоевал славу победителя «безбожных агарян». Тогда же он получил титул государева «слуги», окончательно выделявший его из круга правящей элиты. Отправка войска в Серпухов в мае 1598 года была своеобразным генеральным смотром и одновременно парадом возможностей нового царя.
Все князья Шуйские находились рядом с царем Борисом. По росписи полков первыми воеводами были назначены служилые татарские царевичи Арасланалей Кайбулич, Уразмагмет Анданович, Магметкул Ялтоулович, происходившие из бывшего Астраханского царства, Казахской орды и Сибирского царства. Такое представительство потомков Чингизидов на службе московского царя должно было подчеркнуть его высокий статус в противостоянии с Крымским ханством. Вместе с царевичами были назначены и русские воеводы. Большим полком в Серпухове командовал князь Федор Иванович Мстиславский, а братья князья Василий и Дмитрий Ивановичи Шуйские стояли во главе полка правой руки в Алексине и передового полка в Калуге. Командование потомками русских удельных князей в первом царском походе тоже могло иметь свое значение для царя Бориса Федоровича. На подходе к Серпухову у Бориса Годунова было несколько царских столов, и князья Шуйские — воеводы главных полков — присутствовали на них[144], что не оставляет сомнений в том, что князьям-Рюриковичам отдавались все положенные почести. Наверное, это был своеобразный «утешительный приз» от царя Бориса за лояльность (во всяком случае внешнюю), проявленную князьями Шуйскими во время избрания его на царство. Серпуховское стояние с 11 мая по 29 июня 1598 года закончилось не войной, а переговорами с крымскими послами, которых специально провели сквозь строй собранного войска, палившего из всех пищалей. Достигнув нужного эффекта в воздействии на послов, Борис Годунов еще больше преуспел в своих отношениях с Государевым двором и вызванными на службу дворянами и детьми боярскими из уездов Русского государства. Всех он успел наградить за участие в походе, обеспечив себе на долгое время вперед поддержку со стороны своих благодарных подданных. Когда 3 сентября 1598 года царь Борис Федорович венчался на царство, то всем оставалось только благословлять начало царствования такого щедрого правителя. Боярин князь Василий Иванович Шуйский получил в это время назначение в судьи Рязанского судного приказа. В этом умении использовать «кнут» и «пряник» для своих соперников и состояло во многом политическое мастерство Бориса Годунова, приведшее его к вершине власти.
Князья Шуйские недолго вместе со всеми наслаждались благодеяниями царя Бориса Федоровича. Другой его чертой, тоже важной для политика, была неутомимая склонность к игре на опережение, в чем ему не было равных. Борис Годунов был внимателен к любым мелочам и умел извлекать из них максимум пользы для себя. Так было с новой волной гонений, которая обрушилась на род князей Шуйских, грозя уничтожить его. Их принадлежность к Рюриковичам становилась помехой уже для новой династии Годуновых, утверждавшейся царем Борисом. И он принял свои меры.
Началось все в «108-м» (1599/1600) году. Все детали нам не известны, однако собранные воедино факты позволяют выявить намерение царя Бориса Федоровича расправиться с князьями Шуйскими. Царским помощником в этом деле стал князь Федор Андреевич Ноготков-Оболенский. Борис Годунов многое делал чужими руками, и ему важно было приближать таких, готовых на все, людей. В этом, конечно, сказывалась «школа» Ивана Грозного. Первым, кого князь Федор Ноготков атаковал еще 21 июля 1598 года, используя безотказный механизм местнического спора, был князь Иван Васильевич Сицкий. С его отцом, боярином князем Василием Андреевичем Сицким, местничался еще в декабре 1578 года кравчий Борис Годунов (и выиграл спор). Одной челобитной Федора Ноготкова на Сицких в первые месяцы годуновского царствования, однако, дело не кончилось. Князь Федор Андреевич Ноготков подал совсем необычную челобитную «во всех Оболенских князей место» на своего родственника (и родственника первой жены князя Василия Ивановича Шуйского) князя Александра Андреевича Репнина-Оболенского. Оказалось, что речь шла об особо тесных дружеских отношениях Репниных, Сицких и Федора Никитича Романова. За удачное челобитье князь Федор Андреевич Ноготков был почтен боярским чином при венчании Бориса Годунова на царство. Другое же местническое дело этого стремительно прорвавшегося в Боярскую думу человека рассматривал не кто иной, как боярин князь Василий Иванович Шуйский. Рассматривал, начиная с 1597 года, но все никак не мог рассмотреть. Из челобитной боярина князя Федора Андреевича Ноготкова «108 году» выяснилась причина медлительности князя Василия Шуйского. Дело стопорилось якобы из-за того, что боярин князь Василий Иванович пытался «норовить» в этом деле оппоненту князя Федора Ноготкова — Петру Никитичу Шереметеву (хотя в одном из споров Шереметевых между собой, напротив, Петр Никитич обвинял в связях с князьями Шуйскими своего дядю Федора Васильевича). Рассмотрение дела закончилось весной 1600 года полной победой князя Федора Ноготкова, его учинили шестью местами больше Петра Шереметева. Прямым образом это решение ударяло и по князю Василию Ивановичу Шуйскому. По царскому указу дело забрали от князя Шуйского и передали на расмотрение «всех бояр». А они приняли такое решение, которое подтвердило обвинения князя Федора Ноготкова в предвзятом местническом суде[145].
В «108-м году» угроза нависла над всеми братьями Шуйскими. Князя Михаила Петровича Катырева-Ростовского поставили выше в местническом отношении князя Дмитрия Ивановича Шуйского. Другой брат, князь Александр Иванович Шуйский, пострадал от местнического челобитья вездесущего князя Федора Ноготкова; его челобитная была признана законной, и делу был дан ход. В апреле 1600 года с братьями князем Василием и Дмитрием Ивановичем судился «в отечестве» князь Иван Большой Никитич Одоевский. Но самым опасным стало некое «дело доводное, что извещали при царе Борисе князь Ивановы люди Ивановича Шуйского Янка Иванов сын Марков да брат ево Полуехтко на князь Ивана Ивановича Шуйского в коренье и в ведовском деле, 108 году»[146]. Дела о колдовстве были сравнимы по опасности с обвинением в государственной измене, с той лишь разницей, что подлежали не одному светскому, а еще и церковному суду. Следствием холопского доноса стало то, что имя младшего из князей Шуйских пропадает из разрядных книг вплоть до конца царствования Бориса Годунова. Его даже лишили боярского чина, «понизив» до московского дворянина. Холопов и других людей, служивших у князей Александра Ивановича и Ивана Ивановича Шуйских, рассылали как «колодников» в ссылку в Сибирь в марте 1601 году. Для самих князей Шуйских это снова не прошло бесследно, князь Александр Иванович Шуйский умер в 1601 году. Клевреты же царя Бориса Годунова использовали гонения на опальный род как повод для того, чтобы выслужиться. Об одном из них — Михаиле Татищеве — дьяк Иван Тимофеев во «Временнике» сообщал, что тот, «всеродно бесчестя» князя Василия Ивановича Шуйского, доходил «до рукобиения»[147].
Так снова Василий Шуйский оказался на положении опального, виноватого лишь в том, что его родственники обвинялись в «ведовстве». Его высокий боярский чин не защищал не только от царского гнева, но и от временщиков, спешивших утвердиться за счет впавших в немилость князей Шуйских. Удаление боярина из Москвы на воеводство в Великий Новгород 1 сентября 1600 года стало еще лучшим исходом, избавляя его от других возможных унижений[148]. Само по себе это назначение было для него не новым, однако на этот раз оно, вероятно, объяснялось еще и нежеланием царя Бориса Федоровича допустить князей Шуйских к переговорам с послом Речи Посполитой Львом Сапегой. Показательно, что канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега провел в Москве почти полтора года, и все это время князь Василий Иванович Шуйский «годовал» в Новгороде, вернувшись в Москву только после 25 мая 1602 года, когда польско-литовское посольство заключило договор о перемирии и уехало из пределов Русского государства. В то же самое время были отосланы по воеводствам в Псков и Смоленск князья Голицыны, жесточайшая опала постигла, как известно, род Романовых. Показательно, что братья Никитичи, сыновья Никиты Романовича и племянники первой жены Ивана Грозного, тоже стали жертвами обвинения в колдовстве. После «довода» Второго Бартенева на Александра Никитича Романова остальные Романовы, включая старшего, Федора Никитича, были обвинены в том, что хотели «царство достать ведовством и кореньем». Начало преследования Романовых в октябре-ноябре 1600 года совпало с приездом посольства из Речи Посполитой, что подчеркивает параллели в судьбах князей Шуйских и Романовых. Царь Борис Федорович сделал все, чтобы не допустить даже предположения о возможных контактах кого-либо из членов Боярской думы, происходивших из самых заметных княжеско-боярских родов, с вечными соперниками из Речи Посполитой, претендовавшими на часть русских земель, а то и на сам трон.
Когда дело было сделано и Речь Посполитая заключила выгодное царю Борису перемирие, князь Василий Иванович Шуйский был возвращен в Москву. Ему опять поручались местнические дела, осенью 1602 года он вызывался на службу во дворец, когда встречали датского королевича Иоанна — жениха царевны Ксении Годуновой. 4 сентября 1603 года князь Василий Иванович Шуйский присутствовал при встрече кизылбашского посла Лачин-бека, затем «посол у государя ел в Гроновитой палате» в присутствии первых бояр князя Федора Ивановича Мстиславского и князей Василия и Дмитрия Ивановичей Шуйских[149]. Их участие на этом направлении внешней политики Русского государства царь Борис Федорович только приветствовал, так как оно дополнительно могло подчеркнуть в глазах восточного гостя значение царя, повелевающего князьями «крови».
Но все дальновидные расчеты Бориса Годунова были опрокинуты появлением самозваного претендента на русский престол, назвавшегося именем царевича Дмитрия.
Сколько бы раз ни обращались историки к этой фигуре, она все равно остается загадочной. Трудно даже представить, что всю историю самозванца придумал и осуществил один человек! Потому столь популярны версии заговора, устроенного то ли русскими боярами, то ли польскими магнатами. Хорошо известна фраза В. О. Ключевского, намекающая именно на такие обстоятельства истории самозваного царевича Дмитрия: «Винили поляков, что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром Борис, как только услыхал о появлении Лжедимитрия, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца»[150].
Вся история самозванца начиналась как путешествие чернеца Григория Отрепьева в Святую землю в компании с другими монахами Варлаамом Яцким и Мисаилом Повадиным весной 1602 года. Своих спутников Отрепьев подбирал сам, передвигались они в Московском государстве как странствующие монахи, певшие на клиросе и тем добывавшие себе кров и пропитание. Никаких дополнительных средств или рекомендательных писем у Отрепьева не было, он сам продумывал и осуществлял свой собственный план побега «в Литву», как тогда называли Речь Посполитую. Попав в земли соседнего государства, чернец Григорий Отрепьев начал искать покровителей, но сначала потерпел неудачу. После этого он сбросил чернецкое платье и оставил своих спутников, все еще продолжавших верить, что целью их путешествия было паломничество к святым местам в Палестине. Пространствовав «в Литве» самостоятельно около года, обучившись немного польскому языку, Григорий Отрепьев сумел-таки найти доверчивого покровителя, без колебаний принявшего его сомнительную историю о чудесном спасении. Князь Адам Вишневецкий первым поверил в рассказ Отрепьева о том, что на самом деле он не слуга, а московский «царевич». Этот представитель магнатского рода князей Вишневецких познакомил с самозваным «царевичем Дмитрием» своего родственника князя Константина Вишневецкого, женатого на Урсуле Мнишек (сестре Марины Мнишек). Он же давал пояснения королю Сигизмунду III, когда тот потребовал подробного донесения о «московском господарчике», разъезжавшем в карете князя Адама Вишневецкого.
История чудесного спасения, рассказанная Григорием Отрепьевым, оказалась проста и незамысловата. Он говорил, что его подменил некий доктор-итальянец, а вместо него в Угличе убили другого мальчика. «Царевич» хотел набрать донских и запорожских казаков, чтобы те «проводили» его до Москвы. Однако ссориться с Московским государством из-за действий «господарчика» не входило в планы короля Сигизмунда III, запретившего своим универсалом продажу оружия в Запорожскую сечь. Так были остановлены своевольные планы тех, кто готов был «возвести того москвитянина на московское княжество». Однако «царевича», попавшего в руки высоких покровителей князей Вишневецких и сандомирского воеводы Юрия Мнишка, в Речи Посполитой постарались использовать в своих целях. Ему была устроена тайная аудиенция у короля Сигизмунда III. Лжедмитрий сумел произвести впечатление своим послушанием. Сигизмунду III слишком уж хотелось верить, что сын тирана Ивана Грозного, наводившего ужас на своих соседей, униженно целовал его руку и просил помощи в достижении престола предков. Обещая не препятствовать князьям Вишневецким и Мнишкам в наборе войска для похода представленного ему «господарчика», король мало чем рисковал. Тем более что, тайно перейдя в католичество, Лжедмитрий обязан был действовать в интересах папского престола в Риме. Московский «царевич» не забывал постоянно играть на алчности и честолюбии тех, кто его поддерживал, раздавая щедрые обещания уплаты золотых и передачи русских земель. Еще более надежной порукой возврата средств, потраченных на будущий поход в Московское государство, стал тайный договор о женитьбе Дмитрия на Марине Мнишек по вступлении на царский престол.
Первые сведения о появлении Дмитрия в Речи Посполитой достигли Москвы в начале 1604 года. Для царя Бориса Федоровича, несомненно, это был удар, и он очень серьезно воспринял известия о возникновении мнимого сына Ивана Грозного. При этом князь Василий Иванович Шуйский, единственный из бояр, кто видел мертвого царевича Дмитрия, становился едва ли не главным царским союзником. Стоило князю Василию Шуйскому хотя бы намекнуть, что, возможно, Дмитрий спасся от преследований, и к боярину бы прислушались. А оснований для таких разговоров хватало, если вспомнить слух о спасении в детстве от преследований царя Ивана Грозного отца самого Василия Шуйского — князя Ивана Андреевича.
Царь Борис Годунов очень быстро выяснил, что объявившимся в Литве самозванцем был беглый монах Чудова монастыря «расстрига» Григорий Отрепьев. В пользу этой официальной версии свидетельствовало много обстоятельств, включая показания родственников Отрепьевых и рассказы патриарха Иова о своем бывшем келейнике, приговоренном «за ересь и чернокнижное звездовство» к ссылке «на Белоозеро, в Каменный монастырь», где его ждала казнь: «в турму на смерть»[151]. Попытки царя Бориса Федоровича обличить перед королем Сигизмундом III и магнатами Речи Посполитой ложного царевича Дмитрия имели определенный успех, но не совсем тот, на который рассчитывала московская сторона, призывавшая казнить самозванца. Внешне король Сигизмунд III отказывался от любой поддержки «московского господарчика», что, впрочем, не мешало ему, как было сказано, лично благословить самозванца на тайной аудиенции в Вавельском дворце в Кракове. Однако прямо финансировать московский поход король не мог без одобрения сейма. Поэтому весь поход самозванца из Литвы в Московское государство в октябре 1604 года был представлен как частное дело нескольких польских сенаторов, князей Вишневецких и Мнишков. Сейм Речи Посполитой состоялся только в начале 1605 года, и он однозначно высказался против того, чтобы портить отношения с Московским государством из-за некоего москвича, рассказывавшего истории в духе античных авторов. Канцлер Ян Замойский не мог удержаться от удивления и сарказма, порицая ту легкость, с которой поверили Лжедмитрию: «Он говорит, что вместо него задушили кого-то другого: помилуй Бог! Это комедия Плавта или Теренция, что ли? Вероятное ли дело: велеть кого-либо убить, а потом не посмотреть, тот ли убит, кого приказано убить, а не кто-либо другой?!» Самое любопытное, что в этом контексте возможных претендентов на трон, принадлежавших к угасшей династии, канцлер Ян Замойский вспоминал права князей Шуйских: «Законными наследниками этого княжества был род Владимирских князей, по прекращении которого права наследства переходят на род князей Шуйских, что легко можно видеть из русских летописей»[152].
Так виделось дело в Речи Посполитой. В Москве же приняли самые решительные меры и мобилизовали именно князей Шуйских, чтобы они помогли сохранить корону Бориса Годунова в неприкосновенности от притязаний ложного «царевича Дмитрия». В первоначальном разряде войска, отправленного «во Брянеск против Ростриги», главою Большого полка был назначен боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский. Осенью 1604 года в Московском государстве была объявлена почти поголовная мобилизация и было собрано огромное войско, роспись которого сохранилась в архивах (она была обнаружена и опубликована А. Л. Станиславским только в 1979 году). По новой росписи, составленной уже не на три, а на пять полков, во главе Большого полка и всей армии был поставлен боярин князь Федор Иванович Мстиславский. Полк правой руки был поручен боярину князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому[153]. 21 декабря 1604 года они сумели отбить войско самозванца, осаждавшее Новгород-Северский. Хотя победа царского войска оказалась «пирровой», многочисленные жертвы были с той и с другой стороны. Главу годуновской армии князя Федора Ивановича Мстиславского «по голове ранили во многих местех», было потеряно главное полковое знамя, ставшее трофеем самозванца. Царю Борису Федоровичу все равно дело показалось сделанным, и он повелел щедро наградить воевод, отличившихся под Новгород-Северским. Но даже в момент относительного триумфа рати князя Федора Ивановича Мстиславского царский родственник из рода князей Шуйских удостоился малой чести: боярину князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому было велено лишь «поклонитца» и выговорить за то, что он ничего не сообщил о сражении в Москву: «И вы то делаете не гораздо, и вам бы к нам о том отписать вскоре подлинно».
1 января 1605 года боярин князь Василий Иванович Шуйский тоже получил воеводское назначение «на Северу»: «велел ему государь в Большом полку быти прибыльным боярином и воеводою». Он должен был привести в армию ее гвардию — «стольников и дворян московских» и фактически заменить выбывшего на время из строя боярина князя Федора Ивановича Мстиславского. И получилось так, что именно этот вечно гонимый Годуновым боярин и князь Шуйский добыл-таки настоящую победу царю Борису Годунову в битве при селе Добрыничах 20 января 1605 года. После этого боя самозванец, растерявший почти всю свою наемную армию, бежал в Путивль. В разрядах записали о добрыническом бое: «Государевым счастьем Ростригу вора и литовских людей побили, и наряд и знамена поимали, и у Ростриги многих людей побили»[154]. К главным воеводам, князю Федору Ивановичу Мстиславскому, князю Василию Ивановичу Шуйскому и его брату князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому, было послано «о здоровье спрашивать», что являлось знаком высшего царского расположения. Их, как и других воевод, наградили «золотыми». О щедрости царя Бориса Годунова в тот момент говорит то, что стольника Михаила Борисовича Шеина, отосланного с «сеунчем» (победной вестью) о победе под Добрыничами, произвели сразу же в окольничие. Боярские чины ждали отличившегося еще под Новгород-Северским воеводу Петра Федоровича Басманова и окольничего Ивана Ивановича Годунова. Оставалось немногое: справиться со сторонниками самозванца, севшими в осаду в Кромах. Туда и направилась армия царя Бориса Годунова во главе с первыми царскими боярами и воеводами князьями Федором Ивановичем Мстиславским и братьями Василием и Дмитрием Ивановичами Шуйскими.
Не бывает ничего хуже и тяжелее для армии, чем воевать зимой. Удобно устроившийся на зимних квартирах под защитой каменных стен Путивльской крепости, самозванец имел известное преимущество перед своими преследователями. Тем более, что умышленно или нет, но они сделали стратегическую ошибку, перестав его преследовать. Вместо этого полки царской армии, и так уже изрядно пострадавшие в битвах под Новгород-Северским и при Добрыничах, увязли под стенами не самого неприступного Кромского острога. Царским воеводам пришлось столкнуться с казачьей «стратегией», блестяще реализованной донским казаком Андреем Карелой, руководившим защитой Кром (в 1603 году этот атаман ездил послом от донцов к московскому царевичу, появившемуся в Речи Посполитой)[155]. Карела («Корела») и его войско успешно пережидали обстрелы из государева «наряда» (артиллерии) в заблаговременно выкопанных землянках («пещерах»), а потом отражали все приступы ослабленного от бескормицы и эпидемий годуновского войска. Не стоит обвинять воеводу князя Василия Ивановича Шуйского в том, что происходило. «Стоять под Кромами» был царский приказ, и войска оставались там до Пасхи…
…Внезапная смерть Бориса Годунова, наступившая в субботу 13 апреля 1605 года «после бо Святыя недели, канун жены мироносицы», завершила целую эпоху, связанную с именем этого правителя. Двадцать лет после смерти Ивана Грозного князья Шуйские оставались под постоянным подозрением и страхом расправы. Даже в короткие времена относительного миролюбия Бориса Годунова приближение князей Шуйских ко двору было выгодно скорее ему, а не им. Старшие потомки Рюрика должны были ненавидеть и долго скрывать свою ненависть к тому, кто расправился с их ближайшими родственниками — князем Иваном Петровичем Шуйским и князем Андреем Ивановичем Шуйским, обвинив их в «измене». Стоит ли удивляться тому, что, как только появилась возможность подтолкнуть сразу же ослабевшую без Бориса Годунова конструкцию его «дома», князья Шуйские (и все другие, кто стал жертвами годуновского пути к царской власти), не колеблясь, сделали это.
Сразу же после смерти царя Бориса Федоровича бояре и воеводы покинули кромский лагерь и возвратились в Москву. «Наречение» на царство царевича Федора Борисовича и его матери царицы Марии Григорьевны, вероятно, произошло без их участия. Бояре князь Федор Иванович Мстиславский, князья Василий и Дмитрий Ивановичи Шуйские должны были лишь подтвердить своей присягой возведение на трон еще одного Годунова. Ничего хорошего воцарение молодого царевича Федора, оставшегося без отцовской опеки, не сулило. Борис Годунов «прикормил» целый клан своей родни, и они немедленно обступили трон, вмешиваясь во все военные, светские и дворцовые дела. Сохранилось известие о какой-то ссоре между «первым клевретом» царствования Бориса Годунова (как назвал его H. М. Карамзин), боярином Семеном Никитичем Годуновым, и главой Боярской думы князем Федором Ивановичем Мстиславским: «Да Симеон Никитич Годунов убил бы Мстиславского, когда б тому кто-то не помешал, и он называл его изменником Московии и другими подобными именами»[156]. Боярская дума, в которой князья Мстиславские и Шуйские остались среди самых важных родов, приняла меры, чтобы уравновесить влияние Годуновых. Воспользовавшись амнистией, полагавшейся в связи с переменами на троне, в Боярскую думу возвратили боярина князя Ивана Михайловича Воротынского и окольничего Богдана Яковлевича Бельского. Речь шла о возможном приезде в Москву из ссылки старицы Марфы, матери царевича Дмитрия, и, вероятно, других Нагих. Однако этому, по слухам, противилась новая царица Мария Григорьевна.
Вместо старицы Марфы снова и снова свидетельствовал о смерти царевича Дмитрия в Угличе в 1591 году боярин князь Василий Иванович Шуйский. Голландец Исаак Масса в «Кратком известии о Московии» сообщал, что бывший глава следственной комиссии в Угличе снова подтвердил официальную версию (заметим, уже после смерти Бориса Годунова). Его речь, обращенная к народу в Москве, в передаче Исаака Массы выглядит очень правдоподобной: «Князь Василий Иванович Шуйский вышел к народу, и говорил с ним, и держал прекрасную речь, начав с того, что они за свои грехи навлекли на себя гнев Божий, наказующий страну такими тяжкими карами, как это они каждый день видят; сверх того его приводит в удивление, что они все еще коснеют в злобе своей, склоняются к такой перемене, которая ведет к распадению отечества, также к искоренению святой веры и разрушению пречистого святилища в Москве, и клялся страшными клятвами, что истинный Дмитрий не жив и не может быть в живых, и показывал свои руки, которыми он сам полагал во гроб истинного, который погребен в Угличе, и говорил, что это расстрига, беглый монах, наученный дьяволом и ниспосланный в наказание за тяжкие грехи, и увещевал исправиться и купно молить Бога о милости и оставаться твердым до конца; тогда все может окончиться добром»[157]. Известие о «речи» князя Василия Шуйского нельзя проверить по другим источникам. Более того, весь жизненный опыт отучил его от опасного «красноречия». Скорее боярин Шуйский обладал даром другого рода: он умел вовремя сказать то, что от него ждали.
Как бы ни влиял своими речами князь Василий Иванович на московский посад весной 1605 года, главное состояло в том, что его поддержка царевича Федора Борисовича не могла быть глубокой и искренней. Сын Годунова должен был внушать такой же страх, как и отец, даже если, по своей молодости, не давал для этого поводов. Однако боярин Шуйский не мог, не потеряв лица, поменять столько раз подтверждавшиеся им показания о смерти царевича Дмитрия Ивановича в Угличе. Возможность воцарения Лжедмитрия сулила князю Василию Ивановичу еще худшую перспективу, так как именно на его показаниях и держалась официальная версия о гибели настоящего сына Ивана Грозного. Шуйский выбрал формально законный путь поддержки династии Годуновых, и его, несмотря ни на что, не было среди тех, кто изначально примкнул к авантюрному сценарию расправы с Годуновыми с помощью «царевича Дмитрия».
Отозванный «тотчас» в Москву ко двору нового царя Федора Борисовича, боярин князь Василий Иванович Шуйский встретил в столице известие о переходе его бывшей армии под Кромами на сторону самозваного «царевича Дмитрия». Решительный шаг был сделан в начале мая 1605 года боярами князем Василием Васильевичем Голицыным и Петром Федоровичем Басмановым, увлекшими за собой служилых людей рязанских и украинных «городов». Позднее безымянный автор «Иного сказания» — одного из самых интересных и полных сочинений о Смуте, оставленных современниками, — пытался оправдать действия воевод, сомневавшихся в том, что простой человек, не царевич, мог решиться на такое дело: «а худу и неславну человеку от поселян, Гришке ростриге, как такое начинание возможно и смети начата?» В том-то и дело, что начать, как оказалось, было можно, а вот продолжение дела «царевича» зависело уже от Боярской думы, которая впервые разделилась под Кромами в своей поддержке Лжедмитрия. Возможно, что на самом деле бояре предполагали «прирожденность» царевича. Вся его история не случилась бы никогда, если бы он не убедил окружающих, что является настоящим сыном Грозного. Однако еще заметнее в действиях думцев был мотив мести возвысившимся Годуновым, попиравшим аристократические рода. Так был сделан выбор в пользу «царевича Дмитрия»: «Да лучше нам неволи по воле своей приложитися к нему, и в чести будем; а по неволи, но з бесчестием нам у него быти же, видя по настоящему времени»[158].
Боярин князь Василий Иванович Шуйский оказался среди тех, кто все равно «по неволи» присягнул царевичу Дмитрию. Ему, горячо убеждавшему москвичей, что несчастного Дмитрия похоронили в Угличе, веры уже не было, когда князья Голицыны, а с ними Басмановы, князья Лыковы, князья Мосальские, Салтыковы, Шереметевы поспешили сформировать новый царский двор во время движения «царевича Дмитрия» от Путивля к Москве. 1 июня 1606 года произошло знаменитое выступление московского посада после чтения «смутных грамот», привезенных Гаврилой Григорьевичем Пушкиным и Наумом Михайловичем Плещеевым. Меньше известно, что адресатами этих грамот были прежде всего бояре князь Федор Иванович Мстиславский и князья Василий Иванович и Дмитрий Иванович Шуйские. Царь Дмитрий Иванович обращался с призывом к ним, стоявшим во главе Боярской думы, и ко всем жителям Московского государства, но все равно это послание не предвещало ничего доброго князю Василию Шуйскому. Царь Дмитрий рассказывал историю своего чудесного спасения в Угличе и упоминал «изменников», которые «вмещали, будто нас великого государя не стало и похоронили будто нас великого государя на Углече в соборной церкви и у всемилостиваго Спаса». Не воспринять эти слова на свой счет бывший глава угличской следственной комиссии, естественно, не мог. Другое дело, что в «смутной» грамоте все списывалось на козни Бориса Годунова. Боярам и воеводам, которые стояли «неведомостию» против царевича Дмитрия (опять случай князя Василия Шуйского), выдавалась индульгенция: «В том на вас нашего гневу и опалы не держим». Их всех приглашали «добить челом» спасшемуся сыну Ивана Грозного и обещали пожаловать выше прежнего: «…и вам, боярам нашим, честь и повышение учиним, а отчинами вашими прежними вас пожалуем, к тому и еще прибавим, в чести вас держать будем»[159].
Все эти обещания не распространялись на род Годуновых. Московский «мир» взбунтовался и свел с престола царя Федора Борисовича и его мать царицу Марию Григорьевну. Глядя на все, что происходило в Кремле и столице, попавшей в руки мятежной толпы, первые бояре не могли не понимать: у них не оставалось никакого выбора присягать или не присягать царю Дмитрию, если только они не хотели повторить судьбу Годуновых. Поэтому 3 июня 1605 года князь Федор Иванович Мстиславский и князья Василий и Дмитрий Ивановичи Шуйские отправили на поклон к царю Дмитрию, находившемуся в тот момент со своим едва образовавшимся «двором» в Серпухове, бояр князя Ивана Михайловича Воротынского и князя Андрея Андреевича Телятевского. Возможно, что и сами руководители Думы поехали на поклон к царевичу Дмитрию. В русских источниках сведений на этот счет нет. Зато о встрече князем Василием Шуйским самозваного царя вне пределов столицы говорили в 1606 году послы Речи Посполитой в Московском государстве Николай Олесницкий и Александр Госевский: «…а самые лучшие из вас, как князь Мстиславский, князь Шуйский и другие, в Тулу к нему, в 30 милях от Москвы, добровольно приехав, за государя своего признали, дали ему присягу и, в столицу препроводив, короновали»[160]. Это был уже не просто переход еще одних бояр на сторону Дмитрия, а акт формальной передачи власти новому царю из рук Боярской думы.
Царь Дмитрий Иванович не отказал себе в удовольствии покуражиться над посланцами Боярской думы. Дмитрию и тогда, и потом, был свойственен особый эгоизм молодости, не считавшейся ни с представлениями, ни с опытом тех, кто был старше его. Равными себе он их тоже не мог считать и учиться ни у кого не хотел. Поэтому первые аристократы должны были наблюдать, как им предпочитают атаманов донских казаков, принимавшихся тогда же, когда было известно, что бояре князья Воротынский и Телятевский ждут царской аудиенции. Тем временем в Москве продолжался переворот. Присланный из Серпухова боярин князь Василий Васильевич Голицын и князь Василий Михайлович Рубец-Мосальский исполнили самую грязную работу: устранили царя Федора Борисовича и его мать царицу Марию Григорьевну. Когда они в сопровождении Михаила Молчанова, дьяка Андрея Шерефединова и нескольких стрельцов покинули царские покои, то народу было объявлено о самоубийстве молодого царя и матери-царицы, испивших свою отравленную чашу до дна; спаслась якобы одна только царевна Ксения. Но правду утаить не удалось, и позднее стали известны подробности отвратительного цареубийства и настоящей расправы с устраненными от власти Годуновыми[161]. Не пощадили даже мертвого Бориса Годунова: его гробница в Архангельском соборе была вскрыта, а тело перенесено в один из бедных московских монастырей. Расправились и со ставленником Годунова патриархом Иовом, вынужденным сложить панагию к иконе Владимирской Богоматери и оставить патриарший престол. Разграбили дворы Годуновых и их родственников Сабуровых и Вельяминовых. 11 июня 1605 года стали рассылать окружные послания о присяге царю Дмитрию во имя «прирожения» сына Ивана Грозного. 20 июня самозванец торжественно въехал в Москву. Боярин же князь Василий Иванович Шуйский давно находился среди тех, кто склонил голову перед победителем.
Князь Василий Шуйский попал в самое двусмысленное положение. Никто его, конечно, не мог бы заподозрить в симпатиях к Годуновым, но ему нельзя было простить и того, что он уже неоднократно свидетельствовал о смерти царевича Дмитрия, начиная с того самого мая 1591 года, когда в Угличе случилось непоправимое несчастье. Боярин Шуйский помогал разоблачать расстригу Григория Отрепьева при царе Борисе Годунове, он нанес жестокое поражение самозванцу при селе Добрыничах в Комарицкой волости. В столице тоже еще не должны были забыть речи князя Василия Ивановича Шуйского, поддержавшего сына Бориса Годунова, а не «сына» Ивана Грозного…
При въезде царя Дмитрия Ивановича в Москву все, конечно же, со вниманием смотрели на будущего самодержца. Кого увидел боярин князь Василий Иванович Шуйский? Не узнал ли он, подобно другим, Григория Отрепьева? По словам летописца, узнавшие «растригу» «не можаху что соделати кроме рыдания и слез». История сохранила и имена тех, кто речами обличения встретил самозванца. Об этом написал келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын в своем знаменитом «Сказании» (цитировавшееся выше «Иное сказание» было написано и получило свое название как еще один, «иной», вариант исторического повествования о Смуте, отличный от сочинения Авраамия Палицына): «Мученицы же новии явлынеся тогда дворянин Петр Тургенев, да Федор Колачник: без боязни бо того обличивше, им же по многих муках главы отсекоша среди царьствующего града Москвы»[162]. Однако москвичи, предвкушая радость новых коронационных торжеств, не восприняли предупреждений, «ни во что же вмениша» эти казни.
Не менее, чем на царя, все смотрели на его ближайших бояр, пытаясь понять, действительно ли у них на глазах происходит чудо возвращения «прирожденного» царевича. Самозванец придумал тонкий ход, чтобы обезопасить себя от их возможной нелояльности. Когда он въезжал в Москву, то посадил к себе в карету руководителя Боярской думы боярина князя Федора Ивановича Мстиславского и боярина князя Василия Ивановича Шуйского. Так, окруженный первейшими князьями крови, оказывая им почет своим приглашением, он одновременно держал под присмотром бывших главных воевод рати Бориса Годунова.
Истинность царя Дмитрия Ивановича лучше всего могла быть подтверждена или опровергнута царевыми боярами. На этот счет по Москве ходили разные слухи. Жертвой одного из откровенных разговоров, подслушанных соглядатаем, стал боярин князь Василий Шуйский. Царю Дмитрию Ивановичу быстро пришлось столкнуться с тем, что за видимостью покорности может скрываться измена. Слишком уж неприятным было раболепие, с которым встречали «истинное солнышко наше», настоящего царевича, поэтому кому-то из тех, кто подходил с поздравлениями к Шуйскому (говорят, что это был известный зодчий и строитель Смоленской крепости Федор Конь), боярин якобы высказал то, что думал на самом деле: «Черт это, а не настоящий царевич; вы сами знаете, что настоящего царевича Борис Годунов приказал убить. Не царевич это, но расстрига и изменник наш»[163]. Конечно, слова эти, даже если они действительно были произнесены, прошли через многократную передачу и не могут быть восприняты как протокольная запись сказанного боярином. Однако можно обратить внимание на совпадение акцентов в разговоре Шуйского со своим торговым агентом и речами несчастного Федора Калачника, кричавшего собравшейся на казнь толпе: «Се прияли образ антихристов, и поклонистеся посланному от сатаны». Пришествие «царевича» из ниоткуда явно смущало жителей Москвы, и боярин князь Василий Иванович Шуйский имел неосторожность подтвердить их опасения.
«Дело Шуйского» — один из самых темных сюжетов, связанных с воцарением Дмитрия. Многие его детали по-прежнему остаются неясными: слишком уж непохоже на Шуйского, чтобы он потерял присущую ему осторожность. На самом деле причиной расправы, видимо, стал тайный донос царю Дмитрию, о котором позднее писал коронный подстолий Станислав Немоевский. Он находился в ссылке вместе с доверенным человеком Лжедмитрия, его секретарем Станиславом Слоньским, от которого и знал обстоятельства «дела Шуйского». Роковую для князя Василия Ивановича «записочку» в руки Дмитрию передал именно Станислав Слоньский, который, правда, не знал ее содержания. Если секретарь Дмитрия не лукавил и действительно не распечатывал документ, то это значит, что он принял его от кого-то, кому безусловно доверял. Кто был тот человек, который осуществил интригу против князя Василия Шуйского, ныне остается только догадываться.
В первые дни своего царствования царь Дмитрий Иванович еще стремился демонстрировать то, что он никому не будет мстить за прежние службы Борису Годунову. «Дело Шуйского» в любом случае выглядело бы как месть, поэтому царю оказалось выгоднее добиться лояльности князей Шуйских, в то время как другие бояре были не прочь устранить вечных конкурентов руками самозванца. Показательно, что царь Дмитрий не стал ни с кем советоваться, созвав для решения участи боярина князя Василия Ивановича Шуйского подобие земского собора. Во всяком случае, новый царь не побоялся придать широкую огласку всему делу и именно совместному заседанию освященного собора и Боярской думы предложил решить участь братьев князей Шуйских[164]. Князя Василия Ивановича Шуйского даже не арестовывали. Он вместе с другими членами Думы приехал в Кремль, не зная, что будет решаться его судьба и что он окажется так близок к смерти.
В речи на соборе царь Дмитрий выступал как продолжатель «лествицы» князей московского царствующего дома, обвиняя весь род Шуйских в измене: «Припоминаю, как эта семья всегда была изменническою по отношению к моему дому; как еще при отце моем, Иване Васильевиче, она делала усилия искоренить мой дом, желая самим сделаться господами нашего наследственного государства, разделивши его между собою». Царь переходил в наступление и осуждал желание самих Шуйских искать царства («задумали идти путем изменника нашего Бориса»). О самом главном вопросе — о своей «прирожденное™» — царь Дмитрий говорил вскользь, приводя дополнительные доводы в пользу измены всех трех братьев князей Василия, Дмитрия и Ивана Ивановичей Шуйских: «Не меньшая вина, что меня, вашего прирожденного государя, изменником и неправым наследником (царевичем) вашим представлял Василий перед теми, которых следует понимать такими же изменниками, как он сам; но еще в пути, едучи сюда, после только что принесенной присяги в верности и повиновении, они все трое подстерегали, как бы нас, заставши врасплох, в покое убить, на что имеются несомненные доводы. Почему, хотя и в мощи нашей есть, но мы не желаем быть судьей в собственном деле, требуем от вас и желаем слышать ваше мнение, как таким людям следует заплатить»[165].
Однако никаких доказательств вины князьям Шуйским предъявить не смогли. Впрочем, этого и не требовалось еще со времен Ивана Грозного, казнившего бояр по своему усмотрению. Пример князей Шуйских должен был показать, как новый царь собирался расправляться с изменниками. Но Лжедмитрий неожиданно доверил боярам самим решить судьбу рода Шуйских на соборном заседании. И боярин князь Василий Иванович Шуйский быстрее остальных членов Думы сумел приспособиться к этим правилам игры. Он стал каяться в произнесенных словах перед царем, освященным собором и Боярской думой: «Виноват я тебе, великий князь Дмитрий Иванович, царь-государь всея Руси, — я говорил, но смилосердись надо мною, прости глупость мою, и ты, святейший патриарх всея Руси, ты, преосвященный митрополит, вы, владыки-богомольцы, и все князья и думные бояре, сжальтесь надо мною, страдником, предстаньте за меня, несчастного, который оскорбил не только своего государя, но в особе его Бога всемогущего»[166].
Мольба князя Василия Ивановича о предстательстве поначалу была тщетной. В источниках сохранились сведения, что за него якобы просила мать царя Дмитрия — инокиня Марфа. Но этого не могло быть: царица в тот момент еще не успела вернуться в Москву. Даже польским секретарям приписывалось заступничество за Шуйских. Боярская же дума, напротив, выдала князей Шуйских на расправу царю. Автор «Нового летописца» писал, что «на том же соборе ни власти, ни из бояр, ни ис простых людей нихто же им пособствующе, все на них же кричаху»[167]. Дело дошло до плахи. Подобно тому, как Борис Годунов наносил удары по старшему в роде, так и царь Дмитрий решил наказать первого из братьев Шуйских. Все понимали последствия такой политической казни в самом начале царствования Дмитрия, и это был тот шанс, которым воспользовался боярин князь Василий Иванович. Стоя на площади в окружении палачей, с обнаженной шеей, он и на пороге гибели продолжал убеждать о помиловании… но не ради себя, а ради славы того государя, в подлинности которого он теперь клялся: «монархи милосердием приобретают себе любовь подданных», пусть все скажут, что Господь дал «не только справедливого, но и милосердного государя». Да, такие разговоры были нужнее новому царю, чем голова его первого боярина. Сама казнь была назначена, по сведениям иезуитов из свиты царя Дмитрия, на 10 июля 1605 года по григорианскому календарю или 30 июня по юлианскому, принятому в России. В этот воскресный день на свой престол вступал новый патриарх Игнатий, и совсем негоже было омрачать громкой казнью такое событие.
«Подлинный сфинкс тогдашней Москвы», по выражению о. Павла Пирлинга, сумел устоять и на этот раз, избежав казни в самый последний момент[168]. Конечно, Шуйских постигла опала, они были лишены имущества и удалены из Москвы, но это не сравнимо с теми последствиями, которые могли бы случиться в результате физического устранения старшего князя из суздальской ветви Рюриковичей. Прекратив всякие надежды на то, что боярин князь Василий Иванович Шуйский может разоблачить царя Дмитрия Ивановича, самозванец достиг цели. Царь выбрал милость, а не грозу в отношении бояр. Но руку сына Грозного царя они тоже должны были почувствовать. В этом устрашении Боярской думы и в расправе с кланом князей-Рюриковичей, претендовавших на московский престол по одному праву рождения, и состоял главный итог их дела.
Отправив братьев Шуйских в ссылку в Галич (туда же, где они уже однажды пережили опалу в начале царствования Федора Ивановича), царь Дмитрий Иванович сделал следующий беспроигрышный ход, чтобы компенсировать отсутствие суздальских князей в Думе. Он приблизил к себе молодого князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Тому едва исполнилось 17 лет, и он только вступил в службу в конце царствования Бориса Годунова. Единственное упоминание его имени в разрядных книгах относится к приему кизылбашского посла Лачин-бека 4 сентября 1603 года, на который пригласили когда-то бояр князей Василия и Дмитрия Ивановичей Шуйских. Их молодой родственник князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский был стольником и «в большой стол смотрел»[169]. В 1604 году, когда собирали войско для борьбы с самозванцем, его еще продолжали считать недорослем, поэтому князь Михаил Васильевич выставил вместо себя на службу даточных людей. С огромных владений его отца боярина князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, перешедших по наследству к сыну, полагалось снарядить в войско целых 56 человек[170]. В любом случае то, что князь Михаил Скопин-Шуйский не успел лично поучаствовать в боях с армией «царевича Дмитрия», сказалось на отношении к нему уже царя Дмитрия. Воцарившийся «наследник» царя Ивана Грозного внес изменения в чины русского двора и по образцу Речи Посполитой сделал князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского своим «мечником». Все это обещало то, что князья Скопины-Шуйские, и так имевшие генеалогическое преимущество в суздальском доме, получат предпочтение и при дворе царя Дмитрия. Тем более, что молодой двор и молодые забавы явно больше привлекали царя Дмитрия Ивановича, сразу показавшего, что он презирает погрязших в старых счетах бояр Бориса Годунова.
Что бы ни планировал сделать царь Дмитрий во время своего короткого царствования, — у него было главное дело, которое занимало русского самодержца больше всего остального: он стремился получить в жены Марину Мнишек, дочь сандомирского воеводы и сенатора Речи Посполитой Юрия Мнишка[171]. Когда в сентябре 1605 года Боярская дума вступила в переписку с отцом царской невесты (неслыханное дело!), на любезное письмо Юрия Мнишка отвечали два боярина — князь Федор Иванович Мстиславский и князь Иван Михайлович Воротынский. Помимо всего прочего, это означало, что князья Шуйские в тот момент все еще находились в опале. Их же место понемногу занимали другие, в том числе возвращавшиеся из годуновских ссылок Романовы и Нагие.
В ноябре 1605 года состоялось заочное обручение царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек через русского посла Афанасия Власьева. Этот обряд обручения через уполномоченного, допускаемый католической церковью, не имел никакого смысла для подданных царя Дмитрия Ивановича в Московском государстве. Но для самого Дмитрия это был важный рубеж и еще один шаг к мечте сделаться первым русским императором, возглавляющим крестовый поход против Турции. А там, может быть, и… королем Речи Посполитой. Во всяком случае, слухи о подобных разговорах дошли аж до Сигизмунда III и навсегда отвратили его от дальнейшей поддержки оказавшегося неблагодарным «московского господарчика».
В Москве с конца 1605 года стали ожидать приезда царской невесты из Речи Посполитой, и на радостях царь Дмитрий Иванович простил князей Шуйских, вернув их из опалы. Однако сами они вовсе не простили его. Наученные горьким опытом отложенной казни князя Василия Ивановича, Шуйские начали действовать тайно. Много позднее гетман Станислав Жолкевский в своих записках о «Московской войне» обмолвился, что гонец Лжедмитрия I Иван Безобразов имел доверительное поручение к литовскому канцлеру Льву Сапеге от князей Шуйских и Голицыных. Он должен был устно передать в Литву, «что они думают, каким бы образом свергнуть его (самозванца. —
В самом начале 1606 года князь Василий Иванович Шуйский только подбирался к трону. Царь Дмитрий Иванович был занят собою и своими императорскими планами и не очень обращал внимание на доходившие слухи о заговорах и умыслах на его жизнь. Он действительно простил князей Шуйских, а младшему брату — князю Ивану Ивановичу Шуйскому — даже вернул боярский чин, отобранный у него Борисом Годуновым. По росписи полков Украинного разряда, составленной 1 марта 1606 года, боярин князь Иван Иванович Шуйский назначался первым воеводой Большого полка в Туле (по другим разрядам — в Мценске). Еще более высокое назначение ожидало старших братьев, князей Василия и Дмитрия Ивановичей Шуйских, назначенных первыми воеводами серпуховского «берегового разряда» в полку правой руки в Алексине и передовом в Калуге[174].
Устраивая свадьбу, царь Дмитрий не забывал и о своих боярах. Глава его иноземной охраны французский капитан Жак Маржерет писал, что «он разрешил жениться всем тем, кто при Борисе не смел жениться: так, Мстиславский женился на двоюродной сестре матери сказанного императора Дмитрия, который два дня подряд присутствовал на свадьбе. Василий Шуйский, будучи снова призван и в столь же великой милости, как прежде, имел уже невесту в одном из сказанных домов, его свадьба должна была праздноваться через месяц после свадьбы императора. Словом, только и слышно было о свадьбах и радости ко всеобщему удовольствию, ибо он давал им понемногу распробовать, что такое свободная страна, управляемая милосердным государем»[175]. Кто была избранница князя Василия Ивановича Шуйского в этот момент, неизвестно. Он давно должен был подумать о продолжении рода князей Шуйских, но в новый брак ему удастся вступить только в начале 1608 года.
Сначала все основные участники русской драмы под названием «Смутное время» сошлись на свадебном веселье царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек. По разрядным книгам, во время приезда царской невесты в Москву 2 мая 1606 года «Маринку за городом встречали бояре князь Дмитрей Иванович Шуйской, да Петр Федорович Басманов… а боярин князь Федор Иванович Мстиславской со всеми бояры встречал Маринку за городом в шатре»[176]. Этот момент общей встречи боярами своей будущей царицы Марины Мнишек упоминается в мемуарах приехавшего в ее свите Станислава Немоевского. Оказалось, что именно князю Василию Шуйскому Боярская дума поручила говорить приветственную речь: «Василий Шуйский… от имени всех приветствовал речью — кратко, с робостью и по записке, вложивши ее в шапку»[177]. Что за деталь, ее мог сообщить только очевидец! Боярин Шуйский читал свою речь по заранее заготовленной бумажке, даже не особенно пряча ее. То ли не имея искреннего стремления встречать иноземку, то ли защищаясь, на всякий случай. Ведь такую прочитанную речь всегда можно предложить для глаз высочайшего цензора, если потребуется.
Царь Дмитрий инкогнито наблюдал за всем происходящим, смешавшись с праздной толпой, стекавшейся увидеть необычное зрелище. Самые же большие торжества были приготовлены в Кремле в день царской свадьбы и венчания Марины Мнишек на царство в Успенском соборе 8 мая 1606 года. Всю неделю до этого времени Марину Мнишек готовили к роли русской царицы под присмотром последней жены царя Ивана Грозного старицы Марфы Нагой, жившей на покое в Вознесенском монастыре. Князю Василию Ивановичу Шуйскому была отведена почетная роль «тысяцкого». Выше него из бояр на этой свадьбе царя Дмитрия был только князь Федор Иванович Мстиславский, поставленный «в отцово место». Князь Дмитрий Иванович Шуйский был первым царским «дружкой», а его княгиня — Екатерина Григорьевна (между прочим, родная сестра жены Бориса Годунова) — была «свахой княжей». Другим дружкой был Григорий Федорович Нагой, а его жена Марья Андреевна — «свахой». Если кто из них что и знал о далеких событиях 1591 года в Угличе, то теперь должен был поскорее забыть об этом. Князья Шуйские еще несколько раз упоминались в свадебном разряде самозванца. Место отсутствовавшей пока у князя Василия Ивановича Шуйского жены заняла Алена Петровна — вдова князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, сидевшая на свадьбе «в лавке в болшем столе» рядом с княгиней Мстиславской. «Мовником» и «с околничими ходил» мечник князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Он находился рядом с царем Дмитрием Ивановичем в самый торжественный момент входа свадебной процессии в Успенский собор. Князю же Василию Ивановичу Шуйскому досталась другая роль: по окончании службы в Успенском соборе он выводил венчанную царицу Марину Мнишек под руку вместе с царем Дмитрием Ивановичем. В конце свадебных торжеств князь Василий Шуйский проводил царя Дмитрия Ивановича и Марину Мнишек до царских «постельных хором»[178].
Кто бы мог подозревать в этом неуверенном в себе и во всем покорном царской воле боярине главу будущего заговора! Всего через девять дней сказка Марины Мнишек завершится и Василий Шуйский устранит из русской истории самозваного царя Дмитрия.
День 17 мая 1606 года стал одним из главных дней в жизни князя Василия Шуйского. Весь его опыт, казалось бы, напрочь отучил его действовать самостоятельно, он испытал опалу каждого царя, которому служил, и едва не сложил голову на плахе. И он же сумел нанести первый удар заговорщика. Мотив действий участников заговора понятен: они объединились для того, чтобы убить царя Дмитрия, воспользовавшись его беспечностью во время свадебных торжеств. Слишком многим брак царя с польской шляхтенкой Мариной Мнишек оказался не по нраву из-за очевидного разрыва с традицией «прежних государей». Показательно, что в заговоре участвовали старые враги. Настоящий Рюрикович князь Василий Иванович Шуйский вступил в союз со своим бывшим гонителем, годуновским клевретом Михаилом Игнатьевичем Татищевым. Такая противоестественная политическая комбинация оправдывалась только общей ненавистью к царю Дмитрию Ивановичу. Оказался среди заговорщиков также князь Василий Васильевич Голицын, еще ранее предупреждавший, вместе с князьями Шуйскими, литовского канцлера Льва Сапегу о готовности сместить самозванца. Увидев многотысячный свадебный поезд Марины Мнишек и хозяйничавшую в Москве «литву», княжеско-боярская знать явно испугалась, что ее господствующему положению приходит конец. Подобно тому, как во время свадьбы «Ростриги» между ними затесались Мнишки, Вишневецкие, Стадницкие и Тарло, эти и другие польско-литовские рода и далее будут находиться слишком близко к власти. Поступаться же своими природными правами члены Боярской думы не хотели. Отнюдь не случайно в первое время после переворота в обвинениях самозванцу отчетливо звучит мотив готовившейся им расправы с лучшими боярами: «Убити де велел есми бояр, которые здеся владеют, 20 человек. И как де тех побью, и во всем будет моя воля»[179]. Таким образом, действия заговорщиков могли выглядеть как спасение собственной жизни и защита старинных государственных порядков. Хотя уже одно то, что глава заговора князь Василий Шуйский сменит на царском престоле поверженного царя Дмитрия, достаточно свидетельствует о том, что это была прежде всего борьба за власть.
17 мая (27-го по новому стилю) 1606 года произошел, по словам автора «Дневника Марины Мнишек», «злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились, составляя конфедерации и присягая». Впрочем, даже сами поляки и литовцы понимали, что часть вины лежала на них самих: уж слишком часто в разгуле свадебных торжеств они задирали москвичей. Грабежи и насилия, создававшие впечатление оккупации столицы вражескими силами, становились причиной вооруженных стычек. Царь же Дмитрий, боявшийся показать, что он не управляет страной, не слушал доносов о подозрительных действиях заговорщиков. Момент был самый что ни на есть подходящий. Слишком многие в Москве оказались недовольны царем. Другого такого случая могло не представиться.
План князя Василия Шуйского и его сторонников состоял в том, чтобы под благовидным предлогом впустить в Кремль толпу людей, расправиться с охраной царя Дмитрия Ивановича и убить его. Что при этом делать с царицей и приехавшими из Польши родственниками Марины Мнишек, не продумали, положившись на стихию выступления всем «миром». На руку восставшим было то, что в Москву уже начали съезжаться дворяне и дети боярские из дальних городов, в частности Великого Новгорода. Вместо крымского похода для них нашлась новая служба, и эти служилые люди, имевшие необходимое вооружение, выступили на стороне участников заговора.
Ранним субботним утром 17 мая по направлению к Кремлю бежали люди с криками «В город! В город! Горит город» (городом в Москве традиционно называли Кремль). Во всех кремлевских храмах ударили в набат. Небольшая стрелецкая охрана у ворот Кремля была сметена и быстро разбежалась. Около двухсот заговорщиков бросились к дворцу, где находились царь и царица. Там немецкие алебардщики тоже не оказали никакого сопротивления. Единственным, кто обнажил саблю и вступился за царя Дмитрия, был дневавший и ночевавший у царских дверей боярин Петр Басманов. Тут же он и погиб вместе с несколькими оставшимися верными царю Дмитрию людьми. Говорили, что заговорщиков вел к самозванцу именно князь Василий Шуйский: «Сам Шуйский с помощниками вошел в первые покои, в которых сперва убили Басманова, обычно спавшего около царя»[180].
Загнанный царь Дмитрий выпрыгнул из одного из дворцовых окон во двор. Высота была слишком большой, он повредил ногу, сильно ушибся и потерял сознание. Тем временем на звук набата в Кремле высыпали люди, услышавшие, что «литва бояр бьет! На помощь боярам!» Среди них были стрельцы, схватившие Дмитрия и приведшие его в чувство, облив водою. Царь инстинктивно почувствовал, что именно в таком прыжке и был его единственный шанс на спасение. Во дворце заговорщики могли сделать все тайно. А здесь, схваченный на дворе людьми, не посвященными в цели заговора, царь Дмитрий сам попытался опереться на «мир», умолял защитить его от Шуйских и привести на Лобное место. Вспомнил ли он тогда, как сам помиловал князя Василия Шуйского и избавил его от казни на этом же самом Лобном месте?
Но фортуна уже отвернулась от царя Дмитрия. «Видно, так угодно было Богу, не хотевшему долее терпеть гордости и надменности этого Димитрия, который не признавал себе равным ни одного государя в мире и почти равнял себя Богу», — заключали послы Речи Посполитой Николай Олесницкий и Александр Госевский, составившие по горячим следам самое достоверное донесение о перевороте в Москве 17 мая 1606 года. Царь остался в тот момент один на один со своими боярами, но на этот раз они не слушали его покорно, а сами учили уму-разуму, обвиняя, что он «не действительный Димитрий, а Гришка Отрепьев». То, что раньше убеждало всех, — ссылки на признание его «матерью» Марфой Нагой, — больше не действовало, а боярин князь Василий Голицын даже передавал от ее имени, что «она сознается и говорит, что он не ее сын, что ее сын Димитрий действительно убит и тело его лежит в Угличе». Точку в истории самозванца поставил дворянин Григорий Валуев, протиснувшийся в толпе к боярам и выстреливший «из-под армяка» в Дмитрия из ручной пищали. Царь Дмитрий был убит, и толпа бросилась терзать уже мертвое тело[181].
Власть снова оказалась в руках Боярской думы, и она приняла меры, чтобы утихомирить восставшую толпу и быстро навести порядок. Боярин князь Василий Иванович Шуйский ездил по столице, чтобы остановить расправу на том дворе, где затворился князь Константин Вишневецкий. Выжившие во время московского бунта поляки описали, как это происходило: «Увидев тогда, что много людей побито, прискакал сам Шуйский (тот, что царем стал) и крикнул князю, чтобы тот перестал сражаться. Взяв крест, поцеловал его Шуйский, обещая князю мир. Тот поверил ему и впустил его к себе. Войдя в дом, Шуйский сильно плакал, видя там очень много убитой „москвы“, которые пытались прокрасться с тыла для грабежей. Наши всех побили, другие, пытавшиеся залезть в окна, прыгая, шеи поломали. Тогда Шуйский, боясь, чтобы народ снова не захотел расправиться с князем, взял его с лучшими слугами на другой двор, забрав с собою вещи и всех лошадей»[182].
Слезы боярина, понявшего, к каким жертвам привели его действия, высохли быстро. Князь Василий Иванович постарался сделать все, что было возможно в тех условиях, чтобы показать, что свержение самозваного царя не имело целью расправу с Мариной Мнишек, ее родственниками и гостями. Дворы сандомирского воеводы Юрия Мнишка, Константина Вишневецкого, послов Речи Посполитой Николая Олесницкого и Александра Госевского и других были взяты под охрану. Имущество, захваченное в покоях недавней царицы Марии Юрьевны, переписано и опечатано. В Москве хорошо понимали, что судьба задержанных поляков и литовцев никого не оставит равнодушным в Речи Посполитой. Поэтому одним из первых дел Василия Шуйского стала отправка посольства князя Григория Константиновича Волконского и дьяка Андрея Иванова к королю Сигизмунду III с извещением о восшествии на престол. Оно же должно было объяснить «в Литве», как случилось, что на московском престоле очутился мнимый сын Ивана Грозного.
В Москве обвиняли во всем происшедшем тех, кто ранее поддержал Дмитрия, начиная с самого его появления в Речи Посполитой. Тем более, что главный свидетель — сандомирский воевода Юрий Мнишек — находился в русской столице. Его и решили расспросить в первую очередь, чтобы получить дополнительные аргументы для обвинения короля Сигизмунда III. Боярская дума принимала воеводу Юрия Мнишка в Кремле еще до официального венчания Василия Шуйского на царство. Собственно говоря, это был не прием, а вызов на допрос, где, как записал человек из свиты Мнишков, «всю вину за смуту, происшедшие убийства, кровопролитие они возлагали на пана воеводу, будто бы все это произошло из-за того, что он привел в Москву Дмитрия (которого они называли изменником)». Московских бояр и, конечно, князей Шуйских интересовало, «каким образом тот человек в Польше объявился», «почему его пан воевода к себе принял», «почему король его милость дал деньги», «почему же его пан воевода сопровождал», «почему же кровь проливал», «почему же верил, что он настоящий», «почему же грамот от нас не ждал…?»[183] Однако воеводе Юрию Мнишку удалось легко оправдаться тем, что в самом Московском государстве приняли Дмитрия за своего государя, устранив тем самым любые сомнения в том, что он настоящий царь.
Всего несколько дней продолжался переходный период, пока князь Василий Шуйский не стал очевидно забирать в свои руки власть, доставшуюся ему по праву первенства в организации переворота. 19 мая 1606 года на московском престоле появился новый царь Василий Иванович. Бывший глава заговора так спешил воцариться, что совершил непоправимую ошибку, устранив от выбора нового царя представителей «всей земли». На московской улице обсуждались тогда несколько кандидатур на трон, но никакой предвыборной борьбы не случилось.
Почти при каждом династическом повороте за последние двадцать лет князья Шуйские оказывались на грани жизни и смерти, их отправляли в опалу, приговаривали к казни. Снова дожидаться для себя такой участи князь Василий Иванович Шуйский не мог. Потому он и не устраивал никаких «предъизбраний», не приучал к себе подданных щедрыми пожалованиями и демонстрацией силы, как это было при вступлении на престол Бориса Годунова. От выбора князя Василия Шуйского до венчания на царство 1 июня 1606 года прошло совсем немного времени, которого было явно недостаточно для правильной организации земского собора. Да и думал ли новый царь о созыве такого собора? С царем Василием Шуйским в Москву возвращался консервативный, почти удельный порядок власти, отделенной от «мира», начинавшего чувствовать свою силу. Совсем не случайно, вступая на престол, новый царь Василий Шуйский в обоснование своих прав обратился к генеалогическим доказательствам из далекого прошлого. Главным аргументом стало его действительное, а не ложное, как у самозванца, происхождение от Рюриковичей: «понеже, он, великий государь, от корени великих государей наших царей и великих князей Росийских — от великого князя Рюрика, иже от колена Августа кесаря Римского, и равноапостолного великого князя Владимера, просветившего Рускую землю святым крещением, и от достохвалного царя и великого князя Александра Ярославича Невского; от сего убо прародители твои, великие государи, на уделы переселиша на Суздальское княжение, яко же обычай бе меншим братиям на уделы садитися, и сих сродник ваших начальных государей корень пред ста».
Но одних генеалогических аргументов принадлежности суздальского князя к «корню» ушедшей династии Рюриковичей было явно недостаточно, чтобы успокоить жителей Московского государства и вернуть их к привычным царским образцам. Очень скоро жизнь отменила эти наивные представления, вдохновившие князей Шуйских и тех, кто поддержал их во время захвата власти. Подданные царя Василия Ивановича с первых шагов хвалили своего самодержца за «премножество мудрости, и за поборательство истинны, и за неизреченную милость ко всем человекам»[184]. Но этикетная формула похвалы идеального государя еще должна была пройти проверку временем. Отныне царь Василий Шуйский должен был постоянно убеждать жителей Московского государства в том, что они не ошиблись, избрав его на царство. А сделать это оказалось сложнее всего, потому что никакого выбора у них и не было. Имя прежнего самодержца тоже никуда не исчезло из душ бывших подданных царя Дмитрия Ивановича. Спор пришедшего к власти князя Рюриковича со свергнутым ложным царевичем «Рюриковичем» оказался неоконченным.
Князей Шуйских так часто обвиняли в стремлении обладать царским венцом, что они должны были и сами поверить, что это возможно. Во всяком случае, когда князю Василию Ивановичу представился шанс воцариться на русском престоле, он воспользовался им с торопливой неловкостью, не дождавшись даже, когда тело повергнутого самозванца уберут с Красной площади… Удивительно, как все источники, русские и иностранные, согласно свидетельствуют о той спешке, с которой было проведено избрание нового царя. Он был избран на царский престол «малыми некими» (Авраамий Палицын), «спешно председ» (Иван Тимофеев) и не «советова со всею землею» («Новый летописец»). Конрад Буссов в «Московской хронике» тоже написал, что князь Василий Шуйский был избран «без ведома и согласия земского собора, одною только волею жителей Москвы, столь же почтенных его сообщников в убийствах и предательствах, всех этих купцов, пирожников и сапожников и немногих находившихся там князей и бояр»[185].
Вступление на престол нового царя, казавшееся заговорщикам само собой разумеющимся делом, оказалось в итоге камнем преткновения для них. Никто не мог предвидеть, что имя Дмитрия окажется популярнее самозваного царя. Не прошло бесследно и время, которое Лжедмитрий I провел на престоле. В Боярской думе, повседневно сталкивавшейся со свергнутым самодержцем, судьба Дмитрия не вызывала сожаления, он откровенно пугал участников заговора опасным пренебрежением к своему «сенату». По-иному к московским событиям отнеслись те, благодаря кому Дмитрий когда-то взошел на престол. В первую очередь это касалось Северской земли, пожалованной больше других и получившей льготы на десять лет. После перемен в Москве можно было не просто забыть о льготах, а опасаться возмездия за свой недвусмысленный выбор, обеспечивший победу самозванцу. Авраамий Палицын в своем «Сказании» показал, что в страхах людей немедленно возникла тень расправ Ивана Грозного: «Севера же внят си крепце от царя Ивана Васильевича последняго Новугороду разгром бывший, и такового же мучителства не дождався на себе, вскоре отлагаются от державы Московския». Казачья вольница, участвовавшая в «славном» походе царя Дмитрия на Москву, тоже могла ожидать возвращения тяжелых притеснений времен Бориса Годунова. Но даже те, кто не принимал никакого участия в истории царя Дмитрия, продолжали находиться под обаянием чудесной истории его воскресения из небытия.
Вместе с принятыми на себя царскими регалиями царь Василий Шуйский должен был воспринять и наследство совершённого переворота. Новый царь все равно воспринимался как первый среди бояр, а возвращение к боярскому правлению, которое хорошо знали по прошлым временам, не сулило ничего хорошего. Присяга быстро избранному на престол царю Шуйскому разделила людей: «и устройся Росия вся в двоемыслие: ови убо любяще, ови же ненавидяше его»[186]. Все недовольство, накопившееся в Московском государстве, теперь имело простой выход, а неподчинение новой власти оправдывалось сохранением прежней присяги. Именем царя Дмитрия началась гражданская война.
В Москве уже третий раз за последний год сменялся царь. Все, кто претендовал на трон после Бориса Годунова, следовали в основных чертах установленной им «модели» престолонаследия. Она включала подтверждение царского избрания патриархом и освященным собором, царским «синклитом» и выборными от «всей земли». Боярин князь Василий Иванович Шуйский, свергнувший своего предшественника, был обречен на то, чтобы действовать в чрезвычайных обстоятельствах, вызванных московским восстанием. В этот момент невозможно было долго решать, кто будет следующим царем, и ждать совета от всех чинов, сословий и областей. Кроме того, патриарх Игнатий, подчинившийся целям царя Дмитрия, был немедленно сведен с престола, и церковь тоже осталась без своего первосвященника. Не случайно архиепископ Арсений Елассонский подчеркивал, что «наречение» нового царя 19 мая 1606 года произошло в отсутствие патриарха. Уже на следующий день, 20 мая, по всему государству были разосланы «окружные» грамоты о его восшествии на престол, к которым прилагались две крестоцеловальные записи[187]. Если одна грамота о приведении к присяге царю не вызывала никаких вопросов, то другая — крестоцеловальная запись самого царя Василия Шуйского своим подданным — выглядела необъяснимым разрывом с традицией. Так случилось то, чего уже никогда не простили царю Василию Ивановичу.
О поставлении царя Василия Шуйского автор «Нового летописца» рассказывал следующим образом: «На четвертый день по убиении Ростригине приехаша в город и взяша князя Василья на Лобное место, нарекоша ево царем и пойдоша с ним во град в Соборную церковь Пречистые Богородицы. Он же нача говорити в Соборной церкви, чево искони век в Московском государстве не повелось, что целую де всей земле крест на том, что мне ни нат кем ничево не зделати без собору никакова дурна: отец виноват, и над сыном ничево не зделати; а будет сын виноват, отец тово не ведает, и отцу никакова дурна не зделати; а которая де была грубость при царе Борисе, никак никому не мститель. Бояре же и всякие людие ему говорили, чтоб он в том креста не целовал, потому что в Московском государстве тово не повелося. Он же никово не послуша и поцелова крест на том всем»[188]. Как видим, летописец подчеркивал необычную быстроту «наречения», сопровождавшегося царской присягой, на которой настоял сам царь Василий Шуйский. Арсений Елассонский тоже написал о том, как «короновали» царя Василия Шуйского в Успенском соборе Кремля (он датировал венчание на царство 26 мая), и привел сведения о крестоцеловальной записи, дословно подтверждающие известия летописца. Проводил церемонию новгородский митрополит Исидор. С царя Василия Ивановича взяли «предварительно клятву в присутствии всех бояр и пред святым крестом в том, что он не будет невинно пытать бояр и народ по каждому делу; что пусть не наказывается отец за сына, ни сын — за отца, ни брат — за брата, ни родственник — за родственника, только виновник пусть несет наказание, после тщательного расследования, по законам, согласно с виною его, а не так как прежде было во времена царя Бориса, который за одного преступника наказывал многих, и происходили отсюда ропот и большая несправедливость»[189].
Объяснить мотивы царского избрания должны были «окружные» послания о восшествии царя Василия Шуйского на престол. Эти грамоты содержали резкие обвинения «богоотступнику, еретику, ростриге, вору Гришке Богданову сына Отрепьева», который «своим воровством и чернокнижством назвал себя царевичем Дмитрием Ивановичем Углецким» и «был на Московском государьстве государем». В подтверждение своей правоты царь и бояре ссылались на преступные замыслы Гришки, чему были найдены доказательства в его переписке со своими сторонниками в Польше и Литве, а также с папой Римским. Упоминали и о расспросных речах «поляка, который жил у него близко», то есть одного из братьев Бучинских, рассказавшего о якобы существовавшем замысле прежнего царя «всех бояр и думных людей и болших дворян побить». А дальше воспроизводилась схема, следовавшая в основных деталях избирательному канону. Правда, она мало соответствовала действительности и была рассчитана не на столицу, где многие даже и не знали, что происходит наречение нового царя, а на дальние города, принимавшие присягу по этой грамоте. В ней говорилось, что царя избирали «всем Московским государьством» по решению освященного собора (без патриарха) и представителей разных чинов от бояр до торговых людей. Все они били челом Василию Шуйскому, чтобы он стал царем «по степени прародителей наших, его же дарова Бог великому государю Рюрику, иже бе от Римского кесаря, и потом многими леты и до прародителя нашего великого государя Александра Ярославича Невского, от него же прародители наши на Суздалской уезд по родству розделишась». Следовательно, соблюдалось «золотое правило»: новоизбранный царь не сам садился на престол, а его просили сделать это. Главной причиной общего выбора при «участии» (выраженном на бумаге) всех чинов стала принадлежность нового царя к династии Рюриковичей и происхождение из рода Александра Невского. Так легитимным избрание царя Василия Шуйского становилось по двум причинам: он занимал трон «за прошеньем… освященного собора и за челобитьем бояр и околничих и дворян и всяких людей Московского государьства, и по коленству нашему», то есть по степени своего родства с угасшей династией прежних царей Ивана Грозного и его сына Федора Ивановича.
Как это бывало со многими русскими царями, начало «дней Васильевых» тоже сопровождалось синдромом благого порыва. Понимая, что стремительное воцарение нарушало негласный общественный договор с «миром», царь Василий Шуйский обещал: «А всех вас хотим жаловати и любити свыше прежнего, и смотря по вашей службе». Более того, он решился вступить в договорные отношения со «всей землей» и присягнуть как на своих обещаниях жалованья, так и на том, что больше не будет преследований без суда. Вопрос о смертной казни, несколько раз близко коснувшийся самого царя Василия, казался ему главным, и именно об этом говорится в тексте знаменитой крестоцеловальной записи. Со временем стало казаться, что в ней содержится чуть ли не добровольное ограничение царской власти. Однако это совсем не так. В летописной передаче царское обещание выглядело так: «Ни нат кем ничево не зделати без собору». Слово «собор» здесь употреблено риторически, в книжном значении, и означает отнюдь не известную форму правления, а всего лишь «совет». В подлинной крестоцеловальной записи сказано: «Не осудя истинным судом
Другая декларация крестоцеловальной записи тоже содержала недвусмысленное обращение к прошлому и касалась практики «доводов» — доносительства, расцветшего при Борисе Годунове. Царь Василий обещал покончить с доносами: «…и доводов ложных мне великому государю не слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том православное християнство безвинно не гибли». Смертная казнь теперь грозила не тем, кого оговаривали, а самим доносчикам: «…и сыскав того казнити, смотря по вине его, что был взвел неподелно, тем сам осудится».
Итак, царь Василий Шуйский на кресте обещал своим подданным «судити истинным праведным судом, и без вины ни на кого опалы своей не класти, и недругом никому никого в неправде не подавати, и ото всякого насилства оберегати»[190]. Все это лишь более подробное развитие положения первой статьи действовавшего Судебника 1550 года: «А судом не дружити и не мстити никому»[191]. Необычность была не в том,
Присяга самому царю Василию тоже немного отличалась по содержанию от аналогичных крестоцеловальных записей царям Борису Годунову, Федору Борисовичу и Дмитрию Ивановичу. Царь Василий Шуйский не имел ни царствующей сестры, как Борис Годунов, ни царствующей матери, как Федор Борисович и Дмитрий. Более того, у него не было даже жены. Поэтому в записи говорилось, что крест целуется царю и — на будущее — «его царице и великой княгине и их царским детем, которых им государем впредь Бог даст». Присягавшие, во-первых, отрекались от любых преступных намерений в отношении царя: «лиха… никакова не хотети, не мыслити, ни думати, ни которыми делы, ни которою хитростью». Во-вторых, обещали служить только царю Василию Шуйскому: «на Московское государьство иного государя и из иных государьств и из своих ни кого не искати, и не хотети, и не мыслити, и не изменити ему государю ни в чем»[192]. В-третьих, крестоцеловальная запись содержала традиционный пункт с запретом «отъезда» на службу в другие государства, восходящий еще к договорным грамотам великих князей. Новое было в том, что не существовало никакого уточняющего списка таких государств, особенно подробно присутствовавшего у царя Бориса Годунова, где упомянуты «цесарь» (император Священной Римской империи), «литовской», «турской» и другие правители. Крестоцеловальная запись царю Василию Ивановичу содержала краткое изложение самых необходимых пунктов, что опять-таки объясняется той быстротой, с которой происходило царское избрание.
Первые распоряжения, сделанные царем Василием Шуйским вслед за его «наречением», показывают, что новая власть желала прежде всего поставить точку в истории царевича Дмитрия. Из Гришки Отрепьева продолжали делать врага православия и Московского государства, обвиняя его в намерении убить всех бояр, передать правление своим польским и литовским приближенным и ввести повсюду католичество в ущерб вере предков. «И мы, слыша такого злодея и богоотступника и еретика чернца Гришки злые умыслы и разоренье на крестьянское государство и на православную веру, ужаснулись, как такой злодей помыслил на такое злое дело», — говорилось в окружных царских грамотах, разосланных по всем городам.
Но и этого оказалось недостаточно. В Углич была направлена специальная комиссия во главе с боярином князем Иваном Михайловичем Воротынским и митрополитом Ростовским и Ярославским Филаретом для освидетельствования мощей погибшего царевича. В нее входили также астраханский епископ Феодосий и бояре Петр Никитич Шереметев и Григорий Федорович и Андрей Александрович Нагие. Царь Василий Шуйский, как известно, был напрямую вовлечен в ту давнюю историю, и на него многие смотрели как на главного свидетеля произошедших трагических событий. В свое время, при Борисе Годунове, боярин Шуйский говорил то, что от него требовалось, и это объяснялось угрозой расправы. Он изменил свою точку зрения «при Росстриге», но все знали, что ему и так угрожала смертная казнь. Пятнадцать лет спустя после смерти царевича пришло время сказать правду. Однако в очередной раз проявилась нерешительность Василия Шуйского, от которой он быстро не мог избавиться. В окружной грамоте 6 июня 1606 года, где рассказывалось о произошедшей смене власти в Московском государстве, царь Василий опять не сказал всю правду, оставив место для различных толкований. В грамоте писали, что угличская драма произошла «по зависти Бориса Годунова», однако царевич сам «яко агня незлобиво заклася». При этом, правда, упоминались «злодеи его и убийцы», получившие воздаяние за смерть царевича[193].
Все это отражало неустойчивое положение, в котором оказалась власть. По сведениям поляков, приехавших на свадебный пир, но оказавшихся вместо этого в положении военнопленных, в Москве еще и неделю спустя после памятного дня 17 (27) мая 1606 года продолжали происходить волнения. Поляки ожидали, что выступления московского посада могут повредить им, но, как оказалось, пришло время выяснить отношения внутри боярской верхушки. Князь Василий Шуйский не зря торопился овладеть царским престолом: промедли он еще хоть какое-то время, борьба за трон разгорелась бы не на шутку.
Вскоре объявился и новый самозванец — царевич «Петр Федорович, названный Медведком». Запись об этом мнимом сыне царя Федора Ивановича датируется в «Дневнике польских послов» уже 23 мая (2 июня) 1606 года. Послам было известно, что царь Дмитрий Иванович еще при своей жизни благосклонно отнесся к появлению своего «родственника» и пригласил его в столицу. Узнав о смерти Дмитрия, донские казаки вместе со своим «царем Петрушкою» начали новой поход на Москву. Тем временем в Москве в ночи происходили заседания Боярской думы, добавлявшие сомнения в том, что бояре смогут договориться между собой. Стало известно об исчезновении из столицы тех, кто был в приближении у царя Дмитрия, — боярина князя Василия Михайловича Рубца-Мосальского, окольничего Григория Ивановича Микулина и Михаила Молчанова[194].
25 мая (4 июня), в первое воскресенье после «наречения» царем Василия Шуйского, из-за новых волнений пришлось даже отложить обещанный прием послов Николая Олесницкого и Александра Госевского в Кремле. Польско-литовским послам стали известны истинная причина и то, что Василия Шуйского еще «не до конца» хотели принять за государя. Народ и стрельцы «очень жалели о смерти Дмитрия, обвиняя бояр в том, что они его убили». Об этом же писал оказавшийся на посольском подворье аугсбургский купец Георг Паерле. Он объяснил, что царю Василию и боярам удалось успокоить «ропот черни, уверив ее, что убит не Дмитрий, а плут и обманщик, что истинный царевич погиб в Угличе и что народ увидит своими глазами его нетленные чудотворные мощи, которые уже везут в столицу»[195]. Возможно, что к этому же времени относится рассказ Жака Маржерета о заговоре в пользу боярина князя Федора Ивановича Мстиславского. Хотя иноземная охрана Дмитрия больше не использовалась, французский капитан оказался в Кремле и был свидетелем едва не состоявшегося переворота. Выходя на службу в воскресный день, царь Василий Шуйский неожиданно узнал, что от его имени собирается на площади народ. Поняв, что против него затевается какой-то мятеж, Шуйский, по словам Маржерета, «начал плакать, упрекая их в непостоянстве, и говорил, что они не должны пускаться на такую хитрость, чтобы избавиться от него, если они того желают; что они сами его избрали и в их же власти его низложить, если он им не нравится, и не в его намерении тому противиться». Конечно, это были всего лишь слова. На самом деле, получив долгожданную власть, царь Василий Шуйский будет последовательно ее отстаивать, хотя расстанется с нею именно под давлением избравших его бояр. Дошло до того, что царь Василий Шуйский стал демонстративно отдавать символы царской власти — посох и царскую шапку, говоря, что, «если так, изберите другого, кто вам понравится», но «тотчас» все взял обратно и потребовал наказания виновников этого выступления. Выяснилось, что все было устроено не самим Мстиславским, грозившим даже уйти в монастырь, если его будут вынуждать избираться на царство, а отсутствовавшим в Москве Петром Никитичем Шереметевым — родственником Мстиславских и Романовых[196].
Приблизительно в эти дни состоялся освященный собор, по решению которого в Углич была направлена упомянутая выше комиссия. Интересно, что по своему составу и представительству, одновременно от освященного собора и от Боярской думы, она напоминала комиссию 1591 года. Только теперь, спустя пятнадцать лет, участники тех событий Нагие уже не находились под подозрением, а наоборот, призваны были подтвердить версию, предложенную некогда боярином князем Василием Шуйским.
Отправляя комиссию в Углич, вероятно, предварительно решали вопрос о «наречении» нового патриарха, которому предстояло участвовать в венчании на царство Василия Шуйского. Логично было видеть в нем духовного главу угличской комиссии Филарета Романова, митрополита Ростовского. С. Ф. Платонов считал доказанным «факт кратковременного пребывания Филарета в достоинстве названного патриарха Московского» в мае 1606 года[197]. 28 мая в Москве получили известие из Углича о досмотре мощей царевича и о проявившихся чудотворных признаках. Рассказ очевидцев из комиссии нареченного патриарха Филарета и боярина князя Ивана Михайловича Воротынского о вскрытой могиле был очень убедительным и запоминавшимся в своих деталях: упоминались «камчатый кафтанец», «сапожки» с немного отставшими «у носков» подошвами и врезающаяся в память пригоршня орешков: «а сказывают, как он тешился и в те пору орешки кушал и как его убили, и те орехи кровью обагрилися»[198]. Наверное, версия об убийстве царевича по приказу Бориса Годунова не выглядела бы столь достоверной, если бы не трогательный рассказ об орешках.
Заговор в пользу боярина князя Федора Ивановича Мстиславского, в котором обвинили боярина Петра Никитича Шереметева, участника угличской комиссии, изменил первоначально задуманную последовательность событий и заставил царя Василия Шуйского действовать решительнее, освобождаясь от возможных соперников в борьбе за престол. Царю избранному было труднее удержать власть, чем династическому наследнику. Еще Борис Годунов внес в текст крестоцеловальной записи слова, препятствовавшие избранию на престол бывшего касимовского царя Симеона Бекбулатовича, один год занимавшего (хотя и номинально) по желанию Ивана Грозного московский престол. Даже насильственный монашеский постриг не избавил ослепшего Симеона Бекбулатовича от вторжения мирских страстей в его жизнь. Царь Василий Иванович тоже увидел какую-то угрозу в жившем на покое в Кириллово-Белозерском монастыре старце Стефане. 29 мая 1606 года из Москвы на Белоозеро к монастырским властям был послан пристав за старцем Стефаном, «что был царь Симеон Бекбулатов». В Кирилловом монастыре старца Стефана должны были передать присланному из Москвы приставу, с тем, чтобы он отвез этого по сути ссыльного монаха, «где ему велено». В том, что на старца Стефана была наложена опала, убеждает то, что прежнее имя царя Симеона написано без «-вича», монастырские власти даже не извещались о том, куда переводят их инока, а местом новой, более дальней, ссылки были назначены Соловки[199]. Возможно, одной из причин опасений царя Василия Шуйского стало близкое родство царя Симеона Бекбулатовича с князем Федором Ивановичем Мстиславским: он был когда-то женат на сестре князя. Мстиславского многие (но только не он сам) желали видеть на русском престоле, и царю Василию Ивановичу приходилось считаться с подобными настроениями.
Следующим стремительным ходом Василия Шуйского стала отправка в Речь Посполитую посольства князя Григория Константиновича Волконского и дьяка Андрея Иванова. Они должны были известить Сигизмунда III об избрании царя Василия Шуйского и договориться о судьбе задержанных в Москве поляков и литовцев.
Главным же событием тех дней стало венчание Василия Шуйского на царство в Успенском соборе в Кремле, произошедшее в воскресенье 1 июня 1606 года. Сохранился «Чин венчания» царя Василия Ивановича. Первенствующая роль отведена в нем по старшинству иерархии новгородскому митрополиту Исидору, еще два митрополита — ростовский и крутицкий — должны были помогать ему во время службы. Но известно, что ростовский митрополит Филарет привез мощи царевича Дмитрия в Москву только 3 июня 1606 года, а значит, венчание на царство Василия Шуйского произошло без него. Не присутствовал в Успенском соборе в день венчания царя и казанский митрополит и будущий патриарх Гермоген, его имя даже не названо в «Чине венчания». Митрополит Гермоген просто не успел по отдаленности Казани приехать в Москву, хотя именно ему «Новый летописец» впоследствии приписал поставление царя Василия Шуйского на царство. Конечно, это должен был сделать нареченный патриарх Филарет. Но из-за недоверия царя Василия Шуйского Филарету не пришлось ни участвовать в церемонии царского венчания, ни стать патриархом[200].
3 июня 1606 года в Москве «со кресты, за Каменным городом», встречали процессию с телом царевича Дмитрия, прибывшую из Углича. Вместе с гробом царевича было привезено «писмо», подтверждавшее случаи исцеления. Дело шло к канонизации невинно убиенного отрока. В Архангельском соборе в Кремле состоялось перенесение мощей. Царица-инокиня Марфа Федоровна во всеуслышание просила прощения у царя Василия Шуйского, освященного собора и всех людей в том, что она лгала им: «А большее всего виноватее перед новым мучеником, перед сыном своим царевичем Дмитреем: терпела вору ростриге, явному злому еретику и чернокнижнику, не объявила его долго». Объяснение было бесхитростным и откровенным: «…а делалось то от бедности». Одновременно прозвучало еще одно важное признание: царица-инокиня Марфа, соглашавшаяся ранее на «воскрешение» своего сына, снова свидетельствовала, что царевича Дмитрия убили «по Борисову веленью Годунова»[201]. Но «единожды солгав»… кто же ей теперь мог верить по-настоящему?
В Москве ходили слухи, переданные в посольском дневнике Николая Олесницкого и Александра Госевского, что в Угличе произошел фарс, к тому же сопровождавшийся кровопролитием: убили некого стрелецкого сына Ромашку (Romiska), заплатив его родителям большие деньги, затем наняли людей, притворявшихся исцеленными. Когда тело царевича Дмитрия было привезено в Москву, его встретили со множеством церемоний. Царь Василий Шуйский лично свидетельствовал обретение нетленных мощей царевича, «восклицая», по свидетельству голландца Исаака Массы: «Днесь зрим мы истинного юного Димитрия, убиенного в Угличе, и Божие провидение сохранило его столь же свежим, как если бы его только положили во гроб». Однако никому не дано было перепроверить царские слова, а таких желающих, помимо самого голландского купца, набралось немало и среди русских людей. «Носилки тотчас были покрыты, — рассказывает Масса, — я бы и сам охотно посмотрел, когда бы меня допустили, также многие монахи и священники, весьма того желавшие; но, возможно, страшились, что у нас слишком длинные языки, и заботились о том, чтобы мы не осквернили святое тело, и привезли его в Москву как святого и угодника, и поставили на носилках в Архангельском соборе, но никто не смел приблизиться к нему, кроме главнейших бояр и епископов, посвященных в это дело». Исаака Массу не убедили ни оглушительный колокольный звон, ни дым от каждения, ни сами начавшиеся исцеления, в которых, как ему казалось, было «осязательно плутовство». Автор «Краткого известия о Московии» язвительно писал о тех, кто хорошо слышал и говорил, пока не заходил в церковь; «и когда выходили оттуда, то становились немыми, когда их о чем-нибудь спрашивали, и, по меньшей мере, заикались». И это даже несмотря на то, что «туда никто не входил, только те, кого впустили»[202]. Обретение мощей царевича Дмитрия, очевидно, виделось иностранцам больше «фортелем» и «фальшью». Приставы польских послов Николая Олесницкого и Александра Госевского благочестиво передавали рассказы о продолжавшихся исцелениях, не ведая, что на посольском дворе мало верят москвичам.
В Москве еще две недели звонили в колокола по всем церквам. Внешне происходившие события, кажется, убеждали русских в святости царевича, а значит, и в справедливости утверждения о его гибели. (Правда, впоследствии выяснилось, что полностью от сомнений избавиться не удалось.) Это, безусловно, укрепляло позиции только что взошедшего на престол Василия Шуйского. Признанию законности его власти должна была способствовать и интронизация нового патриарха Гермогена, произошедшая ровно месяц спустя после встречи мощей царевича Дмитрия — 3 июля 1606 года.
Первые недели царствования Василия Шуйского показали, что не только в столице, но и во всем Московском государстве произошел глубокий раскол. Внешняя форма его была понятна. Все, кто был лоялен к боярской власти, поддержали перемены и воцарение Василия Шуйского, другие же остались верны имени Дмитрия. Войско, собранное для крымского похода под Москвой, сразу распалось по своим политическим пристрастиям. Новгородские дети боярские приняли участие в московском восстании 17 мая 1606 года, и значит, тогда же присягнули царю Василию. Служилые люди северских и рязанских городов не стали принимать присягу под Москвой: «А черниговци, и путимци, и кромичи, и комарици, и вси рязанские городы за царя Василья креста не целовали и с Москвы всем войском пошли на Рязань: у нас де царевич Дмитрей Иванович жив»[203]. Надо представить себе этот поход дворян, вместо войны с Крымом двинувшихся обратно от Москвы в свои поместья. По дороге они разносили новости о перевороте, произошедшем в столице. Вместе с ними волна общего недовольства прошла по всем украинным и северским городам. Очень скоро это мятежное дворянство вернется в Москву, и судьба Московского царства будет поставлена под угрозу.
Присяга царю Василию Шуйскому из формального акта подчинения новой власти превратилась на местах в демонстрацию неповиновения: посланных им людей не слушали, отсылали обратно, а то и вовсе расправлялись с ними. В разрядных книгах упомянуто о гибели воеводы Михаила Богдановича Сабурова в Борисове-городе и князя Петра Ивановича Буйносова в Белгороде. Едва избежал смерти в Ливнах окольничий Михаил Борисович Шеин («утек душею да телом, а животы ево и дворянские пограбили»). Словом, в Разряде вынуждены были написать об усеченной присяге царю Василию Шуйскому, что «крест ему на Москве и в Замосковных городех целовали». То есть почти все окраины государства остались верны царю Дмитрию: «А как после розтриги сел на государство царь Василей, и в полских, и в украинных, и в северских городех люди смутились и заворовали, креста царю Василыо не целовали, воевод почали и ратных людей побивать и животы их грабить и затеели бутто тот вор рострига с Москвы ушол, а в его место бутто убит иной человек»[204].
Главными центрами сопротивления власти царя Василия Шуйского в июне-июле 1606 года стали Путивль и Елец. Движение в Путивле — бывшей столице царя Дмитрия в пору его борьбы с Борисом Годуновым — возглавил Иван Исаевич Болотников. В советской историографии «восстание» или «крестьянская война» под руководством Болотникова оказалась одним из самых «любимых» сюжетов. Имя Ивана Болотникова, в свою очередь, почти полностью заслонило собой и имя царя Василия Шуйского, и все остальные события его царствования. И хотя «восстание Болотникова» оказалось исследовано лучше всех других эпизодов из эпохи начала XVII века, без пересмотра традиционной темы все же не обойтись[205].
У Ивана Болотникова была великолепная авантюрная биография, происшествий в которой хватило бы не на один приключенческий роман. Даже гетман Станислав Жолкевский говорил: «Надлежало бы написать длинную историю, чтобы рассказать все сделанное неким Болотниковым». Истории и романы о нем, и правда, были написаны — но после того, как из него сделали предводителя «первой крестьянской войны». Его судьба показывает, что в России с воцарением Василия Шуйского уже начинали действовать законы Смутного времени. Только в Смуту можно в одночасье превратиться из безвестного человека в исторического героя. Иван Болотников — холоп боярина князя Андрея Александровича Телятевского — по своему сословному чину был примерно равен Григорию Отрепьеву, разве что никогда не менял саблю на книжную науку и чернеческие одежды. Болотниковы — род служилых людей, а свою службу Иван Исаевич нес не в составе дворянской сотни, а во дворе одного из приближенных бояр Бориса Годунова. Как сообщал Конрад Буссов в «Московской хронике», во время какого-то похода он был взят в плен крымскими татарами «в Диком поле» и провел несколько лет на турецких «каторгах» (так назывались суда, гребцами на которых были невольники). Затем их корабль отбили в морском сражении, Ивана Болотникова освободили вместе с другими невольниками и привезли в Венецию. Есть известия о том, что он успел повоевать с турками на стороне Габсбургов в Венгрии. В 1606 году, когда война Империи с турецким султаном завершалась, Болотников решил возвратиться домой. В Речи Посполитой его дорога шла через Самбор, куда приехал из Москвы Михаил Молчанов, которого Ядвига Мнишек, жена сандомирского воеводы Юрия Мнишка и мать русской царицы Марины, стала выдавать за спасенного Дмитрия.
Это и был ключевой пункт истории. Все выходило очень удачно: Болотников, в отличие от других, никогда не видел прежнего царя Дмитрия, а Молчанов, выдавший себя за спасенного царя, был убедителен. В Самборе были готовы ухватиться за любую возможность помочь своим остававшимся в плену родственникам. Поэтому Ивана Болотникова, как опытного воина, снабдили письмом в Путивль к князю Григорию Петровичу Шаховскому и послали его воевать в Московское государство во имя царя Дмитрия. Конрад Буссов приводит напутственную речь мнимого Дмитрия — Михаила Молчанова, с которой Иван Болотников был отпущен из Самбора: «Я не могу сейчас много дать тебе, вот тебе 30 дукатов, сабля и бурка, довольствуйся на этот раз малым. Поезжай с этим письмом в Путивль к князю Шаховскому. Он выдаст тебе из моей казны достаточно денег и поставит тебя воеводой и начальником над несколькими тысячами воинов. Ты вместо меня пойдешь с ними дальше и, если Бог будет милостив к тебе, попытаешь счастья против моих клятвопреступных подданных. Скажи, что ты меня видел и со мной говорил здесь в Польше, что я таков, каким ты меня сейчас видишь воочию, и что это письмо ты получил из моих собственных рук»[206].
Иван Исаевич Болотников оказался тем вождем, которого всегда ждет возбужденная толпа. Получив полномочия от «самого» Дмитрия, он становился в глазах людей авторитетнее всех других воевод и служилых людей. В Москве очень скоро получили известия, «что вор, Московского государства изменник Ивашко Болотников, собрався с воры з донскими казаки и северскими людьми и учал северские городы заходить и приводить к крестному целованью и воровству»[207]. Переводя слова «Бельского летописца» на язык исторических реалий, можно заметить, что в этом известии очень точно обозначены те силы, которые в первую очередь стали основой будущей армии Болотникова. Это донские и прочие «вольные» казаки, а также жители Северской земли. Чтобы снова подчинить их царю Дмитрию, Иван Болотников организовал новую присягу, которая помогала формировать и обеспечивать всем необходимым его войско. Дальнейшие события вовлекли в движение и тех, кто обычно никогда не участвовал в военных походах, — крестьян и холопов. Именно о них как о враждебной силе, выступившей под знаменами Ивана Болотникова, говорил автор «Нового летописца» в специальной статье «О побое и о разорении служивым людем от холопей своих и крестьян»: «Бысть в лето 7115 (1606/07), собрахуся боярские люди и крестьяне, с ними же пристаху украинские посацкие люди и стрельцы и казаки и начаша по градом воеводы имати и сажати по темницам. Бояр же своих домы разоряху и животы грабяху, жен же их и детей позоряху и за себя имаху»[208].
Вторым центром протеста против власти царя Василия Шуйского стал Елец, военное и стратегическое значение которого неизмеримо выросло в царствование Дмитрия Ивановича. В городе были сосредоточены огромные артиллерийские, оружейные и хлебные припасы. А. В. Лаврентьев верно заметил «неслучайный» характер начавшегося движения в Ельце — «базе несостоявшегося Крымского похода»[209]. В силу этого становится понятной не только новая роль Ельца, но и то, почему еще одним вождем антиправительственного движения стал стрелецкий сотник Истома Пашков. Стрельцы и в Москве демонстрировали верность царю Дмитрию, даже в самый критический момент его свержения с престола. Командовали стрельцами приближенные к Дмитрию Ивановичу боярин Петр Федорович Басманов и окольничий Григорий Иванович Микулин. Обычно обеспечивавшие всего лишь тыл и охрану стрелецкие сотни в изменившихся условиях выходили на передний план, влияя на смену правителя. Потом эта традиция стрелецких волнений сохранится через весь «бунташный век» вплоть до Петра I. Стрельцы повернули оружие против царя Василия Шуйского и выступили под началом своего сотника, тоже получившего полномочия из Путивля от князя Григория Шаховского.
Царь Василий Шуйский понимал опасность, грозившую ему в связи с повсеместными слухами о спасении царя Дмитрия. Он сделал попытку усовестить отказавшихся от присяги новому царю жителей Ельца. К ельчанам отправляли грамоты от имени патриарха, освященного собора и «всей земли Московского государства». Но все знали, что никакого собрания выборных в Москву на царское избрание не было. Может быть, в связи с этим, чтобы «компенсировать» отсутствие территориального представительства на выборах царя, из Москвы рассылались пользовавшиеся доверием власти представители местных дворянских корпораций и посадов: «и речью
Избежать разгоравшейся гражданской войны царю Василию Шуйскому не удалось. Он вынужден был отправить свои полки с воеводами прямо туда, где возникали основные очаги неповиновения. Повторялись события из эпохи похода царевича Дмитрия на Москву. Путивль снова стал его столицей, только на этот раз от имени Дмитрия в ней правил князь Григорий Шаховской. Кроме того, у Дмитрия появился «родственник» — царевич Петр Федорович — «вор Петрушка» (мнимый сын царя Федора Ивановича), заменивший восставшим на время своего царя. Опять все сошлось под Кромами, куда с войском были отправлены «на Северу» воеводы Большого полка князь Юрий Никитич Трубецкой, передового полка князь Борис Михайлович Лыков и сторожевого полка князь Григорий Петрович Ромодановский. Им надо было не повторить прежней ошибки и удержать дорогу на Орел — Тулу — Серпухов.
Попытались отвоевать Елец, куда направили большую рать с классическим распределением на пять полков. Во главе Большого полка был поставлен боярин князь Иван Михайлович Воротынский. Он только что успешно выполнил миссию с переносом мощей царевича Дмитрия из Углича, и его возможный успех под Ельцом давал бы ему основание занять место в самом ближнем окружении царя Василия Ивановича. Воеводой передового полка был назначен «в сход» окольничий Михаил Борисович Шеин, но тот, как мы помним, вынужден был все бросить и ретироваться из Ливен. В Елец были направлены также воеводы Григорий Федорович Нагой, князь Василий Карданукович Черкасский и князь Михаил Федорович Кашин. Все лето царские воеводы безуспешно осаждали Кромы и Елец, лишь жарче раздувая пожар междоусобной розни, о чем написал автор «Бельского летописца»: «И под Кромами и под Ельцом были с воры с ызменники многие бои, и кровь ту многая межуусобная пролилась от воровского заводу»[211]. Впрочем, у царя Василия Шуйского еще оставались основания надеяться на лучший исход: благоприятные вести о победах над царскими изменниками приходили от сеунщиков из Ельца, куда для поощрения войска был послан «з золотыми» князь Борис Андреевич Хилков[212].
Перелом все равно наступил под Кромами, когда туда «в осень» подошел со своим отрядом, собранным в Путивле, Иван Болотников. Он, по словам летописи, «государевых воевод и ратных людей от Кром отбил, а сам в Кромах стал». Почему произошел такой поворот? Война дворян, стрельцов и казаков друг с другом могла быть только источником ожесточения. В гражданской войне побеждают только те, кто больше готов к проявлению жестокости. Царским воеводам нужно было доказывать, что правда на их стороне, в то время как те, кто воевал с ними, хорошо знали, что воюют за свои интересы. Ко времени активного выступления Ивана Болотникова имя Дмитрия превратилось в знамя нового социального протеста. Борьба началась не только с воеводами царя Василия Шуйского в городах и в полках, но и со всеми теми дворянами и детьми боярскими, кто воевал на его стороне в полках сотенного строя. Даже если их находили в своих поместьях, то грабили и разоряли. Вот всего один из многих примеров, демонстрирующий методы действий повстанцев. Двигаясь к Калуге, войско Болотникова пришло в Болхов, где застало присланного царем Василием Шуйским для приведения жителей к присяге болховского же дворянина Афанасия Пальчикова. Он был известен тем, что в качестве гонца Бориса Годунова ездил в Речь Посполитую обличать Григория Отрепьева. Во время прихода болотниковцев в Болхов «обличение» было устроено уже ему самому. Позднее его племянник писал в челобитной о действиях верноподданных людей царя Дмитрия: «И как шол вор Ивашка Болотников, собрався с воры, и за та, государь, дядю моево Афанасья Пальчикова распял к городовой стене, и стоял прикован до вечерни, и потом, государь, велел з башни убити»[213]. Сбрасывание «изменников» с городовых стен стало одним из самых распространенных методов устрашения. Автор «Карамзинского хронографа» писал об этом времени: «И в тех украйных, в польских и в северских городах тамошние люди по вражию наваждению бояр и воевод и всяких людей побивали разными смертми, бросали с башен, а иных за ноги вешали и к городовым стенам распинали и многими разноличными смертьми казнили и прожиточных людей грабили, а ково побивали и грабили, и тех называли изменники, а они будто стоят за царя Дмитрия»[214]. Наводившие порядок повстанцы любили справедливость, но они понимали ее по-своему, и горе было тому, кто оказывался на их пути.
Одна из причин поражения царского войска была до банальности проста: сказалась спешка, в которой оно было собрано. Никто не думал, что война затянется, и запасы истощились быстро, а воевать осенью дворяне из «далних городов» Новгорода, Пскова, Великих Лук и Торопца не хотели. Им, а также поддерживавшим царя Василия Шуйского дворянам Замосковного края нужно было вернуться домой до начала осенней распутицы или, по крайней мере, до первых зимних холодов. Ратные люди, остававшиеся под Ельцом, «запасы столовыми велми оскудели и купили чети сухарей по 9-ти рублей и больши. И от тое скудости многие размышленья стали»[215]. Действительно, служилому человеку было о чем «поразмышлять», если все полученное перед походом жалованье он должен был потратить на свое обеспечение. Так голод вкупе с решительным походом всех «северских, полевых и зарецких городов» во имя царя Дмитрия заставил отступать полки царя Василия Шуйского.
Вслед за войском, отступившим под ударом отрядов Ивана Болотникова и Юшки Беззубцова из-под Кром, и другая часть армии царя Василия Шуйского, воевавшая под Ельцом, тоже отошла к столице. Во время этого отхода стало выясняться, что далеко ушедшие от Москвы царские полки оказались во враждебном окружении. Проявилась «шатость орлян», державшихся только из-за присутствия в городе сотен новгородских детей боярских из Бежецкой и Шелонской пятины. Не удержался Новосиль, куда не пустили отходившего от Ельца князя Михаила Кашина, «а целовали крест вору, кой назвался царем Дмитреем». Главного воеводу елецкой рати боярина князя Ивана Михайловича Воротынского дворяне самовольно покинули в Туле («все поехали без отпуску по домом») из-за того, что там тоже «заворовали, стали крест целовать вору»[216]. У войска, уходившего от Кром и Орла, осталась одна дорога к Москве через Калугу, но и туда уже дошла агитация сторонников Дмитрия. «И как их Болотников от Кром оттолкнул, — писали составители разрядных книг, — а от Ельца князь Воротынской отшол же; а воры собрався пошли г береговым городам»[217].
Именно в калужской земле и произошло первое большое столкновение с отрядами болотниковцев, наступавшими на Москву. Положение самой Калуги было неопределенное, туда отошли дворяне замосковных служилых «городов» и новгородские дети боярские, но они не хотели воевать дальше, видя происходившую повсюду присягу Дмитрию. Царь Василий Шуйский посылал «уговаривать» их остаться на службе, но не особенно преуспел в этом. Сначала посланный в Орел воевода князь Данила Иванович Мезецкий встретил отступавшее войско уже у Лихвинской засеки. Потом в Калугу с той же целью «уговорить» уездных дворян продолжать войну были отправлены полки под командованием царского брата князя Ивана Ивановича Шуйского, боярина князя Бориса Петровича Татева и окольничего Михаила Игнатьевича Татищева (одного из главных участников майского переворота). Войско царя Василия Шуйского состояло из «дворян московских, и столников, и стряпчих, и дворовых людей», то есть в него входили самые отборные служилые люди из Государева двора, а также служилые люди дворцовых чинов. Риск царя Василия Шуйского оправдался, и с этим войском, включавшим как московские полки, так и ту часть армии, которая пришла из Кром и Орла, царские воеводы нанесли поражение «ворам» «усть Оки реки на Угре» 23 сентября 1606 года. Однако это не остановило войну с Иваном Болотниковым, который действовал «сослався с колужены». Победителям все равно пришлось оставить Калугу и отойти в Москву. Объясняя причины происшедшего, современник очень точно заметил: «А воеводы пошли к Москве, в Колуге не сели, потому что все городы украинные и береговые отложились и в людех стала смута»[218].
Война с восставшими подошла к линии городов старинного «берегового разряда»: Кашира — Серпухов — Коломна. Положение царя Василия Шуйского осложнялось еще тем, что ближайшие города «от Литовские украйны» — Вязьма и Можайск — «смутил» некий Федька Берсень. В Переславле-Рязанском собралось объединенное войско во главе с Истомой Пашковым и его «ельчанами», головою тульских дворян и детей боярских Григорием Сумбуловым и воеводой рязанского служилого «города» Прокофием Ляпуновым[219]. В отличие от другого отряда под началом Ивана Болотникова, в войске, собранном в Переславле-Рязанском, стало особенно заметным присутствие дворянской поместной конницы.
Посланный в Каширу воевода князь Данила Иванович Мезецкий ни в чем не преуспел, «и Коширы не достали же, отложилась». В Серпухов ходили осенью 1606 года с ратью «на воров» бояре князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, князь Борис Петрович Татев и Артемий Измайлов. Полководческий талант боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского уже начал проявляться, и ему удалось выиграть «бой с воровскими людми на Пахре». Главной же потерей для царя Василия Шуйского оказалось падение Коломны. Укрепления Коломны были взяты с помощью хитрости. Воеводы Истома Пашков, Прокофий Ляпунов и Григорий Сумбулов, видимо, пообещали, что их войско не будет разорять город и уезд. В действительности же произошло обратное. Коломенские жители одними из первых узнали истинное лицо сторонников царя Дмитрия, а царь Василий Шуйский получил возможность использовать коломенский пример в качестве предостережения тем, кто думал ему изменить. В указной грамоте в Муром 27 октября 1606 года говорилось о событиях в Коломне: «Да чтоб вас воры и изменники не оманули и не зделали б над вами так жа, как на Коломне оманом зделали, целовав крест, монастыри и церкви все осквернили и казну пограбили, и оброзы Божьи обругали, оклады ободрали, и дворян и детей боярских, и торговых и всех лутчих людей, жены и дети опозорили нечеловечески, животы розграбили и весь город всяких людей до конца розарили; да и во всех городех, которые городы смутились, те воры також зделали»[220].
Царь Василий Шуйский послал навстречу двигавшемуся от Коломны войску свои полки, но они потерпели поражение под селом Троицким[221]. Река Ока и города «берегового разряда» оказались за спиной восставших. До Москвы оставалось пройти всего пятьдесят верст.
«После Покрова (1 октября. —
В Москве появление на дальних подступах к городу отрядов сторонников царя Дмитрия вызвало шок. Лучше всего об атмосфере потрясения, возникшей при царском дворе и среди самих москвичей, свидетельствует «Повесть о видении некоему мужу духовну». Некий человек пересказал свое «видение во сне» протопопу Благовещенского собора в Кремле Терентию. Тот по его «скаскам» (речам) написал «писмо» и отдал его патриарху Гермогену, рассказав также обо всем царю. Протопоп не открыл имени этого «мужа духовна», которому было видение: якобы тот «заклял деи его именем Божиим, не велел про себя сказывати». В видении рассказывалось о молении Богородицы к своему Сыну, гневавшемуся на народ «нового Израиля» за его грехи: «Понеже бо церковь Мою оскверниша злыми своими праздными беседами, и Мне ругатели бывают, вземше убо от скверных язык мерския их обычая и нравы: брады своя постригают, и содомская дела творят, и неправедный суд судят, и правым убо насилуют, и грабят чужая имения». В видении Господь только обещал пролить свой гнев: «Аз же предам их кровоядцем и немилостивым розбойником, да накажутся малодушнии и приидут в чювство, и тогда пощажу их»[224]. Царь же Василий Шуйский, его «синклит» и «воинство», слушавшие «Повесть» в Успенском соборе, с ужасом должны были понять, что наказание уже свершилось.
Видение это случилось 12 октября 1606 года[225], а уже с 14 по 19 октября царь Василий Шуйский немедленно распорядился установить недельный пост и прочесть видение «миру» в Успенском соборе. В одном из списков «Повести» протопопа Терентия сохранилась запись о ее чтении 16 октября «пред всеми государевы князи, и бояры, и дворяны, и гостьми, и торговыми людьми, и всего Московского государства православными християнами»[226].
Присутствие «разбойников» под Москвой заставляло действовать правительство царя Василия Шуйского. Оно стремилось удержать за собой те города, которые не изменили присяге, и призывало под Москву служилых людей из замосковных, смоленских, новгородских городов. В грамоте, пришедшей в Ярославль 18 октября, убеждали, «чтобы не верили, что Дмитрий мог остаться живым». Жителей города просили остерегаться «загонных людей того разбойничьего войска, которое стоит под Москвою» (пересказ этого документа сохранился в так называемом «Дневнике Марины Мнишек»)[227]. Грамота в Муром 27 октября тоже содержала призыв биться «с ызменники» и уверения, что Дмитрия «жива нет нигде». Между тем положение царя Василия Шуйского становилось все хуже. Пример Переславля-Рязанского, перешедшего на сторону воскресшего царя Дмитрия, повлиял на дальнейшее распространение восстания против Шуйского на востоке государства — в Шацке, Темникове, Кадоме, Касимове, Елатьме, Алатыре и Арзамасе. Ожидали падения Мурома, куда, по сведениям Разрядного приказа, «воры» хотели «придти войною». После создания такого «фронта» Муром действительно на короткое время оказался в «воровстве». Многое поэтому зависело от позиции Нижнего Новгорода, тоже осажденного восставшими. Дальше «измена» Шуйскому распространялась в низовья Волги к Казани и Астрахани.
Но одно дело было договариваться о новой присяге царю Дмитрию и другое — собирать людей в поход и силою принуждать их делать свой выбор в пользу того, о ком даже неизвестно было, где он находится. Не случайно ходили слухи, что царь Дмитрий сидел в Калуге и ждал, пока его воеводы завоюют ему Москву. Касимовский царь Ураз-Магмет посылал туда «проведывати» разных «вестей» о спасшемся царе[228]. Расправы с несогласными присягать тени царя Дмитрия сопровождались убийствами и грабежами, и со временем это стало главной целью восставших. Под Москвой они попытались привлечь на свою сторону столичный посад, но ничего кроме обычной разбойничьей программы предложить ему не могли. Конечно, нельзя не учитывать то, что агитационные письма болотниковцев дошли не в подлинных текстах, а в пересказе в грамотах патриарха Гермогена. Хотя даже в этом случае можно получить представление о накале противостояния сторонников царя Василия Шуйского и тех, кто агитировал за царя Дмитрия. Патриарх Гермоген писал во второй половине ноября 1606 года о характере движения и его призывах: «Окопясь разбойники и тати, и бояр и детей боярских беглые холопи, в той же прежепогибшей и оскверненной Северской украйне, и сговорясь с воры казаки, которыя отступили от Бога и от православныя веры и повинулись сатане и дьявольским четам, и оскверня всякими злыми делы Северские городы, и пришли в Рязанскую землю и в прочая городы, и тамо тако же святыя иконы обесчестиша, церкви святыя конечно обругаша, и жены и девы безстудно блудом осрамиша, и домы их розграбиша, и многих смерти предаша». Именно из патриаршей грамоты известно об обращениях восставших к жителям московского посада, рассылавшихся из Коломенского: «А стоят те воры под Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы, и велят боярским холопем побивати своих бояр, и жены их и вотчины и поместья им сулят, и шпыням и безъимянником вором велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе, и хотят им давати боярство, и воеводство, и околничество, и дьячество»[229]. Словом, при всех смысловых искажениях вполне очевидно, что к этим призывам вполне может быть применима классическая формула революционного переворота — «кто был ничем, тот станет всем».
Тем, кто действительно поверил, что воюет во имя спасшегося царя Дмитрия, со временем приходилось делать выбор. Ключевым событием подмосковного противостояния с Болотниковым в Коломенском стал отъезд к царю Василию Шуйскому отрядов рязанских дворян во главе с Григорием Сумбуловым и Прокофием Ляпуновым 15 ноября 1606 года. В советской историографии, неслучайно видевшей в Иване Болотникове «социально близкого» человека, очень много писалось о так называемых «дворянских попутчиках» — они якобы своею «изменою» украли победу в крестьянской войне. Такое представление о событиях возникло в классовой парадигме, воспринимавшей Смуту как крестьянскую войну. Ведь изначально люди из разных чинов объединялись по принципу не социального, а политического протеста по поводу переворота, устроенного царем Василием Шуйским. Но те, кто отказался от присяги царю Шуйскому, были обмануты слухами о спасении царя Дмитрия. Когда это стало выясняться со всей очевидностью, пришло время других решений. Немало дворян и детей боярских по-прежнему оставалось в лагере под Коломенским. Интересно, что Григорий Сумбулов пришел когда-то «в сход» в Рязань во главе тульского служилого «города». В грамотах же сообщалось о приезде к царю Василию Шуйскому одних рязанцев Григория Сумбулова да Прокофия Ляпунова, «а с ними многия дворяня и дети боярские»[230]. Из войска Истомы Пашкова и Ивана Болотникова отъезжали в Москву и стрельцы. Они видели, как в Коломне сторонники царя Дмитрия разграбили город, и решили, пока не поздно, вернуться на службу к царю Василию Ивановичу. О переходе пятисот рязанцев и пятидесяти стрельцов на царскую сторону сообщал также находившийся в Москве Андрей Стадницкий, отослав с оказией на Белоозеро письмо брату Мартину Стадницкому и другим польским пленникам (оно было запрятано в томик «итальянского Петрарки», не заинтересовавший приставов)[231].
Правительство царя Василия Шуйского смогло собрать под Москвой силы для войны с восставшими. Большое значение имели события в Твери, где, благодаря твердой позиции архиепископа Феоктиста, удалось удержать город и уезд от присяги царю Дмитрию и даже нанести поражение «разбойникам» под Тверью. Остальные тверские города — Ржева, Зубцов, Старица, Погорелое городище, согласно правительственным грамотам, «на тех проклятых богоотступников пришли к Москве вооружився». В соседнюю смоленскую землю, на Можайск, была отправлена рать воеводы князя Данилы Ивановича Мезецкого и Ивана Никитича Ржевского. Другой воевода, окольничий Иван Федорович Крюк-Колычев, «очистил от воров» Волок и Иосифо-Волоцкий монастырь[232]. Оба полка отправлялись «на смольяны», а вернулись «со смольяны». Сам Смоленск оставался верен присяге царю Василию Шуйскому. Там, по сообщению «Повести о победах Московского государства», собрались вместе «дворяне и земцы и все ратные люди совет совещати, как бы им государю царю помощи подати, и государство Московское очистити от тех воров, и от Москвы отгнати»[233]. Смоленский архиепископ Феодосий тоже благословил их на поход на Москву, и они пошли к Москве через Царево-Займище. По уникальному свидетельству «Повести», смоленские дворяне и дети боярские (земцы — часть служилого «города») не только освободили Царево-Займище, но и поймали там одного из вождей начала болотниковского движения Юшку Беззубцева и привезли его к Москве. Автор «Нового летописца» писал, что смольняне во главе с их «старейшиной», воеводой Григорием Полтевым, «грады очистиша Дорогобуж и Вязьму»[234]. Смоленское войско помогло сделать то, для чего отправлялись князь Данила Иванович Мезецкий и окольничий Иван Федорович Крюк-Колычев. Все вместе они сошлись под Можайском 15 ноября и освободили смоленскую дорогу. В Москву дворяне и дети боярские из Смоленска, Вязьмы, Дорогобужа и Серпейска пришли 28 ноября[235]. Потом в разрядных книгах даже писали, что Москва была едва ли не освобождена от осады благодаря этому походу смольнян. Но это не совсем верно. Приход смоленской рати прибавил уверенности осажденным, но и без этого в Москве в течение ноября были сосредоточены значительные силы как из замосковных городов, так и из Великого Новгорода[236]. Подмога царю Василию Шуйскому шла также в виде посохи («лучников») с Ваги и стрельцов с Двины и Холмогор. В «Ином сказании» приводится полулегендарная история о том, как подход такого отряда Двинской рати в двести человек перепугал стоявших в Красном селе сторонников Ивана Болотникова и Истомы Пашкова. «Разбойницы» хотели захватить ярославскую и вологодскую дорогу, но увидели стрельцов на марше, и «показася им сила велика и страшна зело, яко тысящ за пять и боле»[237].
Со второй половины ноября шли уже постоянные бои с войском, стоявшим в Коломенском и Заборье. В Москве были расписаны осадные воеводы, а «на выласку» был назначен полк под командованием одного из самых лучших и талантливых воевод Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Автор «Повести о победах Московского государства» был одним из тех смольнян, кто воевал под Москвой в полку князя Скопина-Шуйского. Он оставил о нем прочувствованную запись: «Той бо государев воевода князь Михайло Васильевич благочестив и многомыслен, и доброумен, и разсуден, и многою мудростию от Бога одарен к ратному делу, стройством и храбростию и красотою, приветом и милостию ко всем сияя, яко милосердый отец и чадолюбивый»[238]. С конца ноября подмосковные бои шли уже беспрестанно.
Решающая битва в Коломенском произошла 2 декабря 1606 года. Уже во время боя на сторону царя Василия Шуйского перешел Истома Пашков. Его хотя и простили, но в победных грамотах об этом сражении продолжали именовать предводителем «воров»: «И мы, прося у Бога милости, декабря в 2 день, послали на всех воров бояр своих и воевод со многими людми, и Божиею милостию и Пречистыя Богородицы молитвою, и великих московских чудотворцов и всех святых молитвами, и новоявленного страстотерпца Христова благоверного царевича Дмитрея помощью, бояре наши и воеводы тех воров всех побили наголову, а Истомку Пашкова да Митьку Беззубцова и многих атаманов и казаков живых поимали и к нам привели, а иные воры с того бою утекли, побежали розными дорогами; а дворяне и дети боярские рязанцы и коширяне, туляне и коломничи, олексинцы, колужане, козличи, мещане, лихвинцы, белевцы, медынцы, Ярославца Малого, боровичи, ружане и иные многие украинные городы нам добили челом и к нам все приехали, а в городех у себя многих людей побили и живых к нам привели и городы очистили»[239]. Так виделась картина поражения восставших болотниковцев из Москвы. Как обычно, в этих агитационных грамотах есть определенная доля лукавства: победа царя Василия Шуйского не была такой безусловной, как писали по городам. 2 декабря царские бояре и воеводы, в одном полку — князь Иван Иванович Шуйский, князь Иван Васильевич Голицын и Михаил Борисович Шеин, а в другом — князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, князь Андрей Васильевич Голицын и князь Борис Петрович Татев, решили главную задачу, отогнав войско повстанцев от Москвы[240]. Кроме Коломенского, бои велись с казаками, стоявшими в Заборье у Даниловского монастыря, и те присягнули на верность царю Шуйскому. Был устроен специальный «разбор» или смотр «заборских» казаков, части которых выдали жалованье и послали их на службу, а других вернули тем владельцам, от которых они ушли казаковать[241]. Однако значительное число мятежников, в том числе и сам Иван Болотников, продолжали борьбу и, отойдя от Москвы, встали в Туле и Калуге.
Боярская дума и воеводы перехватили инициативу. Упор был сделан на том, что с ними воюют только «украйных городов воры казаки и стрельцы и боярские холопи и мужики», то есть служилые люди «по прибору», а не «по отечеству», к которым принадлежали дворяне и дети боярские. «Ворам», не подчинявшимся власти царя Василия Шуйского, было предъявлено самое серьезное обвинение в порушении веры и церкви. Доходило до того, что казанский митрополит Ефрем запрещал «отцем духовным» принимать «приношения к церквам Божиим» у тех свияжан, которые изменили царю Василию Шуйскому. Потом потребовалось соборное определение и прощение фактически отлученных от церкви жителей Свияжска. Патриарх Гермоген, написавший такую разрешительную грамоту свияжанам «дворянам и детям боярским и всяким людем», очень похвалил усердие казанского митрополита Ефрема[242]. Уже 5 декабря 1606 года в Тулу посылались грамоты к «дворяном, и к детем боярским, и к посадцким, и ко всяким чорным людем… чтоб они государю обратились и вины свои к государю принесли». Такие же грамоты посылали в Венев, Епифань, Ряжск. Агитация распространилась на все мятежные украинные и северские города, в том числе Брянск, Почеп, Стародуб, Новгород-Северский, Комарицкую волость и Кромы, откуда начиналось движение Ивана Болотникова. Тех же, кто уже отказался от поддержки царя Дмитрия, щедро награждали. Так, 12 декабря «на Коломну, к посадцким старостам, и к целовальникам, и ко всем посадцким людем» было послано «государева жалованья за службу… 1000 денег золоченых». Эту награду жители коломенского посада получили «за то, что они, добив челом государю, воров в город не пустили и воров побили». Аналогичными наградными золотыми и золочеными деньгами были вознаграждены в Переславле-Рязанском дворяне и дети боярские, стрелецкие сотники и стрельцы[243]. Прокофий Ляпунов получил чин думного дворянина и был отправлен на воеводство в Рязань[244].
Главным событием начала 1607 года стало торжественное посольство в Старицу к патриарху Иову. 2 февраля 1607 года царь Василий Шуйский пригласил к себе патриарха и весь освященный собор «для своего государева и земского дела». Обычно так обозначались самые важные дела, требовавшие участия соборного представительства[245]. Выяснилось, что царь хотел, чтобы церковные власти привезли в Москву патриарха Иова «для того, чтоб Иеву патриарху, приехав к Москве, простити и разрешити всех православных крестьян в их преступлении крестного целованья и во многих клятвах». 5 февраля в Старицу были отправлены крутицкий митрополит Пафнутий, архимандрит Симонова монастыря Пимен, патриарший архидьякон Алимпий и дьяк Григорий Елизаров. В посланной с ними грамоте патриарха Иова просили «учинить подвиг» и приехать в столицу. 14 февраля Иов вернулся из своей ссылки к тем, при чьем молчаливом согласии случилось когда-то его сведение с престола. Оба патриарха — нынешний Гермоген и бывший Иов — должны были в Москве «разрешить» народ от произошедшего нарушения клятв и «Утвержденной грамоты», выданной царю Борису Годунову и его роду.
В период острой политической борьбы по воцарении Василия Шуйского прозвучали прямые обвинения царя Бориса Годунова в смерти царевича Дмитрия. Однако царь Василий Иванович вынужден был подумать о преемственности своей власти от Годунова, минуя «Расстригу». Именно этим объясняется перезахоронение останков царя Бориса Годунова, его царицы Марии Григорьевны и царевича Федора Борисовича в Троице-Сергиевом монастыре осенью 1606 года. После подмосковных боев царь Василий Шуйский решил окончательно очиститься от последствий клятвопреступления, случившегося «по злодейской ростригине прелести, начаялися (то есть про которого думали. —
Ранним утром, «в другом часу дни», в пятницу первой недели Великого поста 20 февраля 1607 года «посадские и мастеровые и всякие люди» из Москвы и ее слобод были созваны в Успенский собор в Кремле. Конечно, церковь не вместила всех собравшихся «гостей, торговых и черных всяких людей», и они запрудили площадь перед собором. Потрясенные жители города должны были увидеть, как в храм прошествовал тот, кого они сами свергали в угаре борьбы с Годуновыми. По совершении молебна москвичи «просили прощения, с великим плачем и неутешным воплем», припадая «к стопам» патриарха Иова. От имени «гостей и торговых людей» ему была подана покаянная челобитная, прочтенная с амвона архидьяконом соборной церкви Алимпием. Потом была прочтена «прощальная и разрешительная» грамота. Сам патриарх Иов говорил с собравшимися: «Чада духовная! В сих клятвах и крестного целования преступлении, надеяся на щедроты Божия, прощаем вас и разрешаем соборне, да приимите благословение Господне на главах ваших»[247]. Так произошло новое воссоединение с отвергнутой традицией, восходившей к временам правления Бориса Годунова.
Царь Василий Шуйский и Боярская дума приняли новое законодательство о крестьянах и холопах, измененное сначала в голодные годы, а потом «подправленное» в царствование Дмитрия. Новый царь должен был высказать свое отношение к этому ключевому вопросу тогдашней политики, тем более что именно «боярские холопи» и «мужики», записавшиеся в вольные казаки, стояли недавно под стенами Москвы. Сохранился царский указ 7 марта 1607 года о добровольных холопах, поступивших на службу, а не родившихся в холопстве. Он показывает, что с восставшими боролись не одними репрессиями, их пытались вернуть в свой «чин» и другими мерами. Указ подтверждал добровольный характер службы в холопстве для тех, кто сам выбирал такой путь, даже если они уже прослужили «полгода, или год, или болше». Раньше, по Уложению 1 февраля 1597 года, «холопьи имена и на них крепости всякие» должны были записываться «безсрочно». Десять лет спустя добровольным холопам дали возможность выбирать — оформлять или нет на себя служилую кабалу: «ино тех доброволных холопей в неволю давати не велеть». Те же владельцы холопов, кто раньше принял на службу холопа и не оформил на него запись, оказались в проигрыше. Их, как когда-то во времена царя Дмитрия, поучали в этом указе: «Не держи холопа без кабалы ни одново дни; а держал безкабално и кормил, и то у себя сам потерял»[248]. Следовательно, у тех добровольных холопов, кто по каким-либо причинам попал в кабальную зависимость, появлялась возможность вернуться туда, откуда чаще всего они могли уходить, избывая посадского или крестьянского тягла.
Другое Уложение 9 марта 1607 года окончательно прикрепляло крестьян к своим владельцам: «Которые крестиане от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101-го (1592/93) году положены, и тем быти за теми, за кем писаны». Согласно этому документу, устанавливался 15-летний срок давности судебных исков о беглых крестьянах: «…и впредь за пятнадцать лет о крестьянех суда не давати и крестьян не вывозити». Помимо этого было принято несколько указов, регламентировавших уплату штрафа-«пожилого» за прием крестьянина («не принимай чужого»), порядок перехода крестьянок по «отпускным» в связи с выходом замуж и контроль за перемещением людей. Старосты, сотские и священники обязаны были докладывать властям, «нет ли где пришлых вновь».
Изучение Уложения вызвало громадный шлейф исследовательской литературы. И все по причине недоверия к известиям Василия Никитича Татищева, получившего единственный список этого документа из «Чердынской архивы». Уложение так было передано Татищевым, что в его тексте документальная основа «закона царя Василия Шуйского», возможно, смешалась с переработкой историографа XVIII века. Поэтому мнения историков разделились. Одни принимали, а другие не принимали это Уложение. Третьи отделяли кажущуюся им сомнительной вводную часть Уложения, где рассказывается предыстория крестьянского закрепощения во времена царя Федора Ивановича, от действительно введенной в 1607 году нормы о 15-летнем сроке сыска беглых крестьян. У составителей академического издания «Законодательных актов Русского государства», например, «подлинность нормативной части Уложения» сомнений не вызывала.
Знаменитая преамбула Уложения о крестьянах 1607 года все же может быть «реабилитирована». Ее текст верно передает смысл и историю политики закрепощения крестьян: «Лета 7115 марта в 9 день государь царь и великий князь Василий Ивановичь всеа Руси с отцом своим Гермогеном патриархом, со всем освяченным собором и со своим царским сигклитом, слушав доклада Поместной избы бояр и дияков, что де переходом крестьян причинилися великиа кромолы, ябеды и насилия немосчным от сильных, чего де при царе Иване Васильевиче не было, потому что крестьяне выход имели волный; а царь Федор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, не слушая советов старейших бояр, выход крестьяном заказал и, у кого колико тогда крестьян где было, книги учинил, и после от того началися многие вражды, кромолы и тяжи; царь Борис Федоровичь, видя в народе волнение велие, те книги отставил и переход крестьяном дал, да не совсем, что судии не знали, как по тому суды вершити; и ныне чинятся в том великиа разпри и насилия, многим разорения и убивства смертные, и многим разбои и по путем граблениа содеяшася и содеваются. Сего ради приговорили есми и уложили по святым вселенским собором и по правилом святых отец»[249].
Из преамбулы к Уложению следует, что в 1607 году решили «подправить» законодательство о крестьянах, чтобы ликвидировать последствия вынужденного разрешения крестьянского перехода в голодные годы при царе Борисе Годунове. Смущающее исследователей упоминание «освясченного собора и царского сигклита» во введении объясняется обстоятельствами принятия Уложения вслед за чрезвычайной церемонией — «прощением и разрешением» жителей Москвы от их клятвопреступления, когда снова усилилась роль и значение власти патриарха[250]. Скорее всего Уложение сохранилось в составе патриаршей грамоты в Чердынь, и касалось оно только «домовой вотчины» патриарха Гермогена, других церковных, а также дворцовых и черносошных владений[251]. Речь в нем шла о переходах и «вывозе» крестьян, а не вообще о беглых крестьянах. Впоследствии в указе 1641 года 15-летний исковой срок сыска встречается применительно к спорам служилых людей с духовными властями по поводу одних «вывозных крестьян»[252]. Когда возникла необходимость увеличить срок сыска и выдачи беглых крестьян дворянам и детям боярским разных городов, то светских землевладельцев уравняли в правах с властями Троице-Сергиева монастыря. «А о указных летех» велено было «справитца во Дворце и на Патриарше дворе»[253]. Именно к суду на Патриаршем дворе и применима формула «по святым вселенским собором и по правилом святых отец», которой заканчивается преамбула Уложения[254]. Этот суд имел свои особенности, защищавшие церковные власти от претензий служилых людей, он вершился «по жеребью», а не по крестному целованью[255]. Поэтому несомненные следы обработки B. Н. Татищевым Уложения 1607 года следует искать в экстраполяции его содержания на всех крестьян и холопов.
Уложение удачно вписывается в правительственную программу мер по отношению к мятежным «мужикам».
C. Ф. Платонов писал о его «точном соответствии обстоятельствам той минуты, к которой оно приурочено». Автор «Очерков по истории Смуты в Московском государстве» справедливо подчеркивал, что «царь Василий желал укрепить на месте и подвергнуть регистрации и надзору тот общественный слой, который производил смуту и искал перемен»[256].
Уложение о крестьянах 1607 года соответствовало по своему содержанию одной важной тенденции, начинавшей проявляться в царствование Василия Шуйского. Очень условно ее можно определить как попытку «реставрации» порядков удельной старины, близкой по духу суздальским князьям. Царь Василий Шуйский и начинал править по-старинному, по-вотчинному, устанавливая правила своего справедливого, почти домашнего суда во всем Московском государстве. Когда в Москву потянулись церковные власти переписывать на царское имя «Ростригины» грамоты, оказалось, что монастырям возвращают многие владения и льготы, которые они потеряли по приговорам 1580 и 1584 годов. Подтверждались ружные грамоты городским соборам, уставные и таможенные грамоты, например, не чужих для царского рода Шуи и Суздаля. Одними из первых еще в августе 1606 года возобновили свои тарханы суздальские и нижегородские монастыри. Потом, в связи с осадой Москвы, эта работа замедлилась, а уже в декабре 1606 года снова возобновилась. Известны случаи представления к подписке на царское имя даже грамот удельных князей, как это сделали власти Солотчинского Рождественского монастыря под Рязанью. 28 апреля 1607 года они подтвердили свое старинное право на владение бортными угодьями и рыбными ловлями: «А те де их старые грамоты писаны на великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, и на великого князя Василья Ивановича всеа Русии, а на мое царское имя не подписаны». Значит ли это, что по воцарении других царей эти грамоты не утверждались обычным порядком? Трудно сказать. Остается неясным вопрос и с тем, почему они были извлечены из монастырской ризницы только в правление Василия Шуйского. Игуменья Суздальского Покровского монастыря просила «подписать» грамоты царя Ивана Грозного «59-го» (1551) года[257]. Конечно, не следует думать, что возвращались старинные порядки времен волостелей и наместников, потому что подписание грамот было еще и необходимым элементом символической присяги новому царю. Однако возобновление льгот монастырям, другие послабления в уплате податей в связи с «воровским разорением» ряда обителей[258] явно свидетельствуют о стремлении поощрить «священнический чин» за его поддержку новой власти.
Возвращение Рюриковичей оказалось совсем не таким, как на это можно было рассчитывать. Острый кризис затронул все слои русского общества, от боярина до крестьянина, и всех их вовлек в воронку Смутного времени. Кажется, царь Василий Иванович делал все, «как надо», а иногда даже больше того, принимая присягу перед своими подданными. Но чем дальше он стремился к уступкам, тем больше это воспринималось как проявление слабости. Опасная идея самозванства тоже никуда не исчезла с перезахоронением мощей царевича Дмитрия. Прежние клятвы Василия Шуйского в том, что царевича убили в Угличе, а на Москву идет расстрига, крестоцелование царю Дмитрию Ивановичу и затем свержение его с трона не прошли бесследно. Старой веры ко всем боярам, не исключая князей Шуйских, больше не было. При своем воцарении без «совета с землею» Василий Шуйский больше смотрел «назад», а не «вперед». Стремясь быстрее воссесть на опустевший трон, он думал о том, как подчинить Боярскую думу, забыв, что уже не только она одна решала, кому править Московским государством. Отвергнутая «земля» скоро напомнила о своих правах отрядами болотниковского войска под Москвой. Царю Василию Шуйскому удалось удержаться на троне после первого приступа «междоусобной брани». Но примирения не произошло. Все ждали нового самозванца, и он явился.
В начале 1607 года борьба с «ворами», отогнанными от Москвы, возобновилась с новой силой. После подмосковного поражения отряды Ивана Болотникова укрепились в Калуге. Против них были посланы царские полки во главе с боярином князем Иваном Ивановичем Шуйским и Иваном Никитичем Романовым. В боярском списке 1606/07 года самой популярной пометой рядом с именами стольников и стряпчих — элиты Государева двора — стала запись: «под Калугою»[259], обозначавшая продолжение их службы в полках против Болотникова. Из Москвы послали бояр и воевод с полками и в другие мятежные города укреплять власть царя Василия Шуйского. Правительственные войска воевали, правда с переменным успехом, под Серпуховом, Каширой, Веневом, Михайловом, Козельском, Алексином. По задумке царя они должны были «окружить» Тулу и Калугу и лишить их поддержки украинных и «заоцких» уездов. Другое направление военных действий — Арзамас, который успешно вернул к присяге царю Василию Шуйскому боярин князь Иван Михайлович Воротынский. Болотниковское движение уже не могло распространиться дальше к низовьям Волги. Боярин Федор Иванович Шереметев должен был пройти к Астрахани, чтобы там усмирить начавшееся восстание сторонников царя Дмитрия. В Новгород Великий, поддержка которого царю Василию Шуйскому оказалась очень важна в дни подмосковного противостояния с силами Ивана Болотникова, был направлен один из главных участников майского переворота Михаил Игнатьевич Татищев, но это назначение было воспринято как ссылка. У бояр, некогда объединившихся в своем стремлении свергнуть «Ростригу», уже не было прежнего единства, они были не прочь повторить этот опыт теперь уже и с самим царем Василием Шуйским. Посол Николай Олесницкий писал: «Между государем и боярами в городе большое несогласие, до того дошло, что не только другие, но и родные братья недовольны, что он находится на этом государстве, а тиранство при нем больше, чем было при Борисе»[260]. Судя по этой оценке, Василию Шуйскому пришлось нарушить те декларации, которые он подтверждал при вступлении на престол своей крестоцеловальной записью. Почти сразу же он столкнулся с непризнанием его царского сана. В Москве на царя давил «мир», требовавший все новых расправ с бывшими приближенными самозванца. Исаак Масса свидетельствовал об опалах, наложенных царем на Михаила Татищева, думного дьяка Афанасия Власьева и Никиту Годунова: «…и хотя вельможи просили за них, это не помогло утишить народ»[261]. Царь Василий Иванович проявлял слабость, продолжал потакать московской толпе, по-прежнему надеясь с ее помощью удержаться у власти. Очень скоро за все, что ему приходилось делать ради самосохранения, пришлось расплачиваться обычным путем — путем ссылок и казней.
Об ожесточенности продолжавшегося противостояния с болотниковцами свидетельствуют страницы «Нового летописца». В нем одна за другой следуют статьи «об отходе от Михайлова города воеводам», «об отходе от Веневы воеводам» и т. д. Царские воеводы потерпели поражение под Калугой и Тулой. В первых боях под Калугой попытались использовать турецкую осадную методику, немного изменив ее применительно к русским условиям, но неудачно. Турецкая армия, осаждая города, насыпала песчаные горы рядом с крепостными стенами, с которых потом била прямой наводкой артиллерия. Наши ратные умельцы «поведоша гору древяную к острогу и хотяху зажечь, приметаша же гору близ острогу». В «Ином сказании» тоже упоминается это «хитроумие» — «подмет под градцкие стены, вал дровяной». Ратная хитрость состояла в том, чтобы, прячась за деревянными укреплениями, «привести» их к стенам города, одновременно сделать подкоп и взорвать стены острога: «Сами идуще ко граду за туры, пред собою же ведоша множество дров, аки стену градную, на сожжение граду, созади убо емлюще дрова и наперед бросающе, и тако вперед ко граду идуще; сами же их со града за дровы ничем вредити не могут». Осадные сидельцы не стали дожидаться исполнения этого плана, взорвали ведущийся подкоп и уничтожили деревянную «гору», после чего сделали вылазку: «Той же Болотников, вышед со всеми людми, и тое гору зажгоша и на приступе многих людей побита и пораниша, а городу ничево не зделаша»[262].
Под Тулой войско боярина князя Ивана Михайловича Воротынского, успешно до этого прошедшего походом от Арзамаса к Алексину, тоже ждало поражение. Его «розогнал» воевода князь Андрей Телятевский (по другим источникам, князь Дмитрий Телятевский). Все начинало смешиваться в среде знати: князь Андрей Телятевский, которому покровительствовал Борис Годунов, сражался на стороне царя Дмитрия. И наоборот, князь Иван Воротынский, возвращенный из ссылки царем Дмитрием, воевал вместе с теми, кто повинился в клятвопреступлении Годуновым…
Впрочем, успехи повстанцев оказались временными, вскоре фортуна повернулась лицом к царскому войску. Первое крупное сражение, отмеченное разрядными книгами, произошло в конце февраля 1607 года «за семь верст от Калуги на Вырке». В нем успех сопутствовал царским воеводам, которые «побили воров на головы и наряд вес взяли»[263]. По сообщению «Иного сказания», это были силы того же князя Телятевского, возвращавшиеся после успешного похода из-под Венева к Калуге на помощь Ивану Болотникову. Боярин князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский сделал упреждающий маневр и напал на них первым: «с силою встречею им поидоша, они же встречи против себе не ведавше»[264]. В «Новом летописце» победителями «воров», пришедших «из Путимля ж и из иных Сиверских городов», названы воеводы Иван Никитич Романов и князь Данила Иванович Мезецкий (известно, что он был ранен в этом бою). Те же имена царских воевод присутствуют в разрядных книгах, поэтому рассказ летописца о битве на реке Вырке выглядит более достоверным. Согласно «Новому летописцу» повстанческое войско шло на помощь в Калугу, а возглавлял его воевода князь Василий Федорович Мосальский. В ходе сражения он был убит. Битва «на Вырке речке» продолжалась «день да ночь», и проигравшие уже не сдавались в плен как под Москвой, а погибали страшной смертью, подрывая себя и атаковавших их служилых людей: «Достальные же воры многие на зелейных бочках сами сидяху и под собою бочки с зельем зажгоша и злою смертию помроша»[265]. Царь Василий Шуйский щедро наградил победителей: как и во время боев в Коломенском, царское войско получило золотые, с которыми был послан кравчий князь Иван Борисович Черкасский.
Но и после этого поражения в Калугу, где сидело в осаде войско Ивана Болотникова, продолжали приходить подкрепления из Тулы. В разрядах писали: «И тое же весны вор Петрушка послал с Тулы в Калугу на проход многих людей».
Укрепляли свои силы и царские воеводы. Под Калугу было направлено новое войско во главе с первым боярином князем Федором Ивановичем Мстиславским. Однако оно потерпело крупное поражение от «воровских людей» во главе с боярином князем Андреем Андреевичем Телятевским. Это была вторая, известная из разрядов, крупная битва. Она состоялась 3 мая 1607 года у села Пчельня под Лихвином. В бою погибли посланные Мстиславским воевода Большого полка боярин князь Борис Петрович Татев и воевода передового полка князь Андрей Чумахович Черкасский. В этот раз уже царское войско вынуждено было бежать под ударом восставших, бросив часть артиллерии («наряда»). Поражение было столь чувствительным, что правительственное войско даже отступило от самой Калуги, где их атаковали осажденные, воодушевленные победой своих сторонников. «Бояре же и ратные люди тово ужасошася, — писал автор «Нового летописца» о бое у села Пчельни, — и от Калуги поидоша к Москве и наряд пометаша и, отшед, сташа в Боровске»[266]. Конрад Буссов, сидевший в осаде в Калуге, считал продолжительность осадного сидения с 10 (20) декабря 1606 года до 16 (26) мая 1607 года. Затем армия Болотникова ушла к своим сторонникам в Тулу, где обосновался «царевич Петр Федорович».
После битвы у Пчельни слух о «великом замешательстве в Москве» дошел даже до Ярославля, где жили в ссылке сандомирский воевода Юрий Мнишек с дочерью Мариной и другие поляки[267].
Все возвращалось «на круги своя» в междоусобной войне царя Василия Шуйского. Разбежавшееся войско пришлось собирать заново. Уже 9 мая 1607 года в Москве у городских ворот стояли головы и дьяки, которым было поручено записывать «дворян и детей боярских, и стрельцов, и всяких ратных людей, которые розбежались из-под Калуги». Возможно, что в это время был созван и земский собор. Именно так понял содержание грамот, рассылавшихся тогда по городам, автор «Дневнйка Марины Мнишек»: «Около праздника святой Троицы (24 мая, или 3 июня по григорианскому календарю. —
Знаменательно, что в среде знати уже тогда возникла идея пострижения царя Василия Шуйского. Но царь не собирался выпускать власть из своих рук. Он наложил опалу на выступивших против него бояр, «созвал совет», а московский патриарх Гермоген издал какой-то «эдикт»[268].
21 мая 1607 года царь Василий Шуйский самолично выступил в поход к Туле. Выезд царя с войском из столицы наблюдали прямо со своего двора послы Речи Посполитой Николай Олесницкий и Александр Госевский. По их впечатлению, московский государь «с невеликим сопровождением двинулся с места, и очень не радостный ехал он на эту войну, но должен был, так как заставили его те, кто за него стоят, непременно желая от него того, чтобы сам выступил, ибо иначе не хотели сами без него поддерживать эту войну и дать отпор противной стороне. И так, рад не рад, с великим плачем выехал, боясь какой-нибудь измены за время своего отсутствия… Все же много их есть, что не желают ему долгого правления над собой и вовсе не хотят, чтобы он остался на этом государстве»[269]. Подобно Борису Годунову, некогда под Серпуховом доказавшему свои права на престол, царю Василию Шуйскому тоже пришлось избрать этот город для демонстрации своей силы и власти. В Серпуховской ставке он пробыл до конца июня 1607 года[270]. Автор «Карамзинского хронографа» сообщил о выступлении в этот весенний поход вместе с царем всей Боярской думы, Государева двора, жильцов, стрелецких сотников со своими приказами; «а в Серпухове ево, государя, дожидалися бояре, которые были под Колугою, князь Федор Ивановичь Мстиславской, да князь Иван Ивановичь Шуйской с товарыщи, а наряд ис-под Калуги в Серпухове ж стоял». Москву был оставлен ведать царский брат боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский, «да с ним на Москве по приказам приказные люди и дьяки и в Помесном приказе и в иных во всех приказех дела делалися». Царь Василий Шуйский управлял армией с помощью дьяков Разрядного приказа, покинувших кремлевские палаты: «…а Розряд был весь с царем Васильем»[271].
В грамотах о повсеместном молебне по случаю этого похода, рассылавшихся патриархом Гермогеном во все епархии, тоже приводилась формула, позволяющая говорить о предварительных соборных заседаниях, предшествовавших выступлению царя Василия Шуйского из Москвы: «А пошел государь царь и великий князь Василей Иванович всеа Русии
Царь Дмитрий Иванович к тому времени так нигде и не объявился. Хотя его ждали и даже с пристрастием расспрашивали главных воевод, от которых пошел слух о его чудесном спасении. Конрад Буссов рассказывал, как отвечал на такие расспросы Иван Болотников: «Какой-то молодой человек, примерно лет 24 или 25, позвал меня к себе, когда я из Венеции прибыл в Польшу, и рассказал мне, что он Димитрий, и что он ушел от мятежа и убийства, а убит был вместо него один немец, который надел его платье. Он взял с меня присягу, что я буду ему верно служить; это я до сих пор и делал и буду делать впредь, пока жив. Истинный он или нет, я не могу сказать, ибо на престоле в Москве я его не видал. По рассказам он с виду точно такой, как тот, который сидел на престоле». Нетерпение дошло до такой степени, что одного из вождей восставших — князя Григория Шаховского, больше других убеждавшего своих сторонников в спасении самозванца, даже посадили в тюрьму «до тех пор, пока не придет Димитрий»[274].
В Туле вместо царя Дмитрия наводил порядок другой «царевич» — Петр Федорович, пришедший из Путивля. Он жестоко подавлял всякое сопротивление власти самозванцев. Больше всего страдали от учиненных им расправ дворяне и дети боярские, к которым казаки испытывали особенную неприязнь. И те и другие вели одинаковый образ жизни, связанный с постоянною ратною службою. Однако у дворян и детей боярских была наследственная принадлежность к служилому сословию, государево жалованье и поместное обеспеченье. Казакам же приходилось обеспечивать себя самим, у них не было никаких прав, только «воля». Глядя на них, и местные мужики стали устраиваться по-казачьи, заводя «вольные» станицы. Сохранилось «Послание дворянина к дворянину», сочиненное тульским сыном боярским Иваном Фуниковым, который в виршах описывал свои мытарства в Туле:
А мне, государь,
тульские воры выломали на пытках руки
и нарядили, что крюки,
да вкинули в тюрьму.
И лавка, государь, была уска
И взяла меня великая тоска,
А послана рогожа,
И спать не погоже.
Седел 19 недель,
А вон из тюрьмы глядел.
А мужики, что ляхи,
Дважды приводили к плахе.
За старые шашни
Хотели скинуть з башни.
А на пытках пытают,
А правды не знают.
Правду де скажи
И ничего не солжи.
И далее о том, что стало с его поместьем:
Не оставили ни волосца животца,
И деревню сожгли до кола.
Рожь ратные пожали,
А сами збежали[275].
Царевич Петр не собирался отсиживаться в Туле. Его целью был новый поход на Москву. Об этом царю Василию Шуйскому написал оборонявший Каширу боярин князь Андрей Васильевич Голицын: «Идут с Тулы собрався многие воры с нарядом, а хотят идти к Серпухову и к Москве». Но если восставшие думали, что после отхода войска боярина князя Федора Ивановича Мстиславского от Калуги им снова открыта дорога на Москву, то они ошибались. Царь Василий Шуйский не случайно сам пришел в ключевой город «берегового разряда» Серпухов во главе своего государева полка. Выступившей в поход рати под командованием боярина князя Андрея Андреевича Телятевского и Ивана Болотникова пришлось на ходу изменить свои цели. По сведениям боярина князя Андрея Васильевича Голицына, как только «воры… послышали его государев поход, что пришел он государь в Серпухов, и они де и поворотилися к Кашире на осад». В разрядах за «115-й» (1607) год осталась запись: «Того ж году боярин князь Ондрей Ондреевич Телятевской да Ивашка Болотников со многими с воровскими людми з донскими козаки шли х Кошире против государевых воевод на прямой бой».
5 июня 1607 года, «в девятую пятницу по Велице дни», всего месяц спустя после тяжелого пчельнинского боя, царские воеводы нанесли ответный удар, от которого сторонники Ивана Болотникова так до конца уже и не оправились. Битва эта произошла на речке Восме, «от Каширы верст за двенадцать». По сообщению «Карамзинского хронографа», автором которого был арзамасский служилый человек Баим Болтин, «с воры был бой с утра с первова часа до пятова». Снова по городам рассылались богомольные грамоты патриарха Гермогена, чтобы повсюду пели молебны по случаю такой великой победы. Из патриарших грамот люди узнавали подробности сражения, как «государевы бояре и воеводы и всякие ратные люди тех воров наголову побили, и их воровских воевод наряд, и набаты, и знамяна, и коши все поймали, и живых языков болши пяти тысяч взяли». В разрядных книгах тоже говорится о полной победе царских воевод на реке Восме, правда, цифра взятых языков приведена более скромная — тысяча семьсот человек. Но и это тоже немало. Автор «Карамзинского хронографа» объясняет, откуда возникло такое расхождение в отношении числа взятых в плен и кого именно считали «языками» в разрядах: «…и воров казаков пеших с вогненным боем перешли за речку в боярак тысяча семьсот человек». Бой продолжался целый день, «а имали их и побивали на тридцати верстах». В бою удалось справиться с наиболее боеспособной частью болотниковского войска, состоявшей из донских и прочих казаков. Они попытались отсидеться во временном укреплении, сделанном в овраге, но были разбиты царскими воеводами: «…а досталные воры и лутчие их промышленники, терские и яицкые, волские, доньские, и путивльские и рылские атаманы и казаки, сели в баяраке и городок себе сделали; и его деи государевы бояре и воеводы, и дворяне и дети боярские, и ратные всякие люди к тому городку приступали и, Божиею милостию, тех воров взятьем взяли»[276].
Ход битвы складывался непросто. Автор «Нового летописца» писал, что в какой-то момент «начаша воры московских людей осиливати». Главные воеводы восминского боя князь Андрей Васильевич Голицын и князь Борис Михайлович Лыков первыми пошли в наступление, увлекая за собой остальных: «Бояре ж и воеводы князь Андрей, князь Борис, ездя по полкам, возопиша ратным людям со слезами: „Где суть нам бежати? Лутче нам здеся померети друг за друга единодушно всем“. Ратные же люди все единогласно воззопияху: „Подобает вам начинати, а нам помирати“. Бояре же, призвав Бога, отложиша все житие свое, наступиша на них злодеев со всеми ратными людьми, многую храбрость показаху предо всеми ратными людми». Когда дело дошло до боев с казаками, укрывшимися в «буераках» (где их было трудно достать всадникам), то все войско, спешившись, пошло на приступ: «Видяше же ратные люди, что много им шкоты ис того врагу от тех воров, и возопиша все единогласно, что помереть всем за одно. Слесчи с лошадей и поидоша все пеши со всех сторон с приступом. И по милости Божии всех тех воров побиша на голову, разве трех человек взяша живых»[277]. «Карамзинский хронограф» приводит дополнительные подробности боя, рассказывая, что казаки держались в своем укреплении еще два дня и не поддавались ни на какие уговоры о сдаче: «…и те злодеи воры упрямилися, что им помереть, а не здатца». Когда в воскресенье 7 июня был организован штурм, казаки держались до последнего выстрела: «И те воры билися на смерть, стреляли из ружья до тех мест, что у них зелья не стала. И тех воров в бояраке многих побили, а достальных всех в языках взяли и тех на завтрее всех казнили за их злодейское кровопролитие, что побили государевых людей».
Семь человек (а не три, как написано в «Новом летописце») уцелели случайно, из-за невероятного стечения обстоятельств. Среди арзамасцев, воевавших на стороне царя Василия Шуйского, оказалось несколько человек, уже встречавшихся с казаками, участвовавшими в бое в восминских буераках. Это были те самые казаки, что первыми провозгласили царевича Петра в Астрахани. Они совершали поход по приглашению царя Дмитрия в Москву, когда узнали о перемене власти. Возвращаясь «с вором Волгою назад», казаки-сторонники Петра Федоровича «тех дворян встретили на Волге, и вор их хотел побить, и оне их не дали побить»[278]. Так доброе дело, сделанное казаками на Волге, сохранило им жизни на другой реке — Восме, и этот случайный поворот событий очень ярко характеризует всю Смуту.
После такого разгрома боярин князь Андрей Андреевич Телятевский и сам Иван Болотников «с невеликими людьми» вынуждены были вернуться в Тулу. Царские же воеводы пришли с победными вестями в Серпухов к царю Василию Ивановичу. И снова ратные люди были вознаграждены за свое усердие золотыми. Среди прочих награду получили пришедшие «в сход» рязанские дворяне и дети боярские во главе с Прокофием Ляпуновым, окончательно искупившим свои прежние вины[279].
С этого момента удача повернулась лицом к царю Василию Шуйскому. Уже в конце июня он с гордостью сообщал оставленному в Москве брату боярину князю Дмитрию Ивановичу об успехах своей армии и об «обращеньи изменников» в Ряжске, Песочне, Сапожке, Михайлове. Из Брянска вместе с окольничим князем Григорием Борисовичем Долгоруким пришел отряд дворян и детей боярских из северских городов. Сам царь Василий Иванович на марше от Серпухова к Туле сумел взять Алексин. Он увидел в этом небесное заступничество прославленного в его царствование царевича Дмитрия: по выражению царской грамоты, город был взят «благовернаго царевича Дмитрея Ивановича всеа Русии молитвами»[280]. Наперед к Туле были отосланы воеводы, расписанные на несколько полков, во главе с воеводами Большого полка боярами князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским и Иваном Никитичем Романовым. Государевым полком командовали царский брат боярин князь Иван Иванович Шуйский и окольничий Иван Федорович Крюк-Колычев[281]. От Алексина оставалось всего несколько переходов до Тулы. Не позднее 6 июля царь Василий Иванович Шуйский подошел к столице «царевича Петрушки» и начал ее осаду[282].
Осторожный царь Василий Иванович никогда бы не решился на такой риск, если бы не был уверен в превосходстве своих сил. Сам он «стал от Тулы три версты», а его воеводы с полками окружили город с разных сторон. В Туле оказались основные силы болотниковцев вместе с «царевичем Петром Федоровичем», самим Иваном Болотниковым, боярином князем Андреем Телятевским, князем Григорием Шаховским. Всего «всяких воров сидело з вогненным боем з 20 тысечь». Они постоянно тревожили осаждавших вылазками («и с Тулы вылозки были на все стороны на всякой день по трожды и по четырже»), но царские войска превосходили их своим числом, и у них была артиллерия, из которой и били по Туле.
Взятие укрепленного Тульского кремля, имевшего каменные стены, представляло собой сложную задачу. Но прибегли к хитрости. Муромский сын боярский Иван Кровков придумал, как заставить восставших сдаться. Он предложил запрудить протекавшую в Туле реку Упу, то есть использовал просчет, допущенный при строительстве Тульского кремля. Автор «Нового летописца» рассказал интересную историю о том, как Иван Кровков пришел к царю Василию Ивановичу и заявил так: «Дай мне посохи: яз де потоплю Тулу». Но едва ли его сразу допустили до царя. Скорее, ближе к истине версия «Карамзинского хронографа», согласно которой Кровков подал челобитную об этом деле: «И в государеве Розряде дьяком подал челобитную муромец сын боярской Иван Сумин сын Кровков, что он Тулу потопит водою, реку Упу запрудит, и вода де будет в остроге и в городе, и дворы потопит, и людем будет нужа великая, и сидеть им в осаде не уметь». Впрочем, детали разговора Ивана Кровкова с царем, сообщенные в «Новом летописце», хорошо показывают, как поначалу восприняли подобную идею: «Царь же Василей и бояре посмеяхусь ему, како ему град Тулу потопить. Он же с прилежанием к нему: „Вели меня казнити, будет не потоплю Тулы“. Царь же Василей даде ему на волю. Он де повеле всей рати со всякого человека привести по мешку з землею и нача реку под Тулою прудити: вода учала прибывати»[283]. После этого уже не один царь Василий Иванович поверил в неожиданно найденный чудодейственный рецепт. Были мобилизованы мельники, искусные в установлении всевозможных запруд, все вместе они достроили плотину. Конрад Буссов описывал те дни осады Тулы: «В июне Шуйский так осадил их в этой крепости, что никто не мог ни войти, ни выйти. На реке Упе враг поставил запруду в полумиле от города, и вода так высоко поднялась, что весь город стоял в воде и нужно было ездить на плотах. Все пути подвоза были отрезаны, поэтому в городе была невероятная дороговизна и голод. Жители поедали собак, кошек, падаль на улицах, лошадиные, бычьи и коровьи шкуры. Кадь ржи стоила 100 польских флоринов, а ложка соли — полталера, и многие умирали от голода и изнеможения»[284].
Город продержался в осаде несколько месяцев — с 6 июля по 10 октября 1607 года, когда затворенные царскими войсками тульские осадные сидельцы были вынуждены сдаться. В «Карамзинском хронографе» сдача Тулы датируется «на самый празник Покров Пречестыя», то есть 1-м, а не 10 октября 1607 года. Расхождение с официальной датой объясняется, видимо, тем, что сдача Тулы растянулась на много дней. По сведениям автора «Карамзинского хронографа», из осажденного города в царские полки постоянно выходили люди «человек по сту, и по двести, и по триста на день, а поддостоль многие люди от голоду и от воды стали выходить». Очевидно, что жители Тулы предпочитали присягнуть царю Василию Шуйскому и сохранить жизнь, а не погибать в затопленном городе. За несколько дней до снятия осады состоялись какие-то переговоры с «тульскими осадными людьми», присылавшими к царю Василию Ивановичу «бити челом и вину свою приносить, чтоб их пожаловал, вину им отдал, и оне вора Петрушку, Ивашка Болотникова и их воров изменьников отдадут, и в город бы Тулу прислал своих государевых воевод и ратных людей»[285]. Все так и случилось, первым в Тулу вошел воевода государева полка окольничий Иван Федорович Крюк-Колычев. Ему и пришлось принимать присягу тульских сидельцев на имя царя Василия Ивановича, тем более что они сдержали свое обещание и выдали «царевича Петрушку», Болотникова и всех остальных вожаков восстания. Как только в стане царя Василия Шуйского получили сведения о допросе 10 октября «перед государевы бояры и передо всею землею» «начальника» воровских сил «царевича Петрушки», оказавшегося муромским посадским человеком Илейкой, сразу же было объявлено о победе под Тулой. По случаю Тульского взятия 10 октября 1607 года рассылались грамоты, в которых снова говорилось о помощи и небесном заступничестве «нового страстотерпца благоверного царевича князя Дмитрея Ивановича». Из текста грамоты можно понять, что «тулские сиделцы, князь Ондрей Телятевской и князь Григорей Шеховской и Ивашко Болотников» сами сдались царю Василию Шуйскому (имена воевод восставших расставлены в привычном разрядным дьякам местническом порядке, а не в соответствии с их прежней иерархией в дни осады): «Узнав свою вину, нам великому государю добили челом и крест нам целовали, и Григорьевского человека Елагина Илейку, что назывался воровством Петрушкою, нам прислали»[286]. О добровольной сдаче восставших рассказывалось и в записках Станислава Немоевского: «Болотников, согласившись с другими, связал Петрашка и выдал великому князю, а Кремль передали». По словам Немоевского, вождя восставших считали предателем: «С благодарностью принял от них это предательство государь. Он приказал связанного Петрашка на кляче, без шапки, везти в Москву; здесь, продержавши его несколько недель в тюрьме, вывели на площадь и убили ударом дубины в лоб, а Болотникова, который его предал, государь послал в заключение в Каргополь, 30 миль далее за Белое озеро, по правилу: государи охотно видят предательство, но предателями брезгуют»[287].
В относительно мирном разрешении исхода тульской осады сыграли свою роль обещания царя Василия не мстить тем, кто сражался с царскими воеводами. Главным врагом царя Василия Шуйского был все-таки «царевич Петрушка». Не случайно к грамоте о сдаче Тулы были приложены его расспросные речи с рассказом о в общем-то рядовой биографии гулящего человека Илейки Муромца, названного казаками в Терках «царевичем Петром Федоровичем». Илейка успел побыть сидельцем в чужих лавках в Нижнем Новгороде, поездить с товаром в Вятке и Казани, послужить в казаках на Терке, где и поступил в холопы к Григорию Елагину. Он даже ходил с воеводами в Шевкальский поход, служил в казаках в Астрахани и наконец был выбран в «царевичи». «И стало де на Терке меж козаков такие слова, — писали в грамотах царя Василия Шуйского, — государь де нас хотел пожаловати, да лихи де бояре, переводят де жалованье бояря, да не дадут жалованья». Так триста недовольных казаков выбрали себе «царевича Петра Федоровича», прекрасно зная, что он никак не сын царя Федора Ивановича. У казаков было даже два «кандидата», но другой казак Митька отказался, сказав, что нигде, кроме Астрахани, не бывал. В пользу же Илейки Муромца было то, что он однажды прожил в Москве полгода во дворе у какого-то подьячего. Дальше казаки намеревались идти к Астрахани, но их туда не пустили «для грабежу». Обмануть жителей волжских городов так, как это удалось «царевичу Дмитрию» в Северской земле, не удалось, они не поверили ни в какого царевича Петрушку. Но зато сам царь Дмитрий Иванович, пока еще был на престоле, позвал его к себе в Москву весной 1606 года, тем самым невольно поспособствовав дальнейшему возвышению этого самозванца.
«Царевич Петр Федорович» после выдачи его под Тулой попал-таки в столицу, но только для того, чтобы быть там казненным. Его было велено повесить «под Даниловым монастырем, по Серпуховской дороге». Это была публичная, показательная казнь. Остальных главных воевод недавнего движения, угрожавшего власти царя Василия Шуйского, разослали по тюрьмам. Ивана Болотникова отправили в ссылку в Каргополь, где и утопили (велели «посадить в воду»). Так же поступили со множеством других пленных. Однако факт тайных и явных расправ стал известен позднее, весной 1608 года, когда вскрылась Москва-река и «вместе со льдом выносило на равнину трупы людей». Голландец Исаак Масса записал, что сам видел в Москве последствия этих «ужасных водяных казней»[288].
Едва ли не последним письменным свидетельством о Болотникове стала запись в «Дневнике Марины Мнишек». Путь пленного в Каргополь лежал через Ярославль, где находились в ссылке поляки из свиты неудачливой русской царицы. В самом конце февраля 1608 года они стали свидетелями того, как Болотникова с приставами везли к месту ссылки. Местные дворяне, недавно воевавшие с его отрядами, удивились, что их главного врага везут даже несвязанным, и стали спрашивать, почему он так свободно едет (кстати, эта деталь подтверждает добровольную сдачу предводителя тульских сидельцев). В ответ Болотников пригрозил любопытствующим изощренной казнью: «Я вас самих скоро буду заковывать и в медвежьи шкуры обшивать»[289]. Ивану Болотникову не пришлось исполнить свою угрозу. Но в пределах Московского государства уже появился другой человек, от которого исходила новая, еще большая опасность царю Василию Шуйскому. Сразу после тульского взятия и прихода к Москве царь, не давая отдыха войску, отправил воевод во главе с князем Иваном Васильевичем и окольничим Федором Васильевичем Голицыными против объявившегося на юге нового «царя Дмитрия Ивановича». Впрочем, тогда прямого столкновения не случилось, так как самозванец в страхе бежал, услышав о походе против него царских воевод. В разрядных книгах победно записали: «И воеводы до Брянска не дошли, а вор их послышал и побежал в Корачев. И государь ратных людей велел роспустить»[290].
Тем временем царь Василий Иванович решил устроить свои дела. В январе 1608 года он переехал в новый дворец в Кремле. Сохранилось известие о праздничном столе «у государя новоселья в хоромех», куда были позваны бояре князь Никита Романович Трубецкой, Михаил Борисович Шеин, князь Владимир Тимофеевич Долгорукий, Андрей Александрович Нагой и другие члены Государева двора[291]. Царь не только справил новоселье, но и задумался о продолжении династии. К этому его подталкивали со всех сторон, видя на престоле немолодого царя, не имевшего потомства. Мотивы царской свадьбы не были тайной даже для иностранцев. Исаак Масса писал в «Кратком известии о Московии»: «В Москве вельможи настойчиво советовали царю избрать себе супругу. Они полагали, что народ будет больше бояться [царя] и вернее служить ему, если он женится и будет иметь наследников»[292].
По меркам Московского государства возраст царя Василия — 55 лет — считался более чем преклонным. Чуть меньше прожили другие цари — Иван Грозный и Борис Годунов. Женитьба, к которой царь Василий Иванович действительно не слишком стремился и на которую согласился только из соображений династической целесообразности, происходила после долгого вдовства, а затем и прямого запрета царя Бориса, опасавшегося увидеть в новом поколении князей Шуйских претендентов на престол, что могло создать угрозу правлению его сына. Уже царь Дмитрий, по сообщению Жака Маржерета, хотел нарушить этот тяжелый и незаслуженный запрет, наложенный на старшего князя Шуйского, но произошел переворот и вчерашний жених превратился из боярина в царя. Затем необходимость борьбы с врагами, в том числе личное участие в походе под Тулу, на долгое время отодвинули вопросы о других государственных и династических интересах.
В то время вокруг царя Василия Шуйского стал складываться преданный круг, условно говоря, «молодого двора». Позднее, в 1610 году, властям Речи Посполитой будет представлен список «ушников, которые Московское государство в разоренье и в смуту приводили при царе Восилье, и с ним советовали». Эти люди не будут торопиться присягать ни королевичу Владиславу, ни королю Сигизмунду III, поэтому польско-литовская сторона считала их своими врагами, так же как и их покровителя, царя Василия Шуйского. Рассматривая этот список, можно обратить внимание на то, что самыми последовательными сторонниками царя Василия Шуйского были в основном очень молодые люди — вчерашние рынды и стольники, успевшие отличиться в сражениях с Иваном Болотниковым. Именно такую карьеру сделали первые в списке «ушников» бояре князь Иван Семенович Куракин (он сначала пострадал при Лжедмитрии I, а потом получил в возмещение земли погибшего вместе с самозванцем Петра Федоровича Басманова), князь Борис Михайлович Лыков, окольничий князь Данила Иванович Мезецкий.
Царской избранницей стала княжна Екатерина Петровна Буйносова-Ростовская, дочь белгородского воеводы, убитого в самом начале царствования Василия Шуйского. Во дворце, следуя обычной традиции менять имена царских невест, она стала царицей Марией Петровной. Свадьба произошла 17 января 1608 года[293]. Согласно сохранившемуся «Чину» бракосочетания, торжества продолжались три дня. Царя окружали его ближайшие родственники: младший брат князь Иван Иванович Шуйский был «в отцово место», а жена князя Дмитрия Ивановича Шуйского — княгиня Екатерина — «в материно место». Кажется, ко времени свадьбы царя Василия Ивановича положение брата князя Дмитрия пошатнулось, во всяком случае, отсутствие его имени в свадебном разряде выглядит труднообъяснимым. Следующий по значению чин тысяцкого был доверен боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому. В царских дружках «были з государевы стороны» боярин князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский и окольничий Иван Федорович Крюк-Колычев. Если добавить сюда бывшего «в поезду з государем» боярина Ивана Никитича Юрьева, то окажется, что на самых первых ролях в свадебном пиру оказались недавние воеводы тульского похода. Участвовали в церемонии и остальные бояре, «которые были на Москве, да дворян человек с 70». Сама свадьба праздновалась, видимо, в очень узком кругу (в «Чине» встречаются еще имена бояр князя Ивана Васильевича Голицына «в поезду з государем» и князя Ивана Михайловича Воротынского, бывшего у «государева аргамака», «сидячих бояр» князя Ивана Большого Никитича Одоевского и князя Михаила Самсоновича Туренина). Никто из членов упомянутого выше «молодого двора» царя в «Чине» царской свадьбы почему-то не упомянут.
Карьера князей Ростовских сразу же пошла вверх. «Дядя царицын», князь Василий Иванович Буйносов-Ростовский, «говорил от боярина от князя Ивана Ивановича Шуйского, что время ему государю итти к своему государеву делу». «У государыниных саней» распоряжался царицын боярин князь Василий Михайлович Лобанов-Ростовский. Снова, как и во времена Бориса Годунова, при дворе появился царский шурин. Пока что князь Иван Петрович Буйносов-Ростовский скромно сидел «у кушанья»[294], но уже скоро он войдет в самый ближний царский круг.
Торжества проходили в Кремле по обычному образцу царских свадеб: «А как время поспело государеву выходу, и государь вышел, наредясь шуба на соболех, бархат зол от. Заметав полы, в златокованом поясе; пошел в Золотую полату, сел на государьском месте, и тысяцкому, и дружкам, и бояром, и всему поезду велел сести. А государыню посадили на чертожном месте в Грановитой палате». Затем все участники церемонии отправились из Золотой в Грановитую к ожидающей их «нареченной» царице. Как и было положено, «государьской путь» кропил на всех переходах царский духовник благовещенский протопоп Кондратий, «а идучи говорил безпрестани: „О Тебе радуетца“». Венчание царя Василия Шуйского и царицы Марии Петровны проходило в Успенском соборе. Все три дня шли пиры в Золотой палате, царь на радостях «жаловал бояр вины красными». В последний день «были потехи до стола и после стола».
Вольно или невольно эту свадьбу должны были сравнивать с тем, как всего полтора года назад в Успенском соборе венчалась с самозванцем Марина Мнишек. И, пожалуй, сравнение было не в пользу царя Василия Ивановича. У нового царя не имелось никакого блеска и замысловатости, отсутствовали иноземные гости, музыка и танцы. Даже само зимнее время свадьбы старика царя Василия Шуйского выглядело контрастом майскому веселью молодого царя Дмитрия. Фоном свадьбы царя Василия Шуйского оказались не прекращавшиеся за кремлевскими стенами казни его врагов. Царя упрекали в том, что он не проявил милосердия и его свадьба «была ознаменована только великими бедствиями и скорбями людей, которых, как это видели, каждый день топили»[295].
Иностранцы обратили особое внимание на отсутствие на царской свадьбе брата царя князя Дмитрия Ивановича Шуйского, бывшего до этого времени самым близким человеком к царю и его вероятным преемником на престоле. Некий пан Коморовский писал из Москвы воеводе Юрию Мнишку, находившемуся в ссылке в Ярославле: «Дмитрий Шуйский возвратился, потеряв всякую надежду, из-под Алексина, упрекал царя, что тот женился, говоря: „Ты веселишься, а кровь невинная льется“. Также сказал ему, что уже царствовать тебе осталось недолго, ибо не на кого тебе опереться, а поэтому подумай о себе и о нас, поклониться надо тому, кому царство по справедливости принадлежит»[296]. Слух о том, что князь Дмитрий Шуйский будто бы поверил в спасение царя Дмитрия Ивановича, конечно же вполне соответствовал настроениям пленных Мнишков. Однако более очевидной причиной недовольства царского брата могло быть изменение его положения и исчезновение даже призрачной возможности наследовать царский венец.
Как оказалось впоследствии, свадьба царя Василия Шуйского не решила главной проблемы — продолжения династии не последовало. Точнее, у царя Василия Шуйского рождались дочери, но не было мужского потомства. Автор «Бельского летописца» писал, что «у царя Василья Ивановичя всея Русии детей было только две дочери, и те во младенчестве преставились; тако зовомы суть Настасья и Анна»[297]. В ходе работ по исследованию некрополя Вознесенского монастыря в Кремле была найдена гробница царевны Анны Васильевны, преставившейся в осенний день Иоанна Богослова 26 сентября 1609 года[298]. Рождение вслед за тем вместо наследника еще одной дочери, Анастасии, могло вызвать новую вспышку недовольства царем Василием Шуйским.
Можно только гадать, как бы все обернулось, появись на свет вместо царевен малолетний царевич. Скорее всего, это укрепило бы положение царя Василия Шуйского и примирило его с подданными. Но этого не произошло, и современники продолжали внимательно присматриваться к другим князьям Шуйским. Особенно — к молодому князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, первому мечнику, приближенному еще царем Дмитрием. В царствование своего родственника князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский сумел подтвердить свои достоинства не одним только происхождением, но и службой. Он много раз выступал во главе правительственных полков во время борьбы с Болотниковым и тоже вошел в «ближний круг» царя Василия. Но права Скопина-Шуйского на престол были более чем призрачными.
Как могло произойти такое, что после низвержения с трона и убийства в Москве Лжедмитрия I все снова поверили в самозваного царя Дмитрия Ивановича? Неужели та история никого и ничему не научила? Почему новый самозванец надеялся, и даже не без оснований, воцариться в Москве? Понять такое можно, лишь погрузившись в атмосферу Смутного времени, уничтожившего привычные представления. Картина обычного мира людей была разрушена, а всегда выручавший их здравый смысл оказывался бесполезен. Слишком недавно русские люди познакомились с бунтом против царей, но — парадоксальным образом — для протеста все равно требовался свой царь.
В советской историографии феномен самозванства часто объясняли «царистскими иллюзиями», хотя речь прежде всего шла о создании параллельной, «справедливой» иерархии. Этим и объясняется сила тех, кто выступил против царя Василия Шуйского под знаменем нового царя Дмитрия Ивановича. У одних был шанс пройти в Боярскую думу, потеснив родовую знать, другие могли рассчитывать на «изменничьи» поместья и вотчины и связанный с этим передел земельной собственности. В свою очередь, царь Василий Шуйский становился защитником и охранителем прежнего порядка и прав, с чем не могли не считаться даже те, кто его не поддерживал. Сторонники же Лжедмитрия II должны были, напротив, во имя достижения своих целей каждый раз переступать порог брезгливости, обращаясь к тому, в чье царское происхождение мало кто верил.
Тайна происхождения второго самозваного царя Дмитрия, получившего заслуженное прозвище «Вор», оказалась еще более скрытой, чем история Григория Отрепьева. Нового Дмитрия Ивановича ждали, его искали, но были и те, кто решил направить события в нужное русло по своему почину. Между двумя ложными Дмитриями огромная разница, которую давно определил С. Ф. Платонов: «Расстрига, выпущенный на московский рубеж из королевского дворца и панских замков, имел вид серьезного и искреннего претендента на престол… Вор же вышел на свое дело из Пропойской тюрьмы и объявил себя царем на Стародубской площади под страхом побоев и пытки. Не он руководил толпами своих сторонников и подданных, а напротив, они его влекли за собою в своем стихийном брожении, мотивом которого был не интерес претендента, а собственные интересы его отрядов. При Расстриге войско служило династическому делу, а Вор, наоборот, своими династическими претензиями стал служить самым разнородным вожделениям окружавшей его рати»[299].
Все, что предшествовало появлению нового самозванца в Стародубе, оказалось скрыто от посторонних глаз. Кто он на самом деле, откуда пришел в Московское государство? Как случилось, что он назвался именем царя Дмитрия? Вот расплата за самозванчество: история не сохранила даже имени, под которым тот, кого стали называть Тушинским Вором, был известен до принятия им на себя чужой биографии. Тайна происхождения Лжедмитрия II продолжает будоражить умы, тем более что в последние годы Р. Г. Скрынников актуализировал «горячую» версию о том, что новый самозванец был, как писали в грамоте французскому королю 1615 года, «родом жидовин». Это позволило историку сделать эффектное наблюдение: «Смута все перевернула. Лжедмитрий I оказался тайным католиком, „тушинский вор“ — тайным иудеем»[300]. Только вот незадача, источники столь далеко идущих параллелей состоят из одних слухов — в частности, о найденном в покоях самозванца Талмуде после бегства «царика» из Тушина. Среди современников же ходили самые разные версии: «который де вор называется царем Дмитреем и тот де вор с Москвы, с Арбату от Знаменья Пречистыя из-за конюшен, попов сын Митька»; или даже: «царевича Дмитрея называют литвином, князя Ондрея Курбьского сыном»[301]. Р. Г. Скрынников ссылается также на сохранившуюся «польскую гравюру XVII века», изобразившую Тушинского Вора как человека, якобы «обладавшего характерной внешностью». Действительно, эта гравюра непременно присутствует в качестве иллюстрации во всех книгах, касающихся Смуты. Портрет Тушинского Вора в польской меховой шапке с пером и шкиперской бородкой очень выразителен, его широко открытые темные глаза смотрят мимо зрителя, не давая проникнуть в тайну Лжедмитрия II. Но знаменитая гравюра, как недавно напомнил А. В. Лаврентьев[302], взята из книги «Древнее и нынешнее состояние Московии», вышедшей в Лондоне в 1698 году!
Еще при жизни Лжедмитрия II пытались обнаружить «следы» его прежней биографии. Они приводили то в Шклов, где он учительствовал, то в Могилев, где его знали как слугу местного священника, а заканчивались в Пропойской тюрьме, куда бывший учитель попал за бродяжничество. Следующий этап — переход самозванца из Великого княжества Литовского в Московское государство. Первые шаги по московской земле этот «северской человек незнаемой» сделал, по свидетельству «Нового летописца», выдавая себя за сына боярина, по имени Андрей Андреевич Нагой. По собственной ли воле будущий Лжедмитрий II пошел в пределы Московского государства или у него уже не оставалось выбора после Пропойской тюрьмы, — обо всем этом можно только догадываться. Скорее всего, в Северской земле он уже действовал вместе с теми, кто заметил сходство выходца из Шклова с прежним самозваным царем Дмитрием. Но кто были эти люди? Почему мнимого Нагого сопровождал один «московский подьячей Олешка Рукин» да торговый человек Григорий Кашинец? Почему в самый ответственный момент появления самозванца в Стародубе 12 июня 1607 года с ним рядом не нашлось никого, кто бы мог убедить сомневающихся своим авторитетом? История объявления нового царя Дмитрия очень напоминает удавшийся экспромт.
В Стародубе выходцы из Литовской земли объявили себя первоначально посланниками царя Дмитрия: «И сказаша стародубцам, что царь Дмитрей приела их наперед себя для того, таки ль ему все ради; а он жив в скрыте от изменников». Дело происходило, напомню, спустя год после майских событий 1606 года в Москве, и проверять было что. За все время борьбы болотниковцев с правительственными войсками царя Василия Шуйского якобы спасшийся царь Дмитрий так и не проявил себя. Чем дальше, тем сложнее становилось убеждать тех, кто держался имени Дмитрия, что они воюют ради интересов настоящего царя. Казалось бы, чего проще, можно было бы в 1607 году повторить успешный военный поход царя Дмитрия в Северскую землю, через Новгород-Северский и Путивль. Тот, кто руководил Дмитрием (если такой человек был), выбрал самое худшее продолжение, бросив его на произвол судьбы. Первоначальное развитие событий показывает, что стародубцы без почтения отнеслись к «посланцам» царя Дмитрия, начав пытать подьячего Рукина, чтобы выяснить наконец, где же на самом деле находится их царь Дмитрий. И только под пыткой подьячий якобы объявил: «Сей есть царь Дмитрей, кой называетца Ондреем Нагим». Сходным образом описывает стародубское явление Дмитрия польский ротмистр Николай Мархоцкий, приводя первые слова московского государя, сказанные с гневом и ругательствами: «Ах вы, б… дети, вы еще не узнаете меня? Я — государь»[303]. Если вспомнить историю мнимого царевича Петра Федоровича, начавшуюся с выбора казаками своего «правителя» под Астраханью, то можно увидеть, как в Смуту самые нелепые ситуации и обстоятельства могли приобретать силу и значение настоящей истории. Только для этого обязательно нужен был вождь, предводитель, сильный человек, заставлявший других действовать в своих интересах. В Стародубе таким человеком стал даже не сам ложный Нагой, превратившийся в царя Дмитрия. Инициативу взял в свои руки местный сын боярский Гаврила Веревкин, которого «Новый летописец» называет «начальным» человеком этого «воровства». Он первым сообразил, какие выгоды можно извлечь из поддержки царя Дмитрия, хотя не исключено и то, что он мог быть вполне искренне убежден в достоверности истории, рассказанной на стародубской площади. Потом нашлись даже храбрецы, вроде одного стародубского сына боярского, поехавшего к царю Василию Шуйскому под Тулу говорить ему «встрешно»: «Премой ты, под государем нашим прироженым царем подыскал царство»[304]. И, умирая в огне от пыток, все равно держался своего. В любом случае, ударив в колокола и приняв нового царя Дмитрия, в Стародубе открыли одну из самых тяжелых страниц Смутного времени.
12 июля 1607 года самозванец обратился с первыми окружными посланиями в города Северской земли (Новгород-Северский, Чернигов, Путивль) и соседнего Великого княжества Литовского (Оршу, Мстиславль, Кричев, Минск). Как показал И. О. Тюменцев, обнаруживший одно из таких посланий, Лжедмитрий II начинал сбор войска и обещал платить своему войску «вдвое-втрое» больше, чем оно получало в Речи Посполитой[305]. С первых шагов дело нового самозванца переставало быть собственно внутренним русским делом. Но было бы большой ошибкой считать, что появление Лжедмитрия II было инспирировано польским королем Сигизмундом III или канцлером Великого княжества Литовского Львом Сапегой. Напротив, польские власти до определенного времени были заинтересованы в мирных отношениях с царем Василием Шуйским. В конце июля 1607 года на смоленском рубеже были приняты посланники Речи Посполитой Станислав Витовский и князь Ян Соколинский, приехавшие договариваться о судьбе задержанных в Московском государстве пленных и о перемирии.
Самозванческая интрига развивалась с учетом интересов как русской оппозиции царю Василию Шуйскому, так и польско-литовской — королю Сигизмунду III. На стороне Лжедмитрия II пришли воевать прежде всего участники «рокоша» — внутренней междоусобной борьбы короля и шляхты в соседнем государстве. После поражения 6 июля 1607 года в битве под Гузовым, вольная шляхта была вынуждена выбирать, где ей служить дальше. И многих дорога привела в Московское государство, потому что рокошане и раньше были озабочены судьбой шляхтичей, оказавшихся в плену у царя Василия Шуйского. Поэтому, придя в Московское государство, они могли считать, что выполняют постановления съездов, принятые во время рокоша, в которых содержалось требование освободить свою «братью» из рук «москвы». Первыми русскими сторонниками Лжедмитрия II, кроме жителей Стародуба, стали бывшие участники боев войска Ивана Болотникова под Москвой, истомившиеся в ожидании своего царя. Самыми заметными людьми в этом первом войске самозванца, набранном к началу сентября 1607 года, стали его гетман Николай Меховецкий и казачий атаман Иван Заруцкий.
Когда царь Василий Шуйский завершал осаду Тулы, оказалось, что он должен вести борьбу на два фронта. 10 (20) сентября 1607 года Лжедмитрий II покинул Стародуб и выступил к Почепу, где «бояре и мещане приняли его с радостью» (по свидетельству служившего в войске самозванца мозырского хорунжего Иосифа Будилы). Дальнейший путь лежал к Брянску, и брянчане тоже вышли встречать возвратившегося царя. Однако на этот раз в дело вмешались сторонники царя Василия Шуйского. Под Брянском появился отряд во главе с головою Елизаром Безобразовым, служившим по этому «городу». Он сжег брянские слободы и лишил войско самозванца возможности собрать значительные припасы. Сам Лжедмитрий II встал лагерем у брянского Свенского монастыря. Брянские события показали, что одного только имени «царя Дмитрия» было уже недостаточно для подчинения ему. Он должен был силой прокладывать себе путь, а войска в его распоряжении было по-прежнему немного. Начавшая было возрождаться интрига едва не заглохла. С первых же шагов в войске самозванца возник крупный конфликт. Вот как вспоминал об этом Иосиф Будило: «Того же года 6 октября наше войско рассердилось на царя за одно слово, взбунтовалось и, забрав все вооружение, ушло прочь; только на утро оно дало себя умилостивить и возвратилось назад; ушло оно было уже три мили»[306]. От Брянска Лжедмитрию II пришлось отойти в сторону Карачева, где его очень кстати встретил отряд поджидавших запорожских казаков. В дальнейших планах самозванца был поход через калужские земли в Тулу, где в тот момент находилась ставка царя Василия Шуйского.
Впереди Лжедмитрия II шел его гетман Николай Меховецкий и другие воеводы польско-литовского войска. Они и добывали все новые победы. Так в октябре 1607 года «освободили» Козельск, захватив врасплох царского воеводу Василия Мосальского (это был, конечно, не известный фаворит первого самозванца князь Василий Рубец-Мосальский, а князь Василий Федорович Литвинов-Мосальский) и оборонявшийся гарнизон, после чего жители вышли встречать воевод самозванца «с хлебом и солью». Несколько дней спустя торжественная встреча ожидала в Козельске и самого Лжедмитрия II. Козельский успех был повторен в Белеве, а затем воеводы самозванца, как писал «Новый летописец», «Дедилов, и Крапивну, и Епифань взяша взятьем»[307]. Судя по разрядам, уже создалось впечатление, что «северские и украинные городы опять отложились»[308]. До встречи с главной ратью царя Василия Шуйского оставалось совсем немного времени, но тут самозванец получил известие о падении Тулы и в панике побежал от Белева обратно к Карачеву. Это произошло 17 (27) октября 1607 года[309]. В этот момент запорожские казаки не захотели дальше поддерживать неудачливого претендента и, набрав достаточно добычи, ушли зимовать домой. Самозванец же выбрал для зимовки Путивль, за каменными стенами которого он мог бы отсидеться, как когда-то его предшественник.
Царь Василий Шуйский допустил в этот момент важнейший стратегический просчет. С. Ф. Платонов писал об этой ошибке царя: «Он решился дать своему войску „поопочинуть“, вместо того чтобы послать его в легкую погоню за бегущим Вором»[310].
Если сзади Лжедмитрия II подгонял страх, то навстречу ему шли все новые и новые отряды его польско-литовских сторонников. 700 человек конницы и 200 пехоты пришли с Самуилом Тышкевичем, еще 500 всадников и 400 человек солдат — с Евстахием Валавским, ставшим канцлером, а впоследствии и гетманом самозванца[311]. Одни откликались на летние призывы самозванца, другие просто шли наудачу в Московское государство, потому что дома после окончания рокоша им уже не приходилось ждать для себя королевской милости. Ротмистр Николай Мархоцкий вспоминал, как «случай помог» собрать войско будущего нового гетмана самозванца князя Романа Ружинского в Речи Посполитой: «После рокоша остались целые отряды людей, сражавшихся как на стороне короля, так и на стороне рокошан. И когда прошел слух, что Дмитрий жив, к князю Рожинскому отовсюду потянулись люди. Всех нас собралось около четырех тысяч»[312]. Получался парадокс: чем дальше бежал Лжедмитрий II от Москвы, тем сильнее становилось его войско, в которое вливались все новые и новые отряды. Те, кто приходил к Лжедмитрию II, имели самые серьезные намерения. Все это будущие герои страшных лет России — литовский князь из рода Наримунта Роман Ружинский, полковник Александр Лисовский. Им нечего было терять. Полковника Лисовского, основателя войска запечатленных Рембрандтом «лисовчиков», вообще ждала в Речи Посполитой смертная казнь. А значит, в Московском государстве они готовы были пойти на все, и Лжедмитрию II следовало бы уже тогда задуматься: кто к кому нанимается на службу?
Новые советники самозванца быстро поняли, что, после роспуска войска под Тулой, до весны царю Василию Шуйскому не удастся собрать никакую армию. Они не пустили Лжедмитрия II на теплые путивльские квартиры, а вместо этого заставили повернуть свои силы к Брянску: «покаместа де у царя Василья учнут збиратца ратные люди, а мы де тот замок, шед, возьмем». Однако в этом городе, недавно присягавшем новому царю Дмитрию, уже сидели воеводы царя Василия Шуйского. С 9 (19) ноября 1607 года началась брянская осада. Бои шли больше месяца и отличались, по свидетельству «Нового летописца», особенным ожесточением. Осажденные терпели «тесноту великую»: «яко за все бьющеся: за воду и за дрова; и глад бысть великой, яко начаша и лошади поедати».
Эта осада прославила брянского протопопа Алексея, служившего в Покровской соборной церкви (его двор «за городом» был сожжен, как и дворы других брянских жителей, чтобы их не использовали «воры»). Запись о его службе в осаде попала в послужные списки «116-го» (1607/08) года, составленные воеводами боярином князем Михаилом Федоровичем Кашиным и Андреем Никитичем Ржевским, куда обычно вносились имена служилых людей. Протопоп Алексей «у крестного целованья всяких людей наказывал и крепил, и по сторожем по городу по ночам сторож дозирал, и про изменников и про лазутчиков боярину и воеводам сказывал, и гонцов к Москве промеж воровских полков из города за Десну реку проваживал и порукою по них имался, что тем гонцом к Москве з грамоты доходити». Но это еще не все. Во время тяжелого голода и дороговизны, когда цена за четверть хлеба в Брянске достигала астрономических 60 рублей «и болши» (то есть была в двадцать раз выше, чем во время голода 1601–1603 годов), протопоп Алексей раздал «безденежно» целых 175 четвертей ржи, выкопанных из ям на его собственном дворе и дворе его сестры. Причем сделал это тогда, когда решалась судьба брянской осады, — 15 декабря 1607 года[313].
На выручку сидевшему в осаде войску удалось прислать из Москвы отрад под командованием одного из приближенных царя Василия Шуйского боярина князя Ивана Семеновича Куракина. Но решил дело маневр мещовского воеводы князя Василия Федоровича Литвинова-Мосальского, у которого был свой счет к Лжедмитрию II за поражение в Козельске. Даже в длинном ряду битв эпохи Смуты действия отряда воеводы князя Василия Мосальского под Брянском выделяются своим необычным мужеством. Летописец оставил об этом не просто статью, а небольшую повесть, рассказывая, как зимою, «за десять дней до Рождества Христова» (около 14–15 декабря), вплавь, разгребая льдины, воины князя Мосальского форсировали Десну, спеша на помощь осажденным брянчанам: «Аки дивие звери, лед розгребаху и плывуще за реку»[314]. Совместными усилиями ратных людей, вышедших из Брянска на вылазку, и отряда князя Василия Мосальского удалось отогнать «литовских людей» и «руских воров». Следом завернули холода, так что подоспевшему войску боярина князя Ивана Семеновича Куракина уже не пришлось повторять великое купание в Десне. По установившемуся льду в Брянск были переправлены запасы, и дальнейшая осада города стала бессмысленной, да и опасной из-за сильных морозов, погнавших наконец отряды Лжедмитрия II на зимние квартиры. Так же пройдя в обратном направлении по льду Десны, они двинулись в Орел. В дневнике Иосифа Будилы осталась запись только об этом поражении от мороза в январе 1608 года: «Был большой холод, нельзя было удержаться войску в лагере, оно двинулось к Орлу»[315].
Царь Василий Шуйский мог праздновать победу. В разрядных книгах записали, что «подо Брянском воров побили», а брянскому войску во главе с боярином князем Михаилом Федоровичем Кашиным и Андреем Никитичем Ржевским было послано «за службу с золотыми». Героев брянской осады принимали в Москве у государева «стола», что было тоже знаком особой милости, а также наградили шубою и кубком. Последняя награда, однако, рассорила воевод и дала повод воеводе Андрею Ржевскому, усмотревшему, что его шуба и кубок хуже, чем царские подарки боярину и первому воеводе князю Михаилу Кашину, подать местническую челобитную. Из нее выяснилось, что оборона Брянска целиком его заслуга: «Ево де, государь, во Брянске лише имя было, а служба де была и промысл мой, холопа твоего; вели, государь, про то сыскат всею ратью». На свою просьбу воевода Андрей Ржевский получал отказ, ярко характеризующий представления той эпохи: «Потому князю Михаилу дана шуба и кубок лутче твоего, что он боярин да перед тобой в отечестве честнее»[316]. Так царь Василий Шуйский умел терять расположение служивших ему подданных.
Орел и Кромы были какими-то заколдованными местами Смуты, где пропадала сила сначала царя Бориса Годунова, потом другого царя Василия Шуйского. И наоборот, именно там возрождались замыслы обоих Лжедмитриев. Может быть, известная поговорка «Орел да Кромы — первые воры» родилась уже тогда, в начале XYII века, не без связи с тем, что эти города становились «воровскими» столицами в Смуту. Именно в Орле в начале 1608 года окончательно оформилось новое сильное антиправительственное движение, а из Кром войско гетмана князя Романа Ружинского договаривалось с самозванцем об условиях своей службы. Иллюзии того, что они идут служить настоящему Дмитрию, точнее, тому, кто когда-то правил в Москве, рассеялись очень быстро. При этом новый самозванец действовал так, как будто он действительно уже обладал московским престолом. Лжедмитрий II, не задумываясь, расправился под Брянском с неким царевичем Федором Федоровичем, привезенным донскими казаками, показав, что не потерпит никакого соперничества. Когда послы князя Романа Ружинского приехали договариваться из Кром в Орел, то он лично выговорил им свое недовольство «на московском языке». «Я был рад, когда узнал, что идет пан Рожинский, — передавал речь самозванца один из участников посольства ротмистр Николай Мархоцкий, — но когда получил весть о его — измене, то желал бы его воротить. Посадил меня Бог в моей столице без Рожинского первый раз и теперь посадит. Вы требуете от меня денег, но таких же, как вы, бравых поляков, у меня немало, а я им еще ничего не платил. Сбежал я из моей столицы от любимой жены и от милых друзей, не взяв ни деньги, ни гроша. А вы собрали свой круг на льду под Новгородком и допытывались, тот я или не тот, будто я с вами в карты игрывал»[317] …Да, и в этот раз, и много раз впоследствии все будет крутиться вокруг жалованья наемникам, которое Лжедмитрий II всячески задерживал или вообще не выплачивал своему «рыцарству», видимо, полагая, что оно и так может захватить все необходимое грабежом. Войсковой круг под Новгород-Северским, о котором стало известно Лжедмитрию II, состоялся в начале похода отрядов князя Романа Ружинского в Московское государство. Тогда возвращавшиеся из Орла самые первые послы польско-литовского воинства только и могли «уклончиво» ответить своей братии, что «он тот, к кому вы нас посылали». Когда дело дошло до церемонии встречи «царем» всего войска князя Романа Ружинского в Орле, было уже не время пенять на то, что «рыцарство» введено в заблуждение. Все стороны отыгрывали свои роли в устраивавшем их спектакле, а значит, приходилось мириться с тем чудовищно фальшивым гримом, который использовал самозванец.
Все раздражало в этом человеке гордое воинство. Начиная с самой первой встречи, когда Лжедмитрий II не захотел изменить своей привычке — мыться каждый день в бане «для здоровья» — и заставил ожидать приема князя Романа Ружинского. Еще толком не договорившись о найме на службу, самозванец обвинил будущего гетмана в «измене». После этого не очень приятно было князю Ружинскому и всему воинству подходить и целовать руку московского «царя». На приеме, устроенном воинству, его несдержанный язык никого не щадил (в этом как раз было сходство с первым Лжедмитрием): «Во время и после обеда царь много беседовал с нами: спрашивал он и о рокошах, и о том, были ли среди нас рокошане. Наслушались мы и таких речей, и эдаких, даже и богохульства: говорил он, что не хотел бы быть у нас королем, ибо не для того родился московский монарх, чтобы ему мог указывать какой-то Арцыбес, или по-нашему — архиепископ». Когда Лжедмитрий II впервые приехал в «рыцарский круг», то, как когда-то в Стародубе, опять начал с ругани: «Цыть, сукины дети, не ясно, кто к вам приехал?!» Ему все казалось, что спрашивают, «тот ли это царь»[318].
Волнения охватили обе части войска Лжедмитрия II. «Старая» — во главе с гетманом Меховецким, канцлером Валявским и конюшим князем Адамом Вишневецким (без него, как видим, не обошлось и в продолжении истории царя Дмитрия) теряла власть, а «новая» — под началом князя Романа Ружинского получала ее. А были еще интересы донских казаков, которыми командовал Иван Заруцкий. В конце концов гетман Меховецкий был смещен и изгнан из лагеря Лжедмитрия II, куда ему запретили возвращаться под страхом смерти. При новом гетмане, князе Романе Ружинском, и дела самозваного царя пошли иначе, он стал представлять действительно настоящую угрозу царствованию Василия Шуйского.
Между тем у второго самозванца имелась «законная жена», Марина Мнишек, и для подтверждения своей легенды он обязан был показать, что и Мнишки его принимают за настоящего спасшегося царя. В январе 1608 года Лжедмитрий II впервые обратился с письмом к своему «тестю», сандомирскому воеводе Юрию Мнишку, пребывавшему в ссылке в Ярославле. Тот, обнадеженный, стал строить планы на будущее. В «Дневнике Марины Мнишек» нет никаких сведений о получении этого письма, зато там упоминаются слухи о появлении в Москве листов Дмитрия. Посланник самозваного Дмитрия отправился также в Краков к королю Сигизмунду III. С новой силой и искусством стала разыгрываться история чудесного воскрешения самозванца.
Весной 1608 года бои царских войск с армией Лжедмитрия II, собранной в Орле, стали неизбежными. Все могло бы решиться в битве под Волховом, куда боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский пришел с собранным войском из Алексина, чтобы не дать новому самозванцу продвинуться от Орла дальше к Москве. Главный воевода надеялся на «глупость» польско-литовских сторонников Лжедмитрия II, но, как известно, война не прощает неуважения к противнику. Весь придуманный маневр состоял в том, чтобы заманить чужую конницу в небольшое болото, находившееся перед выдвинутым вперед полком и его обозом. Как вспоминал о действиях московских воевод участник этой битвы ротмистр Николай Мархоцкий, «они рассчитывали, что мы будем настолько глупы и неосторожны, что пойдем к ним, не разузнав местности»[319]. Случилось по-другому. В результате двухдневных маневров царских полков 30–31 апреля 1608 года часть артиллерии решили отправить назад в Волхов. Об этом стало известно Лжедмитрию II от перебежавшего к нему на службу каширского сына боярского Никиты Лихарева. По сообщению разрядных книг, «отъехали к вору… и иные многие, и бояре отпустили наряд в Волхов, видя в людях сумненье»[320]. В итоге вечером, «за три часа до темноты», случился бой, в ходе которого пятнадцатитысячная рать князя Дмитрия Шуйского была разогнана гусарскими хоругвями (боевая единица польской конницы), ротами литовской шляхты («пятигорцами») и казаками, численность которых была на порядок меньше[321]. Бежавшее войско преследовали до самой Волховской засеки, где только и смогли скрыться убежавшие от погони служилые люди. Войско потеряло почти всех лошадей в засечных частоколах, обыкновенно ограждавших от набега татарской конницы. Оставшиеся пешими дворяне и дети боярские уже не могли дальше воевать и разбежались по своим поместьям. Боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский бросил на произвол судьбы гарнизон Волхова, где еще находилось около пяти тысяч человек.
Появление в Москве остатков войска, разбитого Лжедмитрием II под Волховом, произвело самое гнетущее впечатление. Автор «Нового летописца» написал об этом кратко и емко: «И бысть на Москве ужасть и скорбь велия»[322]. При этом в разрядные книги попала запись о том, что «царь Василей послал на встречю брата своего и всех бояр о здоровье спрашивать околничего Федора Васильевича Головина. И пришли бояре со всеми людми к Москве»[323]. Не зная деталей произошедшего, такую встречу можно было бы истолковать как встречу триумфаторов.
Но настоящий час триумфа в этот момент наступил не для бежавших с поля боя воевод, а для Лжедмитрия II. Оказалось, что его войско могло надеяться на нечто большее, чем непрерывная война в Северской земле. Впереди уже замаячили купола столичных церквей, и грядущее падение Москвы показалось делом совсем близкого будущего. Сначала новый царь Дмитрий договорился со своим войском, точнее, оно продиктовало ему условия, принятые на своем «круге». С Дмитрием у польско-литовского «рыцарства» была одна и та же история, он расплачивался с ними одними обещаниями. Гетман князь Роман Ружинский и все воинство увязли в торге с Лжедмитрием по поводу выплат за четверти года, которыми считалась их прошедшая и будущая служба. Самозваный царь не отказывался заплатить, только собирался сделать это, «вернувшись» в Москву на трон. Николай Мархоцкий описал болховские уговоры Лжедмитрия II: «Он уверял, что заплатит, и со слезами просил не оставлять его, говоря: „Я не смогу быть в Москве государем без вас, хочу, если Бог меня утвердит в столице, всегда иметь на службе поляков: пусть одну крепость держит поляк, другую — москвитянин. Я хочу, чтобы все золото и серебро, сколько бы ни было его у меня, — чтобы все оно было вашим. Мне же довольно одной славы, которую вы мне принесете. А если уж изменить ничего нельзя и вы все равно решите уйти, тогда и меня возьмите, чтобы я мог вместо вас набрать в Польше других людей“. Этими уговорами он так убедил войско, что все к нему пошли с охотой»[324].
Войско самозванца двинулось к Москве, не встречая сопротивления. Пал Волхов. Его защитники сначала присягнули самозваному царю и даже пошли под командованием гетмана князя Ружинского на Москву. Однако на подходах к столице, уже из Калуги, дворяне и дети боярские, неволею присягавшие Лжедмитрию II, снова бежали к царю Василию Шуйскому. Автор «Нового летописца» писал, что «царь же Василий их пожаловал»[325]. Они рассказали о реальной численности войска самозванца, взявшего царских воевод под Волховом «на испуг». Создалась парадоксальная ситуация. Оказалось, что милость царя Василия Шуйского быстрее заслуживали не те, кто служил ему, не изменяя во многих походах, а те, кто перебегал к нему от самозванца. Заинтересованный в привлечении в осаду в столицу как можно большего числа людей, царь более щедро раздавал жалованье тем, кто недавно изменял присяге и снова вернулся к нему на службу. Лжедмитрий II был еще на подходе к Тушину, а будущие «тушинские перелеты» (такое название они получат позже) уже появились в Москве.
Нового самозванца снова привела в Москву калужская дорога. На своем пути к столице Лжедмитрий II лишь ненадолго, по словам ротмистра Николая Мархоцкого, останавливался под Козельском и Калугой, где власть уже была в руках его сторонников. Потом войско самозванца взяло можайский город Борисов и сам Можайск. Стоит отметить такую характерную деталь. Первый самозванец шел во время своего похода к Москве с чудотворной Курской иконой Божией Матери. Второй царь Дмитрий тоже усердно поклонялся православным святыням и, в частности, отслужил молебен знаменитому Николе Можайскому, чья деревянная скульптура стояла в надвратной Воздвиженской церкви Можайского кремля. На покровительство святого Николы надеялись и те, кто воевал на стороне царя Василия Шуйского, защищая Можайск, и те, кто осаждал его. Но сила была на стороне так называемого «царя Дмитрия», захватившего потом еще и Звенигород.
В Москве готовились к осаде уже с 20-х чисел мая 1608 года[326]. Были расписаны воеводы по полкам, и на этот раз царь Василий Шуйский решился доверить оборону Москвы боярину князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. 29 мая он был назначен главным воеводой Большого полка «против литовских людей» (характерно это настойчивое подчеркивание в разрядах борьбы именно с иноземцами), а с ним другие воеводы Иван Никитич Романов и князь Василий Федорович Литвинов-Мосальский, передовым полком командовал боярин князь Иван Михайлович Воротынский, а сторожевым — чашник князь Иван Борисович Черкасский (он не вовремя затеял местническое дело с князем Иваном Воротынским, но все же получил «невместную» грамоту)[327]. Они должны были защитить Москву от прихода самозванца, но для этого войскам надо было еще встретить друг друга, а не разминуться где-нибудь по дороге. Пока царские воеводы стояли на речке Незнани, оказалось, что «вор же пойде под Москву не тою дорогою». Автор «Нового летописца» писал, что в этот момент в полках под командованием боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского возникла какая-то «шатость». Впрочем, причина волнений в войске была очевидна, кое-кто в нем «хотяху царю Василью измените». Автор летописи называет князя Ивана Катырева-Ростовского, князя Юрия Трубецкого, князя Ивана Троекурова «и иные с ними». Царь разослал родовитых зачинщиков мятежа по отдаленным городам и тюрьмам, несколько человек было казнено[328]. Имена обвиненных в «шатости» на какое-то время исчезли из разрядных книг, что было явным знаком опалы. Хотя князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский в своей «Повести» о событиях Смуты вполне сочувственно описывал действия воевод царя Василия Шуйского во время прихода под Москву самозванца и ни словом не обмолвился о переменах в своей судьбе. Нет никаких помет рядом с именами «изменивших» стольников в боярском списке 1606–1607 годов, но более поздний боярский список 1610–1611 годов все же подтверждает пребывание князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского «в Сибири». Князь Юрий Никитич Трубецкой и князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский (зять ростовского митрополита Филарета, женатый на его дочери Татьяне) открывали перечень стольников в боярском списке 1606–1607 годов, заметное положение занимал и другой стольник и родственник Романовых — князь Иван Федорович Троекуров (его жена была из рода князей Мосальских). Это означало, что при приближении к Москве войска самозваного царя Дмитрия раскол сразу же затронул верхи Государева двора, столкнув князей Шуйских с Романовыми, Трубецкими и Мосальскими.
О самозванце было известно, что 3 июня «литовские люди, да с ними воры пришли в Вязему». Царское войско встречало их в тот момент «в Воробьеве»[329]. Лжедмитрий II подступил к столице, по сообщению Иосифа Будило, 14 (24) июня, «в праздник святого Яна (Иоанна Предтечи. —
Так Тушино на полтора года стало главной резиденцией Лжедмитрия II и всех тех, кто в Московском государстве еще продолжал думать о его возможном воцарении. В то, что царь Дмитрий спасся, мало верили, так как москвичи собственными глазами видели его растерзанное тело на Лобном месте. Однако даже рядовые люди, такие, например, как пристав Станислава Немоевского, вызванного из белозерского заточения в Москву, могли объяснить суть происходящего. «Верь мне твердо, что тот Димитрий, который при вас был государем в Москве, наверное убит, — говорил пристав Станиславу Немоевскому, объясняя за подаренную серебряную ложку причину остановки на дороге из Белоозера в столицу, — я сам был при этом. Но явился иной, который назвался им, и стал объявлять, что убили другого, а „я ушел“, и очень много людей из наших пристало к нему, меньше бояр, больше народа. Вашей литвы с ним 6000 человек, между ними знатнейшие — Вишневецкий и Рожыньский. С этою силою он подтянулся под город Москву и осадил в ней нынешнего великого князя Василия Ивановича всея Руси, а так как свободного проезда ни с одной стороны нет в городе, то указано с вами задержаться»[330]. За два года, проведенные в ссылке, Станислав Немоевский и другие знатные пленники, которых готовили к отправке домой по договору о перемирии, не могли и представить, что жизнь так далеко ушла вперед. Они просто не поверили приставу, считая, что он их намеренно запутывает своим рассказом. Да и трудно представить, с чего бы это вдруг их надзиратель заговорил о том, что в скором времени все может измениться до такой степени, что они сами станут приставами у тех, кто их охраняет. Однако безымянный любитель польского серебра знал, зачем рискует головою и наводит мосты дружбы с теми, кого охранял.
Московские воеводы встали на Ходынке, но какое-то время они не предпринимали активных действий. В столице продолжались переговоры о перемирии с послами короля Сигизмунда III, и оставалась надежда уговорить отойти польско-литовское войско Лжедмитрия II от Москвы миром. Сами посланники Станислав Витовский и князь Ян Соколинский, объединившись с прежними послами Николаем Олесницким и Александром Госевским и воеводой Юрием Мнишком, долго препирались с московскими дипломатами по поводу того, что они не имеют никакого влияния на собравшиеся под Москвой хоругви, отказываясь называть их «изменниками». Представители Речи Посполитой настаивали: «Те люди вошли в землю государя вашего без ведома короля». Однако обещали полное содействие, как только будут отпущены из Московского государства. В итоге в запись о перемирии под давлением московской стороны был включен пункт о том, что «ныне в нашем государстве ваши князь Роман Ружинский, да князь Адам Вишневецкий и иные паны и ротмистры со многими полскими и литовскими людми, вшодчи в великие государства наши, водят с собою вора, называючи его тем же именем, как прежней убитой вор рострига называл царевичем Дмитреем Углетцким, и, сложась, те ваши люди с воры с нашими с изменники нашу землю пустошат и кровь хрестьянскую проливают». Король Сигизмунд III был обязан «тех людей… из наших государств вывести вскоре»[331].
Польские дипломаты понимали, что у них, как и у короля, было мало шансов повлиять на тех, кто воевал вместе с Лжедмитрием II. Московские бояре на переговорах упоминали, кроме гетмана самозванца князя Ружинского и князя Адама Вишневецкого, еще про Лисовского, «потому что он много зла в государя нашего земле починил». Тот, действительно, весной 1608 года прошел рейдом по рязанским землям через Ряжск и Михайлов. Отряд Лисовского взял и разграбил также два города, имевшие каменные укрепления, — Зарайск и Коломну[332]. В Коломне им были взяты в плен епископ Иосиф и царский боярин князь Владимир Тимофеевич Долгорукий. Но имя Лисовского не попало в окончательный документ о заключении перемирия: «И послы говорили: „А Лисовского мы для того не написали, что он из земли государя нашего выволанец, и чести он своей отсужен, и в котором городе в нашем его поймают, и его там казнят; и имянно нам его писати непригоже“»[333].
В июне 1608 года, перед приходом войска Лжедмитрия II в Тушино, послы Речи Посполитой действительно послали от себя уговаривать польско-литовское войско Петра Борковского, встретившегося с «рыцарством» под командованием гетмана князя Романа Ружинского в Звенигороде. Но из этого ничего не воспоследовало. Гонцу ответили: «Москвитяне прислали вас к нам не по доброй воле, и мы, коли уж сюда пришли, не намерены слушать ничьих уговоров. Надеемся с Божией помощью посадить в столице того, с кем пришли»[334]. Когда отряды Лжедмитрия II окончательно обосновались в Тушине, переговоры и увещевания продолжились, но в них стало еще меньше смысла. Хотя какое-то время в Москве тешили себя иллюзией, что заключенное перемирие и отпуск на родину послов Николая Олесницкого, Александра Госевского, а также сандомирского воеводы Юрия Мнишка с бывшей царицей Мариной заставят «литовских людей» уйти из-под Москвы.
Гетман князь Роман Ружинский подыгрывал московской стороне и делал вид, что вступает в переговоры с посольскими гонцами в Тушине, которыми были весьма известные ротмистр Матвей Домарацкий и секретарь первого царя Дмитрия Ян Бучинский[335]. Позднее дипломаты и советники царя Василия Шуйского поняли, насколько они заблуждались. Отголоски обид слышны в известии «Нового летописца» о самом заметном после прихода Лжедмитрия II в Тушино сражении на Ходынке. «Прислаша же ко царю Василью к Москве ис Тушина от етмана от Ружинсково посланники о послах, кои засажены на Москве, — писал летописец. — Они же злодеи приходиша не для послов, но розсматривати, как рать стоит на Ходынке, и быша на Москве и поидоша опять в Тушино мимо московских полков». Интересно, что в таком же обмане обвиняли русских и в стане гетмана князя Романа Ружинского: «Москвитяне хотели напасть на нас, пока мы были заняты переговорами, решив, что мы ни о чем не подозреваем»[336].
«Ходынский бой» на день Петра и Февронии Муромских 25 июня 1608 года долго потом поминали участвовавшие в нем служилые люди. «Московские люди» потерпели серьезное поражение, что окончательно позволило самозванцу укрепиться под Москвой. Князь Роман Ружинский применил хитрость и ударил на царских воевод тогда, когда они меньше всего ожидали. Основное войско продолжало стоять в Ваганькове, а на Ходынку пришел отряд под командованием известного воеводы князя Василия Федоровича Мосальского. В летописи говорилось, что после тревоги первых дней пришло известие, «будто с посланники литовскими помирихомся». Это якобы и стало причиной того, что «начата нощи тое спати просто, а стражи пооплошахусь». О том, что битва началась «перед утреннюю зорею», когда литовские люди и «воры» пришли «скрадом», сообщали также разрядные книги. Русские и польские источники совпадают в деталях описания Ходынского сражения. Действительно, еще 24 июня шли переговоры, но гетман князь Ружинский начал готовить внезапное ночное нападение на русское войско на Ходынке. Разгром оказался очень серьезным, одних членов Государева двора было убито около 100 человек, а общий счет потерь шел на тысячи. В разрядах записали об этом дне: «Грех ради наших мьногих дворан добрых и боярскую братью и детей побили, князей и детей боярских и стрельцов вьсяких чинов людей; и с тово дела отъехал воевода Болшаго полку князь Василей Федорович Литвинов Масалской»[337]. День Ходынского сражения оказался длинным; о том, что «еще не вечер», гетман князь Ружинский и его войско узнали, как только бежавшие с поля боя царские полки оказались под Москвой и соединились со свежими силами. Тогда московское войско ударило на увлекшиеся погоней польско-литовские хоругви и погнало их обратно к Ходынке и в Тушино. Обратный удар был столь силен, что «побиваху их на пятинатцати врестах, едва в таборах устояху». Это не похвальба летописца — Николай Мархоцкий тоже написал, что многие уже были готовы бежать из Тушина, видя перед собою смерть: «Как будто нам только и оставалось взывать: „Господи помилуй!“» Но поляки выстояли да к тому же получили огромную добычу, которую делили несколько дней под похоронный плач, долетавший из Москвы. А еще Ходынка научила тому, что выиграть в начавшейся войне сможет тот, кто будет лучше укреплен и готов к отражению внезапного нападения. Поэтому Тушинский лагерь стремительно стал приобретать черты города: туда свозили из близлежащих деревень избы, начали строить ограду, проездные башни и ворота.
Несколько дней спустя воеводы царя Василия Шуйского одержали победу в другом бою, на Медвежьем Броду, состоявшемся 28 июня 1608 года. Правда, полки под командованием бояр князя Ивана Семеновича Куракина и князя Бориса Михайловича Лыкова нанесли поражение лишь одной части войска самозванца, ходившей в поход с Лисовским. О разгроме донских казаков, пришедших из Рязанской земли с Лисовским, написал в своем дневнике Иосиф Будило: «Когда он подходил к Тушину и проходил мимо Москвы, то русские напали и разбили его, но он опять собрался с силами и пришел в Тушино»[338]. Приведенные под Москву пленники — зарайский протопоп, коломенский епископ Иосиф и боярин князь Владимир Тимофеевич Долгоруков были отбиты и оказались в Москве. Об этом написал «Новый летописец», составитель же разрядных книг запомнил другое. Он описал, что царским воеводам достались богатые трофеи: «козны денежныя и запасу вин фрянчюских мьногое мьножество поимали». Воеводы не стали преследовать войско Лисовского, уже зная его способность к самым невероятным военным операциям и боясь, что он отступает для вида. Царские полки остались «у крепости, блюдяся; чаели тово, что Лисовской побежал для аманки, а ведет Лыкова на люди»[339].
На главную армию во главе с гетманом Романом Ружинским эти события влияния не оказали. Она продолжала укрепляться под Москвой, тем более, что вскоре туда стали прибывать заметные польско-литовские подкрепления из числа солдат так называемой Брестской конфедерации, воевавших в Инфлянтах (так назывались земли в Ливонии, на которые претендовала Речь Посполитая). Им не заплатил деньги за службу король Сигизмунд III, и тогда они захватили королевские владения в так называемое «приставство» и стали самостоятельно взимать в свою пользу полагавшиеся налоги. Чуть позднее с такой специфической формой получения заслуженного жалованья конфедераты и другие польско-литовские сторонники познакомят в России вольных казаков, и она им очень понравится. А пока в земли Московского государства заворачивали все новые и новые отряды ищущей легкой добычи шляхты. Они шли на помощь своим товарищам к Москве, получая одобрение «царя Дмитрия Ивановича», которому тоже было на руку укрепление его лагеря. Так в это время в польско-литовском войске окажутся такие заметные фигуры русской Смуты, как полковники Ян Петр Сапега и Александр Зборовский.
Свои воинские умения они смогли показать очень быстро. Именно полк Александра Зборовского выполнил то, чего безуспешно добивался от гетмана князя Романа Ружинского Лжедмитрий II после освобождения польских послов и Марины Мнишек. Их отпустили из Москвы в конце июля 1608 года, когда было заключено перемирие с Речью Посполитой на три с половиной года. По условиям перемирия бывшей царице возвращались ее свадебные подарки и украшения, а также все принадлежавшее сандомирскому воеводе Юрию Мнишку имущество, которое удалось разыскать. Но Марина Мнишек должна была отказаться от титула русской царицы и никогда больше не претендовать на него. Со всеми предосторожностями, кружной дорогой, через Переславль-Залесский и Дмитров, в сопровождении усиленной охраны, послов Николая Олесницкого и Александра Госевского, Мнишков отпустили на родину. Но они сумели доехать только до Бельского уезда, где на одном из станов вчерашние пленники повернули оружие против тех, кто их охранял, и легко разогнали их своими саблями. Это отнюдь не была измена дворянских сотен: ведь русская охрана получила наказ провожать послов, а не сражаться с ними, и тем более не убивать их. Дальше пути послов разделились. Александр Госевский отправился на родину в Великое княжество Литовское, в уже близкий Велиж, а Николай Олесницкий с Юрием Мнишком еще задержались в Московском государстве.
Когда говорят о приезде Марины Мнишек в Тушинский лагерь, то обычно видят в этом еще одно подтверждение неуемного честолюбия и беспринципности жены Лжедмитрия I. Но так ли это? Во все время, начиная от договора самозванца о его женитьбе на Марине Мнишек, он вел свои дела с ее отцом, сандомирским воеводой Юрием Мнишком. Полмесяца в Москве в начале мая 1606 года, когда Марина Мнишек была разлучена с отцом, она вначале находилась под назойливой опекой своей будущей свекрови. Потом Марина Мнишек была коронована русской царицей и провела свои лучшие дни во дворце, но все это так стремительно окончилось катастрофой, что возвращение под покровительство отца стало лучшим избавлением и защитой. Во все время пребывания Марины Мнишек с отцом в ссылке в Ярославле она вела себя так, что в источниках о ней почти нет никаких упоминаний, — достаточно заглянуть в так называемый «Дневник Марины Мнишек». Напротив, сандомирский воевода вел переговоры в Москве в Посольском приказе и одновременно вступил в тайную переписку с Лжедмитрием II. Именно Юрий Мнишек решил судьбу своей дочери, когда приказал повернуть царскую карету и ехать обратно к Москве.
Самое поразительное, что под Москвой не очень-то и желали приезда Марины Мнишек. Об этом достаточно откровенно потом рассказал ротмистр Николай Мархоцкий, написавший о том, что погоня за Мнишками посылалась из Тушина лишь для отвода глаз: «Сделали мы это не потому, что в том нуждались, а больше для вида: надо было показать москвитянам, что наш царь настоящий и поэтому хлопочет о соединении со своей супругой»[340]. А дальше получилось и вовсе комично. Один полковник, Валявский, посвященный в деликатные детали сомнительного происхождения самозванца, делает все для того, чтобы не догнать царицу. Другой — Зборовский, из брестских конфедератов, только-только объявившийся в Тушине, видит во всей этой истории неплохой шанс отличиться и выдвинуться на службе у Дмитрия, что успешно и осуществляет. По дороге в Тушино Марина Мнишек попадает под охрану еще одного полка — Яна Петра Сапеги, и когда она снова объявляется под Москвой, то за ее спиной уже много людей договариваются о своих интересах. Лжедмитрий II и ее отец Юрий Мнишек между собою, Юрий Мнишек и Сапега друг с другом и, наконец, брестские конфедераты с Тушинским царем. Остается только гадать, при чем тут Марина Мнишек? Она, искренне верившая, что едет к настоящему Дмитрию, не сумела скрыть своего жестокого разочарования при встрече с тем, кто назвался именем ее покойного мужа, едва не поставив под удар все расчеты окружавших ее лиц. В свите полковника Яна Сапеги тоже вели свой дневник и издевательски записали о нескольких предварительных встречах воеводы Юрия Мнишка со своим мнимым «зятем» (пан воевода ездил удостовериваться, тот он или не тот).
Первым делом обсуждались условия, на которых Марина Мнишек могла появиться в Тушинском лагере. Ввиду казавшегося близким занятия Москвы торжественный въезд царицы Марины Юрьевны и смотр войска, собравшегося в Тушинском лагере, все же состоялись. У Марины Мнишек могло создаться впечатление, что жители Московского государства второй раз присягают своей царице[341]. Тем более, что для русских людей, все еще задававших вопросы о происхождении нового царя Дмитрия, воссоединение царя и царицы стало убедительным аргументом для перехода к нему на службу.
Между тем отъезды от царя Василия Шуйского из Москвы на службу в Тушино членов Государева двора начались уже в июле-августе 1608 года. Одним из первых 21 июля изменил стольник князь Михаил Шейдяков; еще несколько дней спустя, 24 июля, прямо во время боя («с дела») «отъехал» стольник князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, а 25 июля — еще один стольник князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский. Это только самые известные из имен, есть и другие лица, упомянутые в разрядных книгах.
Столь ранний отъезд в полки самозванца стольника князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого может быть объяснен его страхом, что вслед за «поиманием» князя Юрия Никитича Трубецкого царь Василий Шуйский подвергнет преследованиям весь этот княжеский род. У князей Трубецких больше не было оснований доверять декларациям крестоцеловальной записи царя Василия при его вступлении на престол. Очевидно, что опалы, в том числе наложенные не только на виновников «измен» царю Василию Шуйскому, но и на весь род, продолжались в Московском государстве. Ответом же знати и других членов Государева двора стали отъезды на службу к Лжедмитрию II. Многих людей подтолкнула к переходу от одного царя к другому встреча самозванца с царицей Мариной Мнишек в Тушинском лагере. У отъезжавших со службы царю Василию Шуйскому князей и дворян обычно конфисковывали имущество, поместья и вотчины. Но они своей изменой могли быстро приобрести новый, более высокий статус, как это случилось с молодым князем Трубецким, ставшим боярином Лжедмитрия II, а затем, ввиду его более поздних заслуг в делах земских ополчений, удержавшего этот чин и при воцарении Михаила Романова. Противоядие против опал и конфискаций нашлось очень быстро; родилось явление, теперь хорошо известное, благодаря образному выражению «
В своем «Сказании» келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын описал фантасмагорическую картину, когда сначала служилые люди самых высших чинов, родственники и друзья, встречались и пировали в Москве, а потом разъезжались кто куда, одни — на службу в царский дворец, другие — в стан самозванца. «На единой бо трапезе седяще в пиршествех во царьствующем граде, — писал автор «Сказания», — по веселии же овии убо в царьския палаты, овия же в Тушинския таборы прескакаху!» Делалось это с умыслом (правда, как справедливо пишет Авраамий Палицын, недалеким), чтобы обезопасить род от неприятностей в случае любого исхода борьбы: «И разделишася на двое вси человецы, вси иже мысляще лукавне о себе: аще убо взята будет мати градов Москва, то тамо отцы наши и братия, и род и друзи, тии нас соблюдут; аще ли мы соодолеем, то такожде им заступницы будем! Полския же и литовския люди и воры казаки тем перелетом ни в чем не вероваху…» Кроме того, на переездах из одного лагеря в другой можно было неплохо заработать, так как везде приезжавших встречали с распростертыми объятиями, раздавая им чины и чужие земли. Это именно в связи с таким безумным забвением крестоцелования (присяги) Авраамий Палицын создал великую формулу Смуты: «
Так царь Василий Шуйский второй раз за время своего царствования увидел под Москвой вражеское войско. Ему должно было казаться, что враги усиливаются и все больше людей готово переметнуться на их сторону. Все это питало его подозрительность и толкало его на расправы, а это, в свою очередь, лишь усугубляло его положение на троне.
Но главные испытания, как оказалось, были для него еще впереди.
Осенью 1608 года наступил один из самых тяжелых периодов правления царя Василия Шуйского, апогей в истории Смуты. 19 сентября 1608 года, завершив «банкетную» кампанию, когда «царик» и его гетманы беспрестанно совещались и упражнялись в питии по поводу приезда в лагерь «царицы» Марины Мнишек, войско самозванца начало военные действия. Крупный отряд, состоявший из 16 тысяч всадников, двинулся к Троице-Сергиеву монастырю. Его возглавляли два «харизматичных» лидера Смуты — полковник Ян Петр Сапега (позднее он станет гетманом Лжедмитрия II) и полковник Александр Лисовский. Им поручили установить тушинский режим в Замосковном крае. С тех пор с «паном Яном Петровичем» (Сапегой) познакомилось очень много русских людей, вступавших с ним в самую разнообразную переписку по делам управления городами, один за другим переходившими на сторону тушинского царя Дмитрия. Но сначала они узнавали силу сабель сапежинских отрядов.
И в Тушине, и в Москве понимали, что падение монастыря вызовет национальную катастрофу для одних и станет прологом победы для других. Монастырь был не только духовным центром Московского государства, не только усыпальницей представителей самых знатных родов (напомню, что именно там перезахоронили останки царя Бориса Годунова), но и средоточием огромной казны. Остаться без покровительства Троицы и отдать в поругание «отеческие гробы» было невозможно.
Вдогонку за войском Яна Сапеги были посланы полки воевод во главе с царским братом, боярином князем Иваном Ивановичем Шуйским. 23 сентября 1608 года состоялась еще одна неудачная для царя Василия Ивановича битва — у деревни Рахманцево. Поначалу русские «многих литовских людей побиша и поимаша», но затем фортуна отвернулась от них и сапежинцы смогли рассеять московское войско. По свидетельству летописца, «бояре ж приидоша к Москве не с великими людьми, а ратные люди к Москве не пошли, разыдошася вси по своим домом»[343].
Отчаянные попытки остановить войско Яна Сапеги все же сделали свое дело, и монастырские власти во главе с архимандритом Дионисием и воеводой князем Григорием Борисовичем Долгоруким успели подготовиться к осаде. А главное, они поняли, что их не оставят одних.
Поражение в рахманцевском бою имело другое следствие: после него служилые люди стали возвращаться не в Москву, а по своим городам. В обычное время было бы достаточно ссылок на начинавшуюся осеннюю распутицу, необходимость пополнить запасы …да мало ли еще какие причины изобретали дворяне и дети боярские, чтобы не возвращаться на службу. Но для царя Василия и столицы, рядом с которой в Тушине находилось сильное и боеспособное войско Лжедмитрия II, наступали самые тяжелые дни. Царь оставался один на один со своими врагами. Автор «Карамзинского хронографа» арзамасский дворянин Баим Болтин писал: «С Москвы дворяне и дети боярские всех городов поехали по домам, и осталися замосковных городов немноги, из города человека по два и по три; а заречных и украинных городов дворяне и дети боярские, которые в воровстве не были, а служили царю Василию и жили на Москве с женами и детьми, и те все с Москвы не поехали и сидели в осаде и царю Василью служили, с поляки и с литвою, и с рускими воры билися, не щадя живота своего, нужу и голод в осаде терпели»[344].
Настало время выбора для всего государства. Теперь линия политического разлома проходила повсюду. Люди, узнававшие о приходе «царя Дмитрия Ивановича» в Тушино под Москвой, могли не догадываться, что это еще один самозванец. Однако присылавшиеся из Тушина отряды «помогали» сделать им нужный выбор. Судя по всему, тушинцы, кроме планов расхищения Троицы, имели виды и на владычную казну в Суздале, Ростове, Коломне, Переславле-Рязанском, Твери, Вологде, Пскове, Новгороде, Казани, Астрахани, словом, во всех городах — центрах епархий. Овладев, где это удавалось, такими малыми «столицами», тушинцы продолжали экспансию и на другие города, используя поддержку присягавших им местных архиереев, подчиняли крупные монастыри и близлежащую округу. Модель подобного захвата была впервые опробована в Суздале. «Новый летописец» писал «об измене в Суждале» сразу же за статьей о начале осады Троицкого монастыря. Перешедшие на сторону Тушинского Вора суздальцы целовали крест самозванцу, и «архиепискуп Галахтион за то не постоял». Сапега из-под Троицы прислал в Суздаль полковника Александра Лисовского, который сразу же установил там тушинский режим и посадил в городе подчинявшегося Лжедмитрию II воеводу Федора Плещеева. Другой отряд, посланный из войска Яна Петра Сапеги из-под Троицы, захватил и разграбил Ростов в начале октября 1608 года, «потому что жили просто, совету де и обереганья не было». И там тоже был взят в плен ростовский и ярославский архиепископ Филарет — бывший боярин Федор Никитич Романов.
Об этих событиях писали в городовых грамотах, которыми стали обмениваться своеобразные «городовые советы», создававшиеся в условиях начинавшегося двоевластия в стране: «…и литовские де люди Ростов весь выжгли и людей присекли, и с митрополита с Филарета сан сняли и поругалися ему, посадя де на возок с женкою, да в полки свезли»[345]. Еще одно свидетельство о подневольном приезде митрополита Филарета в Тушино содержится в «Сказании Авраамия Палицына»: «Сего убо митрополита Филарета исторгше силою, яко от пазуху матерню, от церкви Божия, и ведуще путем нага и боса, токмо во единой свите, и ругающеся, облкоша в ризы язычески и покрыта главу татарскою шапкою и нозе обувше в несвойствены сапоги». Однако, несмотря на такие издевательства, митрополит Филарет остался в Тушинском лагере и даже получил там почетный чин патриарха. Авраамий Палицын объяснял это так: «Приведену же бывшу ко лжехристу и к поляком, советовавше же врази, да им инех прелстят, и хотяще к своей прелести того притягнути, — и нарицают его патриарха, и облагают всеми священными ризами, и златым посохом почествуют, и служити тому рабов, якоже и прочим святителем даруют»[346]. И действительно, никого более родовитого, чем Филарет, каким бы путем он ни появился в Тушине, в окружении самозванца не оказалось. Несомненно, что нахождение в Тушине митрополита Филарета влияло на выбор городов в том, присягать или нет «царику».
Тушинский самозванец пытался поставить под свой контроль все города, окружавшие столицу, и как можно дальше продвинуть форпосты по идущим от Москвы дорогам. Первой оказалась захвачена дорога через Александрову Слободу, Переславль-Залесский, Ростов на север Замосковного края. Следующим после Ростова пал Ярославль. Как писали в тех же городовых грамотах, «а из Ярославля де лутчие люди пометав домы своя разбежалися, а чернь со князем Федором Борятинским писали в полки повинныя и крест де целовали, сказывают, царевичу князю Дмитрею Ивановичу». Это означало, что в городах начинался раскол, дополнявшийся социальной рознью. После перехода того или иного города на сторону тушинского «царика» следовала посылка представителей присягнувшего самозванцу города с челобитной Лжедмитрию II. Дневник Яна Петра Сапеги упоминает о таких приездах с повинными в октябре 1608 года из Переславля-Залесского, Юрьева-Польского, Ярославля, Углича, Ростова, Владимира, Вологды. Дальше следовала посылка в присягнувшие города тушинских воевод, после чего жители Московского государства узнавали истинную цену новоявленных правителей, озабоченных одним — быстрым обогащением.
Так, по всему северу городовые общины пересылали грамоты о том, что произошло после присяги тушинскому царю в Вологде. Туда очень скоро привезли и зачитали на городской площади грамоту (текст записан со слов человека, слушавшего объявление этой грамоты): «Велено собрата с Вологды с посаду и с Вологодского уезда и со архиепископских и со всяких с монастырьских земель с сохи по осми лошадей с саньми, и с верети, и с рогожами, да по осми человек с сохи, а те лошади и люди велено порожжие гонити в полки». Кроме обременительной подводной повинности, наложенной на церковные земли, Вологодский посад и уезд обязаны были поставить с каждой выти (податной единицы) огромное число разных продуктов, несколько утомительное перечисление которых, вероятно, было заготовлено каким-то тушинским Фальстафом: «столового всякого запасу, с выти, по чети муки ржаной, по чети муки пшеничной, по чети круп грешневых, по чети круп овсяных, по чети толокна, по чети сухарей, по осмине гороху, по два хлеба белых, по два ржаных, да по туше по яловице по болшой, да по туше по баранье, по два полти свинины свежия да по два ветчины, да по лебедю, да по два гуся, по два утят, по пяти куров, по пяти ососов{2}, по два зайца, по два сыра сметанных, по ведру масла коровья, по ведру конопляного, по ведру рыжиков, по ведру груздей, по ведру огурцов, по сту ретек, по сту моркови, по чети репы, по бочке капусты, по бочке рыбы, по сту луковиц, по сту чесноку, по осмине снедков, по осмине грибков, по пуду икры черныя, да по осетру по яловцу, да по пуду красныя рыбы, да питей по ведру вина, по пуду меду, по чети солоду, по чети хмелю». Все это добро надо было везти в Тушино на других подводах, взятых у мирских уездных людей. Иногда такие грубые «материальные» детали лучше всего объясняют высокую политическую материю. Выслушав присланный указ, «вологжане против тех грамот ничего не сказали, а иные многие заплакали, а говорят де тихонько друг с другом: хоти де мы ему и крест целовали, а токо б де в Троицы славимый милосердый Бог праведный свой гнев отвратил и дал бы победу и одоление на враги креста Христова государю нашему царю и великому князю Василью Ивановичу всея Руси»[347].
Аппетиты тушинских правителей узнавали в разных городах, по каким-либо причинам (чаще всего под давлением польско-литовских отрядов и казачьих станиц) отказывавшихся от присяги царю Василию Шуйскому. На сторону Лжедмитрия II перешли вслед за Суздалем и Владимиром другие близлежащие города по Оке — Муром и Касимов с царем Ураз-Мухаммедом. Угроза перехода под тушинский протекторат нависла над Нижним Новгородом. Рать боярина Федора Ивановича Шереметева, безуспешно пытавшаяся привести к присяге царю Василию Шуйскому Астрахань, зимой 1608/09 года находилась в Чебоксарах и прикрывала Нижний Новгород от наступления с «Низа». Сами же нижегородцы организовали первое ополчение во главе с воеводами князем Александром Андреевичем Репниным и Андреем Семеновичем Алябьевым и воевали вокруг города, чтобы отстоять его от набегов сторонников тушинского самозванца.
Последовательно поддерживали царя Василия Шуйского Переелавль-Рязанский, где находился на воеводстве думный дворянин Прокофий Петрович Ляпунов, и Смоленск во главе с боярином Михаилом Борисовичем Шеиным. Но вся подмосковная округа находилась уже во власти тушинцев. Сложная ситуация была и в городах «от Немецкой украйны» (на северо-западе). Псков очень рано перешел на сторону Лжедмитрия II. А Новгород Великий удерживался благодаря присутствию посланного туда набирать вспомогательное шведское войско боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Словом, Иосиф Будило имел все основания написать: «Отказывалась от Шуйского и поддавалась тому царику вся земля»[348].
В самом Тушине осенью 1608 года больше помышляли не о захвате Москвы, а о немедленном обогащении за счет присягнувших Лжедмитрию II городов и уездов. Николай Мархоцкий писал об этом благодатном для сторонников царя Дмитрия времени, забывая, что оно было оплачено горькими слезами ограбленных и ввергнутых в междоусобное противостояние жителей Московского государства: «С волостей, разделенных на приставства, везли нам воистину все, что только душа пожелает, и все было превосходным. Подвод приходило на каждую роту до полутора тысяч. Имея множество подданных, стали мы строиться основательно, рассчитывая на суровую зиму: в окрестных селениях брали дома и ставили в обозе. Некоторые имели по две-три избы, а прежние, земляные, превратили в погреба. Посреди обоза построили царю с царицей и воеводам достойное жилище, и стал наш обоз походить на застроенный город»[349]. Но и этого оказалось мало. Польско-литовское воинство, окружавшее царя Дмитрия, уже забыло о своих целях, увлеченное легкостью грабежа. Оно ревниво смотрело на всех соотечественников, кто приезжал в Тушино, начиная с самого сандомирского воеводы Юрия Мнишка и окружения царицы Марины Мнишек, ради освобождения которых они когда-то и шли в Московское государство. Поэтому бывшие польско-литовские пленники, попадая под Москву, стремились скорее возвратиться на родину, а не оставаться во враждебном окружении алчущих добычи «рыцарей». Но алчность шляхты многократно усиливалась в действиях рядовых солдат — «пахоликов», никогда и не думавших о высоких материях службы. Эти уже открыто уходили от своих панов, ничего не получая от нещедрого тушинского «царика». Они захватили тушинскую канцелярию, написали грамоты по городам и поехали собирать дань и «поносовщину» с товаров (то есть изымали у каждого человека, где находили, часть его имущества). Наиболее дальновидные, такие как ротмистр Николай Мархоцкий, предупреждали о последствиях, но его вспомнили недобрым словом тогда, когда отовсюду стали приходить известия о расправе со сборщиками дани и о возвращении городов на сторону царя Василия Шуйского.
Тушинские грабежи стали, как ни странно, спасительными для правительства царя Василия Ивановича. В окружных грамотах, рассылавшихся из Москвы, очень умело обыгрывалось недовольство повсеместным присутствием тушинцев. Действия «воровских» отрядов объясняли как борьбу против православной веры: «А ныне и сами не ведаете, кому крест целуете и кому служите, что вас Литва оманывает; а то у них подлинно умышлено, что им оманути всех и прелстя наша крестьянская вера разорите, и нашего государьства всех людей побита и в полон поимати, а досталных людей в своей латынской вере преврати™». Ссылаясь на тушинский порядок, царь Василий Шуйский отвращал своих подданных от присяги тому, кто раздирает на части Московское государство: «…а ныне литовские люди нашего государьства все городы и вас всех меж собою поделили по себе и поросписали, кому которым городом владети; и тут которому быти добру, толко станет вами Литва владети». От царя шли обещания наград, прощение тем, кто, «исторопясь», «неволею» или по неведению целовал крест проклятому «Вору». О сидевших в осаде в Москве людях говорили, что они «все единомышленно хотят за святыя Божии церкви и за всю православную крестьянскую веру с воры битися до смерти». Всем, кто поддержит эту борьбу и «на воров помощь учинит», обещалось такое «великое жалованье, чего у вас и на разуме нет»[350].
В городах Московского государства уже поняли, с кем они имеют дело. Началось обратное движение в поддержку царя Василия Шуйского. Сделать это было непросто, потому что раскол, произошедший в городах и уездах, коснулся местных дворянских обществ, столкнул между собою «лучших» и «молодших» посадских людей. Одни только крестьяне никуда не бежали и не покидали своих мест, для них единственный выход оставался в самообороне. Посадские же люди убегали и искали приюта в других городах, где их не могли достать тушинские мытари. Уездные дворяне и дети боярские, напротив, превратились в кондотьеров не хуже презираемой «литвы». Было так, что представители одного и того же служилого «города» и даже родственники могли сидеть в осаде в Москве и Троице-Сергиевом монастыре, а также воевать на стороне Тушинского Вора. Когда в ноябре-декабре 1608 года от самозванца отложились Ярославль, Кострома, Галич и другие крупные центры Замосковного края, то дворянам этих уездов пришлось воевать друг с другом!
Нижегородское ополчение воеводы Андрея Семеновича Алябьева, ходившее походами на Арзамас, Муром, Касимов, вступало в бои с отрядами под предводительством дворян из Владимира и Суздаля, воевавших на стороне Лжедмитрия II. Вообще, это забытое нижегородское ополчение сыграло тогда ключевую роль в борьбе с тушинцами в центре страны. Ему удалось отбить крупный штурм Нижнего Новгорода 2 декабря 1608 года и начать ответное наступление. Когда весть об этих успехах нижегородцев достигла Москвы, то к ним прислали царскую грамоту 9 января 1609 года, в которой их «похваляли» за «службу и раденье», проявленные в осаде, и обещали «великое жалованье» — придачи поместных и денежных окладов служилым людям и льготу, а также беспошлинную торговлю посадским людям. Царь Василий Шуйский извещал о том, что происходит в Москве, убеждая, что у них «все здарова, и в людцких и в конских кормех всяким нашим ратным и служилым людем нужи никакие нет»[351]. Из грамоты становится понятно, что основная надежда в столице возлагалась на ожидание подкреплений: «немецких людей» с боярином князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским и русского ополчения из Новгорода Великого, отрядов, шедших с «Низа» с боярином князем Федором Ивановичем Шереметевым, и смоленскую рать. Но князь Скопин-Шуйский находился далеко и только начинал переговоры со шведами о наборе вспомогательного войска, боярину Михаилу Борисовичу Шеину нельзя было оставить смоленских укреплений, а боярин Федор Иванович Шереметев увяз в боях с «ворами» под Чебоксарами. Битвы с ними иногда превращались в побоище, как это случилось под Свияжском 1 января 1609 года при подавлении выступления «татар», «мордвы» и «черемисы» из «понизовых» городов: «…и топтали их, и кололи, что свиней, и трупу их положили на семи верстах»[352].
Время правления царя Василия, почти все прошедшее в междоусобных войнах, заставляло думать о том, что «земля» может успокоиться только со сменой царя. Появились ходоки к патриарху Гермогену, пытавшиеся уговорить его, чтобы он, в свою очередь, способствовал добровольному уходу царя Шуйского. «Новый летописец» оставил какие-то сумбурные сведения об агитации нескольких дворян, пытавшихся поднять Боярскую думу против царя Василия Ивановича. Среди возмутителей спокойствия оказались верейский выборный дворянин князь Роман Иванович Гагарин, ходивший походом «на Северу» против «царевича Петрушки», небезызвестный рязанец Григорий Федорович Сунбулов, пожалованный в московские дворяне после отъезда из болотниковских отрядов под Москвой, а также московский дворянин Тимофей Васильевич Грязной, назначавшийся «головою» в боях с воровскими полками под Москвой в 1606 году. Все эти дворяне объединились в одном стремлении свести с престола царя Василия, но убедить открыто выступить против него смогли только боярина князя Василия Васильевича Голицына. Это тоже было немало, если вспомнить действия князей Голицыных под Кромами в 1605 году и принятие ими присяги первому «царевичу Дмитрию». Однако царь Василий Шуйский сам вышел на Лобное место в окружении бояр, приехавших из войска, стоявшего под Москвой. Тогда Шуйскому удалось отстоять свою власть, но многие «побегоша из города», боясь расправы, «и отъехаша из Тушина человек с триста»[353].
Новое выступление, видимо, произошло «в субботу сыропустную» 25 февраля 1609 года. Царю пришлось выслушивать с Лобного места обвинения в том, «что он человек глуп и нечестив, пьяница и блудник, и всячествованием неистовен, и царствования недостоин». Об открытом недовольстве правлением царя известно из послания патриарха Гермогена, обращенного к тем, кто переметнулся на сторону Лжедмитрия II: «И которая ваша братья, в субботу сыропустную, восстали на него государя и ложныя и грубныя слова изрицали, яко же и вы, тем вины отдал, и ныне у нас невредимы пребывают, и жены ваши и дети також во свободе в своих домех пребывают». Патриарх пытался убедить врагов царя, что семьи изменивших ему людей больше не преследуются, — это, судя по всему, и было одной из главных причин недовольства. Из другого послания патриарха Гермогена выясняются другие обвинения, прозвучавшие тогда в адрес царя: «На царя же восстание их таково бе: порицаху бо на нь, глаголюще ложная, побивает де и в воду сажает братию нашу дворян и детей боярских, и жены их, и дети в тайне, и тех де побитых с две тысячи; нам же о сем дивящеся и глаголющим к ним, како бы сему мочно от нас утаитися, и их вопрошающим: в каково время и на кого имянем пагуба сия бысть?» Патриарх Гермоген недоумевал, откуда могли взяться такие невероятные цифры казненных. Сам он, в свою очередь, укорял тех, кто переметнулся на сторону самозванца: «Не свое ли отечество разоряете, ему же иноплеменных многия орды чюдишася, ныне же вами обругаемо и попираемо?» Патриарх убеждал перестать поддерживать тушинского «царика» и обещал, что «о винах ваших у государя упросим».
Подобные обвинения в адрес царя Василия Шуйского исходили из Тушина. Они, несомненно, будоражили московский «мир», уставший от осады. Царю же сложно было спорить с ними. В тушинских грамотах умело выделялись слабые стороны правления царя Василия Ивановича: «Князя де Василья Шуйского одною Москвою выбрали на царство, а иные де городы того не ведают, и князь Василей де Шуйской нам на царстве нелюб и его де для кровь льется и земля не умирится, чтоб де нам выбрати на его место иного царя». Отвечая на этот в общем-то справедливый упрек, патриарх Гермоген создал формулу русского централизаторского самодержавия: «
Другое выступление против царя Василия Ивановича последовало с той стороны, откуда он меньше всего мог ожидать удара. В Москве был открыт заговор боярина Ивана Федоровича Крюка-Колычева, якобы замышлявшего убить царя Василия Шуйского в Вербное воскресенье 9 апреля 1609 года. «Новый летописец» писал об этом: «Боярин Крюк Колычов, на него сказал царю Василию Василей Буторлин, что он умышляет над царем Василием и в Тушино отпускает. Царь же Василей повеле поимати, и многих людей с ним переимаху, и ево и многих людей пытаху; и после пытки его повеле казнить на Пожаре, а кои в ево деле были, посадиша по тюрмам». Необычным здесь было то, что в измене обвинили одного из самых приближенных к царю Василию Ивановичу бояр, когда-то пострадавшего вместе с князьями Шуйскими после дела о неудавшемся разводе царя Федора Ивановича и Ирины Годуновой. Ивана Федоровича Крюка-Колычева называли даже «временщиком» царствования Василия Шуйского. И вот звезда боярина закатилась из-за каких-то очень темных обстоятельств. Слишком, видимо, уже был раздражен и обескуражен царь Василий Шуйский многочисленными изменами, поэтому поверил доносам на ближайшего боярина.
Личность доносчика была хорошо известна современникам. Характерно, что среди всех отрицательных эпитетов, которыми награждали «ушников» царя Василия, о Василии Бутурлине давали самый нелицеприятный отзыв: «Стольник Василий Иванов сын Бутурлин. А такова вора и довотчика нет, и на отца своего родного доводил». Из расспросных речей подьячего Московского судного приказа Матвея Чубарова, бежавшего в Тушинский стан, известно, что заговор вроде был, но пытали одного боярина Ивана Федоровича и он никого не выдал. Слухи же ходили самые разные, вплоть до того, что «царю Дмитрею Ивановичю всеа Руси» «прямят» и другие близкие царю Василию Шуйскому бояре — князь Борис Михайлович Лыков и князь Иван Семенович Куракин. Снова обозначилось отрицательное отношение к царствованию Шуйского бояр и князей Василия Васильевича и Андрея Васильевича Голицыных. Даже после казни Ивана Крюка-Колычева в Москве продолжали ходить слухи о возможном убийстве царя и «замятие» то ли на Николин день 9 мая, то ли на «Вознесеньев» — 25 мая. Все видели, как «дети боярские и чорные всякие люди приходят к Шуйскому с криком и вопом, а говорят, до чево им досидеть? Хлеб дорогой, а промыслов никаких нет, и ничего взяти негде и купити не чем. И он у них просит сроку до Николина дни, а начается де на Скопина, что будтось идет к нему Скопин с немецкими людми»[355].
Немного поправились дела царя Василия Шуйского, когда к нему в самом начале мая 1609 года вернулись некоторые перебежчики, в том числе князь Роман Иванович Гагарин. Теперь он с той же силой убеждения, как поднимал бояр против царя Василия Шуйского, говорил про самозванца: «Прямо истинный вор, а завод весь Литовского короля, что хотят православную христианскую веру попрати; а то в таборех подлинно ведомо, что в Нов город пришли немецкие люди, а литву от Нова города отбили прочь». Эти же речи подтвердил выехавший вместе с князем Романом Гагариным к царю Василию Шуйскому литовский ротмистр Матьяш Мизинов[356]. Получив такое точное подтверждение своих ожиданий со стороны противника, многие поостереглись уезжать из столицы в Тушино и стали ждать прихода новгородской рати.
Тем временем царь Василий Иванович хотел исправить злополучный «холопский вопрос», продолжавший портить отношения служилых людей между собою. Законодательная деятельность тогда почти прекратилась. Какой смысл был в ней, если царь распоряжался едва ли половиной своего царства? Известен указ царя Василий Шуйского от 21 мая 1609 года о закреплении за старыми владельцами тех холопов, которые служили «безкабално лет пять, или шесть, или десять и болши» (то есть примерно с Уложения 1597 года, исключая самые спорные голодные годы). Необычной была фраза, которой оканчивалась статья: «А о том рекся государь говорить з бояры»[357]. Это означало, что царь Василий Шуйский раздавал любые обещания, чтобы удержаться у власти.
Дело не исчерпывалось только пожалованиями. Для одних царь был милостив, а для тех, кто переходил на сторону тушинского «царика», умел быть и грозным. Обьино говорят о той жестокости, с которой тушинцы расправлялись с неугодными. Однако сохранились документы, показывающие, что и царь Василий Шуйский расправлялся со своими врагами без всякой пощады. Оказывается, «загонщики», обиравшие крестьян подмосковных дворцовых волостей, встречались и с царской, а не только с тушинской, стороны. Иногда быть в тушинском «приставстве» и управлять своею волостью вместе с «приставами» и «панами», присланными из Тушина, было много безопаснее. Случалось, что «паны» защищали волостных крестьян от действий карательных отрядов царя Василия Ивановича! Так, крестьяне дворцовых подмосковных волостей не пропустили в столицу подкрепления, шедшие от земских сил из Владимира. Дошло до того, что сидевшие в Москве бояре приговорили на подмосковных крестьян «рать послати и до конца разорите». Даже власти Троице-Сергиева монастыря писали дворцовым крестьянам, что если бы не прощение царя Василия Ивановича, «и вас бы и попелу не осталося»[358].
Все это показывает, что царь Василий Шуйский знал только одно средство борьбы с «изменниками», появлявшимися уже в самом близком царском окружении, — казни и опалы. Неоправданная жестокость становилась нормой жизни, искажая все начинания и замыслы. Царь лишь удерживал свою власть, а не царствовал. Недовольство его правлением оказалось всеобщим, а поэтому подданные верили всему плохому, что говорили про царя, и даже придумали ему обидное прозвище — Шубник. Но и особенного выбора, кроме как держаться если не власти, то имени царя Василия, у жителей Московского государства не было. Близкое знакомство с тушинским режимом быстро показало всю цену притязаний на престол самозваного царя Дмитрия Ивановича. Потому-то в городах и уездах сами стали решать свою судьбу, создавая земские «советы». Царь Василий Шуйский мог только наблюдать за этой самодеятельностью внутри государства. Все его надежды оказались связаны со сбором наемного иноземного войска, порученного князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. Царь не жалел казны и даже готов был поступиться русскими землями, так велико было его доверие к «немецкой» силе. Иноземным наемникам оказывалось явное предпочтение перед своим войском, не способным справиться с угрозами, шедшими из Тушина. Такова оказалась осадная психология царя Василия Шуйского.
В самом конце февраля 1609 года в Выборге стольник Семен Васильевич Головин и дьяк Сыдавный Васильев заключили долгожданные договоренности с представителями шведского короля Карла IX об оказании поддержки и найме военной силы[359]. Однако «цена» этого договора оказалась высока. Россия теряла город Корелу, истощала казну на уплату жалованья наемникам. Кроме того, приход вспомогательного войска угрожал Пскову и Новгороду, которые в Швеции мечтали превратить в новую шведскую провинцию. Но едва ли не серьезнее всего было заметное изменение в тональности переговоров со Швецией. Со времен Ивана Грозного, писавшего острые послания шведским правителям, в отношении к Швеции с ее неустройством в династических делах господствовал поучительный тон. Того же Карла IX, пока он не короновался в 1607 году, называли в дипломатических документах пренебрежительно Арцыкарло, то есть «арцук» (герцог), но не король. В ответ на предложения помощи, присланные с шведским гонцом после поражения болотниковцев под Тулой, снисходительно писали: «И ныне во всех наших великих государствах смуты никакие нет… Да и самому тебе Арцыкарлу то ведомо, что у нашего царского величества многие неисчетные русские и татарские рати и иных земель, которые нам великому государю служат»[360]. Но прошло немного времени, всего около года, — и договоренности заключались уже с «велеможнейшим» и «высокорожденным князем и государем», «Свейским королем» Карлусом.
Союз царя Василия Шуйского с шведским королем Карлом IX не был частным делом двух государств. Обращение за помощью к врагу и сопернику в правах на шведский престол короля Сигизмунда III могло рассматриваться последним как смертельное оскорбление. Да и было, по сути, таковым, потому что Сигизмунд III и Карл IX уже много лет воевали друг с другом. Вся конструкция европейской дипломатии строилась с учетом этого соперничества. Карл IX давно пытался организовать враждебную Речи Посполитой коалицию с Московским государством и Крымом, и в начале 1609 года ему это удалось: в Москве одновременно договорились о приходе на помощь еще и других своих «злейших» друзей — из Крымского ханства. Отныне царь Василий Шуйский становился личным врагом Сигизмунда III, и король решился на подготовку настоящей войны с Московским государством. Правда, сейм, заседавший в то же время, когда в Выборге заключали договор «с врагом моего врага», однозначно высказался против вторжения в земли соседнего государства, не дав королю Сигизмунду III полномочий на использование войска. Тогда король начал приготовления к войне по своей инициативе, рассматривая ее как еще один аргумент в своей борьбе с мятежной шляхтой, не до конца успокоившейся после славных рокошанских времен. Создается впечатление, что раздражение царя Василия Шуйского против наводнивших Русское государство польско-литовских сторонников Тушинского Вора было просто перенесено на короля Сигизмунда III. В Москве отказывались верить, что за вторжением самозванца не стоят королевские интересы. А в Кракове во всем произошедшем видели один только враждебный союз царя Василия Шуйского и Карла IX.
Вспомогательное войско из Швеции, состоявшее из «фрянцузшков, аглинцов, немец цысаревы области, свияс и иных многих земель»[361], пришло в Московское государство очень быстро после заключения выборгских договоренностей. Приход многотысячного отряда иностранных наемников, не знакомых с обычаями и политическими обстоятельствами чужой страны, стал новым испытанием и для власти царя Василия Шуйского, и для его подданных. Предвидя возможные эксцессы, еще в Выборге записали в договор статьи, устанавливающие своеобразный кодекс поведения «немецких» ратных людей, приходивших «на Русь, на помочь». Их обязывали «церкви и монастыри не разоряти, ни грабити, и их иконам и образом не поругатися». Надо было обговорить и то, что иностранцам придется воевать с русскими людьми, оказавшимися на стороне «Вора». Конечно, воеводы царя Василия Шуйского не хотели, чтобы их обвинили в том, что они убивают православных христиан руками «иноплеменных». В выборгских договоренностях было сказано уклончиво: «А которые их царю и великому князю добром не сдадутся, и тех им, яко прямых вразей, гонити». Пойманных «на деле, или на стравке, или в подъезде, или в загонех» «языков» нужно было обязательно объявлять царским воеводам, после чего, если такой пленник упорствовал и не принимал присягу царю Василию Ивановичу, его разрешалось отдать в рабство тому, кто его поймал[362].
3 марта 1609 года шведское вспомогательное войско пересекло рубежи Московского государства. 8 марта князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский получил известие о выборгских договоренностях и о начале похода к Великому Новгороду восьми тысяч конных людей и четырех тысяч пеших людей. Теперь можно было готовиться к походу и в Москву. Желание князя Скопина-Шуйского было начать поход немедленно, «тотчас». Однако даже такое простое дело, как посылка человека с грамотами в Москву, было тогда героическим предприятием. Незаметным и забытым героем Смутного времени оказался крестьянин Кузьма Трофимов, живший в Важской волости Чарондской округи, в земле, отданной во владение князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. Еще в середине февраля 1609 года, «за недели до Масленого заговина», он был отправлен «к Москве к царю Василью з грамоты в проход». Вот как Кузьма Трофимов рассказывал о своем поручении (за его выполнение он получил большую льготу: его земля была «обелена», то есть освобождена от всех податей в 1613 году): «А в те де поры польские и литовские люди обовладали многими городы, а ведома на Москве про князя Михайла Шуйского и про ратных людей и про поморские городы не было многое время». В итоге, дойдя сначала до Вологды, а потом и до Москвы, он доставил свои грамоты царю Василию Ивановичу, который «первый ведом учинилсе про князя Михайла и про поморские ратные люди от него». Даже уже одним этим делом Кузьма Трофимов заслужил свою награду, как получили ее те крестьяне-гонцы, кто приехал с ним из Вологды. Но Кузьма Трофимов вместо того, чтобы бить челом о пожаловании, напросился на новую опасную службу. Несомненно, какое-то движение к победе общих интересов над частными в Русском государстве уже началось. Кузьма Трофимов опять «воровские полки прошел», привезя ответ князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. Когда наемное войско вошло в рубежи Московского государства, новгородский воевода использовал уже проложенный ранее маршрут и просил каргопольские и вологодские власти, чтобы те отослали «к Москве гонцов, и не однова, двожды и трожды детей боярских или кого ни буди, чтоб с теми вестьми однолично ко государю к Москве пройти как ни буди»[363].
После этого становится понятно, почему князь Михаил Васильевич не пошел сразу на Москву, как хотел царь Василий Шуйский. Из Новгорода полкам пришлось бы идти не обычным маршем, а пробиваться с боями мимо городов и уездов, находившихся под тушинской властью. Позднее князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский в своих грамотах сам рассказал об основных событиях, связанных с начальными действиями его рати. Первым делом стало очищение новгородских дорог: «На многих боех в Старой Русе, и в Староруском уезде у Николы на Камонках, и под Порховым, и у Спаса на Холмицах, и подо Псковом, и подо псковскими пригороды во многих местех воров побили, и живых многих поимали, и наряд, и знамена, и литавры взяли, и воровские их таборы совсем разорили, и полон, которой они поимали в селех и деревнях, весь отполонили»[364].
Одновременно с освобождением новгородской дороги нужно было обезопасить путь на Москву от удара вражеских войск с тыла, от Вологды, Костромы и Ярославля. Еще в феврале 1609 года из Новгорода была налажена связь со всем Севером и поморскими городами. Князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским был послан передовой отряд во главе с воеводами Никитой Вышеславцевым и Евсеем Рязановым, начавший с Вологды новое освободительное движение против тушинцев. Не только в столице, но и во всех «заволжских» городах ждали прихода рати Скопина-Шуйского, поэтому появление его посланцев оказалось очень кстати. Соединив свои силы с передовым отрядом скопинской рати, города смело выступали против тушинцев, хотевших наказать войною «отложившиеся» территории. По некоторым известиям, тушинцы, отвоевав Кострому и Галич и наложив на них денежную контрибуцию в двадцать рублей с сохи, планировали поход к Вологде с 22 января 1609 года. Что именно привлекало их в этом городе, объясняет письмо командира тушинских отрядов и сборщика кормов Тимофея Бьюгге (шведа Лоуренса Биугге) Яну Сапеге: «А ныне на Вологде собрались все лутчие люди московские гости с великими товары и с казною, и государева казна тут на Вологде великая, от карабелные пристани, соболи из Сибири…»[365] Вологодский воевода Никита Пушкин якобы тайно писал «в полки к Вору» о готовности сдать город: «А я де вам Вологду сдам, треть де и стоит, а два жеребья сдаются, и как придете, и мы де Вологду сдадим». Захватив же Вологду, тушинцы намеревались отправиться из нее в поход в богатейшее Поморье, Вятку, Пермь, земли Строгановых. Приход воеводы Никиты Вышеславцева опроверг все их расчеты, показав, что соотношение сил изменилось уже в пользу настоящего, а не тушинского, царя.
Когда стало ясно, что поход к Вологде не даст результатов, тушинцы снова устремили все свои взоры к Ярославлю. Но и сюда успел прийти отряд Никиты Вышеславцева и Евсея Рязанова. Воеводы соединились с ратью поморских городов и местным ополчением из дворян и детей боярских Вологды, Пошехонья, Ярославля, Костромы, Галича, Ростова и Романова. Как писали в городовой грамоте из Ярославля в Сольвычегодск в мае 1609 года, «и вором всем Ярославль стал болен добре». Осада Ярославля тушинскими войсками началась еще 1 апреля 1609 года и продолжалась до 4 мая. В этот день защитники города, затворившиеся «в меньшем остроге в рубленом городе и в Спасском монастыре», отбили крупный штурм и заставили тушинцев отойти от города. Но радость была преждевременной, потому что появился «пан Лисовский с прибылыми людьми», а этот зря в походы не ходил. Осада Ярославля возобновилась, от перебежчиков узнали, что готовится новый штурм после получения новых подкреплений и большого наряду. В свою очередь, ярославцы просили у Строгановых помощи: «А и сами, господа, ведаете что без людей и без наряду и каменной город яма». Ярославский городовой совет во главе с местным воеводой князем Силой Гагариным и Никитой Вышеславцевым очень доходчиво объяснил грозящую всем сторонникам царя Василия Шуйского перспективу в случае, если им не удастся отстоять Ярославль: «И от воров повольским и завольским городом никак будет от тех воров не устояти, быти все в разоренье, как Кострому или Романов разорили»[366].
Царь Василий Шуйский обнадеживал недовольных москвичей скорым приходом рати князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Ее ждали на Николин день — к 9 мая. Однако поход из Великого Новгорода к Москве начался только на другой день после этого срока, 10 мая 1609 года[367]. В распоряжении царского боярина оказалось более 18 тысяч наемников из Англии, Франции, Шотландии, Любека и Швеции. Обещанные войска, привлеченные жалованьем и возможностью хорошей добычи, все подходили и подходили, идя через Выборг и Ругодив на службу в Великий Новгород. Один вид необычного строя и железных доспехов рыцарей и драбантов (пеших воинов) устрашал противника. В Тушине даже рядовым людям было известно, что «князь Михаил Васильевич идет с рускими и немецкими людми с великим собраньем, а немцов с ними десять тысяч окованых, да простых конных десять же тысяч, да пять тысяч дрябей (драбантов. —
Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский был верен своей осторожной тактике и двигался вперед со всем войском, только будучи уверенным, что города и уезды по московской дороге поддержат его. Он действительно был хорошим полководцем, и главным для него было не личное участие во всех битвах, а создание армии, обучение и сохранение ее. С помощью своих воевод он осуществлял общий стратегический план. Выйдя из Новгорода, князь остановился на какое-то время в Устюжне Железопольской, превратившейся в своеобразную ставку, где собирались войска и откуда шла переписка[370]. 16 мая он получил известие из Торжка, все жители которого, местное духовенство, дворяне, дети боярские и посадские люди «били челом» царю Василию Шуйскому «о своих винах». Сразу же туда был послан воевода Корнила Чоглоков, о чем князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский немедленно известил царя: «А велел ему в Торжок идти на спех, чтоб в Торжок пришед твоим государевым делом промышляти и Торжок и Новоторжской уезд до моего, холопа твоего, приезду от воров оберегати». Следом к Торжку отправили другого воеводу Иваниса Одадурова с «рускими и немецкими ратными многими людми», а затем еще отряд под командованием воеводы Семена Васильевича Головина и Федора Васильевича Чулкова. Туда же пришли воевать и «немецкие ратные люди». Рассказывая вологжанам о своих действиях, «Михайла Шуйский» (именно так, без упоминания княжеского титула и каких-либо других чинов) писал в мае 1609 года: «А городы, господа, Торжок, Старица, Осташково, да дворяне и дети боярские ржевичи, и зубчане, и тверичи, клиняне, да после того городы ж Холм, Торопец, Ржева Пустая, Невль, Луки Великие, посады и дворяне и дети боярские государю добили челом»[371].
Тушинцы тоже подготовились и отослали к Торжку своего «грозного пана» полковника Александра Зборовского[372] и снова вынырнувшего в безбрежном море Смуты князя Григория Шаховского. По сведениям Николая Мархоцкого, там же оказались запорожские казаки под командованием Яна Кернозицкого, провалившие новгородскую операцию тушинцев. Всего отрядам из войска воеводы князя Михаила Скопина-Шуйского противостояло около четырех тысяч человек. События первого крупного столкновения 17 июня 1609 года под Торжком в Тушине воспринимались как рядовая и даже успешная операция. Там говорили, что Зборовский «провел удачную битву, уложив до шестисот немцев» из двух тысяч шведского вспомогательного войска, пришедшего под Торжок во главе с их командиром Эвертом Горном. После этого, якобы узнав от языков, «что наступает сильное войско», тушинский полковник отошел к Твери, послав за подмогой к гетману князю Роману Ружинскому. Иначе и, очевидно, ближе к действительности толковал этот бой князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, отметивший его как веху на своем пути из Новгорода: «Под Торшком литовского полковника Александра Зборовского побили». В грамотах царя Василия Шуйского приводились подробности о том, как «литовских многих людей побили, и языки многие, и набаты, и знамена, и коши, и от Торжку Збаровской и Шаховской побежали врознь»[373].
Лето 1609 года стало переломным в противостоянии с тушинцами. Желание завоевать сразу много городов и уездов в конце концов погубило польско-литовское войско и казаков, деморализовало их и превратило из организованной военной силы в сформировавшиеся банды карателей и грабителей. В противостоянии с такими «войсками» никто уже не верил в историю про «царя Дмитрия». Кроме того, с началом похода рати князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского тушинцы должны были сами узнать, что такое война на разных направлениях. 5 и 25 июня 1609 года в двух битвах под Москвой Тушинский лагерь едва не прекратил свое существование под ударами правительственной армии[374]. Об этих боях как о великих победах сообщалось в грамоте царя Василия Ивановича ярославским воеводам князю Силе Ивановиче Гагарину и Никите Васильевичу Вышеславцеву: «Да июня в 5 день, назавтрие Троицына дни, в понеделник, приходили воры и литовские люди под Москву, на Ходынку, со всеми с рускими и с литовскими людми, и мы на них посылали бояр наших и воевод по полком со многими людми». Царские воеводы одержали победу над тушинцами, и, как сказано в грамоте, «топтали и побивали их на пяти верстах, и языки многие поимали; а живых в языцех взяли литовских людей и руских воров сто девяносто семь человек»[375]. От захваченных пленных узнали, что «с Вором в таборех литовские и руские люди немногие». Основные же силы Лжедмитрия II ушли из Тушинского лагеря воевать против рати князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. По сказкам «языков» вообще можно было понять, что Тушинский лагерь чуть ли не близок к распаду, а его оставшиеся немногочисленные обитатели готовы сняться с насиженных квартир и бежать с награбленным добром в Литву. Скорее всего, в грамоте желаемое выдавалось за действительное, но быстро справиться с немногочисленным войском Лжедмитрия II казалось очень заманчивым. И царь Василий Шуйский едва не достиг этой цели в битве на реке Ходынке 25 июня 1609 года. Была применена хитроумная тактика боя с использованием «гуляй-городов». Участник того боя Николай Мархоцкий, кстати, получивший тогда ранение, описал это сооружение: «Гуляй-городы представляют собой поставленные на возы дубовые щиты, крепкие и широкие, наподобие столов; в щитах для стрельцов проделаны дыры, как в ограде»[376]. Ничего не зная в начале битвы о гуляй-городах, тушинская конница вышла на бой с московским войском, перед которым в открытом поле она обычно имела преимущество. Бой шел с переменным успехом, войско гетмана князя Ружинского даже «разорвало» гуляй-городы, «завладело пушками» и «посекло» московскую пехоту. Но в итоге и конница, и пехота самих тушинцев под натиском московских сил стали удирать к своему «обозу». Только ответная стрельба донских казаков под командованием Ивана Заруцкого из-за укреплений у реки Химки остановила наступление войска царя Василия Ивановича и спасла тушинцев от полного разгрома[377]. В грамоте земским воеводам сообщали только о победе, умолчав о том, что битва могла закончиться и по-другому: «Бояре наши и воеводы литовских полковников и рохмистов, и литовских людей, и воров руских людей многих побили, и наряд, и знамена, и набаты, и литавры поимали; а живых литовских людей взяли двести человек, да руских людей взяли человек с сорок, а побили их, потоптали до табар воровских, и многие литовские люди и руские воры с того бою побежали мимо табар за Москву реку и в реке многие потонули»[378]. Так, дважды, с перерывом в год, на реке Ходынке решалась судьба московской осады. Если в 1608 году удача была на стороне гетмана князя Ружинского, то через год царь Василий Шуйский взял реванш. По словам автора «Нового летописца», описавшего «побой» литовских людей под Москвою, «токо бы не отстоялися московские люди у речки, и оне б, и таборы покиня, побежали: таково убо московских людей храбрство бысть… Литовские же люди с той поры под Москву въяве не начаша приходити»[379].
Провалился хитроумный план штурма Троице-Сергиева монастыря, придуманный и осуществленный Яном Сапегой в ночь с 28 на 29 июня 1609 года. Семь «добрых панов» и несколько сотен казаков, погибших под стенами Троицы, стали жертвами этого стремления Сапеги во что бы то ни стало добиться результата своего многомесячного стояния под Троицей[380]. Лжедмитрий II несколько раз обращался к полковнику Сапеге, убеждая его идти со своим войском на помощь основному лагерю, «что большую принесет пользу, чем штурмы». Требовалась помощь «рыцарства» из полка Сапеги и запорожских казаков и отошедшему к Твери полковнику Александру Зборовскому. Именно это, а «не потеря времени за курятниками», как в раздражении напишет потом Сапеге «Димитрий царь» о его действиях под Троице-Сергиевым монастырем, больше всего интересовало «царика»[381].
Как ни старался Лжедмитрий II укрепить свое войско под Тверью, он не смог предотвратить нового поражения. Посланные из Устюжны Железопольской отряды силой отвоевали тверские города — Городецкой острог, Кашин и Калязин монастырь, а также заставили местных дворян и детей боярских «принести вины» царю Василию Шуйскому[382]. После этого армия князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского двинулась к Торжку (там его ожидали 24 июня). Сюда же пришли начальник шведского вспомогательного войска воевода Якоб Делагарди с «немецким» войском и смоленская рать во главе с князем Яковом Петровичем Барятинским и Семеном Ададуровым, «а с ними смольяне, брянчане, да серпеяне»[383]. «Поопочив» в Торжке, по словам летописца, скопинская рать вышла в поход по направлению к Твери и оказалась там 11 июля 1609 года. На этот раз князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский и Якоб Делагарди сами вступили в битву и, как оказалось, очень вовремя. Тушинцы были по-прежнему сильны, а там, где им недоставало сил, они брали неожиданными маневрами. Поначалу в битве под Тверью удача была на стороне конницы полковника Зборовского, нанесшей основательный ущерб наемной немецкой силе. По сведениям Николая Мархоцкого, «в этой битве полегло больше тысячи немцев, а наших погибло очень мало, достались нам и пушки». В стан Лжедмитрия II в Тушине успели даже отправить победную реляцию; «царик», в свою очередь, известил о большой победе Яна Сапегу[384]. Но уже через два дня все перевернулось, и уже князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский извещал своих воевод в Ярославле и Вологде об успехах в борьбе с тушинцами: «Михайло Шуйской челом бьет. Июля, господа, в 13 день пришел я с государевыми с рускими и с немецкими людми под Тверь, под острог, и литовские многие люди пошли против меня на встречу и бились со мною с ночного часа по третей час дни: и Божиею милостью, и Пречистыя Богородицы моленьем, и государевым счастьем Тверь острог взятьем взяли, и литовских людей на поле и у острогу и в остроге многих мы ротмистров и порутчиков и лутчих литовских людей побили, и языки многие поимали, и наряд, и знамена, и литавры многие взяли, и за острогом гоняли московскою да осифовскою дорогою на сороки верстах, и в погоне побили и живых многих поимали литовских людей». Однако победа все равно была неполной, так как часть войска успела затвориться в Тверском кремле: «…а иные литовские люди, Красовской с товарыщи, сели во Твери в осыпи, и я их осадил, и прося у Бога милости над ними промышляю»[385].
Эта отписка составлена по горячим следам тверского боя, когда воевода Михаил Скопин-Шуйский думал, что ему удастся скоро справиться с тушинцами, затворенными в тверской крепости. Однако вместе с первыми победами пришли и первые трения с воеводами шведского войска, прекратившими дальнейшую поддержку действий царского воеводы. Простояв под Тверью около полутора недель, князь Михаил Скопин-Шуйский ушел из города, предоставив возможность оборонявшим свои позиции в Тверском кремле тушинцам уйти с почетом. 24 июля (3 августа) 1609 года он перенес свою ставку в Калязин[386], где и задержался более чем на два месяца.
Что же случилось под Тверью? Какова причина столь нелогичных действий воеводы? Как оказалось, в наемном войске решили, что после победы пришло самое время потребовать жалованья за свою службу. Зашла речь и о выполнении выборгских договоренностей, заключенных в феврале 1609 года. По ним уже 27 мая того же года Корела с уездом должны были отойти к Шведскому королевству. Но ничего этого не произошло, так как царю Василию Шуйскому трудно было даже отправить обычные грамоты без угрозы того, что они будут перехвачены. Когда же в Кореле объявили о будущей перемене подданства, то жители затворились и отказались выполнять распоряжения о приготовлении к передаче города Швеции.
О событиях под Тверью мы узнаем из грамоты Якоба Делагарди, которому король Карл IX поручил быть поверенным в московских делах. 23 июля (2 августа) 1609 года шведский воевода отправил к царю Василию Шуйскому в Москву своих посланников французского ротмистра Якоба Декорбеля, Индрика Душанфееса и Анцу Франсбека (так переданы их имена в русской транскрипции в дипломатических документах). Посольство ехало из Твери в Москву замысловатым маршрутом. Сначала их на судах отпустил из Калязина монастыря вниз по Волге князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский; так они доехали до Ярославля, потом пересели на подводы и доехали до Владимира, где их с почетом принимал и одаривал подарками чашник и воевода Василий Иванович Бутурлин. Из Владимира доехали до Коломны, и только оттуда — в Москву. Везде посольство встречали «с радостью, для того что они пришли ко государю на помочь». Одна беда: на эту дорогу ушел почти месяц, и прием французского посланника шведского войска на службе у русского царя состоялся в Посольской палате в Кремле 17 августа. Якоб Делагарди писал в своей грамоте к царю Василию Шуйскому: «Милостию и помочью Божиею мы твоих врагов подо Тверью низложили и их побили и розгоняли, и помыслил был яз с князем Михайлом Васильевичем Шуйским с обоих сторон воинскими людьми ближе к Москве податись и, как мы несколько милей ото Твери отошли, и поразумели от подъездщиков, что те поляки и казаки, которые во Твери городе сидели в осаде, из города Твери выбегли и после нашего отходу в свои большие полки под Москву пошли, и для того назад поворотился и город засел, и хочю тот город ото всех врагов утеснения твоему царскому величеству верною рукою оборонити, и стал есми с своими полки под тем городом».
Грамота Делагарди, как видно из ее текста, объясняет причину, по которой войско князя Михаила Скопина-Шуйского двинулось из-под Твери и остановилось. Однако не все сводилось к информации, полученной от «подъездщиков». С одной стороны, Якоб Делагарди убеждал, что ему нужно дождаться новых наемных войск, навстречу которым им уже посланы «имяннитые адалы» (дворяне), а также обещал послать на помощь князю Скопину-Шуйскому в Калязин две тысячи людей во главе с воеводой Эвертом Горном («для того, чтоб ево люди храбрее стали, а врагом бы страх и ужасть была»). С другой стороны, царю Василию Шуйскому недвусмысленно объявлялось, что пришло время платить по счетам. Наемники — и те, что находились на службе Тушинского Вора, и те, что служили законному царю, — оставались наемниками и воевали только за деньги. «А воинские люди жалобу имеют и о том скорбят, — писал Делагарди царю Василию Шуйскому, — что оне твоему царскому величеству здеся в земле неколько свою верную службу показали и за то мало заплаты получили, и оне у меня о том просили, чтоб мне к твоему царскому величеству о том писати и того у тебя просити, чтоб твоему царскому величеству тою досталью, которая им доведется дати, попамятовати»[387]. Но и это была только часть правды, потому что, как выясняется из королевских инструкций, данных Якобу Делагарди перед походом в Московское государство, он должен был прежде всего преследовать интересы шведской короны[388]. Королю Карлу IX, конечно, надо было не допустить того, чтобы на престоле в Москве оказался марионеточный государь, посаженный поляками и литовцами. Но сильный сосед, защищающий свои рубежи и угрожающий самой Швеции, королю Карлу IX тоже был не нужен. Зато очень были нужны русские города, которыми уже стал расплачиваться царь Василий Шуйский, чтобы удержаться на троне.
Эти дипломатические построения были понятны князю Михаилу Скопину-Шуйскому. В тот день, когда в Москве начинались переговоры с посланниками Якоба Делагарди, он тайно («в пятом часу ночи») прислал своего гонца с отписками, который на словах должен был передать царю самое главное — причину, из-за которой остановился поход к Москве: «что неметцкие люди… просят Корелы и за тем посяместа мешкают и идти без Корелы не хотят». Тщетно князь Михаил Васильевич убеждал своих союзников продолжить совместные действия («к немецким воеводам приказывал многижда и сам им говорил, чтоб они шли ко государю не мешкая и службу свою совершили»). Они не хотели двигаться дальше, не получив более верного подтверждения о передаче Корелы, чем обещание царского воеводы, что «как они будут на Москве и государь, поговоря з бояры и со всею землею, за их службу за Корелу им не постоит»[389]. В итоге пришлось проводить совещание с патриархом Гермогеном и боярами, а может быть, и собирать некое подобие земского собора, причем немедленно. 23 августа царь Василий Шуйский извещал своего воеводу, что все решения о передаче Корелы были подтверждены, к епископу Корельскому, воеводам и жителям города были написаны особые грамоты «о корельской отдаче». Эта грамота опоздала, и князю Михаилу Скопину-Шуйскому пришлось самостоятельно принимать решение и подтверждать передачу Корелы, чтобы договориться о возвращении на службу «немецкого» наемного войска. Якоб Делагарди, не дожидаясь возвращения своих посланников, успел уже повернуть к Великому Новгороду и находился в тот момент в Торжке[390]. 27 августа князь Скопин-Шуйский снова подтвердил договоренности о передаче Корелы с королевским дьяком Карлом Ульсоном (Олусоном), прибывшим для этого в Калязин[391].
«Калязинское стояние» князя Михаила Скопина-Шуйского было вынужденным, но в итоге оно сыграло даже большую роль, чем несостоявшийся блицкриг «немецкого» войска для битвы в Тушине. Кто знает, как могло окончиться такое генеральное сражение под Москвой? Ведь земские силы совсем недавно освободили от влияния тушинцев главные замосковные города. Первым делом предстояло соединить войско, служившее под командованием князя Михаила Скопина-Шуйского, с отрядами его воевод Никиты Вышеславцева и Давыда Жеребцова, удержавших на стороне царя Василия Шуйского Ярославль и Кострому. Об этом сам князь Михаил Скопин-Шуйский писал в отписке из Калязина в Пермь в августе 1609 года, прося прислать деньги и сукна на платье немецким людям: «…и ныне, сождався с костромскими и с ярославскими и с иных городов с людми, иду к государю на помочь к Москве»[392].
В июле 1609 года началось долгожданное движение рати боярина Федора Ивановича Шереметева из Нижнего Новгорода на Муром и Владимир. Нижегородский дворянин Павел Семенович Арбузов позднее вспоминал, как в конце июля — начале августа 1609 года ездил к царю Василию Шуйскому в Москву, потом вернулся к боярину Федору Ивановичу Шереметеву. Из походного стана в Муромском уезде он был отправлен с отписками к князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому в Калязин монастырь и вернулся с его ответом обратно[393]. Все это означало, что уже тогда главные воеводы земских сил князь Михаил Скопин-Шуйский и боярин Федор Шереметев действовали сообща, зная о планах друг друга. Помимо всего прочего, у боярина Федора Шереметева находилась большая казна — 12 000 ефимков, которую царь Василий Шуйский приказал отправить князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому для оплаты услуг наемников. Впрочем, это все равно была капля в море, так как только за один месяц «неметцким воеводам, и ротмистром, и головам и ратным людям конным и пешим» полагалось 100 000 ефимков[394].
Тушинцы тоже не могли не видеть, как города и уезды один за одним отпадают от них, едва заслышав о подходе воевод войска князя Михаила Скопина-Шуйского. Они собирали силы, чтобы отвоевать свои позиции. Ян Сапега увяз в осаде Троице-Сергиева монастыря, и ему нужно было оправдываться перед «цариком», что он стоит не около «курятника». 29 июля (8 августа) произошел генеральный штурм Троицы, в котором помимо сапежинцев участвовал еще полк Александра Зборовского. Как видно, одним ударом хотели справиться с защитниками Троицкого монастыря, а затем, устрашив своей победой русских сторонников князя Михаила Скопина-Шуйского, выбить их из Калязина монастыря. Но на деле произошло ровно наоборот. Сначала разбились все планы генерального сражения под Троицей, победа снова осталась за защитниками монастыря, несмотря на внутренние нестроения среди осадных сидельцев. В решительный момент они собрались и отбили приступ. Участник тех событий под Троице-Сергиевым монастырем Николай Мархоцкий написал позднее в своей «Истории Московской войны»: «Мы с паном Сапегой пробовали взять штурмом монастырь Святой Троицы, который он все еще держал в осаде. Мы рассчитывали вместе с Сапегой, а значит, и с большими силами, пойти на Скопина, но вместо этого только потеряли людей, загубив их на штурмах. Оставив под Троицей часть войск, отошли мы ни с чем»[395]. Были и другие непредвиденные потери. Поражение под Троицей было истолковано донскими казаками в войске Сапеги как небесное заступничество Сергия Радонежского, и они тайно ушли домой, на Дон, вместо продолжения боев на Волге[396].
Тем не менее объединенные полки Яна Сапеги и Александра Зборовского продолжили движение к Калязину и 14 (24) августа были уже в его окрестностях, заняв Рябов монастырь. Калязинский бой 18 августа 1609 года стал еще одной памятной вехой в движении князя Михаила Скопина-Шуйского, как ранее битвы под Торжком и Тверью. По горячим следам событий князь сдержанно оценивал его результаты в отписках своим сторонникам в Пермь, хотя показательно, что он упоминает о калязинском сражении в ряду других успехов земских сил, связанных с движением рати боярина Федора Ивановича Шереметева и тверской победой: «А последнее дело, по сю отписку, было в селце против Колязина монастыря, за Волгою, и тут литву и воров побили наголову»[397]. Более подробно калязинское сражение описано воеводой в сентябрьской отписке 1609 года, в которой он извещал сибирские города о действиях земской рати: «И… ис под Троицы Сергиеева монастыря и из больших таборов и из иных мест собрались литовские люди многие Ян Сапега да Зборовской с товарищи, приходили на мои полки, и бой у нас с ними был от четверта часу до одинатцата часу дни, и напуски многие были; и на том бою литовских людей побили и языки многие поймали. И с того бою литовские люди пошли в отход, и я за ними послал государевых руских и немецких воевод со многою ратью, а сам за ними ко государю иду со многими людми»[398].
Из ряда других сохранившихся описаний картина калязинского боя выясняется достаточно хорошо. Основное сражение разгорелось вокруг острога, поставленного Скопиным-Шуйским на правом берегу в Никольской слободе, противоположном от его ставки в Калязине монастыре. Конница Сапеги и Зборовского осадила в остроге отряд из «немецких» наемников, пытаясь выманить их на открытое место. Но те сели в осаду, а без пехоты тушинцы не смогли организовать штурм. Исход событий мог быть для земских сил самым непредсказуемым, так как острог не был приспособлен для длительной осады. Но очевидно было, что войско князя Михаила Скопина-Шуйского не стало бы равнодушно наблюдать за действиями сапежинцев и зборовцев. Неопределенность результатов калязинского сражения подчеркивается оценкой «Нового летописца»: «…и под Калязиным монастырем бывшу бою великому, и отойдоша на обе стороны, ничего не зделаху»[399].
Вступая в бой под Калязином, ни та, ни другая сторона еще не могла знать, что по большому счету продолжение принципиальных битв «земцев» под знаменами царя Василия Шуйского и «тушинцев» под хоругвями «царя Дмитрия» уже утрачивало свое первенствующее значение. В события властно вмешался король Речи Посполитой Сигизмунд III, до того времени более или менее пристрастно наблюдавший за тем, что происходит в Московском государстве. Затронув чувствительную «шведскую струну» королевского характера, царь Василий Шуйский и его подданные в Московском государстве должны были почувствовать силу ответного удара. В конце августа 1609 года король Сигизмунд III отправился в поход под Смоленск, что означало прямое объявление войны или, в парадигме советской историографии, «начало открытой интервенции». Но парадокс заключается в том, что у короля Сигизмунда III были вполне самостоятельные интересы в Московском государстве, о которых он и думал прежде всего, выступая в смоленский поход. Те же «литовские люди», что на свой страх и риск поддержали в свое время самозванца (напомню, вопреки прямым запретам короля Сигизмунда III), теперь должны были расплачиваться за свою недальновидность. Король Речи Посполитой в своем желании смять ненавистного врага — царя Василия Шуйского, вступившего в союз с королевскими «изменниками» в Швеции, разрушал все политические конструкции вокруг Лжедмитрия II и продолжавшей находиться в Тушинском лагере Марины Мнишек. Выступив в поход под Смоленск, король Сигизмунд III становился единовластным хозяином положения на московском направлении своей политики. Он только милостиво предлагал всем своим подданным, находившимся волею разнообразных обстоятельств в чужой стране, переходить на королевскую сторону. А они уже должны были сделать свой выбор. Естественно, что при этом никто не брал на себя обязательств выполнять чужие обещания и платить жалование, «заслуженное» в боях за «царя Дмитрия».
Первые же известия о королевском походе, полученные под Калязином, остановили войну с ратью князя Михаила Скопина-Шуйского. Речь шла уже о собственных интересах всего так называемого тушинского «рыцарства», и оно прекрасно продемонстрировало, ради чего находилось все это время в Московском государстве. По словам Николая Мархоцкого, по поводу известий о королевском походе «в войске поднялся шум: „Что же теперь, — говорили, — идти на службу к кому-нибудь другому? Каким духом принесло короля на наше кровавое дело?“ Пришлось нам с Волги уйти, хотя мы могли одолеть ослабевшего неприятеля, ибо это войско было последней надеждой москвитян»[400]. Ему вторил другой участник калязинских событий Иосиф Будило, записавший в своем «Дневнике», как одно известие о приближении короля Сигизмунда III к «московским границам» сразу все изменило: «Наше рыцарство не желало дольше добывать Скопина с немцами и пришло в лагерь. Оно стало опасаться, чтобы его труд, которому оно отдавалось в течение нескольких лет, не обратился со вступлением короля в ничто. С того времени войско перестало работать и слушаться»[401]. Картину растерянности и начавшегося развала тушинского войска дополняют сведения языков и «выходцев», полученные князем Михаилом Скопиным-Шуйским, после того как он разогнал деморализованные отряды Яна Сапеги и Александра Зборовского, заставив их уйти от Калязина. Как писал князь Михаил Скопин-Шуйский в своей отписке в сибирские города, все пленные и добровольно возвращавшиеся на сторону царя Василия Шуйского показывали в один голос, «что русские люди дворяне и дети боярские и казаки хотят государю добити челом и вину свою принести, а Вора хотят, связав, государю выдать, а литовские люди почали бежать в Литву, а иные бежают ко государю к Москве, а иные ко мне в полки в Колязин, и сказывают, что однолично руские люди Вора поймают, а литовские люди бредут розно»[402].
Такова была первоначальная реакция на появление короля Сигизмунда III в московских пределах. На самом деле тушинский самозванец еще удержался в своем лагере на какое-то время ценой новой «ассекурации» (обязательств), выданных как им самим, так и его «царицей» Мариной Мнишек 10 (20) сентября 1609 года. Дополнительно эти обязательства были подтверждены главой Боярской думы при самозванце князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким. Как показывают тексты «ассекурации» «царя Дмитрия», разысканные сравнительно недавно в шведских архивах И. О. Тюменцевым, «царик» традиционно обещал заплатить все, что задолжал, «до единого гроша» после завоевания Москвы в течение «десяти недель». Только веры подобным обещаниям было уже мало. Поэтому рыцарство получило еще одно заверение, что в случае, если установленный срок будет нарушен, оно имеет право взять «в приставство» «все земли Северские и Рязанские и с замками, и с подданными, принадлежащими им… Какие замки для конечной выплаты от нас должны будут забрать, нам оттуда никаких повинностей не требовать и доходы с земель этих, которые бы себе выбрали, и потребление за все это время в выплату жалованья вычитать не должны»[403]. Фактически получилось так, что тушинский «царик» все равно отделался от войска, готового уйти домой в Польшу и Литву, одними посулами, так как его власть не распространялась на города и уезды, упомянутые в «ассекурации». Но перспектива получить «заслуженное» ценою нового военного похода все-таки казалась тушинским конкистадорам лучше прощения долга тому, за которого воевали уже больше года, а кто-то и больше двух лет.
Противостояние царя Василия Шуйского и Вора продолжилось, и в нем были еще неожиданные повороты. 23 августа 1609 года в Калязине получили ободряющие известия от боярина Федора Ивановича Шереметева, освободившего Касимов и находившегося на пути к Владимиру и Суздалю. О планах будущих совместных действий «со многими понизовскими людми» князь Михаил Скопин-Шуйский известил своих сторонников в Сибири, передавая содержание отписки Шереметева: «…и ис Касимова идет к Суздалю и ко мне в сход к Троице Сергиеву монастырю». Следовательно, между двумя частями земских сил существовала договоренность о соединении под Троицей, откуда они вместе должны были пойти под Москву. Для этого князь Михаил Скопин-Шуйский вернулся к своей первоначальной тактике и 1 сентября, с началом нового 7118 (1609/1610) года, снова послал впереди себя на Переславль-Залесский «воеводу стольника Семена Головнина, да Григорья Валуева, а с ними многих голов с сотнями з дворяны и з детьми боярскими, да голов казачьих и атаманов и казаков, да немецкого воеводу Кристери Сума с немецкими людми». 10 сентября им сопутствовал полный успех в Переславле-Залесском, где тушинцев «побили на голову. И Переславль взяли, и в Переславле сели, и в языцех на том бою взяли литовских и руских людей человек с четыреста и болыни»[404].
Боярин Федор Шереметев был со своим войском к началу сентября 1609 года во Владимире. Но он не сумел справиться с отрядом полковника Александра Лисовского, нанесшим ощутимое поражение шереметевским полкам под Суздалем 7 сентября 1609 года. Автор «Нового летописца» записал, что «московских людей и понизовых многих побиша, едва утекоша во Владимир»[405]. Суздальское поражение сделало невозможным быстрое продвижение на помощь Троице-Сергиеву монастырю рати Федора Шереметева. Но прежний план оставался в силе. Тем более, что в Калязин, после получения всех заверений об уступке Корелы, вернулось войско под командованием Якоба Делагарди. 16 (26) сентября князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский устроил торжественную встречу своим союзникам. Помимо всего прочего «немецким» наемникам было выплачено жалованье мехами[406]. В самом начале октября, в преддверии наступавшей осенней распутицы, земские силы двинулись вперед, чтобы подойти еще ближе к осажденному Троице-Сергиеву монастырю. 6 октября они прибыли в Переславль. Оттуда переславские триумфаторы Семен Головин и Григорий Валуев с отрядом «немцев» по обыкновению были отправлены впереди всего войска в Александрову слободу, очищенную ими от небольшого отряда сапежинцев около 9 октября. Вслед за этим в освобожденную Александрову слободу, до этого бывшую в кормлении тушинской «царицы» Марины Мнишек, прибыло все войско князя Михаила Скопина-Шуйского. Таким образом, в руках земских сил оказались ближайшие к Троице важнейшие города и уезды. И князь Михаил Скопин не замедлил использовать все стратегические преимущества своего нового положения. Секретарям Яна Сапеги только и оставалось фиксировать все новые и новые угрозы, исходившие от скопинских отрядов рядом с Троицким монастырем. Но главным успехом стал «проход» в монастырь сквозь сапежинские заслоны отряда из 300 человек во главе с еще одним проверенным воеводой скопинской армии Давыдом Жеребцовым 16 (26) октября 1609 года. Впервые за целый год получив такое подкрепление, защитники Троице-Сергиева монастыря должны были воздать должное князю Михаилу Скопину-Шуйскому и готовиться к скорому освобождению.
В самой Александровой слободе образовалось подобие столицы земских сил. Князя Михаила Скопина-Шуйского, вероятно, не могли смутить никакие исторические параллели с опричной столицей Ивана Грозного. Он решал только военные задачи и доказал, что умеет делать это очень хорошо. Но новое явление Александровой слободы в русской истории все-таки затронуло подданных царя Василия Шуйского. В Москве произошло некое «волнение», известие о котором осталось в «Новом летописце». Согласно летописи, москвичи устали ждать выполнения царского обещания о скором приходе князя Михаила Скопина-Шуйского для освобождения столицы: «Вложи на Москве в люди во многие неверие, и все глаголаху, что лгут будто про князь Михаила. И приходяху в город миром ко царю Василью и шумяху, и начата мыслити опять к Тушинскому Вору»[407]. К сожалению, не известно, когда случилось это выступление — до или после решительного штурма деревянных укреплений московского острога войсками Лжедмитрия II, произошедшего в ночь с 10 (20) на И (21) октября 1609 года. Впрочем, и на этот раз тушинцы довольствовались небольшими трофеями в виде захваченных пушек. В Москву приехала «станица» Елизара Безобразова с московскими дворянами (понемногу в русских источниках освоили терминологию врага), которая и успокоила московский мир верными известиями о приходе в Александрову слободу князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, пославшего их оттуда в столицу. Царь Василий Шуйский немедленно известил об этом патриарха Гермогена, и дальше, как пишет летописец, «бысть на Москве радость велия и все людие на Москве укрепишася». По обыкновению, такое великое событие было отмечено «молебны з звоном» по всем церквам.
Тем временем тушинцы, не преуспевшие в штурме столицы, повернули свои полки к Александровой слободе. На этот раз, забыв свою взаимную «зависть и вражду»[408], которая уже ни для кого не была секретом, в одном войске объединились гетман князь Роман Ружинский и Ян Сапега. Все это показывает, что в Тушине решили дать генеральное сражение войску князя Михаила Скопина-Шуйского. «И бысть бой велик», согласно летописной формуле. Хотя на самом деле бои под Александровой слободой шли несколько дней с 19 (29) октября по 24 октября (3 ноября). Князь Михаил Скопин-Шуйский был верен своей осторожной тактике, прекрасно прочитанной в свое время гетманом Станиславом Жолкевским: последний писал в своих «Записках», что Скопин намеренно избегал открытых сражений с польской конницей, понимая ее боевые преимущества. Вместо этого он или сам сражался из укрепленных позиций, или создавал подобные укрепления, «городки», вокруг позиций противника. Так произошло и на этот раз. Высланные вперед к селу Коринскому (Каринскому) дворянские сотни были легко разогнаны тушинцами. А под укреплениями Александровой слободы не преуспели ни князь Роман Ружинский, ни Ян Сапега, ходившие отдельно штурмовать их. Попытки гетмана и полковника доказать свое преимущество друг перед другом стали только соревнованием тщеславий и не принесли никакой выгоды тушинскому войску[409].
После этого объединенное войско тушинцев отошло от Александровой слободы и вернулось ни с чем на свои позиции под Москвой и Троице-Сергиевым монастырем. Среди сторонников Лжедмитрия II вовсю разгорался конфликт из-за действий короля, осадившего 21 сентября Смоленск и переманивавшего себе на службу своих подданных, находившихся на службе в Московском государстве (под Смоленск уже уехало посольство из Тушина). Напротив, земские силы в середине ноября 1609 года наконец-то смогли довершить начатое и объединить войска князя Михаила Скопина-Шуйского с «понизовой ратью» боярина Федора Шереметева. В этот долгожданный момент вполне выяснилось новое положение князя Михаила Васильевича, завоеванное им за время похода от Великого Новгорода к Александровой слободе. Непосредственный и порывистый Прокофий Ляпунов выразил то, о чем стали поговаривать многие, видя в молодом князе Скопине-Шуйском лучшего претендента на московский престол, чем потерявший уважение и несчастливый в своем правлении царь Василий Шуйский. По словам автора «Нового летописца», впрочем, враждебно оценившего очередной демарш Ляпунова, рязанский воевода послал от себя «станицу» с грамотами в Александрову слободу и князя Михаила Скопина-Шуйского «здороваша на царстве, а царя ж Василья укорными словесы писаша».
Конечно, русские люди легко творят себе кумиров. Но примечательна реакция воеводы. Он не мог не отреагировать на дело, в котором был задет царский титул. Поэтому, прочтя грамоты, он их разодрал на глазах у своей свиты. Хотя, наверное, если бы это был один из «ушников» царя Василия Шуйского, то он бы действовал по-другому и отправил грамоту в Москву со своим доносом. Оставался вопрос о том, что делать с ляпуновскими посланниками. И тут князь Михаил Шуйский проявил редкое терпение и снисхождение к жалобам на «Прокофьево насилие» (что правда, то правда) на Рязани. Он не дал делу ход и отправил рязанскую «станицу» домой. А дальше сработал безотказный механизм доносительства в Московском государстве: «Злии ж человецы клеветники написаху о том ко царю Василью на князь Михаила, что он их к Москве, переимав, не прислал. Царь же Василей с тое поры на князь Михаила нача мнение держати, и братья царя Василья».
У князя Михаила Скопина-Шуйского пока не было времени в Александровой слободе выяснять «мнение» о себе старших родственников в Кремле. Он простодушно радовался приезду в Александрову слободу ближайших советников царя Василия Шуйского — бояр князя Ивана Семеновича Куракина и князя Бориса Михайловича Лыкова, «и нача с ними промышляти о государевом деле и об земском»[410].
Похоже, что князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский дал обет сначала очистить от осады Троице-Сергиев монастырь. Его передовой отряд под командованием Давыда Жеребцова уже находился внутри осажденного монастыря и даже пытался самостоятельно (но безуспешно) делать вылазки против сапежинского войска. В Александровой слободе продолжали собирать силы и ждали подхода еще одного вспомогательного отряда из Швеции. 17 декабря 1609 года датирован еще один договор Скопина-Шуйского, заключенный с Якобом Делагарди в Александровой слободе, о найме четырех тысяч людей. На этот раз князю Михаилу Васильевичу и другим боярам и воеводам пришлось подтвердить, что они сполна возместят все «протори», нынешние и будущие (не считая Корелы), даже если речь пойдет о передаче королю Швеции Карлу IX новых «города, земли или уезда». Это надо было подкрепить еще грамотой царя Василия Шуйского, что и произошло 17 января 1610 года[411].
В ожидании утверждения договоренностей с Якобом Делагарди была сделана попытка ликвидировать последние опорные пункты тушинцев в Замосковном крае. С этой целью к Суздалю был направлен полк под командованием московского воеводы князя Бориса Михайловича Лыкова и давно воевавшего вместе с князем Михаилом Шуйским воеводы «смоленской рати» князя Якова Петровича Барятинского. С приходом высоких московских бояр земское объединение дало трещину, так как сразу возникли местнические счеты, о которых ничего не было слышно, пока войском командовал один князь Михаил Скопин-Шуйский. Естественно, что царь Василий Шуйский распорядился в пользу своего ближнего человека Лыкова, презрев земские заслуги князя Якова Барятинского. Он написал, что тот «дурует», «а преж сево бывал и не однова, а нынеча ему мочно быть со князь Борисом». Расставить бояр и воевод по ранжиру царь Василий Шуйский умел, только вот делу это не помогло. Суздаль оборонял не кто иной, как полковник Александр Лисовский. Он дал бой пришедшим к городу русским и немецким людям, да такой, что возникла угроза разгрома московской рати: «Московские же люди ничево граду не зделаша, едва и сами нощию отойдоша прочь»[412].
Более успешными оказались совместные действия воевод князя Ивана Андреевича Хованского и того же князя Якова Петровича Барятинского, отосланных князем Михаилом Шуйским освободить от тушинцев Ростов, а потом Кашин.
Пока в Александровой слободе решали локальные задачи, пришло долгожданное известие о начале развала Тушинского лагеря. Как ни добивался царь Дмитрий, чтобы королевские послы, приехавшие в декабре 1609 года под Москву, явились прежде к нему на прием, они проигнорировали «царика», а заодно и его «царицу» Марину Мнишек, вынужденных наблюдать за тем, как процессия с королевскими послами проезжает мимо царского терема в Тушине. После такого прозрачного демарша стало очевидно, что царь Дмитрий лишился какой-либо самостоятельной роли. Это устраивало всех, кроме него самого. Как писал Николай Мархоцкий, «тем временем Дмитрий, поняв, что на переговорах он остался в стороне и данного ему слова мы не сдержали, сбежал от нас в Калугу»[413].
Тайный отъезд самозванца, бежавшего из Тушина сразу же после Рождества 1609 года в дровяных санях, в сопровождении только нескольких преданных ему казаков, немедленно расколол Тушинский лагерь. Не все поляки были согласны служить королю. Но с исчезновением царя Дмитрия у «рыцарства» пропадала и возможность получить свое «заслуженное». Тут же обострились противоречия между польско-литовскими наймитами и русскими боярами Вора, оставшимися в Тушине. Впечатление, произведенное бегством Вора, было столь сильным, что пошли слухи о его гибели. Этот слух, в котором, конечно, желаемое выдавалось за действительное, дошел до князя Скопина-Шуйского, и он тоже ему поверил. Немедленно из Александровой слободы были разосланы радостные грамоты от «государя царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии бояр и воевод князя Михайла Васильевича Шуйского с товарыщи». В них торжественно сообщалось, что «Вор, который назывался государским сыном царевичем Дмитрием Ивановичем всея Русии, в Ростригино место, погиб, а двор его и животы литовские люди и воры разграбили, а у литовских и у русских людей промеж себя рознь великая и руские люди из воровских табор к Москве и к русским людям в таборы перебираются»[414]. По этому поводу от Устюга до Верхотурья, Тобольска и Томска успели отслужить молебны «по три дня с звоном». Тем сильнее должно было быть разочарование, когда выяснилось, что царь Дмитрий никуда не исчез, жив и, обосновавшись в Калуге, собирает свой новый двор, «очищенный» от компрометирующих тушинских полковников, ротмистров и казачьих атаманов. Одни имена этих «героев» — таких, как казненный в 1608 году самими сторонниками Дмитрия атаман Наливайко или продолжавший бедокурить по коломенской дороге еще в конце 1609 года «хатунский мужик» Салков, — наводили ужас на жителей московских городов.
Произошедшее в Тушине не могло не повлиять на лагерь Сапеги под Троице-Сергиевым монастырем. Оба лагеря давно уже превратились в «сообщающиеся сосуды». Перед сапежинцами стоял такой же выбор: идти или нет на службу к королю. Как и тушинцы, это войско занималось уже больше конфедерациями и выработкой условий получения «заслуженного», чем осадой монастыря. 12 января 1610 года все было кончено. Ян Сапега, не выдержав давления отрядов князя Михаила Шуйского, в любой момент грозивших напасть из Александровой слободы, приказал оставить свои позиции под Троицей и отступить под Дмитров. Выходцы из сапежинских «таборов» рассказывали историю, заставившую Сапегу бежать от монастыря. Будто из ворот Троицкого монастыря выехали три старца на лошадях разной масти: серой, гнедой и вороной «и поехаша по московской дороге мимо сапегиных табар». Как ни старались посланные за ними по приказу Яна Сапеги всадники, они так и не смогли их достичь почти до самой Москвы: «Они же у них из очей не утекаху, а не могоша их догнати». Рассказ об этом происшествии устрашил Сапегу, и он «поиде от монастыря с великою ужастик». Защитники монастыря приписали свое чудесное освобождение небесному заступничеству и ходатайству преподобного Сергия Радонежского и его ученика и преемника Никона: «Молитвами чюдотворцов Сергия и Никона очистися»[415].
На земле же вся слава освободителя Троицы досталась князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, немедленно перешедшему со своим войском из Александровой слободы в Троице-Сергиев монастырь. Но и после этого он не торопился ехать в столицу, а организовал преследование Сапеги, отправив в поход воевод князя Ивана Семеновича Куракина и князя Бориса Михайловича Лыкова с приданными ему русскими и немецкими людьми, в том числе отрядом Давыда Жеребцова. Отход сапежинских полков в Дмитров был вызван еще тем обычным обстоятельством, что у них кончились припасы. Сборщики кормов были разосланы по замосковным городам, а сам Ян Сапега остался дожидаться их в Дмитрове. Только теперь крестьяне не отдавали безропотно все, что у них потребуют по тушинским запросам. Большинство посланных так и не вернулись, найдя свои могилы в той самой стране, которую они надеялись завоевать так же легко, как испанцы земли американских индейцев. Сапеге же предстояло выдержать штурм почувствовавших свою силу земских войск. Об отчаянности его положения свидетельствует то, что он вынужден был обратиться за срочной помощью к своему заклятому «другу» гетману князю Роману Ружинскому в Тушино.
Должна была решиться на что-то брошенная всеми в Тушине Марина Мнишек. Она буквально металась, писала слезные письма королю Сигизмунду III, укоряя отвернувшуюся от нее фортуну. И в этот момент ее достигли тайные записки Лжедмитрия II. Он звал ее к себе словами любви: «птичка», «любименькая», «мое сердце», и она не смогла не откликнуться на этот столь необходимый для нее призыв[416]. Оказавшись после отъезда из тушинских таборов в Дмитрове у Яна Сапеги, «царица» Марина Мнишек воодушевила горстку защитников дмитровских укреплений на продолжение обороны. Николай Мархоцкий, приходивший с тушинским подкреплением в Дмитров, так рассказывает об этом: «Когда наши вяло приступали к обороне вала, а немцы с москвитянами пошли на штурм, она выскочила из своего жилища и бросилась к валу: „Что вы делаете, злодеи, я — женщина, и то не испугалась!“ Так, благодаря ее мужеству, они успешно защитили крепость и самих себя»[417]. В Дмитрове повторились события тверской осады. Сохранились расспросные речи участника боев под Дмитровом «ратного человека» Шумилы Иванова, служившего в полках князя Бориса Михайловича Лыкова и Давыда Жеребцова. Он и рассказал, как было дело с началом дмитровской осады 10–11 февраля 1610 года: «Ко Дмитрову приступали в маслено заговейно, и назавтрее, в понеделник, государевы люди острог взяли приступом, и воровских и литовских людей побили, и в остроге взяли восмь пушек; а с досталными де не со многими людми Сопега и с воровскою женою с Маринкою, с Сандомирского дочерью, заперся в осыпи; и государевы де воеводы князь Борис Михайлович Лыков с товарыщи и с ратными людми, прося у Бога милости, над осыпью промышляют»[418]. Эпилог осады Дмитрова описан у Иосифа Будилы: «Сапега, видя, что нет помощи из большого лагеря, зажег крепость, разбил орудия и ушел во Ржев». Иосиф Будило имел все основания сказать про дмитровское приключение царицы Марины Мнишек: «…попала из-под дождя под дождевую трубу»[419].
Итак, все начали разъезжаться из-под Дмитрова. Царские воеводы с победой, Ян Сапега через Ржеву Владимирову в Волок, а переодевшаяся в мужской костюм Марина Мнишек — навстречу судьбе и будущему мужу «Дмитрию Ивановичу» в Калугу. Их соединение в Калуге сделало еще более бессмысленным тушинское стояние. Маршрут остававшихся под Москвою «подданных» второго самозванца был предопределен: либо под Смоленск, либо в ту же Калугу.
Подмосковные таборы бывших сторонников Вора доживали свои последние дни. Там возобладали те, кто, не стесняясь, договаривался с имевшим преимущество силы королем Сигизмундом III. 4 (14) февраля русские тушинцы во главе с нареченным патриархом Филаретом и боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым заключили предварительный договор об условиях избрания на русский престол польского королевича Владислава[420]. В конце февраля 1609 года в Тушино возвратилось посольство «рыцарства» с поучающим королевским ответом на принятые ими декларации: «Его королевское величество видит, что это рыцарство не согласилось преклонить добрых своих чувств перед ничтожными побуждениями». Король Сигизмунд III считал требования тушинских поляков «невероятными» и «неисполнимыми». А как иначе могло быть расценено условие выполнить обещания тушинского «царя Дмитрия», «тем более, что долг этот сделан в чужом государстве и чужим человеком, когда его дело было сомнительно»? В ответе короля отмечались «ограниченные полномочия» присланных к нему людей. Единственное, на что он милостиво соглашался, — начать считать четверти службы у тех, кто будет действовать совместно с армией Речи Посполитой под Смоленском, «пока Божиим судом и его милостию то государство (Московское. —
В то же самое время в Тушино вернулись другие послы войска, ездившие в Калугу к царю Дмитрию со своими условиями. Калужский ответ обещал много больше. Царь Дмитрий, видимо, еще не зная, что Марина Мнишек находится уже на пути к нему, обещал «выдать сейчас же на конного всадника по 30 злотых, если рыцарство приведет к царю в Калугу в добром здоровьи царицу». Но тональность его речей, обращенных к «рыцарству», изменилась. Это уже не был во всем послушный воле своего гетмана князя Ружинского кукольный «царик», он называл имена своих изменников (князя Романа Ружинского и боярина Михаила Салтыкова, вступивших в переписку и обсуждение будущего устройства Московского государства среди самых первых). Поэтому на предложение тушинцев «пусть его царское величество обещает, что вступит с королем в приличные переговоры», был дан четкий и недвусмысленный ответ: «Это должно быть предоставлено на волю его царского величества». И еще один пункт, ясно показывающий, что самозванец поставил крест на прежних подчиненных отношениях с «рыцарством»: «Чтобы царь не смел ничего делать без ведома старшего из рыцарства: царь обещает без ведома старшего из рыцарства не делать тех дел, которые касаются самого рыцарства, но те дела, которые касаются самого царя, царь в своем отечестве будет решать сам со своими боярами». Правда, пережив потерю своего имущества после побега из Тушина, царь Дмитрий уже не так крепко держался за него и обещал все, что будет найдено и привезено к нему в Калугу, раздать войску: «все деньги, драгоценности, столовое золото, серебро, одежда, экипажи, лошади, соболи, черно-бурые лисицы, рыси, куницы, лисицы и все имущество, какое в то время забрали у царя».
Два разнящихся между собою ответа — из-под Смоленска от короля и из Калуги от снова набиравшего силу «царика» — окончательно раскололи Тушинский лагерь. Единственное, о чем смогли договориться бывшие тушинцы, так это о том, чтобы всем вместе, организованно, в целях собственной же безопасности, отойти к Волоку, а там действовать, кто как решит, и разойтись «в братской любви, кому куда угодно». 6 (16) марта 1610 года, по свидетельству Иосифа Будилы, Тушинский лагерь прекратил свое существование[422]. Первыми от Москвы отходили роты Велегловского, Крыловского, Каменского, Красовского, затем следовала артиллерия, а «при ней донцы и пехота» под командованием боярина и казачьего атамана Ивана Мартыновича Заруцкого, далее полки Адама Рожинского и Иосифа Будилы. Под началом Будилы отходила рота еще одного будущего мемуариста, неоднократно упоминавшегося Николая Мархоцкого. В середине находились возы с тем имуществом, которое успели накопить. «За возами шло все войско в таком порядке, как обыкновенно идут полки: впереди его милость отец патриарх (Филарет. —
Немедленно после ухода полков из Тушина, 12 марта 1610 года, в Москву пришло земское войско князя Михаила Скопина-Шуйского и немецкое во главе с Якобом Делагарди: «А пришло с Яковом немец тысяч с пол-третьи на оборону Московскому государству» (то есть 2500 человек)[424]. Войско торжественно встретили «в Напрудном, от Москвы две версты», специально присланные для этого боярин князь Михаил Федорович Кашин, думный дворянин Василий Борисович Сукин и разрядный дьяк Андрей Вареев. Так князь Михаил Шуйский сумел достичь своих целей, избежав больших сражений как под Троице-Сергиевым монастырем, так и под Москвой.
В столице наконец-то, после долгих ожвданий и тяжелых сражений, наступало счастливое время. Царь Василий Шуйский был настолько рад окончанию осады, что не знал, как ублажить освободителей. Особенно восхищался царь принесшими освобождение «немцами» — заслуги своих, как всегда, считались делом само собой разумеющимся. Графа Якоба Понтуса Делагарди и других шведских воевод чествовали по дипломатическому протоколу. 18 марта об этом приеме записали в Посольском приказе: «Воеводы Яков Пунтусов да Индрик Теуносов и рохмистры и праперщики государю царю и великому князю Василью Ивановичю всеа Русии челом ударили», после чего был стол «болшой посолской в Грановитой палате». Шведского военачальника потчевали «вины фряскими» и принимали в эти дни даже во внутренних царских покоях. На раздачу денег наемникам из Швеции были переплавлены фигуры 12 апостолов из чистого золота, создававшиеся для годуновского храма «Святая святых» в Кремле. Петр Петрей, хорошо осведомленный об обстоятельствах истории шведского вспомогательного войска в России, писал об этих днях: «Великий князь был очень доволен и рад; он не только велел принять в городе графа и подчиненное ему войско с большою пышностью и торжеством, но и снабдил их кушаньем и напитками, чтобы никому нельзя было жаловаться на недостаток в чем-либо нужном. Точно так же он подарил всем офицерам, по чину каждого, за верную службу несколько лошадей, платья и других вещей. Полководец отдыхал там несколько недель со своим войском»[425].
Царь Василий Шуйский и его бояре хотели развить свой успех. Главная угроза по-прежнему исходила от армии короля Сигизмунда III под Смоленском, поэтому был задуман весенний поход всех соединенных сил Московского государства и «немецкого» войска на Можайск и далее Смоленск. Необходимые назначения были сделаны уже ко дню Благовещения 25 марта. Ходили слухи, что рать снова должен был возглавить боярин князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Однако его имя в росписи воевод, назначенных для похода в Можайск, не упоминалось[426].
Хотя общий сбор войска был отложен из-за весенней распутицы «до просухи», отдельные передовые отряды ушли из Москвы к Можайску уже в середине марта, а 29 марта в разрядных книгах датируется выступление передового полка князя Андрея Васильевича Голицына и князя Данила Ивановича Мезецкого. Кроме того, борьбу с бывшими тушинцами продолжали отряды воевод, посланных еще князем Скопиным-Шуйским (до прихода его войска в Москву). Под Ростов, с тем чтобы двигаться далее на Кашин и Тверь, были направлены воеводы князь Иван Андреевич Хованский и князь Яков Петрович Барятинский. Новый шведский корпус под командованием Эверта Горна, объединившись с ними, освободил Ржеву Владимирову и Зубцов. В Волок преследовать отходящие польско-литовские войска был отправлен воевода Григорий Валуев.
В этот момент и произошло одно из самых трагических и нелепых происшествий в истории русской Смуты — необъяснимая смерть молодого, находившегося в самом расцвете сил, 24-летнего воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Жители Московского государства только-только получили надежду. Молодой воевода справился с задачей, которую безуспешно пытались разрешить с самого начала царствования Василия Шуйского его старшие — и «по местам», и по возрасту — родственники. Но дух победы и ощущение радости, принесенные армией князя Михаила Шуйского, сменились трауром из-за безвременной утраты того, кого уже многие начинали видеть «не господином, но государем». Не без оснований в давно возникшей зависти к успехам князя Михаила Скопина-Шуйского видели возможную причину его преждевременной смерти. Автор «Нового летописца» писал, что даже Якоб Делагарди «говорил беспрестани» своему другу, «чтоб он шол с Москвы, видя на него на Москве ненависть»[427] (конечно, речь идет не о московском посаде, где царило восхищение освободителем столицы, а о дворце, где всегда властвовала зависть). В современной событиям «Повести о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском» приводится версия, показавшаяся москвичам наиболее убедительной. Оказалось, что князю не прошло даром то, что он потревожил опричные тени. Все тогда хотели прикоснуться к славе воеводы и понимали, что если он даже не станет царем, то первым боярином будет обязательно. Но место первого боярина при царе Василии Шуйском было давно и прочно занято его братом, князем Дмитрием Ивановичем Шуйским. И вот на пиру у князя Ивана Михайловича Воротынского по поводу крестин его новорожденного сына «княжевича» Алексея сошлись «крестный кум» князь Михаил Скопин-Шуйский и кума Екатерина Шуйская, она же — жена князя Дмитрия Ивановича Шуйского и дочь Малюты Скуратова (прозвище ее отца, как известно, стало нарицательным для обозначения злодейства). А дальше, переходя на особый размер погребального плача, автор «Повести» описывает, как был отравлен князь:
И как будет после честного стола пир навесело,
И дияволским омрачением злодеянница та,
Княгиня Марья{3}, кума подкрестная,
Подносила чару пития куму подкрестному
И била челом, здоровала
С крестником Алексеем Ивановичем.
И в той чаре питии
Уготовано лютое питие смертное.
И князь Михайло Васильевич
Выпивает ту чару досуха,
А не ведает, что злое питие лютое смертное[428].
Скорее всего, происшествие на пиру и дало повод для устойчивых слухов, которые приводят источники. По свидетельству «Нового летописца», «мнози же на Москве говоряху то, что испортила ево тетка ево княгиня Катерина, князь Дмитреева Шуйскова». Так это или нет, неизвестно. Остается лишь повторить вслед за летописцем: «…а подлинно то единому Богу».
Известно другое: болезнь князя Михаила Скопина-Шуйского продлилась в тяжких страданиях несколько недель. (Пасхальные торжества в «Велик день» 8 апреля, когда было сказано окольничество воеводе Семену Васильевичу Головину, отличившемуся во время похода рати от Великого Новгорода к Москве, происходили уже без князя Михаила Васильевича[429].) Автор «Повести» говорил о том, что «нача у него утроба люто терзатися от того пития смертного», и приводил картину невыносимых предсмертных страданий князя: «Он же на ложе в тосках мечущеся, и биющеся, и стонуще, и кричаще люто зело, аки зверь под землею». В «Новом летописце» добавлена еще одна подробность: у князя «безпрестани бо идяша кровь из носа». Скопина пытались лечить «дохтуры немецкие со многими лечебными пригодами», но и они «не можаше никако болезни тоя возвратите», в бессилии наблюдая агонию: «Из двора дохтуры немецкия от князя идяху и слезы испущаху, аки о государе своем». 23 апреля, в день Георгия Победоносца, князя Михаила Скопина-Шуйского не стало[430].
На Москву словно опустилась ночь. Никого так не оплакивали со времен кончины царя Федора Ивановича. Смерть этих двух Рюриковичей окончательно похоронила династию. Как писал С. М. Соловьев (и сочувственно его цитировавший С. Ф. Платонов), смертью Скопина «порвана была связь русских людей с Шуйским»[431]. Причем стало выясняться это уже в момент похорон, превратившихся в одну из первых стихийных демонстраций. Царь Василий Шуйский и его окружение так до конца и не поняли, какой переворот произошел в умах людей с появлением князя Михаила Васильевича. На двор покойного потянулись все те, кто воевал вместе с ним. «От войска же его и дружины хоробрыя князя Михайла Васильевича ближние его подручники, воеводы, и дворяне, и дети боярские, сотники и атаманы прихождаху во двор его, и ко одру его припадая со слезами и со многим воплем и стонанием, — писал автор «Повести». — И жалостно во слезах глаголаше и причитаху: „О господине, не токмо, не токмо, но и государь наш, князь Михайло Васильевич!“» Как видим, то, что страшно было произнести вслух при живом князе Михаиле Скопине-Шуйском, прорвалось во время его похорон, когда его, не стесняясь, называли государем. А действительный государь, царь Василий Шуйский, продолжал делать одну ошибку за другой. Некие «московские велможи» пытались даже воспрепятствовать прощанию с князем Скопиным-Шуйским его соратника воеводы Якоба Делагарди «со двенацатьми своими воеводы и с своими дворянами». Неназванные охранители «не хотяху ево во двор ко князю пустити, неверствия ради, к мертвому телу», но были посрамлены шведскими наемниками, добившимися своего права проститься с боевым товарищем.
Князья Шуйские решили похоронить воеводу в родовой усыпальнице в Суздальском соборе Рождества Богородицы. Пока же, до времени, из-за того, что этот город лишь недавно был освобожден от сторонников Вора, тело князя вознамерились положить в дубовом фобу в Кремлевском Чудовом монастыре. Может быть, эта-то деталь и стала сигналом к действию. Когда по торговым рядам стали искать подходящую дубовую колоду (а князь Скопин-Шуйский, к зависти малого «возрастом», то есть ростом, царя Василия Шуйского, был еще и настоящим великаном), недовольство москвичей выплеснулось наружу. Как рассказывает автор «Повести», узнав о стремлении «положить» тело князя в простом гробу в Чудовом монастыре, все «народное множество» стало твердить об одном: «Подобает убо таковаго мужа, воина и воеводу и на сопротивныя одолителя, яко да в соборной церкви у Архангела Михаила положен будет и гробом причтен царским и великих князей великие ради его храбрости и одоления на враги и понеже он от их же рода и колена»[432]. С таким протестом поделать уже было ничего нельзя. Царю Василию Шуйскому оставалось только подчиниться «гласу народа», и он согласился: «Достойно и праведно сице сотворити». Еще день в Архангельском соборе в Кремле, вопреки всем правилам, прощались с князем Михаилом Скопиным-Шуйским все, кто хотел («иже есть хто неведаше его во плоти, но слышавше его храбрость и на враги одоление»). Только тогда, когда был изготовлен подобающий каменный гроб, царь и патриарх возглавили многотысячную траурную процессию, совершили необходимые службы и погребли тело князя Михаила Васильевича в приделе Архангельского собора, в самом почетном месте, рядом с гробами царя Ивана Грозного и его детей, царевича Ивана и царя Федора Ивановича.
В мае-июне 1610 года пришло время решительных сражений царя Василия Ивановича с королем Сигизмундом III. Союзники из набранного в Швеции вспомогательного войска во главе с Эвертом Горном и французским капитаном Делавилем, соединившись с воеводой Григорием Валуевым, доделали начатое еще князем Михаилом Скопиным-Шуйским дело. Они нанесли последнее поражение тушинцам, оставшимся без своего гетмана князя Романа Ружинского, умершего спустя короткое время после оставления Тушина, и выбили их из Иосифо-Волоцкого монастыря 11 (21) мая 1610 года. Тушинские полки и роты прекратили свое существование в качестве самостоятельного войска и начали отступление к Смоленску, чтобы соединиться с королевской армией. В битве за Иосифо-Волоцкий монастырь они растеряли своих пленников, в том числе самого ценного для них, «нареченного патриарха» Филарета, получившего возможность вернуться в Москву[433]. Григорий Валуев «с пешими людми» получил приказ соединиться с основной армией, собиравшейся под Можайском. Вместе с воеводой князем Федором Андреевичем Елецким ему велено было «поставить острог» недалеко от Вязьмы в Цареве Займище.
Во главе войска, выступившего к Можайску, был поставлен царский брат, боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский, «прославившийся» как совершенно бездарный полководец. В других обстоятельствах решительный поход на войско короля Сигизмунда III под Смоленском должен был бы возглавить князь Михаил Скопин-Шуйский, уже имевший опыт военных действий совместно с наемной «немецкой» ратью. Позднее автор «Иного сказания», не скрывая своего осуждения, напишет об этой вынужденной смене командующего царской армией: «В его место дал воеводу сердца не храбраго, но женствующими обложена вещми, иже красоту и пищу любящаго, а не луки натязати и копия приправляти хотящаго»[434]. Как вскоре выяснится, это назначение и предопределило поражение царя Василия Шуйского и окончательное крушение так и не начавшейся династии князей Шуйских.
Другому решению царя Василия Шуйского суждено было, наоборот, изменить впоследствии всю историю русского дворянства. Речь идет об известном указе царя Василия Ивановича, разрешавшем служилым людям, отличившимся во время осады тушинцами Москвы, переводить часть своих поместных владений в вотчину. Речь шла об одной пятой, составлявшей 20 четвертей из 100[435]. Этот важнейший указ не сохранился или не был письменно зафиксирован. Об обстоятельствах его принятия долгое время было известно только из упоминания в челобитной Захара Ляпунова польскому королевичу Владиславу уже во второй половине 1610 года: «И царь Василей, поговоря с потреархом и с бояры, которые на Москве в осаде сидели, а к Вору не отъезжали и не изменяли, приговорили: давати боярам и розных городов дворянам и детем боярским, за службу и за осадное сиденье, поместье в вотчины». Недавно А. В. Антонов обнаружил рассказ об этом указе старца Дионисия — думного дьяка Николая Новокщенова, служившего при царе Василии Шуйском в Поместном приказе: «То де я помню, что то перво при царе де Василье Ивановиче было ему имянной приказ от него, царя Василья, у Благовещения Пресвятыя Богородицы, что на сенях, у обедни, у своего царьского места. А на которой празник, и того он не упомнит. А приказал де ему царь Василей дать за службу преж всех челобитчиков Григорью Васильеву сыну Измайлову ис подмосковного ево поместья в вотчину». Первые пожалования давались «не в образец», для этого требовался личный указ царя Василия Шуйского, поощрявшего таким образом служивших ему людей.
Рассказ старца Дионисия очень хорошо объясняет механизм принятия указов по одному царскому слову, продолжавший существовать при царе Василии Ивановиче. Как и то, что царские распоряжения могли трактоваться очень вольно. Русское право опиралось на прецедент, поэтому выдача вотчины из поместья одному человеку должна была спровоцировать вал подобных челобитных. Очень скоро единичное распоряжение стало нормой земельных отношений.
Самые ранние жалованные грамоты на вотчины, выданные «за царево Васильево осадное сиденье», датируются началом мая 1610 года. Это дало основание Б. Н. Флоре высказать предположение о том, что целью издания указа было «сплочение русского дворянства вокруг трона накануне похода русских войск к Смоленску»[436]. Возможно, и так, но раздачи вотчин продолжались еще много лет после того, как смоленский поход потерял всякую актуальность. Указ о переводе поместий в вотчины 1610 года стал самым лучшим способом зафиксировать земельную собственность, приобретенную служилыми людьми за время Смуты. Сначала указ применялся только в отношении сторонников царя Василия Шуйского. Формуляр грамот, выданных в мае-июле 1610 года, имел в виду осаду Москвы в узком смысле (то есть непосредственно тех, кто служил в 1608–1610 годах в столице): «Будучи на Москве в осаде, против тех злодеев наших, стояли крепко и мужественно». Не исключено, что это было связано еще и с запоздалым стремлением отблагодарить московских осадных сидельцев, не получивших заслуженной награды после ликвидации Тушинского лагеря и триумфального прихода в Москву рати князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Даже Захар Ляпунов в упомянутой челобитной королевичу Владиславу имел в виду удовлетворение своего права на пожалование вместе с другими служилыми людьми, кто сидел «на Москве от Вора в осаде». Позднее, с 1613 года, уже при царе Михаиле Федоровиче, «московская осада» стала толковаться расширительно и включила всех, кто смог доказать, что участвовал в земском движении за царя Василия Шуйского: «Будучи в Московском государстве при царе Василье… против тех злодеев наших стоял крепко и мужественно»[437].
Между тем в Смоленской ставке короля Сигизмунда III в мае 1610 года решали, что делать дальше в преддверии неминуемого столкновения с армией царя Василия Шуйского. В Москву даже был отправлен гонец Слизень с предложением заключить «вечный мир» в обмен на Северскую землю. Такой договор, конечно, был бы самоубийственным для царя Василия Ивановича, и он, напротив, поставил условием переговоров уход королевского войска из-под Смоленска[438]. В течение нескольких дней, пока под Смоленском ждали результатов миссии Слизня, королевские секретари записывали в своем дневнике: «ничего не случилось», «тишина». Наконец, 1 июня (22 мая по старому стилю) там появились знаменательные для русской истории строки об отправке из смоленского лагеря гетмана Станислава Жолкевского: «1-го числа у короля было частное совещание, на котором король постановил послать гетмана, чтобы он привел к повиновению то войско (тушинское. —
Конкуренты гетмана Жолкевского предложили поручить ему какое-нибудь безнадежное предприятие. Так он был отправлен с несколькими сотнями человек на выручку польско-литовским отрядам, теснимым в разных местах Московского государства. У гетмана была очень неопределенная королевская инструкция: «предложить москвитянам (если до этого дойдет) на государство королевича Владислава»[441]. Из-под Смоленска он отправился 23 мая (2 июня) 1610 года. Однако вместо неудачи поход этот принес ему невиданный триумф и немеркнущую славу. Одновременно экспедиция гетмана Станислава Жолкевского стала прологом побед самого короля Сигизмунда III в Московском государстве.
Сначала маршрут гетмана лежал к Белой, где он должен был помочь осажденному отряду Александра Госевского. В дороге он соединился с бывшими тушинцами, в том числе с их наиболее организованной силой под командованием полковника Александра Зборовского, и повернул с ними на смоленскую дорогу. Стратегический смысл укрепления в Цареве Займище гетман Станислав Жолкевский разгадал: «Князь Димитрий намеревался вытеснить нас успешным фортелем, употребленным Скопиным; поэтому он приказал Валуеву построить городок при Цареве, что и было сделано Валуевым с большой поспешностью». Но известно, что копия всегда хуже оригинала. Князь Дмитрий Шуйский не учел многое из того, что учитывал князь Михаил Скопин-Шуйский, строя, например, укрепленный острог под Калязином. Главным образом, не учтено было то, что Царево Займище отстояло на значительном отдалении от основного войска в Можайске. Поэтому, когда были получены известия о начале приступа к Цареву Займищу королевских войск, князь Дмитрий Шуйский нарушил правило, соблюдавшееся Скопиным, и двинулся со всем войском на открытое пространство. Более того, ему приходилось спешить и сделать круг, потому что можайская дорога была сразу же отрезана гетманом Станиславом Жолкевским под Царевым Займищем. Так брат царя привел свою армию к месту будущего позора — деревне Клушино.
Клушинскую битву 24 июня (4 июля) 1610 года до сих пор в польских учебниках истории считают одним из самых великих сражений в истории Польши[442]. Ее трофей — «хоругвь самого Шуйского, весьма отличную, штофную с золотом» (описание гетмана Станислава Жолкевского), — и сегодня показывают школьникам и туристам в национальном Краковском музее князей Чарторижских. В русских же анналах эта забытая битва потерялась или была вытеснена другими поражениями и потрясениями, в том числе и теми, которые произойдут следом, уже в 1611 году, когда полякам и литовцам сдастся Смоленск, а шведам Новгород. Но истоки последовавшего междуцарствия, конечно, лежали у этого можайского селения.
О том, что там происходило, хорошо известно как со слов гетмана Жолкевского, на другой же день отправившего королю под Смоленск победную реляцию, так и со слов шведских наемников, вынужденных возвратиться после этой битвы домой. Все решил маневр гетмана, не ставшего дожидаться подхода под Царево Займище большого войска, а совершившего марш-бросок по направлению к неприятелю. Войско Жолкевского прошло в одну из самых коротких и светлых июньских ночей около четырех польских миль (примерно 20 километров) и с рассветом атаковало утомленную, в свою очередь совершившую длинный и тяжелый переход накануне армию князя Дмитрия Шуйского. На исход битвы повлияли начавшиеся измены «немцев», потому что в наемном войске все перессорились из-за задержанного жалованья. Автор «Нового летописца» позднее обвинял главного воеводу князя Дмитрия Шуйского в том, что он получил жалованье, но не раздал его вовремя: «Грех же ради наших ничто ж нам успеваше, нача у них сроку просить, будто у него денег нет, а у него в те поры денег было, что им дати»[443]. Однако, по сведениям гетмана Жолкевского, жалованье иноземцам было как раз роздано накануне битвы; по этому поводу даже состоялся пир у боярина князя Дмитрия Ивановича Шуйского, на котором шведский воевода Якоб Делагарди похвалялся захватить в плен самого Жолкевского.
Внезапный маневр гетманского войска под Клушиным застал врасплох князя Дмитрия Ивановича Шуйского и в итоге заставил капитулировать и московское войско, и «немецких» наемников. По гетманскому описанию, «битва продолжалась долго; как наши, так и неприятель, особенно же иноземцы, несколько раз возобновляли бой. Тем из наших, которые сразились с московскими полками, было гораздо легче, ибо москвитяне, не выдержав нападения, обратились в бегство, наши же преследовали их… Конница французская и английская, подкрепляя друг друга, сражалась с нашими ротами». Когда эта конница осталась без поддержки разбитых московских полков и немецкой пехоты, тогда и она «не могла устоять, пустилась бежать в свой стан», где всадников продолжали преследовать роты Жолкевского. Бегство с поля боя шведских воевод Якоба Делагарди и Эверта Горна заставило оставшееся без командования наемное войско, «до трех тысяч или более», вступить в переговоры о сдаче с гетманом Жолкевским. Все это видел главный воевода московских сил князь Дмитрий Иванович Шуйский, остававшийся еще в своем обнесенном частоколом лагере вместе с приближенными и немногочисленной охраной. Рядом с ним оказались в этот момент и другие воеводы — боярин князь Андрей Васильевич Голицын, окольничий князь Данила Иванович Мезецкий. Туда же возвратился Якоб Делагарди[444].
Картина боя, увиденная гетманом Жолкевским, совпадает во многих деталях с описанием Клушинской битвы, приведенным в разрядных книгах: «По грехом московских людей и немецких людей Яковлева полку Пунтосова литовские люди толкнули, а боярин князь Дмитрей Иванович Шюйской устоял в обозе, и стоял до половины дни; и немецкие люди царю Василью Ивановичу изменили и почали съезжатца с литовскими людми». Московские воеводы попытались уговорить немецких наемников отказаться от переговоров с гетманом Жолкевским, для чего были посланы сокольничий и думный дворянин Гаврила Григорьевич Пушкин и Михаил Федорович Бобарыкин. Однако в стане князя Дмитрия Шуйского дожидаться ответа не стали: «И как Гаврило и Михайло из обозу к немецким людем в полк пошли, и после того немногое время спустя из обозу боярин князь Дмитрей Иванович Шюйской побежал со всеми людми, а обоз покинул»[445]. Перед бегством главного воеводы на виду у гетманского войска разложили богатые вещи — «кубки, серебряные чаши, одежды, собольи меха»; сделано это было для того, чтобы отвлечь преследователей. В качестве трофея гетманскому войску достались даже «собственная Шуйского карета, его сабля, шишак и булава». Было взято в плен несколько заметных воевод, в том числе Василий Бутурлин, а князя Якова Барятинского якобы «видели между убитыми». Польские пахолики захватили вместе с привезшим казну для раздачи иноземцам разрядным дьяком двадцать тысяч рублей и сукна. Большинство же людей из войска князя Дмитрия Шуйского или погибли во время преследования, как это обычно бывало, или разбежались по своим поместьям.
Про главного воеводу царской рати рассказывали, что он в своем поспешном бегстве увяз с конем в болоте, потерял обувь и в Можайск приехал «босой, на тощей крестьянской кляче». Так сразу были потеряны и русские полки, и немецкие отряды в составе правительственной армии. Якоб Делагарди обязался гетману Станиславу Жолкевскому («дал руку») в том, «что не будет служить у москвитян»[446]. Позднее автор «Нового летописца» так писал о поражении под Клушином: «Литовские люди руских людей побиша, и в табарах многих людей побиша, и живых поимали. Бояре же отоидоша в Можаеск не с великими людми»[447].
После такого погрома в оставшейся без защиты перед лицом наступавшего гетмана Москве случился новый переворот. Бунт против царя Шуйского назревал давно и даже принимал открытые формы. Ни одного царя не уважали так мало, как Василия Ивановича. Когда же вместе с уважением пропал еще и страх, то стало ясно, что царю Василию больше не удержаться на престоле. Испытанный царедворец и автор одного из политических переворотов против Лжедмитрия I сам пал жертвой действий заговорщиков.
Главный упрек царю Василию Шуйскому как возник в 1606 году, так никуда и не исчез. Он состоял в том, что царь «сел на Московское государство силою». Шуйский до поры до времени выигрывал у всех недовольных его правлением тем, что формально признавал силу земского собора. (Так, по словам «Иного сказания», описавшего знаменитое выступление в «субботу сыропустную» 1609 года, царь говорил: «Что приидосте ко мне с шумом гласа нелепого, о людие? Аще убита мя хощете, готов есмь умрети; аще ли от престола и царства мя изгоните, то не имате сего учинити, дондеже снидутся все болшие бояре и всех чинов люди, да и аз с ними; и как вся земля совет положит, так и аз готов по тому совету творити»[448].) Но в конце концов никакой законной процедуры сведе́ния царя Василия Шуйского с престола и не потребовалось. Сработало более испытанное орудие — боярские интриги. В столице явно сложился заговор против царя, а возможно, и не один. В начале июня 1610 года до польско-литовской стороны дошли сведения, что царя Василия Шуйского готовились свергнуть во время встречи в Москве чудотворной святыни — Николы Можайского. Царя якобы собирались просто не впустить обратно в Москву. Узнав в дороге об измене, Шуйский вернулся и расправился с заговорщиками[449]. Конечно, то, что ему не удалось с почетом встретить образ Николы Можайского, не способствовало укреплению его позиций.
Кто же участвовал в подготовке свержения Шуйского?
Достаточно определенно можно говорить об участии в заговоре митрополита Филарета Романова, остававшегося формальным главой партии бывших русских тушинцев. Царь Василий Шуйский когда-то в начале своего царствования отнял у него сан патриарха, предпочтя ему Гермогена, а тушинский «царик» предложил митрополиту Филарету почести, от которых трудно было отказаться. Нареченный тушинский патриарх успел «освятить» своим саном заключенные в феврале 1610 года договоренности об условиях призвания королевича Владислава на русский престол. Оставил ли он мысли об этом по возвращении в Москву?
Заметно было недовольство царствованием Василия Шуйского и боярина князя Василия Васильевича Голицына. Последний, как мы помним, успел поучаствовать в первых открытых выступлениях против власти Шуйского. Именно князь Василий Голицын имел самые вероятные права на престол в случае устранения царя Василия Ивановича. Активность известного голицынского сторонника — Прокофия Ляпунова, не успокоившегося после смерти князя Михаила Скопина-Шуйского, позволяет думать, что имя нового русского царя — тоже Василия, но уже Голицына — стало произноситься вслух. Известен эпизод, когда будущий глава первого земского ополчения Прокофий Ляпунов убеждал из Рязани будущего главу другого земского ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского выступить вместе и отомстить царю Василию смерть «князь Михайла Васильевича». Правда, все кончилось тогда тем, что законопослушный князь Дмитрий Пожарский доложил обо всем царю Василию Шуйскому и попросил прислать подкрепления в Зарайск, где он служил воеводой. Рассказывая об этом, автор «Нового летописца» подчеркивал подоплеку действий Прокофия Ляпунова: «Дума ж у него большая на царя Василья з боярином со князь Васильем Васильевичем Голицыным, и от Москвы отложися и не нача царя Василья слушать». В летописце еще раз говорится об открытом протесте рязанского воеводы Прокофия Ляпунова, отказавшегося посылать отряды на защиту Москвы после клушинского поражения: «Царь же Василей бысть в великом страховании и скорби и посла по городом, повеле ратным людем идти к Москве. Они ж не поидоша к Москве, а резанцы отказаша по умышлению Прокофия Ляпунова. Прокофий же наипаче нача со князем Васильем Голицыным умышляти, как бы царя Василья ссадити»[450].
Царь Василий Шуйский лихорадочно пытался удержаться у власти и собрать свою разогнанную армию. Но для этого ему надо было справиться не только с полками гетмана Станислава Жолкевского, занявшими позиции царской армии в Можайске, но и с самозваным царем Дмитрием, посчитавшим в Калуге, что пробил его час, и отправившимся в поход на Москву. Во главе своего войска («все сброд, шляхты мало», — сказал о них Иосиф Будило) самозванец поставил Яна Сапегу, которого сделал своим гетманом. Один за другим на сторону царя Дмитрия стали переходить города. Очень быстро волна этих измен дошла до Коломны и Каширы. Здравый рассудок и мужество сохраняли в тех условиях немногие. Зарайский воевода князь Дмитрий Пожарский после столкновения с жителями города договорился (при поддержке протопопа Дмитрия) на том, что ему не будут препятствовать служить действующему царю, а он согласится с тем, кого выберут царем вместо Шуйского.
С можайской дороги угрожало Москве королевское войско, с коломенской, каширской, калужской — «воровское». Единственной силой, способной вступиться за царя Василия Шуйского, были тогда войска «крымских царевичев». Снова, как и за год перед этим, царь призвал их воевать в Московское государство. Но это стало приговором его власти. Крымские татары, получив «поминки» от высланных им навстречу воевод бояр князя Ивана Михайловича Воротынского, князя Бориса Михайловича Лыкова и окольничего Артемия Васильевича Измайлова, «сошлися с Вором в Боровском уезде на реке Наре». Но это был их единственный крупный бой с отрядами самозванца. После него крымские царевичи, сославшись на то, «что изнел их голод, стоять не мочно», ушли за Оку, привычно собирая трофеи и захватывая пленных в украинных городах. Авраамий Палицын так написал об этом призвании крымцев себе на беду: «На царе же Василии за то дары великиа вземше и от всея земля плену, яко скот, в Крымское державство согнашя»[451].
Бояре вынуждены были отойти к Москве и по дороге едва не потеряли остатки артиллерии. На пути самозванца лежал Пафнутьев-Боровский монастырь. Он был взят 5 июля 1610 года, несмотря на героическое сопротивление защитников Боровска во главе с воеводой князем Михаилом Никитичем Волконским, погибшим прямо в храме перед ракой преподобного Пафнутия Боровского. Вслед за этим воинство самозванца расправилось с игуменом, монахами и жителями города. Монастырь и рака чудотворца были разграблены. Спустя десять дней власти Николо-Угрешского монастыря, вероятно, уже знавшие об избиении боровской братии, вынуждены были впустить на постой калужского Вора, снова пришедшего под Москву добывать себе царство[452].
В столице никто уже не верил в способность царя Василия Шуйского справиться с надвигавшимися противниками. На языке летописца это называлось так: «Бысть же в лето 7118 году, месяца июля, на Москве на царя Василья пришло
Какой мог найтись в этих условиях претендент? Наиболее естественный вариант предложил гетман Станислав Жолкевский — переход в подданство к королевичу Владиславу. Коронный гетман тоже действовал стремительно, но очень тонко, используя не силу и обман, как бывшие тушинцы, а договоры и убеждения. После клушинской битвы у воевод князя Федора Андреевича Елецкого и Григория Валуева под Царевым Займищем уже не было возможности сопротивляться полкам гетмана. Но вместо возможной расправы с врагами гетман повел себя по-другому, сделав из бывших врагов настоящих союзников. 25 июня 1610 года он выдал царским воеводам крестоцеловальную запись в обмен на признание ими кандидатуры королевича Владислава на русский престол. Гетман обещал всем, кто подчинится Сигизмунду III, от своего имени и от имени находившегося при нем польского и литовского «рыцарства» «веры християнские у московских людей не отымати, престолов Божьих не разоряти, и костелов римских в Московском государстве не строити, и шкоты умышленьем никакия над московскими людьми не зделати, а быти государем королевичу Владиславу на Московском государстве, как и прежние природные государи, и правити во всем Российском государстве».
Это означало сохранение незыблемого положения церкви, существующего государственного устройства и территориальной целостности Московского государства. Более того, гетман обещал помощь в борьбе с калужским Вором: «А котори вор называется царевичем Дмитриевым имянем, и на того стояти и битися, и промышляти над ним заодно»[454]. С этой-то записью в Москву явился Григорий Валуев (тот самый убийца первого Лжедмитрия). Он и показал самый верный путь тем, кто ни при каких обстоятельствах не хотел возвращения к власти самозванца. Слишком уж очевиден был выбор между погружением в хаос и грабеж, что всегда сопровождало Вора, и сохранением устоев под властью пусть иноземного, но настоящего, «прироженного» государя. Именно так должны были разрешиться все споры, ибо, по словам Авраамия Палицына, победили те, кто учел прошлые уроки: «Лучше убо государичю служити, нежели от холопей своих побитым быти и в вечной работе у них мучитися»[455].
Когда 17 июля 1610 года Захар Ляпунов и Федор Хомутов «завопиша на Лобном месте, чтоб отставить царя Василья», все уже были готовы к такому повороту. Все, кроме самих князей Шуйских и их потерявших влияние советников. В «Новом летописце» сохранилось описание того, как происходило сведе́ние с престола царя Василия Ивановича. Главную роль, по версии летописца, вновь играл Прокофий Ляпунов, изображенный последовательным сторонником боярина князя Василия Васильевича Голицына. Конечно, скорее всего, братья Ляпуновы действительно готовили переворот, но одни бы они ничего не решили. Кроме того, не все ясно и с тем, кого они поддерживали. Гетман Жолкевский, например, был уверен, что Прокофий Ляпунов договаривался с Лжедмитрием II, обещавшим «навечно» отдать ему Рязань[456]. Василий Шуйский, свергая самозванца в Москве в 1606 году, действовал во главе Боярской думы. Против же самого царя Василия Шуйского открыто выступили «дворяне мелкие», по выражению одной из разрядных книг. Они первыми вышли на Лобное место и на короткое время оказались во главе московского «мира». Когда они явились в царские покои, то, согласно «Запискам» гетмана Жолкевского, царь Василий Шуйский вел себя весьма смело и даже попытался ударить ножом Захара Ляпунова. Царю удалось выгнать мятежных служилых людей, указав, что среди них не было бояр. Решение судьбы царя Василия, таким образом, все равно оставалось в руках Боярской думы и патриарха. Никто не дерзал на то, чтобы убить царя, но и соглашаться дальше с его властью не хотели. Поэтому-то произошло примечательное даже по меркам Смуты событие. Справиться с небывалым делом мирного отречения от власти русского царя удалось только с помощью обращения к какой-то очень древней, почти вечевой, традиции. «Вся Москва», по словам автора «Нового летописца», «внидоша во град и бояр взяша и патриарха Ермогена насильством и ведоша за Москву реку к Серпуховским воротам и начата вопити, чтобы царя Василья отставити».
Царская отставка была освящена решением коллективного съезда (в прямом смысле) — импровизированного земского собора, состоявшегося в открытом поле. В источниках по-разному называется то место, на котором и была решена судьба царя Василия Шуйского: либо радом с Даниловским монастырем, либо «у Арбатских ворот»[457]. В любом случае заметно стремление жителей столицы подкрепить свои действия ссылкой на участие всего «мира», если не всей «земли».
Патриарха Гермогена, делавшего слабые попытки «укреплять» и «заклинать» мятежников, просто не слушали: «Они же отнюдь не уклоняхусь и на том положиша, что свести с царства царя Василья». Боярская дума скоро тоже отказалась от защиты царя: «Бояре же немногие постояху за него, и те тут же уклонишась. Царь же Василей, седя на царстве своем, многие беды прияй, и позор, и лай». Более того, исполнить формальную процедуру перевода царя Василия вместе с царицей «на старой двор» досталось царскому «свояку» князю Ивану Михайловичу Воротынскому. Автор «Нового летописца» заметил по этому поводу, что царь «напоследи же от своих сродник прия конечное бесчестие»[458]. В разрядных книгах объяснено, почему боярину князю Воротынскому удалось уговорить царя Василия Ивановича добровольно отдать царский посох. Конечно, царь не первый год слышал, что «при ево государстве смуты и крови не престали и во всех городех служити ему не хотят». Но на этот раз произошло то, о чем он сам говорил выступившим против него в «неделю сыропустную»: царь подчинялся «прошенью всех людей Московского государьства». Однако если дорогу от боярина до царя уже прошли и Борис Годунов, и Василий Шуйский, то обратный путь, из царей в бояре, был никому не известен.
17 июля 1610 года царь Василий Шуйский «сам съехал и с царицею на свой на старой двор, где жил в боярех». Последние слова можно понять двояко — то ли как уточнение того, где стал жить бывший царь Василий, то ли как указание на его новый статус. Вполне возможно, что вначале царю Василию Шуйскому обещали, что он сможет остаться членом Боярской думы. При сведе́нии царя с престола, как подчеркнуто в разрядах, «бояре ему и все люди крест целовали на том, что над ним никакова дурна не учинити и тесноты никакой не делать»[459]. По сведениям гетмана Жолкевского, привезенным его гонцами в королевский лагерь под Смоленск, царя Василия Шуйского отдали под стражу «князю Лыкову и Нагому». То есть охрана царя Василия была поручена тем, кому он должен был доверять: одному из царских приближенных князю Борису Михайловичу Лыкову и представителю обласканного царем Шуйским клана Нагих[460].
Но свести с престола царя Василия Шуйского оказалось полдела. Надо было еще добиться, чтобы он никогда больше не претендовал на трон. Способ решения когда-то придумал Борис Годунов, навсегда усмиривший царские амбиции боярина Федора Никитича Романова монашеским постригом. Не прошло и трех дней, как все клятвы и обещания, данные бывшему царю Василию Ивановичу, оказались нарушенными. Трудно сказать, кому принадлежала инициатива сослать Василия Шуйского в монастырь. Возможно, что это было частью первоначального плана мятежа, потому что одним из зачинщиков снова выступил известный Захар Ляпунов. Как сказано в разрядной книге, опять «взволновалися немногие дворяне: князь Василей Тюфякин, Михайло Оксенов, князь Федор Мерин Волконской, Захар Лепунов и иные дворяне мелкие, и дети боярские городовые, и стрельцы немногия, и всякия московския земския люди, самоволством собрався, пришли на царя Васильев на старый двор, и царя Василья Ивановича постригли в чернцы и отвезли ево в Чюдов монастырь»[461].
По сообщению «Нового летописца», царь не признал насильственно проведенный над ним обряд пострижения и на все полагавшиеся по обряду вопросы отвечал твердо: «Несть моево желания и обещания к постриганию». Царица Мария Шуйская последовала примеру мужа: «царица ж тако на постригании ответу не даяше»[462]. Однако такую «тонкость», как нежелание бывшего самодержца менять царские одежды на чернецкое платье, обошли своеобразным способом. Вместо царя Василия положенные по чину слова произносил один из участников заговора, князь Василий Тюфякин (по другим источникам — князь Василий Туренин). Патриарх Гермоген не признал насильственного пострига и снова стал называть царя «мирским имянем, царем», а князя Василия Тюфякина «проклинаше и называше иноком». Но отыграть ситуацию назад было уже невозможно.
Царскую семью разлучили: царь Василий Шуйский оказался в Чудовом монастыре, а его жена — в Вознесенском. Где в этот момент оказалась их дочь царевна Анастасия, неизвестно…
Первая окружная грамота 20 июля 1610 года, извещавшая о низложении царя Василия Шуйского, была отправлена в города и уезды от имени разных чинов и «всего Московского государства всяких служилых и жилецких людей». В грамоте объяснялись тревожные обстоятельства времени, связанные с «межеусобьем», вторжением короля Сигизмунда III и походом гетмана Станислава Жолкевского, находившегося в Можайске. Гетман Жолкевский еще не стал союзником и рассматривался наравне с Вором. Последний пришел под Москву и встал в том самом Коломенском, где уже когда-то стояли войска Болотникова (казакам в войске Лжедмитрия II эти места были особенно памятны). Всех врагов обвиняли в намерении «православную крестьянскую веру разорите, а свою латынскую веру учинити». В окружной грамоте подчеркивалось, что царь Василий Шуйский якобы добровольно согласился на сведе́ние с престола после челобитья ему «всею землею». Здесь уже начиналась неправда, поэтому, прикрывая ее, составители грамоты изобрели замысловатую формулу, предвидя новое недовольство в Северской земле, и так находившейся в подчинении Лжедмитрия II, а также украинных уездах. Инициаторами перемен на престоле названы прежде всего земские представители: «дворяне и дети боярские всех городов, и гости, и торговые люди, и стрелцы, и казаки, и посадские и всяких чинов люди всего Московского государства» (показательно отсутствие в этом перечне Боярской думы и чинов Государева двора). Но они действовали не сами по себе, а отвечая на недовольство, идущее от мятежных территорий: «Услыша украинных городов ото всяких людей, что государя царя и великого князя Василья Ивановича всея Русии на Московском государьстве не любят, и к нему к государю не обращаются, и служити ему не хотят, и кровь крестьянская межусобная льется многое время, и встал отец на сына, и сын на отца, и друг на друга, и видя всякие люди Московскому государьству такое конечное разоренье, били челом ему государю всею землею, всякие люди, чтобы государь государство оставил для межусобныя брани». Другой важной причиной для смены царя была названа неспособность Василия Шуйского привлечь на свою сторону тех, кто воевал против него или боялся возвратиться к нему на службу: «Или которые его государя не любя, и к нему к государю и ко всему Московскому государьству не обращаются, и те б все были в соединенье». Общая присяга тех, кто собрался для сведе́ния с престола Шуйского, состояла в том, чтобы «всем против воров стояти всем государьством заодно и Вора на государьство не хотети». Поэтому в окружной грамоте, из которой впервые узнавали о переменах в Москве, писали об общей цели: «А на Московское б государьство выбрати нам государя всею землею, сослався со всеми городы, кого нам государя Бог даст, а до тех мест правити бояром, князю Федору Ивановичу Мстисловскому с товарыщи». Царя Василия Шуйского ни в чем не обвиняли, лишь извещали, что он согласился с этим челобитьем и сложил с себя царские регалии: «И июля в 17 день государь царь и великий князь Василей Ивановичь всеа Русии, по челобитью всех людей, государьство отставил и съехал на свой на старой двор, и ныне в чернцех»[463]. О том, что постриг в монахи был произведен вопреки воле царя Василия Шуйского, естественно, умалчивалось.
Вслед за сведе́нием царя Василия Шуйского Боярская дума повторила тот самый «грех», в котором сами бояре и все жители Московского государства постоянно обвиняли царя Василия Ивановича: дума самостоятельно, без «земского совета», начала готовить избрание царя. Хотя в окружной грамоте 20 июля 1610 года декларировали идею избрания царя на соборе: «…и на Московское б государьство обирати б нам государя всем заодин всею землею, сослався со всеми городы, кого нам государя Бог даст». Созыв избирательного собора подтверждался и в крестоцеловальной записи Боярской думе во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским 24 июля 1610 года. Однако надо учитывать русские пространства. Июльские грамоты и крестоцеловальные записи были доставлены, например, в Пермь Великую и в Сибирь только в сентябре, когда в Москве был уже сделан выбор в пользу королевича Владислава.
Присяга Боярской думе содержала важные пункты, касавшиеся низвергнутых братьев князей Шуйских. Опыт предшествующих переворотов, особенно антигодуновского, был тоже учтен. Хотя царю Василию и его братьям обещалась неприкосновенность, но все они устранялись от дальнейшего участия в делах государства: «А бывшему государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русии отказати, и на государеве дворе не быти, и вперед на государьстве не сидети; и нам над государем, и над государынею, и над его братьями, убивства не учинити и никакова дурна; а князю Дмитрею да князю Ивану Шуйским с бояры в приговоре не сидети»[464]. «Опасность от мира» князьям Шуйским была настолько реальной, что младшие братья царя стали искать заступничества у гетмана Жолкевского[465]. Пройдет немного времени, и к нему же как к арбитру обратится сама Боярская дума во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским.
Однако сначала гетмана Жолкевского, подошедшего к Москве неделю спустя после низложения царя Василия Шуйского, 24 июля (3 августа) 1610 года, попытались вовлечь во внутренние московские дела. Боярская дума призывала помочь ей в борьбе с отрядами Лжедмитрия II, а послы самозванца надеялись, что гетман Жолкевский обеспечит им королевскую поддержку.
Роль Лжедмитрия II в момент сведе́ния с престола царя Василия Шуйского оказалась очень темной, как из-за тайных предварительных переговоров с его сторонниками, так и по самой сути событий. Обычно считается, что лишение престола царя Василия Шуйского было частью плана, предусматривавшего еще и общий отказ от поддержки Лжедмитрия II. По версии «Нового летописца», заговорщики якобы заранее договорились с собравшимися под стенами Москвы тушинцами, что те тоже оставят своего «царика» и объединятся с ними для борьбы с «литвой». Но если кто-то думал, что с отстранением от власти царя Василия Ивановича все само собой устроится, то он глубоко заблуждался. Попытка Боярской думы использовать уход Шуйского от власти, чтобы устранить еще и Лжедмитрия II, провалилась (если такие планы вообще существовали). Как рассказывал автор «Нового летописца», «по сведении ж царя Василья начаша бояре владети и начаша посылать к тушинским, чтоб оне Тушинсково Вора своего поимали; а мы де уж царя Василья с царства ссадили». Все, что они услышали в ответ, было язвительное нравоучение, «что вы не помните государева крестново целования, царя своего с царства ссадили, а нам де за своево помереть»[466]. Дума жестоко поплатилась за то, что пыталась расчистить дорогу к трону кому-то из бояр. Устранить самозванца не удалось. Более того, царь Дмитрий Иванович оказался единственным претендентом, опиравшимся на силу своего войска. Если не считать державшего нейтралитет и наблюдавшего за столкновением московских бояр с Лжедмитрием II гетмана Жолкевского, исполнявшего королевскую инструкцию о приведении жителей Московского государства к присяге королевичу Владиславу.
После урока, полученного заговорщиками от сторонников Лжедмитрия II, выбор в Москве был сделан в пользу унии с Речью Посполитой. Но и ответственность за последовавшее в результате превращение Думы в декорацию власти наместника иноземного короля, за пережитый национальный позор легла именно на тех, кому придумали хлесткий ярлык, навсегда обогативший русский политической лексикон, — «семибоярщина». Автор Хронографа 1617 года писал, что «прияша власть государства Русскаго седмь московских бояринов, но ничто же им правлыиим, точию два месяца власти насладишася». Итогом недолгого боярского правления стал переход власти из рук Думы к иноземным управителям: «Седмичисленные же бояре Московские державы всю власть Русские земли предаша в руце литовских воевод»[467]. Впрочем, слова автора хронографа надо понимать в ироническом, а не в буквальном смысле. Тот же С. Ф. Платонов с очень большими оговорками выделяет имена семи бояр, участвовавших в переговорах с гетманом Станиславом Жолкевским, — князья Федор Иванович Мстиславский, Иван Михайлович Воротынский, Андрей Васильевич Трубецкой, Андрей Васильевич Голицын, а также Иван Никитич Романов, Федор Иванович Шереметев и князь Борис Михайлович Лыков, не закрывая этот список от других имен (всего боярский титул в то время носили 17 человек). Возможно, что слово «седмочисленные», употребленное автором хронографа по отношению к боярам, должно было подчеркнуть, что их было много, и все они не смогли справиться с принятой на себя властью. (В этом случае «семибоярщина» должна восприниматься в том же семантическом ряду, что и известная русская пословица про «семь нянек».)
Читая обвинения Боярской думы в недальновидных действиях, надо учитывать, что первоначальная идея состояла в том, чтобы созвать земский собор для избрания нового царя. «Всем заодин», «всею землею», «сослався со всеми городы» — так собирались действовать бояре сразу после низвержения царя Василия Шуйского. Об этом они извещали города и уезды в своих грамотах, на этом присягали сами и договаривались с «миром». Стремление опереться на авторитет «земли» отражает крестоцеловальная запись, по которой власть передавалась временному правительству Боярской думы, «чтоб пожаловали приняли Московское государство, докуды нам даст Бог государя на Московское государство». Запись содержит своеобразный договор бояр с остальными «чинами» о том, как будет осуществляться управление, пока не выберут нового царя. Оставшиеся без царя подданные обещались «слушати» бояр и «суд их всякой любити, что они кому за службу и за вину приговорят, и за Московское государьство и за них стояти и с изменники битись до смерти». Крестоцеловальная запись не оставляла сомнений, что главным врагом являлся «Вор, кто называется царевичем Дмитреем». Жители, а в этом случае можно сказать граждане, Московского государства принимали добровольное обязательство о прекращении гражданской войны: «…и меж себя, друг над другом и над недругом, никакого дурна не хотети и недружбы своей никому не мстити, и не убивати, и не грабити, и зла никому ни над кем не мыслити, и в измену во всякую никому никуда не хотети».
Даже если бы мы ничего не знали о предшествующих событиях, а имели в руках только два документа, которые отделяют четыре года, — «ограничительную» запись царя Василия Шуйского и цитируемый документ, мы уже поняли бы, сколь велики были произошедшие изменения! Запись 1610 года обязывала людей не грабить и не убивать друг друга. Но и бояре принимали на себя обязательство «нас всех праведным судом судити» и осуществить выбор нового царя «всею землею, сослався с городы»[468]. Такова была «конституция» нового переходного порядка, установившегося после 17 июля 1610 года.
Как же получилось, что при всех этих лучших намерениях был сделан выбор в пользу кандидатуры королевича Владислава — выбор, обусловивший самое худшее продолжение событий? Помимо общеизвестного факта «агитационной» конкуренции полков гетмана Станислава Жолкевского и Вора, оказавшихся под Москвой, надо вспомнить про более глубокие основания идеи унии с Речью Посполитой. Ей был не чужд (только с позиции сильной, а не слабой стороны) сам Иван Грозный, предлагавший в великие князья литовские своего сына Федора да еще и подумывавший о вакантном польско-литовском престоле в период «бескоролевья». Когда Федор Иванович стал московским царем, боярина князя Василия Шуйского сослали под предлогом контактов с польско-литовскими магнатами. Даже в самый тяжелый момент отношений Московского государства и Речи Посполитой, последовавший за восстанием 17 мая 1606 года, идея взаимного союза не исчезала никуда.
Можно вспомнить, как в один из ноябрьских дней 1606 года в Кремле принимали необычного гостя. К царю Василию Шуйскому пригласили не посла, не посланника, не гонца, а одного из членов свиты неудачливой русской царицы Марины Мнишек. Его звали Андрей Стадницкий, совсем недавно он был отправлен в ссылку в Ростов вместе с другими подданными Речи Посполитой, приехавшими на свадьбу Марины Мнишек и царя Дмитрия Ивановича. И вот, после свержения самозванца, на престол вступил новый самодержец Василий Иванович. Зачем-то царь пожелал вступить в частный разговор с польским паном. Правда, личного разговора не получилось: чтобы не уронить достоинства самодержца, беседа была доверена младшему брату, боярину князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому. Тот расспрашивал Андрея Стадницкого и предлагал ему сообщить, что он знает «ко благу государства», обещая передать все заслуживающее внимание из их разговора «пресветлому величеству, а он тебя своим царским жалованьем пожалует».
И дальше состоялся разговор о возможной унии Московского государства и Речи Посполитой. Но пан Андрей Станиславович намеренно начал издалека, чтобы, по его собственным словам, «привести в смущение варвара». Он «хотел показать, что политика не дело их головы, не их дело о ней говорить». Для этого гордый своей ученостью Андрей Стадницкий вспоминал образцы правления из Древнего мира, Греции и Рима. Мелькали имена Сарданапала и Александра Великого, триумвиров Октавия, Антония и Лепида, а также «искусных советников» Фемистокла и Аристида. Опытному оратору удалось смутить «мужика», «хлопа» (chlop — именно так он назвал одного из первых русских бояр). Князь Дмитрий Иванович Шуйский заметно «смешался», выслушав длинный экскурс в «управление других государств», очевидно, соображая, как передать царствующему на троне брату, о какой такой «аристократии», «демократии» и «олигархии» толковал с ним пан Стадницкий. Действительно, царь Василий Шуйский и его современники очень бы удивились и вряд ли бы поняли историков, рассуждающих о связанной с князьями Шуйскими «аристократической реакции» или об их «олигархическом правлении»… Закончился разговор предложением поляков, обращенным к князьям Шуйским: «Итак, пусть прежде всего великий князь заключит вечный мир с его величеством королем, нашею польскою Речью Посполитою и Великим княжеством Литовским, а затем тесный союз против каждого взаимного неприятеля, а также против неприятелей дома князей Шуйских». За оказанную помощь Андрей Стадницкий просил право передачи престола «на случай угашения дома Шуйских» польско-литовскому королю: «А вам лично, что убудет, — пытался он договориться с царским братом, — если король польский станет московским великим князем, когда вы лично и ваше потомство (сколько его хватит) спокойно процарствуете»[469].
Когда король Сигизмунд III пришел войной добывать Смоленск и Северскую землю, он тоже искал пути к выборам лояльного Речи Посполитой кандидата на русский престол. Еще в начале ноября 1609 года к царю Василию Шуйскому было отправлено посольство пржемышльского каштеляна Станислава Стадницкого, кременецкого старосты князя Кшиштофа Збаражского и других, получивших «креденс» (верительную грамоту, или, по-русски, «верющий лист»): «Велели о успокоенью и утешенью великого господарства твоего Московского и о иных добрых делех з боярми твоими думными мовити». Одновременно это посольство получило инструкцию для переговоров с польско-литовским «рыцарством» в Тушине. Из архивных материалов выясняется, что готовилась также особая миссия члена этого посольства Мартина Казановского, целью которой должны были стать еще одни сепаратные переговоры с «боярами думными» в Москве об отпуске остававшихся в плену у царя Василия Шуйского знатных поляков «пана Ратомского, Домарацкого, пана Бучинского» и других. Король Сигизмунд III хотел использовать посланника Мартина Казановского для агитации в защиту своего смоленского похода: «Если бы припомнили бояре о Смоленску, же его король его милость добывает, поведать же Смоленская земля, Сиверская, Псков, Великий Новгород, Великие Луки, Заволочье (далее в рукописи пропуск для вписывания еще одного названия. —
Тогда, в 1609 году, бояр, которые стали бы договариваться с Сигизмундом III, нашли только в Тушине. 29 декабря 1609 года состоялась «присяга бояр московских» по совету с патриархом Филаретом, гетманом князем Романом Ружинским и всем «рыцарством». По образцу решения земского собора был оформлен приговор, в перечне чинов которого присутствовали бояре и окольничие, члены Государева двора, «и из городов приказные люди, и дети боярские, и атаманы с козаки въсе войско, и стрелцы, и всякие служивые и неслуживые люди». Было решено не поддерживать больше того, кто назывался царем Дмитрием, и продолжать сражаться «против Шуйского з братьею», а также «против всякого неприятеля». «Литовские и русские люди» договаривались действовать совместно, «а о земъских и о всяких делех советовати меж собою всем вместе». После этого последовало посольство русских тушинцев Михаила Глебовича и Ивана Михайловича Салтыковых, князя Василия Михайловича Мосальского и дьяка Ивана Тарасьевича Грамотина (всего более двадцати человек), заключившее под Смоленском 14 февраля 1610 года договор об условиях призвания королевича Владислава на русский престол[471]. Этот основополагающий документ фактически содержал программу действий «после Василия Шуйского». Русские тушинцы придумали удобную для них политическую комбинацию — поставление на престол «прирожденного» государя, при гарантии того, что он перейдет в «греческую веру» и будет венчан на царство от русского патриарха «по древнему чину». После этого знати будут гарантированы ее права: «бояром бы и окольничим и всяким думным, и ближним людем в господаръских чинах и поведениях быть по прежнему». В остальных делах заметно стремление ограничить «царя Владислава Жикгимонтовича» тем, что основные дела в государстве о жалованье, налогах и прочем он должен был решать «советовав з бояры и з землею»[472].
Как отметил еще С. Ф. Платонов, король Сигизмунд III, договариваясь с русскими тушинцами, подтверждал пункты «ограничительной записи», добровольно принятой на себя царем Василием Шуйским при вступлении на престол. В переложении королевской канцелярии ее основные тезисы о совместном суде царя и бояр выглядели следующим образом: «А все то господарь его милость чинити будет с порадою и намовою бояр думных, а без рады и намовы бояр думных господарь его милость ничого чинити не будет рачить». Из этого пункта королевского «отказа» (ответа) куда-то исчезла «вся земля», которой русские тушинцы все же отводили более значительную роль. Иначе, и с введением нового порядка обсуждения, король отвечал на вопрос о раздаче «воеводств» и «урядов» польским и литовским «паном на Москве». Вместо запретительного пункта договора русских тушинцев в королевском ответе сказано обтекаемо, что решение о жалованье будет принято «за спольною (объединенною. —
После низложения царя Василия Шуйского бывшие русские тушинцы, оказавшиеся в столице, получили возможность действовать в осуществление своих планов. В пору патового противостояния с Лжедмитрием II, ожидавшим под Москвой, что власть сама упадет ему в руки, Боярская дума во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским сделала другой выбор — в пользу королевича Владислава. Гетман Станислав Жолкевский, выступивший в поход из Можайска 20 (30) июля 1610 года, знал об этом уже на подходе к столице. Придя под Москву, он не стал форсировать события, а встал отдельным лагерем под столицей. Вместе с ним находились уже присягнувшие королевичу Владиславу под Царевым Займищем русские воеводы и служилые люди. Кто-то, как Иван Салтыков, некогда служил Лжедмитрию II и после распада Тушинского лагеря перешел на королевскую сторону, а воевода Григорий Валуев был до капитуляции в Цареве Займище последовательным защитником царя Василия Шуйского. Присутствие их в ставке Жолкевского лучше всего демонстрировало возможность союза бывших тушинцев и лояльных подданных царя Василия Шуйского: компромиссом между ними могла быть присяга королевичу Владиславу. Тем более, что гетман допускал переход королевича в православие и обещал поддержку в борьбе с войском Лжедмитрия под Москвой. К гетману Жолкевскому в итоге и обратились московские бояре 26 июля (5 августа) 1610 года, когда стало понятно, что справиться с вооруженными отрядами Вора самостоятельно не удастся. Королевской стороне оставалось только не оттолкнуть руку, протянутую для союза[475].
Вопреки распространенному мнению, решение о начале переговоров с гетманом Станиславом Жолкевским принималось не одной Боярской думой — «семибоярщиной», но с участием патриарха Гермогена, освященного собора и «всей земли». В разрядных книгах осталась запись о том, как и на каких условиях было решено отказаться от русских претендентов на трон и обратиться к кандидатуре королевича Владислава: «А их боярской приговор на том, что им из Московского государства государя не обират никого, а чтоб им ехать на съезд и договор учинити с етманом Станиславом Желтовским, чтоб Вора, которой называетца царевичем Дмитреем, отогнат от Москвы; да с етманом же говорит о королевиче Владиславе Полском, чтоб королевичю быт на Московском государьстве государем царем. И святейший патриарх Ермоген со всем освященным собором советовав и, по прошенью бояр и всех людей Московского государьства, благословил их на съезд ехати к гетману, велел на том, что им гетману говорит, чтоб королевич Владислав крестился в православную веру крестьянскую греческаго закона, и всем бы городом быт по прежнему к Московскому государьству, как при прежних государех, а в Литву городов не отдават и воеводам литовским и полковником по городам не быт»[476]. Пока шли переговоры, целые депутации стольников, дворян московских и городовых ездили на Хорошевские луга, где встал со своим отрядом гетман Станислав Жолкевский. Они должны были лично удостовериться, что все идет так, как об этом договаривались в Москве. Главный пункт договора, заключенного 17 (27) августа 1610 года московскими боярами князем Федором Ивановичем Мстиславским, князем Василием Васильевичем Голицыным, Федором Ивановичем Шереметевым, окольничим князем Данилой Ивановичем Мезецким, думными дьяками Василием Телепневым и Томилой Луговским «по благословению и по совету» патриарха Гермогена и освященного собора, а также «по приговору» всех чинов, состоял в вопросе о вере будущего русского самодержца. Королевичу Владиславу целовали крест и соглашались «вовеки служити и добра хотети во всем, как прежним прирожденным великим государем», при непременном соблюдении им ряда условий, из которых первым было венчание на царство «венцем и диадимою» от московского патриарха и освященного собора «по прежнему чину и достоянию, как прежние великие государи цари московские венчались».
В своей основе договор с гетманом Станиславом Жолкевским содержал положения, уже обсуждавшиеся русскими тушинцами в феврале 1610 года с королем Сигизмундом III под Смоленском. Такая преемственность двух документов объясняется не столько тем, что тушинской партии удалось укрепиться в Москве после сведе́ния с престола царя Василия Шуйского, а и тем, что по многим статьям взаимных договоренностей было известно мнение короля Речи Посполитой. Хотя и в этом случае августовский договор 1610 года с гетманом Жолкевским содержит важные отличия, свидетельствующие об эволюции представлений русских бояр и служилых людей о пределах возможной унии с соседним государством. Русская сторона уже прямо заявляла, что не желает видеть соперников среди польских и литовских людей, претендовавших на воеводские и иные должности в Московском государстве. Пункт королевского ответа о «спольной думе» двух государств, содержавшийся в февральском документе, был отменен в августе, вместо чего было записано упоминание о челобитной «великому государю» всех чинов Московского государства: «чтоб того не было, кроме дела», то есть, чтобы королевич Владислав подтвердил запрет на раздачу должностей своим сторонникам. Со спорами и давлением на гетмана Станислава Жолкевского русской стороне удалось настоять еще на одном принципиальном положении, прямо затрагивавшем все служилое сословие. Все жалованье, поместья и вотчины закреплялись за теми, кто уже имел на них права и пожалования: «А жалованье денежное, оброки и поместья и вотчины, кто что имел до сих мест, и тому быти по прежнему». Все это означало своеобразный «нулевой вариант», закреплявший в собственности служилых людей все, что они могли приобрести (а кто-то из них и потерять) в годы Смуты. Понимая, что одного такого пункта недостаточно для укрепления сложившегося порядка, далее в него включено едва ли не самое основное положение для того, чтобы можно было искоренить продолжение Смуты: «
Заключение августовского договора для московской стороны имело еще одно значение. Оно гарантировало участие королевского войска в борьбе против самозваного царя Дмитрия, продолжавшего стоять под Москвой. У Лжедмитрия II и его гетмана Яна Сапеги оставалось представление, что с ними могут считаться как с серьезной политической силой. Более того, «царик», чувствуя свой последний шанс и поддержку «царицы» Марины Мнишек, находившейся с ним в Николо-Угрешском монастыре, несколько раз угрожал столице штурмом, а также отчаянно стремился получить хотя бы нейтралитет королевской стороны. Чего только не пообещал Лжедмитрий II королю Сигизмунду III в этот момент: еще десять лет выплачивать Речи Посполитой громадные суммы в 300 тысяч рублей и 10 тысяч рублей «королю на стол». Самое «сладкое» блюдо, предлагавшееся королю Сигизмунду III, — помощь в борьбе за овладение престолом в Швеции. Но король Сигизмунд III, державший уже почти в руках, как ему казалось, московскую корону, не прельстился на вечный мир с самозванцем и со своей бывшей подданной Мариной Мнишек, продолжавшей считать себя московской императрицей[478]. Более того, король послал из-под Смоленска похвальную грамоту боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому, где прямо называл «царика» самозванцем: «А колужского б есте Вора на государство не принимали, потому что вам про него ведомо, что он вор, а не Дмитрей»[479].
Перемена власти уже не касалась чернеца Василия Шуйского. Он, как должно было казаться ему самому и окружающим, завершил свой мирской век. Однако, помня о судьбе так же насильственно постриженного в монахи Филарета Романова, можно было подумать и о другом — что бывший царь Василий еще может вернуться. Власть Боярской думы после низложения царя Василия Шуйского была откровенно слаба, и московские бояре очень быстро оказались несамостоятельны в своих действиях. К счастью, столицы не достиг Лжедмитрий II, но, к несчастью, это удалось сделать сторонникам королевича Владислава. Когда в Кремле появились новые правители, им и поручили решить участь сведенного с престола царя Василия.
Повергнутый правитель оказался никому особенно не нужен. Дальнейшая судьба царя Василия Ивановича почти не прослеживается по русским источникам, и не только потому, что он, как известно, окончил свои дни в Речи Посполитой. Личная драма царя Василия, чем дальше шло время, тем больше превращалась в общую трагедию русской истории. «О горе и люто есть Московскому государству! — восклицал автор «Нового летописца». — Како не побояшеся Бога, не попомня своего крестного целования и не постыдясь ото всея вселенныя сраму, не помроша за дом Божий Пречистыя Богородицы и за крестное целование государю своему! Самохотением своим отдаша Московское государство в латыни и государя своево в плен!»[480] Участники этой трагедии, пережившие времена правления Шуйского, видели, что последовало за насильственным сведе́нием русского царя с престола. К власти пришли иноземцы, захватившие русскую столицу и распоряжавшиеся в Боярской думе. Представители короля Сигизмунда III и королевича Владислава, избранного в русские цари, только увеличили скорби и беды до всеобщего осознания «конечного разорения Московского государства». Но вина была тоже общей, и искупать ее пришлось чрезвычайным напряжением сил, созданием земских ополчений, освободивших Москву в конце октября 1612 года.
Для царя Василия Шуйского, устраненного из русской истории, последние два года жизни оказались непрерывной чередой страданий и унижений. Не кому иному, как польскому гетману Станиславу Жолкевскому, воевавшему с царем Василием и князьями Шуйскими, пришлось убеждать Боярскую думу пощадить их. В первом же обращении к боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому и «всех чинов людям великого Московского государства» гетман писал об отосланном в Чудов монастырь старце Варлааме (бывшем царе Василии) и его взятых «под крепкую стражу» братьях князьях Дмитрии и Иване Шуйских: «Мы от сего в досаде и кручине великой, и опасаемся, чтобы с ними не случилось чего худого». Опасения эти, если вспомнить трагическую судьбу Годуновых, были не напрасными. Князей Шуйских не просто арестовали, были конфискованы их дворы и имущество в Москве, вотчины и поместья. Можно было ожидать тайной расправы с ними, хотя и это мало объясняет, почему вдруг гетман Жолкевский стал таким горячим защитником князей Шуйских. Он даже вспоминал их прежние доблести, не исключая борьбу с Речью Посполитой: «Сами вы ведаете и нам всем в Короне Польской и Великом княжестве Литовском ведомо, что князья Шуйские в сем Российском государьстве издавна бояре большие, и природным своим господарям верою и правдою служили и голов за них не щадили. Князь Петр Иванович (надо Иван Петрович. —
Насильно постриженный в иноческий образ бывший царь снял с себя монашеские одежды, как только оказался за пределами Московского Кремля. «И князь велики, едучи в Литву, с собя платье черное скинул», — писал автор «Пискаревского летописца». По его версии, патриарх разрешил снять с себя чернецкое платье и царице: «…а царица с собя платье черное скинула же по благословению патриарха Гермогена Московского и всеа Русии, а жила в Покровском монастыре в Суздале»[484]. Однако в официальном послании патриарха Гермогена, обращенном к королю Сигизмунду III, первоиерарх русской церкви признавал, что бывший самодержец постригся в монахи: «…а был государь царь и великий князь Василей Иванович всея Русии, и он государство свое оставил и постригся во иноческий образ»[485].
Боярская дума решала и не могла решиться, отправлять или нет «князя великого», каким оставался «чернец Варлаам» — бывший царь Василий Шуйский, в отдаленный монастырь на Белоозеро или Соловки. Слишком уж напоминало это прежнюю опалу того же князя Ивана Петровича Шуйского, уморенного приставами именно на Белоозере. Ходили слухи о Троице-Сергиевой обители, куда якобы «по обещанию» готов был уйти Василий Шуйский. Но готов ли? Неприятие им монашеского пострига не оставляет сомнений, а значит, и отправка в Троицу не могла быть добровольной. Кроме того, такой поворот событий не отвечал интересам Боярской думы, боявшейся, что сведенного с трона царя Василия снова захотят вернуть в Москву.
В договоре о призвании королевича Владислава 17 августа 1610 года о Шуйском упоминалось лишь однажды, и то косвенно, в контексте статьи об обмене пленных, захваченных «в нынешнюю смуту, при бывшем царе Василье». Существовали еще общие договоренности с гетманом Жолкевским: «И в Польшу и в Литву и в иныя государства Московского царства людей не разсылати»[486]. Но распространялись ли они на всех трех братьев князей Василия, Дмитрия и Ивана Шуйских, неизвестно. Как выяснилось впоследствии, московские бояре, сами отказавшиеся гарантировать князьям Шуйским жизнь и «снявшие» с себя эту проблему, поступили очень недальновидно, а в чем-то — наивно (если не глупо), думая, что королевская сторона станет почитать Шуйских более других членов Думы. Остается неясным, почему бояре не посчитались с тем, что разлучают бывшего царя с женой царицей Марией Петровной (в иночестве Еленой) и их дочерью Анастасией. Никто не задумался еще об одной скорби царя Василия Шуйского, оставлявшего в Москве дорогую могилу дочери Анны. Другая дочь царя Василия, Анастасия, находилась, видимо, при матери, когда царицу Марию Петровну отправили в Суздальский Покровский монастырь. Позднее, в 1638 году, царский брат князь Иван Иванович Шуйский сделал вклад в Суздальский Покровский монастырь — серебряное блюдо «ко царевне Настасье ставить ко гробу»[487].
Время решать, что делать с Шуйскими, наступило после того, как началась присяга новому самодержцу королевичу Владиславу. В королевском лагере под Смоленском записали известия, полученные от гетмана Жолкевского 19 (29) сентября 1610 года. Он уведомлял короля, что Боярская дума почти разрешила ему увезти князей Шуйских в Речь Посполитую, но была озабочена тем, чтобы король Сигизмунд III не отдавал им много «почестей»: «Думные бояре обещали гетману выдать королю всех Шуйских, но с тем условием, чтобы король не оказывал им никакой милости. Все имущество Шуйских взято в царскую казну… Василия, бывшего царем, еще не решились выдать за границу и предоставить ему жить в чужих государствах. Димитрия и Ивана Шуйских советовали отправить в Польшу, чтобы этот род, замышлявший с давних времен много зла против государя, не произвел какого-либо замешательства в государстве, но требовали от гетмана удостоверения, что король не будет жаловать Шуйских; в противном случае хотели перебить их. Жен их постригли в монашество»[488].
В это время Лжедмитрий II и Марина Мнишек уже бежали из-под Москвы, не дожидаясь, пока гетман Жолкевский арестует самозванца в его ставке в Николо-Угрешском монастыре. С оставшимся войском гетмана Яна Сапеги удалось договориться о том, что оно отойдет от Москвы и попытается склонить калужского царя Дмитрия подчиниться королю (фактически Сапега обещал сохранять нейтралитет и даже перейти на службу к королю, если тот заплатит деньги его войску). 12 (22) сентября Ян Сапега был в расположении гетмана Жолкевского, где, по сообщению дневника его секретарей, «застал Шуйских, Ивана и Дмитрия, которых московские бояре выдали гетману, чтобы они уже не думали более оставаться здесь ради какой-либо свойственной им крамолы; в это время и того Шуйского, который был прежде царем, постриженного отвезли в Осипов (Иосифо-Волоколамский монастырь. —
Более подробно и точно рассказать о том, как принимали решение о выдаче Шуйских королю Сигизмунду III, вряд ли удастся. Многие бояре потом предпочитали забыть о своем участии в этом деле, поэтому показания источников так противоречивы. Если учесть свидетельство секретарей Яна Сапеги, отправка Шуйских из Москвы произошла еще до того, как в ночь с 20 на 21 сентября в столицу вступил польско-литовский гарнизон. Протесты патриарха Гермогена, встретившего «литву» речами о вероломстве королевской стороны, уже не могли повлиять на судьбу бывшего самодержца. Позднее ходили слухи, что всех Шуйских отвезли под Смоленск вместе с посольством боярина князя Василия Васильевича Голицына и митрополита Филарета Романова. Такие рассказы, проникшие в исторические исследования, как показал Д. В. Цветаев, не соответствовали действительности[492]. Но в том-то и дело, что сама возможность отправки князей Шуйских вместе с послами обсуждалась. Посольство митрополита Филарета и князя Василия Васильевича Голицына двинулось из Москвы 11 (21) сентября 1610 года[493]. Около этого времени приставы передали братьев князей Шуйских гетману Жолкевскому, 12 (22) сентября их видел у него гетман Ян Сапега. Два события, может быть, даже намеренно оказались связаны друг с другом, однако в самом посольстве об этом не подозревали. В полномочия московских послов не входило обсуждение судьбы царя Василия Шуйского. В документах посольства, прибывшего в королевский стан под Смоленском 7 (17) октября 1610 года, писали, что бывший царь добровольно «государство отставил», повинуясь челобитной «всех чинов людей Московского государства»[494]. Послы Боярской думы сами впервые увидели царя Василия Шуйского под Смоленском. Тогда, между прочим, произошел знаменательный эпизод. Польский гетман разрешил бывшему царю надеть на себя вместо монашеской рясы мирское платье. Это заметил митрополит Филарет. Он посетовал гетману Станиславу Жолкевскому: «Ты на том крест целовал, и то сделалось от вас мимо договора: надобно бояться Бога; расстригать Василия не пригоже, чтобы нашей православной вере порухи не было». Гетман сослался на скудное содержание царя Василия Шуйского. Но и это не помогло. Митрополит Филарет парировал, продолжая настаивать на своем: «А если его в Иосифовом монастыре, по твоим словам, не кормили, то в том неправы ваши приставы, что его кормить не велели, бояре отдали его на ваши руки»[495].
В Иосифо-Волоколамский монастырь князь Василий Шуйский прибыл под присмотром ротмистра Руцкого уже без братьев. Князей Дмитрия и Ивана Шуйских отправили в Белую, где их сторожил ротмистр Невядомский. Все это пришлось кстати, так как польско-литовским хоругвям в Москве для постоя как раз были отведены боярские палаты братьев князей Дмитрия и Ивана Шуйских. Королевские секретари точно указали, что отсылка Шуйских из Москвы произошла по просьбе самих бояр: «Касательно их бояре настойчиво просят, чтобы они не были допущены к королю и чтобы их держать в строгом заключении, и хотя немного не дошло до того, чтобы бояре их убили, но гетман, соображая, что столь важные лица могут очень пригодиться королю, счел за лучшее сохранить им жизнь»[496]. В записках гетмана Жолкевского тоже упоминалось, что князья Шуйские были выданы ему «вследствие договора». Король Сигизмунд III тем временем уже ждал свою добычу под Смоленском и просил гетмана Жолкевского быть настороже, чтобы не упустить ее из рук: «Ведь и эти места, назначенные на житье Шуйским, уже тем самым ненадежны, что они в Москве (Московии). Мало ли у них (москвитян) разных хитростей и средств, когда государство совершенно успокоится? Да они, находясь вблизи нашей границы, тем легче могут избавиться. Это народ коварный; входя с кем-либо в теснейшую дружбу, именно и думает о том, как бы его обмануть. И мы уверены, что вы не удалитесь оттуда, пока не устроите всего, что признаете целесообразным для осуществления этих дел и наших планов»[497].
Позже, в 1613 году, когда детали событий стерлись из памяти участников, русский посланник в Речи Посполитой Денис Оладьин обвинял гетмана Жолкевского и его советников, что они «оманом» ввели польских, литовских и немецких людей «в Москву в каменые городы», под предлогом «береженья от воровских людей». Такой же обман виделся и в выдаче Шуйских: «А государя нашего царя Василья Ивановича взяли, а сказали, будто для береженья посылают его в Осифов монастырь. Да после того гетман корунный Станислав Желковской, как поехал с Москвы х королю под Смоленск, царя Василья взяв из Осифова монастыря, отвез х королю под Смоленеск и з братьею его через крестное свое целованье». Однако московским боярам, посылавшим Дениса Оладьина еще до «государьского обиранья», то есть до избрания на престол царя Михаила Федоровича, паны-рады Речи Посполитой отвечали, как все было на самом деле с царем Василием: «А потом и сами есте его, не уфаючи (от ufać — доверять. —
Русская сторона продолжала стоять на своем и повторила те же аргументы на переговорах с Александром Госевским в 1615–1616 годах: «А царя Василья мы гетману Желковскому не отдавывали; мы бояре все поговорили, что было его отпустите по его обещанию к Троице в Сергеев монастырь; а будет тут за королевичем, только б гетманский приговор от вас не нарушился, у Троицы в Сергиеве быти нельзя, и его б отпустите в Кирилов или на Соловки, куда он произволит, и там его всеми обиходы устроить по достоинству». Об отсылке князей Шуйских сказано, что все было сделано «сильно, без боярского ведома… а мы гетману царя Василья сами не отдавывали, и мысли нашей на то не было»[499]. В «Новом летописце» бояре тоже были оправданы. В статье о «ссылке царя Василья в Осифов монастырь» говорилось, что это произошло из-за происков гетмана Жолкевского: «Етман же Желковской и с теми изменники московскими нача умышляти, како бы царя Василья и братью ево отвести х королю. И умыслиша то, что ево послати в Осифов монастырь. Патриарх же и бояре, кои не присташе к их совету, начаша говорити, чтоб царя Василья не ссылати в Осифов монастырь, а сослать бы на Соловки. Они же быша уже сильны в Москве, тово не послушаху и ево послаша в Осифов монастырь, а царицу ево в Суздаль в Покровской монастырь»[500].
В итоге достоверно известно только то, что бывшего царя Василия перевезли в Иосифо-Волоколамский монастырь, где он содержался в чернецком платье. Согласно монастырским преданиям, местом заключения царя Василия стала Германова башня[501] (в перестроенном виде она сохранилась до сих пор). Под укрытием монастырских стен и польско-литовской охраны Василию Шуйскому действительно мало что угрожало. Боярский протест если и существовал, то не был таким ярким, как позднейшие сетования, и не отражал позиции всех членов Думы. Гетман Жолкевский проявлял большую осторожность, когда его войска входили в Москву, и не стал бы давать лишнего повода для упреков, если бы бояре сами не предложили ему решить судьбу Шуйских. Он с самого начала призывал сохранить жизнь Василию Ивановичу и его братьям и, конечно, сразу понял, какую выгоду может принести то, что в руках короля Сигизмунда III окажется бывший русский царь. 20 октября уже сам король писал в Москву боярам: «По договору вашему с гетманом Жолкевским, велели мы князей Василия, Дмитрия и Ивана Ивановичей Шуйских отослать в Литву, чтобы тут в государстве Московском смут они не делали; поэтому приказываем вам, чтобы вы отчины и поместья их отобрали на нас, государя»[502].
От Волока совсем недалеко до Смоленска. Сюда в итоге после своего триумфального отъезда из Москвы в конце октября (по новому стилю) 1610 года гетман Станислав Жолкевский и перевез царя Василия[503]. Бывший царь как живой трофей был привезен в расположение короля Сигизмунда III под Смоленском 30 октября (9 ноября)[504]. Единственной радостью князей Шуйских стало воссоединение старшего и младших братьев, которых тоже привезли под Смоленск из Белой.
Король Сигизмунд III не отказал себе в удовольствии посмотреть на поверженного врага. В полевом лагере была устроена встреча князей Шуйских, детали которой почему-то не вошли в дневник королевских секретарей под Смоленском. Может быть, потому, что, как оказалось, король Сигизмунд III не смог в полной мере насладиться унижением бывшего московского царя. Василий Шуйский многое успел продумать про себя и про свое положение пленника (или, на польский манер, «вязня»). Он вел себя не вызывающе, но достойно. И эта неожиданно открывшаяся в нем стойкость была оценена как своими, так и чужими. В «Новый летописец» вошел рассказ о представлении Василия Шуйского королю Сигизмунду III: «Етман же приде с царем Васильем х королю под Смоленеск, и поставиша их перед королем и объявляху ему свою службу. Царь же Василей ста и не поклонися королю. Они же ему все рекоша: „Поклонися королю“. Он же крепко мужественным своим разумом напоследок живота своего даде честь Московскому государству и рече им всем: „Не довлеет московскому царю поклонитися королю; то судьбами есть праведными и Божиими, что приведен я в плен; не вашими руками взят бых, но от московских изменников, от свох раб отдан бых“. Король же и вся рада паны удивишася ево ответу»[505]. Конечно, слова Василия Шуйского, приведенные в летописце, не могли быть протокольной записью речи, произнесенной бывшим царем под Смоленском. Нельзя даже поручиться за то, что сама описываемая сцена имела место в действительности. Напротив, известно, что представитель гетмана Викентий Крукеницкий произнес подобающую случаю торжественную речь, а князь Василий Шуйский получил от короля Сигизмунда III под Смоленском «братиночку серебряну» и «ложку серебряну», а также другие подарки от Льва Сапеги и «пана Болобана»[506]. Показательно лишь то, что в конце концов предательство, совершенное по отношению к царю Василию, стало подвергаться осуждению. А этого бы не случилось, если бы Василий Шуйский окончательно сдался, а не стал бы в меру своих сил сопротивляться обстоятельствам.
После двухнедельного пребывания в королевской ставке под Смоленском князей Шуйских ждала скорбная дорога «в Литву». Домой вернется только младший из братьев, князь Иван Иванович Шуйский. 15 (25) ноября 1610 года, согласно записи в дневнике похода под Смоленск короля Сигизмунда III, было решено переправить князей Шуйских в Могилев и Гродно: «Всех троих Шуйских: царя Василия, гетмана Димитрия и дворецкого Московского двора Ивана выслали из королевского лагеря в Могилев»[507]. Автор «Повести о победах Московского государства» сообщал подробности того, как увозили князей Шуйских «в Литву». Дата отправки из королевского лагеря совпала с началом Рождественского поста, и все, как князья Шуйские, так и окружающие, не могли не соотнести значимое церковное событие с тем, что происходило у них на глазах. Князей Шуйских, оказывается, решили везти в стругах (так лучше можно было обеспечить их безопасность). Недалеко от смоленского Троицкого монастыря, где на время разместили князей Шуйских, находилась Кловская пристань. Автор «Повести…» писал: «Полский же король Жихимонт повеле суды на них преизготовити, руским людем повеле всем без оружия быти и за многою сторожею, с великим опасением повеле на Дънепр в суды вести благочестиваго государя царя и великаго князя Василия Ивановича. Смольяне же тогда, видевше государя своего ведома от иноверных, в велицей печали бывше, много слезно от сердца безутешно рыдающе и недоумевающеся, что сотворити и како государю своему в толицей беде помощи, понеже бо и сами в руках иноверных и без оружия. Аще бы было у них оружие, то бы не могли в толицей беде видети государя своего и живы быти». С этого момента и далее Василий Шуйский тоже не раз прольет слезы, переживая превратности своей судьбы.
На самой грани ставшего уже неизбежным отъезда «царя Василья» из Московского государства что-то сдвинулась в сердцах его бывших подданных. Те, кто еще недавно проклинал и винил князей Шуйских во всех бедах, готовы были снова поддержать их в падении. Но, увы, оказалось поздно, и этот позор выдачи царя в плен королю Речи Посполитой, воевавшему под Смоленском, останется навсегда. Преданный всеми князь Василий Шуйский даже в этом подневольном состоянии нашел утешение для своей гордости. Когда его сажали на струг, он запел слова из молебна, «певаемого во время брани против супостатов, находящих на ны». Именно так должны были прочесть провожавшие царя смоленские жители слова хорошо известного им ирмоса (молебной песни): «Он же, государь, яко незлобивый агнец, идяше, на страны позираше и, видев своих людей, слезы испущаше. Сед же в насад и воспет Богу песнь своими царскими усты, ирмос 8 гласу: „И векую мя отринул еси от лица Твоего, свете незаходимый, и покрыла мя есть чужая тьма, окаяннаго. Но обрати мя, и к свету заповедей Твоих пути моя направити молю Ти ся“»[508]. Мученическая участь царя Василия чем дальше, тем больше делала его жертвой, а не виновником переживаемых обстоятельств самой тяжелой годины Смутного времени.
1611 год стал самым удачливым для всего царствования короля Сигизмунда III. Никогда ранее он не достигал того всеобщего обожания и восхищения, с которыми подданные встретили пленение московского царя Василия Шуйского и взятие Смоленска. Разгром давнего врага — «москвы», чья столица тоже оказались в руках поляков и литовцев, — воодушевлял Речь Посполитую. Все эти знаменательные события оказались связанными еще и с переносом столицы из Кракова в Варшаву. Если в Вавельском дворце в Кракове король Сигизмунд III постоянно находился в окружении мятежной шляхты, то в варшавском дворце он сам становился хозяином положения. В Вильно и Варшаве возвращавшегося из двухлетнего московского похода монарха Речи Посполитой ждал сплошной парад панегиристов. Придворный художник Томмазо Долабелла начал работу над впечатляющими полотнами, где грандиозная фигура короля Сигизмунда III на коне, в национальном польском костюме и с булавой попирала поверженный труп москвича, как Георгий Победоносец — змея[509]. На другом варианте картины смоленского триумфа король Сигизмунд III переодет уже в западноевропейский костюм, он доминирует над всем на этом огромных размеров полотне и заслоняет собою виднеющиеся в отдалении башни Смоленска. В углу нарисована теряющаяся на его фоне группа людей в русских одеждах, на которой, вероятно, изображен сам московский царь Василий Шуйский с братьями[510].
Победителей, вроде бы, не судят. Но на самом деле, как было уже тогда ясно лучшим советникам Сигизмунда III в московских делах — гетману Станиславу Жолкевскому и велижскому старосте Александру Госевскому, король, прельстившись воинскими лаврами под Смоленском, упустил саму Москву. А обе страны — Московское государство и Речь Посполитая — утратили невероятный шанс изменить ход истории на востоке Европы. Все объяснялось прежде всего личными амбициями короля Сигизмунда III. Как только он получил сведения о договоре своего гетмана с московскими боярами о призвании королевича Владислава на русский престол, он заговорил о желании самому стать московским царем. У гетмана Жолкевского, по его собственному признанию, хватило ума не афишировать королевские требования, которые могли привести к одному — потере любой поддержки польско-литовских кандидатур на русский трон со стороны московских бояр. Однако король, побуждаемый своими ближайшими советниками под Смоленском, только укреплялся в своем желании. Гетман Станислав Жолкевский убедился в этом, когда увидел холодный прием в королевской ставке. Так была оплачена служба того, кто привез королю победу над Московией и — в качестве главного трофея — плененного русского царя Василия Шуйского. Ничего не поняли Сигизмунд III и его сенаторы, когда столкнулись с непреклонной позицией русских послов митрополита Филарета и боярина князя Василия Васильевича Голицына. Это в Москве удалось склонить всеми правдами и неправдами, пожалованиями и подкупом нескольких бояр и временщиков, которые были согласны поцеловать крест кому угодно, не то что своему благодетелю — польскому королю. Руководители же русского посольства, представлявшие самые первые рода русского боярства (об этом сам гетман Станислав Жолкевский слишком предусмотрительно позаботился), отказывались действовать вопреки наказу, полученному «от всех чинов Московского государства» (а не одной Боярской думы), и приносить присягу королю Сигизмунду III. Точно так же внутри осажденного Смоленска в конце 1610 года были готовы открыть ворота и кончить дело миром, если бы не настойчивое (точнее, даже навязчивое) стремление заставить их присягать одновременно и королю, и королевичу, чтобы те вместе взошли на русский трон.
Неопределенное положение с русскими послами под Смоленском продолжалось до апреля 1611 года, когда их интернировали и, следом за Василием Шуйским и его братьями, отослали в Литву. Показательно, что тогда же уехал из королевской ставки и гетман Станислав Жолкевский, для которого этот отъезд стал, по сути, полной отставкой от всех московских дел. Да он и понимал, что после полного провала всех августовских договоренностей с боярами в Москве у него больше нет никакого кредита доверия. Король Сигизмунд III перестал демонстрировать хоть какое-то стремление к компромиссу и перешел к войне с ненавидимыми им «варварами». И это не преувеличение. В наказе посланнику, отправленному ко двору испанского короля 16 апреля 1612 года, Сигизмунд III говорил: «Эти обширнейшие Северные страны, хотя населены народами, родственными полякам по языку и происхождению и называющимися христианами, но, несмотря на то, или по суровости климата, или по воле их государей, которые ни о чем больше не заботились, лишь бы безнаказанно пользоваться деспотизмом, всегда считались весьма чуждыми образованности и кротости нравов. Люди зверские и невежественные, напитанные греческою верою, или, лучше сказать, суеверием, которую они устами и делами исповедуют, и в соблюдении своих договоров сохраняют ту же греческую верность!»[511]
Перемена королевской политики, воспринятая как нарушение крестного целования, заставила многих навсегда отказаться от поддержки кандидатуры королевича Владислава на русский престол. По-иному пошли дела в Москве после того, как там поняли, что никто и не думал решать внутренние московские дела и защищать столицу от самозванца, сидевшего в Калуге. Вместо этого начался безудержный грабеж казны, которую делили между собой бывшие воины Лжедмитрия II, перешедшие на королевскую службу и получавшие теперь свое заслуженное из оставшейся бесхозной казны московских царей. В уездах Московского государства, куда были отправлены фуражиры от «панов», сидевших в Москве, тоже казалось, что вернулись отвратительные времена самого тяжелого тушинского режима. Когда самозванец был убит под Калугой 11 декабря 1610 года, исчезла последняя причина, по которой еще можно было терпеть присутствие польско-литовского гарнизона в Москве. В городах началось земское движение, и примечательно, что среди восставших против Сигизмунда III (но пока даже не против королевича Владислава) оказались города, бывшие раньше оплотом власти царя Василия Шуйского, — Рязань и Нижний Новгород. Воевода Прокофий Ляпунов объединился в Первом ополчении с бывшими сторонниками калужского самозванца боярином князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким и предводителем казаков Иваном Мартыновичем Заруцким. Они начали подготовку похода под Москву для того, чтобы выбить сидевших там иноземцев во главе с Александром Госевским. В Москве военные действия случились еще до прихода Ляпуновского ополчения. 19 марта 1611 года началась резня в Китай-городе. Москва была сожжена, многие ее жители погибли в огне.
Общая беда объединила русских людей и сделала не такими уж существенными прежние противоречия. В ополчение вошли и бывшие ближайшие советники царя Василия Шуйского, и те, кто воевал против них с Тушинским Вором. Все стало несущественно перед лицом общего врага — Сигизмунда III. Не прошло и года после сведе́ния с престола царя Василия Ивановича, как его стали считать в одном ряду с другими «прежними прирожденными государями». Однако для самого бывшего государя это уже не имело никакого значения. Вряд ли князья Шуйские знали в своем заточении, сначала в Могилеве, а потом в Гродно, о том, что происходило в Московском государстве. Исключением были только рассказы о победе Сигизмунда III под Смоленском, когда город был все же взят штурмом королевскими войсками в первых днях июня 1611 года (официальным днем победы в Речи Посполитой считалось 13 июня по принятому там григорианскому календарю).
Король Сигизмунд III покинул Смоленск тем же маршрутом, что и пленный царь Василий Шуйский. Погрузившись на суда, он отплыл по реке Борисфен (Днепр) и достиг Орши. Оттуда путь короля лежал в Вильно, где он оказался 14 (24) июля, и на Варшаву. Там его торжественно встречали королева и королевич Владислав. 25 июля его приветствовал папский нунций Симонетти, а знаменитый иезуит Петр Скарга произнес проповедь, в которой нашлись слова и о поверженном московском царе: «А что особенно дивно — это низложенный царь, когда свои не доверяли ему и монастырской его страже: его отдали в королевские руки и с родным братом, который от его имени предводительствовал войсками, так что теперь пленник тот, кто сам был всей Москвы государем»[512].
В конце сентября 1611 года открылся общий сейм Речи Посполитой, где должны были состояться главные торжества в связи с удачным окончанием московского похода короля Сигизмунда III. Царя Василия Шуйского с его братьями привезли в Варшаву еще в августе и поселили в деревне Мокотове под столицей. 19 (29) октября 1611 года стал самым запоминающимся днем в жизни отставленного царя. Церемония предъявления князей Шуйских сейму была просчитана до мельчайших деталей. Московского царя посадили в королевскую карету и с особыми почестями (honorificentissime, как сказано в современном описании) повезли Краковским предместьем в королевский замок. Возглавлял процессию гетман Жолкевский, которому наконец-то воздали должное за все его заслуги перед Речью Посполитой. Гетман ехал в своей карете в сопровождении дворян, прибывших на сейм, своего двора и воевавшего вместе с ним «рыцарства». Царь Василий Шуйский находился в запряженной в шестерню открытой карете; он был одет в длинное белое парчовое одеяние, украшенное по краям золотой бахромой и шнурами. На голове у него была меховая «мармурковая» шапка (шлык) из чернобурой лисы. Шуйского можно было хорошо разглядеть: «не очень высокий, лицом округлый, смуглый, стрижен накругло, с редкой бородой, большей половиною седой, глаза воспаленные, угрюмые и суровые, нос продолговатый и чуть горбатый, рот растянутый»[513]. Впереди него сидели братья князья Дмитрий и Иван, а между ними находились королевские приставы. Так процессия доехала до королевского дворца, находившегося рядом с городской стеной, где гетман Жолкевский повел за руку царя Василия Шуйского на его Голгофу.
Дальнейшее известно не только из этого описания, но и по картине Томмазо Долабеллы, запечатлевшего памятное для короля Сигизмунда III представление царя Василия Шуйского с братьями сейму Речи Посполитой. Это событие было настолько дорого королю, что полотно Долабеллы стало одним из первых заказов для украшения королевских покоев в новой столице[514]. Лица царя Василия Шуйского разглядеть не удастся, он изображен спиной к зрителю в тот момент, когда гетман Станислав Жолкевский говорит речь в Сенаторской избе королевского замка, обращенную к восседающему на троне королю Сигизмунду III и королевичу Владиславу, названному в подписи к картине московским «императором». Все происходило в многолюдном окружении сенаторов и депутатов сейма, сидевших рядами справа, слева и напротив от королевского места, образуя прямоугольное открытое пространство, почти в центре которого поставили князей Шуйских. Таким образом, с высоты трона Сигизмунд III глядел на стоявшего перед ним с непокрытой головой и кланявшегося бывшего русского царя. Рядом с ним находился королевич Владислав. Настолько очевидной была эта иллюстрация «перемены человеческого счастья», что многие не могли не пожалеть того, кого некогда проклинали как самого большого врага своей страны, обвиняя его в гибели в Москве поляков и литовцев, приехавших на свадьбу Марины Мнишек. Отец Марины, сандомирский воевода Юрий Мнишек, сенатор Речи Посполитой, тоже находился в этом зале, что придавало дополнительный драматизм событию.
Но, главное, совершалось торжество Вазов над Рюриковичами. Именно эти воспоминания о вековой вражде витали в зале, когда князья Шуйские предстали перед сеймом и «королем его милостью». В первый момент царь Василий даже не смог скрыть своего «страха и боязни» перед лицом такого множества людей, присматривавшихся к нему с презрением, гордостью и осуждением. Наступил час гетмана Жолкевского, приготовившего знатную речь, в которой много было сказано о счастье короля Сигизмунда III, особенно о влиянии на дела Речи Посполитой взятия Смоленска и Москвы. Последнее, в условиях продолжавшейся осады русской столицы войсками земского ополчения, было явным преувеличением. Но кто в минуты эйфории обращает внимание на такие мелочи? Перед королем стояли князья-Рюриковичи — последние представители того самого рода, который веками был страшен всем соседним государям, не исключая могущественного турецкого султана. Сам царь Василий и его брат князь Дмитрий Иванович Шуйский, потерпевший от гетмана поражение под Клушиным. И теперь гетман Станислав Жолкевский отдавал всех трех плененных братьев королю Сигизмунду III, который и должен был решить их судьбу.
Подтверждая слова гетмана о том, что царь Василий Шуйский тоже просит «милосердия и милости», бывший русский самодержец низко склонил голову перед королем Сигизмундом III в поклоне, коснулся правою рукою «до земли» и потом поцеловал свою руку. Другой брат князь Дмитрий бил челом один раз до самой земли, а третий — князь Иван — уже «троекратно бил челом и плакал». Позор князей Шуйских на этом еще не закончился. Они согласились на этот ритуал, чтобы спасти свою жизнь, и должны были пройти его до конца. Представленные на сейме все же «не как пленники, но как пример переменчивого счастья», они получили королевское «прощение». После чего царь Василий Шуйский и его братья «были допущены к целованию королевской руки и целовали ее». Теперь слезы навернулись уже на глаза других участников сейма. Однако чувства тех, кого растрогала речь гетмана Станислава Жолкевского и «величие короля», были другого порядка, чем слезы, потрясшие младшего из братьев, князя Ивана Шуйского.
Князья Шуйские должны были молча выслушать еще речь коронного подканцлера Феликса Крыйского, объявлявшего волю короля и отвечавшего на речь гетмана Жолкевского: «Бывало ли, пан гетман, когда-либо в Польше такое торжество на этом месте, это видно из самой сущности и важности его. Прежние триумфы и победы совсем малы и бледны в сравнении с настоящим; о нем прежде нельзя было и мечтать. Государя московского поставить здесь, привести сюда губернатора всей земли, главу и правительство той державы отдать своему государю и отечеству, — вот что необычайное и новое, вот в чем и каковы замечательный ум гетмана, мужество рыцарства и счастие его королевской милости. Далеко заходило копыто польского коня…»[515] Так же далеко, как и красноречие оратора… Это мы уже продолжим от себя, оборвав цитату, чтобы не утомлять читателя бесконечными славословиями Сигизмунду III, звучавшими в тот день на разный лад. Не так был прост князь Василий Шуйский, о котором заметили, что во время таких речей в его глазах мелькала усмешка. Но ирония — это единственное оружие обреченного.
Король пообещал, что князей Шуйских будут «содержать со всем почетом», и даже подарил им какие-то дорогие одежды, назначив «стражу из благородных лиц». Настоящие чувства нахлынули на князей Шуйских, когда они остались все вместе одни, на дворе королевского замка[516]. В этот момент и бывший царь, и его братья, и даже те, кто только смотрел на них со стороны, не могли сдержать одних и тех же слез человеческого сострадания.
3 ноября 1611 года король Сигизмунд III выдал официальный акт о включении в состав Речи Посполитой завоеванных земель «Северского княжества вместе с землею и крепостью Смоленскою, отобранной от Москвы», и объявил о своих планах продолжать «начатое великое и многотрудное дело». Получение московской короны продолжало оставаться в планах короля, а его «право» на войну получило подробное обоснование. В торжественном акте 3 ноября было немало сказано и об обидах, нанесенных Василием Шуйским Польской Короне и Великому княжеству Литовскому как во время переворота против Лжедмитрия, так и потом из-за задержки послов Речи Посполитой и других пленных: «Вознамерившись уничтожить человека, который, ложно присвоив себе имя Иоаннова сына Димитрия, захватил верховную власть, Шуйский хотел вместе с тем насытить исконную ненависть к нашим гражданам». Стремившемуся самому к воцарению в Москве, Сигизмунду III важно было показать, что у бывшего московского царя якобы не имелось никаких прав на престол: «…не принадлежавшую ему княжескую власть захватил он обманом и преступным насилием». Именно этим объяснял король начатую им московскую войну, называя московского князя Рюриковича обычным, частным человеком, узурпировавшим власть: «Недостойно было нашего величия и совсем не отвечало видам государства, чтобы частный человек удерживал в своих руках обладание соседним княжеством, дружественным к нам и находящимся под нашим влиянием. Сами москвитяне, привыкшие повиноваться государям царской крови, очевидно, не были склонны терпеть его, довольно ясно обнаруживая желание иметь царя и властителя из царского рода, и некоторые из знатных призывали нас». Свои действия в Московском государстве король объяснял «правом крови» и говорил, что «ведет свой род по материнской линии от русских князей». Еще его побуждали воевать победы прежних королей, которые «владели этими народами, покорив их победоносным оружием», и «новые обиды», нанесенные королю в правление Василия Шуйского[517].
Слух о судьбе пленного русского царя широко разошелся по всей Европе и достиг турецкого султана. На сейме присутствовали представители многих дворов, в том числе турецкий посол, который, как рассказывали, захотел увидеть во время сейма Василия Шуйского. Сохранилось полулегендарное свидетельство (со ссылкой на неких представителей лифляндской Риги на сейме 1611 года), что такая встреча действительно состоялась. Более того, та подробность, что Шуйского на эту встречу привели «прекрасно одетого в московитские одежды», находит подтверждение в источниках. Но за дальнейшее уже поручиться невозможно. А между князем Василием Шуйским и принимавшим его турецким послом якобы произошел характерный диалог. В ответ на прославление представителем турецкого султана «счастья польского короля» Шуйский заявил «с сердцем»: «Не удивляйся, что я, бывший властитель, теперь сижу здесь, это дело непостоянного счастья, а если польский король овладеет моей Россией, он будет таким могущественным государем в мире, что сможет посадить и твоего государя на то же место, где сижу сейчас я. Ведь говорится: сегодня я, а завтра ты»[518]. То, что турецкий султан мог испугаться успехов Сигизмунда III и прислать ему уже на следующий год «ужасающее послание с объявлением вражды», было бы очень наивно связывать со словами Шуйского, как это сделал Конрад Буссов, даже если бы действительно удалось доказать, что подобные слова бывший московский царь произнес. Дело было в том, что король Сигизмунд III стремился создать целую коалицию из разных государств, чтобы организовать крестовый поход против Османской империи, и успехи в Московском государстве представлял как лучшее подтверждение своей силы. В инструкции послу, отправленному к папе Павлу V в Ватикан в сентябре 1612 года, король Сигизмунд III объяснял причины московской войны: «Он предпринял ее не столько с намерением распространить свои и королевства своего владения, сколько для того, чтобы утвердить христианство против варваров и самую Московию обратить от раскола к этому святому апостольскому престолу»[519].
…Жизнь Василия Шуйского завершалась. Его вместе с братьями и остававшимся небольшим числом слуг отправили доживать в Гостынский замок недалеко от Варшавы. Очень заметно, что бывший царь после сведе́ния с престола все время находился в страхе и уже не имел надежды на изменение своей участи. Силы его иссякли быстро. 12 (22) сентября 1612 года царь Василий Шуйский умер. Что стало причиной его смерти, неизвестно, но что-то случилось в это время в Гостыне, потому что следом, 15 (25) сентября, ушли из жизни жена князя Дмитрия, а 17-го (27-го) — и сам князь Дмитрий Иванович Шуйский. В самой «Литве» говорили, что Шуйские умерли насильственной смертью[520], но нет никаких фактов, которые бы подтверждали эту версию. Напротив, существуют официальные акты об их смерти. Если князь Василий Шуйский умер один в своих каменных покоях, располагавшихся над воротами замка, то князь Дмитрий и его жена умирали в присутствии других людей, засвидетельствовавших их кончину. В официальном свидетельстве о смерти князя Василия Шуйского в книгах Гостынского гродского (замкового) суда было сказано, что кончина состоялась «в Гостынском замке в субботу, на следующий день после праздника св. Матфея, апостола и евангелиста, года Господня тысяча шестьсот двенадцатого». И далее: «Славной памяти высокородный покойный Василий Шуйский душу свою Господу Богу отдал дня, то есть в субботу после праздника св. Матфея, апостола и евангелиста, в своем помещении, в каменной комнатке над каменными воротами; покойный (как об этом носится слух) был великим царем московским, и был он вместе с высокородными Дмитрием, гетманом, Иваном, подскарбием, Шуйскими, князьями московскими, родными братьями, по приказанию его королевского величества, наияснейшего короля польского, сослан в жительство в Гостынской каменный замок, когда заведывал староством высокородный гостынский староста г-н Юрий Гарваский, приставом при них в том же Гостынском замке — г-н Збигнев Бобровницкий, придворный его королевского величества. Жил он лет около 70-ти»[521].
Замечание о возрасте умершего московского царя свидетельствует о том, что князь Василий выглядел лет на десять старше, чем ему было на самом деле (он умер в возрасте шестидесяти лет), а может быть, и объясняет причину его смерти из-за пережитых страданий. Можно также напомнить, что, вместо сокрытия следов якобы тайной «казни» князей Шуйских, из их могилы со временем сделали пантеон и поставили «московскую каплицу» в том самом Краковском предместье, которым царя Василия везли на памятный сейм. Автор «Нового летописца» писал об этом с укоризной: «В Литве ж царя Василья и брата ево, князя Дмитрея и со княгинею умориша и повелеша их положити на пути, кои изо всех государств пришли дороги, и поставиша над ними столп каменной себе на похвалу, а Московскому государству на укоризну, и подписаху на столпе всеми языки, что сий столп зделан над царем московским и над бояры»[522].
Царь Василий Шуйский немного не дожил до освобождения Москвы войсками объединенного земского ополчения князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Впрочем, даже при жизни он уже никак не мог повлиять на ход войны с Речью Посполитой. Новый поход короля Сигизмунда III в Московское государство вместе с королевичем Владиславом в ноябре 1612 года закончился бесславным поражением королевских войск. И случилось это под тем самым Волоком, откуда начался путь в Литву бывшего царя Василия. Знал об этом единственный из князей Шуйских, кто уцелел в итоге правления Бориса Годунова и последовавшего польско-литовского плена, — князь Иван Иванович Шуйский. Ему придется пойти на службу к королевичу Владиславу, который даже после волоцкого афронта и избрания на русский престол Михаила Федоровича Романова продолжал считать себя московским государем. Судьба плененного царя Василия Шуйского несколько раз тенью проходила в дипломатических переговорах с Речью Посполитой в первые годы царствования Михаила. Каждый раз в Москве обвиняли польско-литовскую сторону, нарушившую обещания не вывозить царя Василия и его братьев в Москву. Конечно, будь они живы, новая война за Смоленск, начатая Михаилом Федоровичем, и переговоры о судьбе Шуйских велись бы настойчивей. Пока же оба государства решали свои текущие задачи, и останки князей Василия и Дмитрия Шуйских, лежавшие под воротами Гостынского замка, никто не тревожил. В 1618 году, в «королевичев приход», когда Владислав осаждал со своим войском Москву и в день Покрова был отбит его решительный штурм столицы, все мечты Сигизмунда III и его сына на царский трон рухнули. Оба государства заключили Деулинское перемирие.
Те из пленников давней войны, кто смог дожить до этого момента, стали возвращаться в Москву. В Московском государстве ждали бывших послов под Смоленск митрополита Филарета Романова — отца молодого царя Михаила Федоровича, боярина князя Василия Васильевича Голицына (он умрет по дороге на родину) и руководителя смоленской обороны боярина Михаила Борисовича Шеина. Князя Ивана Ивановича Шуйского пытались задержать, но он был тверд в своем намерении возвратиться на родину. Видимо, тогда же, в возмещение «потерь» своих знатных пленников, король Сигизмунд III придумал перезахоронить останки царя Василия Шуйского в Варшаве, поставив на открытой дороге из Краковского предместья подобие мавзолея. Внутри круглого, в несколько ярусов, здания с куполом и шпицем был склеп, куда поставили гробы князей Шуйских. Над входной дверью в мавзолей была мраморная плита с торжественной латинской надписью: «Во славу Иисуса Христа, Сына Божия, Царя царей, Бога воинств. Сигизмунд III, король польский и шведский, после того, как московское войско было разбито при Клушине, как взята московская столица и возвращен Смоленск под власть Речи Посполитой, как взяты были в плен, в силу военного права, Василий Шуйский, великий князь московский, и брат его, главный воевода Димитрий, и, содержимые затем в Гостынском замке под стражей, кончили там свои дни, он, король, помня об общей человеческой участи, повелел тела их перенести сюда и положить их под этим, им сооруженным на всеобщую память в потомстве и для славы своего королевствования, памятником, дабы в его королевствование даже враги и незаконно приобретшие скипетр не были лишены следуемых умершему почестей и погребения. Лета от Рождения Девою 1620-го, нашего королевствования в Польше 33-го, в Швеции 26-го»[523]. Предусмотрительный король Сигизмунд III распорядился положить в каждый гроб при перезахоронении серебряные дощечки с именами умерших братьев, чтобы всегда знать, где останки бывшего царя Василия, а где — князя Дмитрия Шуйского. Потом это помогло русской стороне, когда она договорилась о возвращении останков князей Шуйских.
В первые годы царствования Михаила Федоровича отношение к временам «царя Василья» было совсем другое, чем в 1610 году. Наученные горьким и тяжелым опытом последующих лет, люди Московского государства признавали законными все грамоты, выданные от имени царя Василия Ивановича, назначенные при нем поместные и денежные оклады. Более того, выдача жалованных грамот на вотчину за «царя Васильево осадное сиденье», наряду с подобными заслугами «в королевичев приход» стали самыми памятными событиями в истории сотен дворянских семей. Для служилых людей «по отечеству», получавших землю в вечное пользование «в род», времена разрухи и смуты при царе Василии становились «золотым веком». От рассказов о том, как предок отличился в боях с тушинским самозванцем или в походах Скопина, начинали отсчитывать историю своих родов русские дворяне и дети боярские, навсегда укрепившиеся в своих вотчинах.
Оставалось одно — вернуть останки царя Василия на родину. Время для этого пришло только после смерти Сигизмунда III и начатой вслед за этим новой, неудачной для царя Михаила Федоровича, Смоленской войны 1632–1634 годов. Как королевич Владислав, ставший королем Владиславом IV, наконец-то понял, что ему надо отступить от претензий на обладание титулом русского царя, так и царь Михаил Федорович должен был признать свое поражение под Смоленском. Результаты Смоленской войны, закрепленные Поляновским мирным договором в 1634 году, позволили передать дело от кавалерии и пехоты к дипломатам и землемерам. Оба государства начали долгие и не всегда дружественные переговоры о новой границе. Но прежде направленному в Литву в 1635 году посольству боярина князя Алексея Михайловича Львова и думного дворянина Степана Матвеевича Проестева был дан тайный наказ: договориться о возвращении гробов князей Шуйских в Московское государство и не жалеть для этого никаких денег. Великие послы должны были «говорити с паны-радою», чтобы они передали королю Владиславу IV: «Судом Божьим лежит у вас в Польше тело блаженныя памяти царя и великого князя Василья Ивановича всея Руси, и по нашему християнскому закону пенья по нем и службы по святых отец правилом нет, лежит что един от убогих. И великий государь царь и великий князь Михайло Федорович, всея Руси самодержец, жалея о том своим государским милосердым обычаем, велел брату своему великому государю Владиславу, королю полскому и великому князю литовскому, по любви о том царя Васильеве теле с прошеньем говорити, чтоб его королевское величество для царского величества нынешние братственой дружбы то царя Василья тело велел отдати и поволил то ево тело отвести в Московское государство; а как королевское величество то учинит, и великому государю его царскому величеству будет в приятную любовь, и против того великий государь будет ему, брату своему, великому государю вашему, воздавати своею царского величества любовью». По посольскому обычаю, в наказе объясняли, как послы должны были вести переговоры. В том числе — как отвечать на ожидаемые московской стороной речи о добровольной выдаче в свое время королю князей Шуйских («царя Василья и братью его отдали сами»). С этим уже в Москве предпочитали не спорить. Послы же должны были еще раз напомнить о христианских чувствах: «Царя Васильево тело уж мертво, и прибыли в нем нет никоторые, и стояти королевскому величеству за то не за что… они, великие послы, говорят о том по приказу великого государя своего, жалея о том крестьянским обычаем, потому что царя Васильево тело лежит на пустом месте, и пенья над ним и помяновенья по нашему христьянскому закону нет никоторого, а государь был великой, помазанник Божий, и на пустее месте без помяновенья лежати ему не пригоже». Если же дело дошло бы до уплаты «казны» (а оно-таки дошло), то послам следовало действовать очень осторожно и увещевать панов-раду: «А того нигде не слыхано, что мертвых телеса продавать»[524].
Переговоры были начаты 24 апреля 1635 года и закончились, к удивлению и радости русской стороны, очень быстрым согласием короля Владислава IV. Канцлер Якуб Жадик и хорошо осведомленный в истории взаимоотношений с «москвою» Александр Госевский, не преминули напомнить: «А толко б де был Жигимонт король, и он бы никак тела царя Василья не отдал, хотя бы ему полаты золота насыпали, и он бы кости одной не отдал»[525]. Однако король Владислав IV проявил более гуманное отношение к останкам поверженного врага исключительно из соображений дружбы и союза с восточным соседом. Так русскому посольству князя Алексея Львова, используя безотказный восточный механизм «поминков» высшим чиновникам Речи Посполитой, удалось достичь того, чтобы прах Василия Шуйского упокоился с миром и подобающими почестями.
«10 июня с утра в Кремле московском загудел реут{4}, и народ повалил к Дорогомилову навстречу телу царя Василия…» — никто лучше С. М. Соловьева не описал этот печальный итог затянувшихся земных странствий князей Шуйских[526]. Сам царь Михаил Федорович и вся Боярская дума встречали в Кремле траурную процессию. Хоронили не просто бренное тело бывшего московского государя; уходила в прошлое целая эпоха боярских счетов князей Шуйских и Бельских, Годуновых и Романовых между собою. Уходила в прошлое вся эпоха Смуты, так прочно оказавшаяся связанной с триумфом и падением Василия Шуйского. От Дорогомилова к церкви Николы Явленного на Арбате гроб царя Василия несли на руках городовые дворяне и дети боярские. Затем «Здвиженской улицей» процессия двинулась к другой церкви — Николы Заразского у каменного моста. Уездных дворян, несших гроб бывшего царя, сменили московские дворяне. Дальше была первая служба в церкви, которую провел патриарх Иосиф. В сопровождении освященного собора, Боярской думы и Государева двора жильцы, гости и торговые люди — представители «всех чинов» — двинулись через Ризоположенские ворота в Кремль. На площади у Успенского собора останки князей Шуйских встречал царь Михаил Федорович, бывший, как и весь его двор, в подобающих моменту «смирных», траурных одеждах.
11 июня 1635 года царь Василий Шуйский обрел вечное упокоение в Архангельском соборе в Кремле. Его погребли «на левой стороне за передним столбом»[527]. Надпись на его надгробии говорила о непростых обстоятельствах его посмертной судьбы: «Лета 7121 (1612. —
Покаяние бывших подданных царя Василия, опоздавшее почти на четверть века, свершилось.
Четыре года Смуты, связанные с царем Василием Шуйским, останутся небывалым периодом в истории России — периодом, на котором сама история могла вообще закончиться. Земли Русского государства уже готовы были поделить между собою Речь Посполитая и Швеция, на южные границы наступали ногаи и крымцы. Причем случился такой провал в течение всего нескольких лет. В новое семнадцатое столетие при Борисе Годунове русская земля вступала «великой и обильной», но небывалый голод, начавшийся в 1601 году, и последовавшая эпопея самозваного царевича Дмитрия едва не разрушили дело собирателей московских земель, династия которых пресеклась навсегда. Исторический вызов, с которым пришлось столкнуться Василию Шуйскому, был явно ему не по силам, хотя он и обладал всеми законными правами на русский престол.
Вспомним еще раз, что князь Василий Иванович, происходивший из рода Рюриковичей, уже одним фактом своего рождения был обречен на необычную судьбу. И действительно, он — ее баловень, единственный избранный царь из всех прямых потомков Рюрика. Зигзаги его биографии были самыми необычными: внук боярина и временщика, казненного великим князем Иваном Васильевичем, тогда еще совсем мальчиком, не успевшим стать Грозным. В опричное время и дальше князья Шуйские оказываются рядом с царем Иваном и входят в его «особый двор». В какое-то время, будучи «дружкой» на последней свадьбе Ивана Грозного, князь Василий Шуйский потеснил Бориса Годунова, и это режиссированное соперничество дорого стоило всему роду князей Шуйских. И только ли им, пострадавшим от Годунова? Однако князья Шуйские оказались самыми первыми жертвами на пути к власти будущего царя Бориса. Потом боярин Василий Шуйский не посмеет до самой смерти Бориса Годунова хоть как-то проявлять свою нелояльность. И в этом вынужденном смирении и подавлении стремления к царской власти, которая могла принадлежать князю Василию Шуйскому по праву его происхождения, и была одна из главных драм его жизни.
Близость к царскому трону все время манила его и ставила на грань жизни и смерти. Самозваный царь Дмитрий Иванович, едва войдя в столицу, заставил князя Василия Шуйского пережить ужас близкой казни на Лобном месте. Такое не забывается и может полностью изменить человека. Вот и нерешительный князь Шуйский в итоге становится во главе целого заговора против самозванца и свергает его. Царь Василий оказался сыном своего века и уже скорым избранием в цари, без земского собора, оттолкнул «всю землю», не успевшую придти в себя после недавнего переворота и казни помазанника Божьего, каким в сознании людей оставался Лжедмитрий. И ведь был этот шанс успокоения Московского государства, связанный с крестоцеловальной записью самого царя Василия Ивановича! Он присягал и собирался покончить с традицией деспотического правления Ивана Грозного, признавая права личного достоинства подданных. Но началась многолетняя распря, стоившая в итоге Василию Шуйскому царского трона.
Это была драма не одного человека, не сумевшего справиться с властью, а поражение всех русских людей, не понявших, что наступила новая эпоха. Спасаться, надеясь только на царя и бояр, оказалось уже невозможно. И тогда каждый стал сам себе царем и боярином. В царствование Василия Ивановича впервые проявилась огромная частная и общественная активность людей, от которых раньше никто не мог ожидать, что они будут выбирать себе царей, организовывать ополчения и создавать городовые советы из представителей разных чинов, вести переписку друг с другом, а не только с московскими приказами[529]. Но рассредоточение власти оборачивалось одновременно еще и новым беспорядком. А иногда даже хуже — «порядком», устанавливавшимся тушинским войском Лжедмитрия II во взятых в «приставство» городах и уездах.
Вмешательство польского короля Сигизмунда III в русские дела «выручило» царя Василия Шуйского от еще более раннего удаления от власти. Борьба с Тушинским Вором могла считаться внутренним делом, несмотря на польско-литовских гетманов, воевавших в его войске и находившихся в «таборах» под Троице-Сергиевым монастырем. Вторжение короля Сигизмунда III и осада им Смоленска сделали царя Василия защитником Московского государства от иноземцев. Царю Василию Ивановичу удалось справиться, пусть только на время, с Лжедмитрием II. Хотя, наряду с земской ратью князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и набранным им «немецким» войском, не меньше сделали для распада Тушинского лагеря послы королевского войска из-под Смоленска, переманившие к себе на службу бывших сторонников самозванца. И уже трагический случай, скорее всего, в сопряжении с чьей-то злой волей, разбил все надежды на возможное утверждение на царстве новой династии. От праздника победы над врагом до тризны над победителем прошло всего несколько недель. Смерть молодого полководца князя Скопина-Шуйского оказалась приговором всему роду князей Шуйских. Больше не осталось никого из правителей и полководцев, на опыт и умение которых можно было рассчитывать (вот где отозвались расправы Бориса Годунова с князьями Шуйскими и другими боярскими родами).
Царя Василия Ивановича свели с престола по причине всеобщей нелюбви к своему правителю. Случай редкий не только для истории России! Но у нас все закончилось не публичной казнью короля, как это происходило в Англии и во Франции, а сюжетом с долгим продолжением, где смешались ложь и предательство, одинокая борьба поверженного правителя за свою честь и покаяние потомков. Пережив свержение с трона и насильственный постриг, Василий Шуйский немедленно сделался не столько творцом своей собственной судьбы, сколько жертвой чрезвычайных обстоятельств. Его смирение перед волей «мира», требовавшего ухода царя от власти, выглядит более нравственным в сравнении с чередой предательств, допущенных по отношению к Василию Шуйскому Боярской думой. Мало кто мог осознать и почувствовать трагедию этого человека, разлученного с женой и детьми, отданного боярами в плен непримиримому врагу Сигизмунду III. Когда все это случилось, бывший царь сумел повести себя с достоинством и выдержкой, вызывая больше жалость, чем ненависть. Его быстрый уход из жизни тоже свидетельствует, что эти внутренние переживания преданного и покинутого всеми русского царя оказались тяжелее бремени власти. Историческое примирение русских людей с царем Василием Шуйским состоялось давно, на памяти тех, кто ему присягал. Он не сумел отменить сделанных ошибок, но искупил их своими последними трагическими месяцами.
Когда «князь Василий» умер, составили опись оставшегося после него имущества. В нее вошли: серебряный складень с образом Богородицы, шкатулка с золотыми червонными и талерами, сохранил он и королевскую серебряную «братиночку» и «ложки». В опись имущества, составленную приставом, вошла еще одежда: охабень, кафтаны, шуба и мармурковая шапка «черна лисья», в которой он был в памятный день представления на Варшавском сейме. Серебряный ковш, «оловянных 4 блюда, да 4 тарелицы новых», рукомойник, «два котлика медяных», таз, вертел…[530] Но вряд ли будет справедливым считать, что этим исчерпывалось наследство царя Василия Шуйского. Оставалась страна, стоявшая на пороге освобождения своей столицы и выбора нового правителя, которому предстояло вывести Московское государство из Смуты. Новый царь Михаил Романов начнет свое царствование с идеи возвращения к тому порядку, «как при прирожденных государях бывало». Время царя Василия снова окажется легитимным для тех, кто когда-то сопротивлялся ему и обвинял князей Шуйских в слабости и неспособности к власти.
В «человеческой правде» характера Василия Шуйского пристрастным потомкам, судящим с высоты своего века, можно ошибиться. «Историческая правда» — всегда одна. Надо ли вообще оправдывать несчастливого героя перед поколениями суровых критиков? Пусть каждый ищет свои ответы. Главное, что Василий Шуйский как один из тех людей, кто определил эпоху Смуты, все равно останется интересен. Судьба царя Василия заставила покаяться его современников как за собственные грехи междоусобной брани, так и «за безумное молчание всего мира». Он по-настоящему завершил историю Рюриковичей на русском троне.
Воевода Большого полка «берегового разряда».