Анатоль Костенко
ЛЕСЯ УКРАИНКА
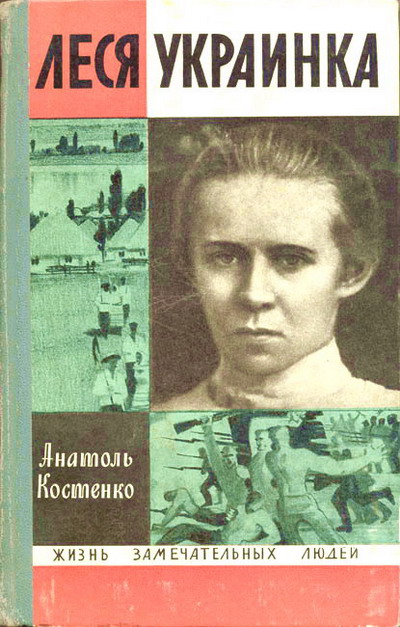
Род Леси Украинки — и по отцовской и по материнской линии — корнями своими уходит в глубь веков. В его богатой истории смешалось все: герцог из Боснии и «бродяга из Греции», известный польский шляхтич и дочь хорунжего казацкого войска, переяславский старшина и юнкер-декабрист, помещики и общественно-политические деятели. Были среди Лесиных предков верные слуги господствующего строя, были лояльные, но были и бунтари. Чем ближе к Лесе — тем больше бунтарства.
Отцовский род Леси Украинки происходил из Боснии, расположенной у побережья Адриатики; в XIV–XV веках он играл важную роль в истории своего края. Во времена распада королевства Тврдка Первого род Косачей сумел сохранить за собой округ Захулмья. Позже, в 1444 году, властелин Захулмья Стефан Косач выхлопотал для себя у германского императора Фридриха титул герцога, и отсюда весь его округ стали называть Герцеговииой. Вскоре Герцеговину завоевали турки, однако название так и закрепилось на века. Одни, чтобы сохранить своя привилегии, приняли мусульманскую веру, другие же отправились искать счастья в чужие страны. Среди них и Косачи: они пошли служить польским королям. Петр Косач — польской короны шляхтич — даже отличился в войсках Яна Собесского, которые победили турок в 1673 году под Хотином, а в 1683 — под Веной.
Однако приверженец православной веры Петр покинул Польшу и перебрался на Украину. Его хорошо приняли, назначили сотником Стародубского полка. И сын его, и внук служили там же. А после ликвидации украинской автономии (1781 год) бунчуковый товарищ (одно из званий казацкой старшины) Стефан Косач стал предводителем дворянства Погарского уезда. Вообще-то все Косачи осели на Черниговщине. Лесин прадед Григорий (род. 1764 г.) поселился в городе Мглине, находящемся на крайнем севере Черниговщины (ныне — Брянская область).
Здесь же, в Мглине, в 1841 году родился отец Леси Украинки Петр Антонович Косач. Семья была большая, а поместье маленькое, а потому дети, как только подрастали, стремились пробить себе дорогу собственными силами. Петр поступил в Петербургский университет, но через два года вынужден был перевестись в Киевский, спасаясь от преследований за участие в студенческих волнениях 1861 года.
По окончании университета Петр Косач был причислен к министерству юстиции. Спустя год его назначили председателем Новоград-Волынского собрания мировых посредников.
Род по матери — греческий. Еще в первой половине XVII века судьба забросила на Украину одного «бродягу из Греции» — человека молодого, грамотного да к тому же и храброго. В 1648 году, как только вспыхнуло восстание против польского гнета, он сразу же присоединился к войску запорожскому. Сплав храбрости и здравого рассудка принес признание казаков, и вскоре Богдан Хмельницкий предложил ему должность драгомана, то есть толмача — переводчика при гетмане. С тех пор прозвище «драгоман» стало собственным именем.
Драгоман достиг положения казацкого старшины, женился и поселился на Украине навсегда. Архивные документы свидетельствуют, что значковый товарищ, чин которого мог быть приравнен к чину прапорщика, Стефан Драгоман, Лесин прапрадед, в 1756 году был избран переяславским старшиной, «яко человек зацный и достойный». Стефан Драгоман еще кое-что помнил о своем происхождении: например, писал свое имя, фамилию греческими буквами.
По приглашению гетмана Разумовского Стефан Драгоман переехал в Гадяч. Здесь он женился на дочери казацкого старшины Колодяженского, который имел большую усадьбу в Гадяче и имение в селе Будища. Аким, Стефанов сын, унаследовав земли матери, накрепко прирос к этим местам, и село Будища «стало семейным гнездом Драгомановых».
У Акима было три сына и дочь. Старший пошел по стопам отца — остался вести хозяйство в имении. Младшие же отправились в Петербург — учиться и служить: Петр (род. 1802 г.) поступил в юридическую школу, а Яков (на год старше) — в военную. Способные, веселые, общительные юноши быстро «обросли» друзьями. Жизнь их сложилась по-разному, но оба оставили по себе добрую память.
Яков Драгоманов принадлежал к «Товариществу объединенных славян», был участником декабристского движения. В день восстания на Сенатской площади он находился в госпитале, и это спасло его от каторги. На следствии Яков Драгоманов держался достойно, открыто заявив, что источником его революционных убеждений является недовольство существующим строем.
Как ни странно, но следственная военная комиссия представила суду весьма доброжелательное заключение по делу Драгоманова. Петропавловская крепость, затем отправка в Староингерманландский полк 3-й пехотной дивизии «под строгий надзор полкового, бригадного и дивизионного начальства» — таков был приговор суда. Однако через некоторое время Яков тяжело заболел, был уволен из армии и жил на Севере «под строжайшим секретным надзором» до самой кончины (1840 г.).
И Яков и Петр Драгомановы еще в юношеские годы проявили склонность к поэзии. После катастрофы 1825 года в стихах Якова звучат преимущественно пессимистические мотивы. Это и не удивительно. Двадцать три года, а кажется, что все уже позади: мечты о свободе народа, личная жизнь…
Здесь хлеб мне насущный, как яд, нездоров;
Здесь воздух чужой не навеет прохлады,
Здесь волю купи и дыханье купи —
Я чахну, прикован, как пес, на цепи.
Даже воспоминания о родном крае, о милых сердцу местах не приносили утешения:
Покинув дикий шум, шум славы боевой,
Два раза посещал я милые могилы
И мирный кров родной,
Бродил в развалинах, угрюмый и унылый,
С тоскующей, с растерзанной душой.
Нашел ли я там сердцу утешенье?
Там пусто все, там ветер завывал…
Видимо, при содействии друзей и брата Петра, который жил тогда в Петербурге, ему удавалось время от времени публиковать свои стихи в периодической печати, в альманахах — «Северном Меркурии», «Гирлянде», «Сыне отечества».
Декабристу Драгоманову не суждено было стать великим поэтом, он не смог «на скованных страданиями крыльях» подняться ввысь. Достигла вершин поэзии внучка его брата — Леся Украинка… Она вобрала в себя р. се творческие силы предшествующих поколений семейства, дала им стальное острие, да такое разящее, что все страдания, внезапно обрушившиеся на нее, не в силах были сковать полет ее поэтической мысли.
Петр Драгоманов служил юристом при военном министерстве. Он получил отличное образование, знал иностранные языки и выступал, как и его брат, со стихами и рассказами в журналах.
Впрочем, его не очень-то привлекала служба «на благо царя и отечества», не прельстила его и жизнь в столице — в 1838 году он возвращается на родину и женится на дочери соседа помещика Ивана Цяцки — Елизавете. Тогда же Драгомановы выиграли важный иск у Разумовских: им были возвращены земли, отторгнутые у Колодяженских во времена гетманства Кирилла Розума. На свою часть денег Петр отстроил семейную усадьбу в городе и оттуда управлял хутором, расположенным в нескольких верстах от Гадяча. Усадьба Драгомановых сохранилась до наших дней.
В детстве, да и в зрелые годы Леся проводила здесь прекрасные летние месяцы. Здесь же родилась и выросла ее мать. Отсюда, из отчего дома, ушел на нелегкие поиски истины дядя поэтессы — известный ученый и общественно-политический деятель Михаил Петрович Драгоманов.
А вот и гора над рекой, воспетая в стихах Якова Драгоманова:
Далеко видит взор с обрывистой горы,
Где ветхий монастырь убогою главою
Глядит на пышные окрестные ковры,
На прелесть дикую. Под этою горою
Кипит и пенится великолепный Псел,
Как мило вы над ним, дремучие дубравы,
Склонились с берегов! Но волны величавы,
Оставя вашу сень, плывут в зеленый дол
Искать других картин, искать и новой славы…
А позже на этой высокой горе будут собираться молодые энтузиасты литературного кружка «Плеяда», мечтать о счастье народа, о литературной славе своей родины. А сколько ярких вспышек поэтической мысли помнит эта гора…
Место службы — Новоград-Волынский, но Петр Косач все чаще и чаще приезжает в Киев. Дело в том, что товарищ по университету Михаил Драгоманов познакомил его со своей молоденькой сестрой. Ольгой, которая с одиннадцати лет обучалась в пансионате и после его окончания жила вместе с братом. Здесь и встретилась она со своим будущим супругом. А в следующем, 1866 году, сыграли свадьбу Ольги Драгомановой и Петра Косача.
Это была на редкость дружная семья, где с уважением относились к интересам и увлечениям друг друга. Ольга писала стихи и рассказы, публиковавшиеся преимущественно за границей. Позже она стала известной читателям и на родине под именем Олены Пчилки. Творчество ее никак не назовешь выдающимся, однако это было явление примечательное.
В Новоград-Волынском молодые Косачи поселились на Корецкой улице, а через два года переехали на Случанскую. Здесь и родилась 13 февраля (по старому стилю) 1871 года будущая великая поэтесса.
В своих воспоминаниях Олена Пчилка писала, что через два года семья сняла у польки пани Завадской целую усадьбу: «Это был лучший из домов звягельских, где мы, Косачи, жили: ведь у Завадских-то мы имели очень большой, хотя и одноэтажный дом, да к тому же роскошный сад, тоже очень большой… Сад был в какой-то степени запущен, но благодаря этому гулять здесь еще приятнее: вольготно в нем и фруктовым, и всяким прочим деревьям — липам, тополям. Да еще целые заросли сирени разных сортов, жасмин, цветы долголетние… Нашим малым детям было так хорошо в этой чудесной обители! Собственно, ради детей мы и снимали усадьбу у Завадских…»
Был у Леси брат Михаил (Миша, Михасъ) на полтора года старше ее. Всю жизнь их связывала сердечная дружба. До тринадцатилетнего возраста Михаила (пока он не уехал учиться) они были неразлучны: вместе играли, читали и учились. За это их дома в шутку называли общим именем — Мишелосие (Лесю до пяти лет звали Лосей). В 1875 году она самостоятельно прочла первую книгу — «Разговор о земных силах» Михаила Комарова, а на шестом году жизни научилась писать; уж очень ей хотелось вести переписку с родственниками, прежде всего с бабушкой.
…Ранним мартовским утром 1876 года со двора молодых Косачей выехала кибитка, повернула влево, а спустя несколько минут затарахтела по широкому ухабистому тракту, оставив позади Звягель (старое название Новоград-Волынского). Зима была на исходе, но дни еще коротки, и надо было спешить, чтобы засветло добраться до железной дороги — до Шепетовки полсотни верст.
Леся видела, как кучер время от времени взмахивал кнутом, и тогда копыта мелькали быстрее. Она пристально всматривалась в серую ленту дороги, теряющуюся где-то там, вдали, среди проталин побуревшего снега, — ведь ей впервые предстоит такой дальний путь. Правда, когда-то Леся побывала в Киеве, но это было так давно и была она тогда такая маленькая, что ничего уже и не помнит. Киев знаком ей по рисункам в очень толстой и тяжелой книге, которая лежит на столике в маминой комнате. Михася, старшего брата, больше всего восхищает колокольня Печерской лавры: высокая — облака задевает. И еще солнечные часы во дворе Киево-Могилянской академии на Подоле…
А Лесю привлекает другое — тот рисунок, где изображен глинистый, желтовато-белый крутой обрыв, сверху — толстенные развесистые дубы, а внизу — широкий синий Днепр, должно быть в сто раз шире Случи, которая протекает сразу за их усадьбой. Как лебеди, плывут по Днепру кораблики под белыми парусами, распятыми на высоких мачтах…
Леся часто разглядывала на картинке и большой красный дом с колоннами. Здесь учились когда-то ее отец и дядя Михаил. Дядя сам потом обучал в этом университете взрослых, которых зовут студентами. Раскрывая альбом в этом месте, Леся долго всматривалась в картинку, словно ждала: вот-вот на этих широких ступеньках появится высокая; статная фигура ее дяди.
Но с ним случилось что-то недоброе. Из-за этого мама грустит, даже приболела немного. Леся слышала, как однажды в разговоре она сказала: «Надо свезти детей в Киев. Пусть поживут некоторое время у Михаила, ведь скоро разлука…»
Леся ничего не поняла тогда, как не понимает и сейчас. Но ей было радостно и немного тревожно: ее взбудоражила эта первая дальняя поездка. Она вспомнила дочь дяди Михаила — Лидочку, которая в прошлом году целое лето гостила у них. Весело и хорошо было играть с Лидой: она старше Леси почти на пять лет, но никогда не обижала свою сестричку. Правда, порою подтрунивала над Лесиным ласковым характером, говорила, что ее маленькая сестричка чересчур «послушный ребенок», умница и чистюля.
Сидит, бывало, семья за обедом, а под окном откуда ни возьмись шарманщик. Дети как ошпаренные, забыв обо всем на свете, из-за стола — и на улицу… В другой раз общий любимец — лохматый пес по имени Дюк стащит булку, снова поднимается страшный шум: дети принимаются гоняться за ним. Одна Леся тихонько сидит за столом и, только закончив обедать, отважится выбежать во двор, чтобы присоединиться к буйной ватаге.
В играх, построенных по неимоверно исковерканным, как это могут делать только дети, сюжетам «Илиады» и «Одиссеи», Лесе чаще всего приходилось бывать Андромахой. Ей почему-то очень нравилось необычное слово — Андромаха… Есть в этом имени что-то таинственное и печальное.
Но самыми интересными были дальние прогулки. После завтрака в горенку заходил дядька кучер и, посоветовавшись с мамой, торжественно объявлял, куда и в котором часу предполагается выезд. В назначенное время у свежевыкрашенного, сверкающего желто-голубыми красками крыльца останавливалась повозка. На почетном месте, выстланном сеном и покрытом ковром, усаживались тетя Саша и гостившая у них приятельница Ольги Петровны по гимназии Анна Ивановна Судовщикова. Между ними — на правах самой маленькой — Леся. На дне повозки устраивались Михась и Шура — дочь Судовщиковой. Лиде же, как старшей среди детей, позволяли садиться на облучок, рядом с кучером. Когда наконец все удобно рассядутся, кучер легонько трогал поводья, и повозка выкатывалась на проселочную дорогу по опушке леса вдоль Случи. Лица путешественников сияли от радости. Вот только страшновато было съезжать с крутой горы у хутора деда Евмена. Зато потом… Потом они встречались с самим дедом, который вел их в сад, где стояли пчелиные ульи, угощал душистым сладким медом. Леся улыбнулась, вспомнив, как однажды на них с Лидочкой налетели дедовы пчелы. Лида тогда заплакала от боли, а она смогла удержаться и очень этим гордилась.
Несколько раз взрослые брали с собой на охоту детей. Отправлялись на рассвете: одни — лошадьми, другие — на лодках по Случи. На опушке дубового леса, у крутого поворота реки, разбивали лагерь. Взрослые уходили в лес, и оттуда доносился лай собак, звуки выстрелов. Дети же охотились за грибами и ягодами. А Леся тем временем плела веночки из лесных цветов, вместе с мамой и Лидочкой училась петь народные украинские песни. Чаще волынские: «Виступцем тихо йду», «Пociю я рожу, поставлю сторожу», «Бувайте здоровi, шляхи та дороги» и другие…
Так Леся и не заметила, что проехали уже полдороги — переправились через речку Смолку и остановились у какой-то хаты — то ли корчмы, то ли почтовой станции, — одиноко приютившейся у дороги.
На следующий день после обеда шепетовский почтовый поезд приближался к Киеву. Вот за окном промелькнул разъезд Пост-Волынский, Косачи начали готовиться к выходу. Не успели Михась и Леся сойти с подножки вагона, как оказались в крепких объятиях своего дяди. Драгоманов поздоровался со старшими и обратился к маленьким Косачам:
— Расскажите мне, Мишелосие, понравился ли вам железный конь?
— А мы больше уж не Мишелосие, — с обидой в голосе возразил Михась. — Мы разделились на имена: теперь нет Лоси, а есть Леся, и я не Миша, а Михась…
— Отчего же вдруг?
— На рождество у нас гостил мальчишка, который очень гордился своим рыжим хромым жеребенком, а мальчишка выговорить «лоша»[1] не мог и говорил «лося»… Очень это сердило Лесю, и она упросила маму, чтобы ее называли по-настоящему…
Во время этого рассказа Леся чувствовала себя как-то неуверенно и, только увидев, что дядя Михаил приветливо улыбается, поняла, что он одобряет ее. И уже без тени смущения начала рассматривать дядю: стройный, высокий, с длинными темно-русыми волосами и такими же усами и бородой, он оживленно о чем-то говорил с мамой.
Поднялись на виадук, соединяющий платформу, привокзальные улицы и площадь. Отсюда, сверху, открылась великолепная панорама. Наверное, каждый, кто впервые видел Киев с этой точки, на всю жизнь запомнил его. Яркое весеннее солнце не спеша клонилось к горизонту. Косые лучи ласкали золотые церковные и монастырские купола, плотным кольцом окаймлявшие город. Тысячи окон ослепляли отраженными лучами — яркими снопами света, сливавшимися в одно огненное небесное море над древним городом. Пораженные этим зрелищем, все остановились, будучи не в силах оторваться от него, вырваться из плена нахлынувших чувств…
Спустя несколько минут лошади звонко цокали копытами по незнакомым улицам. Но Леся ничего не видела и не слышала, перед нею до сих пор буйствовал пожар, полыхало багряное марево. Все вокруг казалось багряным, даже воздух. То, что она увидела с высоты виадука, затмило, стерло давнишнее представление о городе по картинкам маминой книги.
Драгоманов снимал квартиру в районе нового Киева на улице Кузнечной, 36 (ныне ул. Горького). Это была небольшая пристройка из четырех комнат. В одной поместили старших гостей, в другой, где жила Лидочка, — детей. Светлица осталась для друзей и знакомых, которые сейчас, накануне отъезда Драгоманова за границу, приходили очень часто. Хозяевам достался кабинет Михаила Петровича.
_ Этот приезд в Киев принес Лесе много нового. Взрослые предоставили детям полную свободу, и ребята целыми днями бродили по усадьбе. В Киеве было так же просторно и вольготно, как дома. Вокруг сады и левады. Товарищей же намного больше, чем в Новоград-Волынском. Дети очень любили бывать у Житедких, на Мариино-Благовещенской, 55. Украшение их усадьбы — беседка с фигурным парапетов и резными карнизами, из-под которых свисала плетеная решетка.
Солнце все больше торопило весну, и снег быстро таял, очищая все закоулки усадьбы и образуя множество веселых, звонких ручейков. В конце концов они сливались в один, и именно здесь, у «настоящей реки», ежедневно торчали «мореплаватели»: они управляли «кораблями разных стран», отправлявшимися в огромный «океан», разлившийся у соседней усадьбы. Здесь прилаживались мачты и паруса, и корабли, гонимые легким весенним ветерком, уплывали невесть куда, в неведомые дали.
Не менее привлекательными были и качели под старым, кряжистым орехом. Здесь рождалась дружба маленьких Косачей с их ровесниками Житецкими — Гнатком, Павликом, Тарасом, Богданом.
В первый день знакомства Лесе запомнился один курьезный случай. Все дети сидели под орехом и рассматривали картинки в какой-то старой книге. Затем начали состязаться в декламации: по очереди становились на качели (это было своеобразное поощрение «артисту»), раскачивались и громко читали стихи или пели песни. Леся выразительно прочла басню Глебова «Былина», Лида Драгоманова спела игривую песенку на немецком языке, которую она выучила, путешествуя вместе с родителями за границей.
Гнатко выступал первым и теперь вдруг засомневался в своем успехе. Недолго думая он снова забрался на качели и, явно гордясь тем, что недавно выучил молитву «Верую», запел: «Чаю воскресения мертвых…» Проходивший мимо Михаил Петрович остановился и, сдерживая шутливые интонации, сурово предложил певцу:
— Если хочешь чаю, пошел бы в дом и попросил у матери…
Леся слышала, как после дядя упрекал Гнаткова отца за то, что тот учит детей молитвам, воспитывает их в религиозном духе. Вот так когда-то и мать Лесина выговаривала няне за то, что она засоряет детям головы поповскими предрассудками. Хотя Леся и понятия не имела, что это такое, «поповские предрассудки», но ей и в самом деле не нравились тягучие, монотонные изложения житий святых отцов и затворников печерских.
Другое дело — различные истории, легенды, воспоминания, которые слышала Леся от своей матери! Все это из жизни, и все очень интересно, иногда смешно и остроумно, а иногда жутковато и грустно. Правда, здесь, в Киеве, мама находилась обычно в обществе взрослых, которые чаще всего собирались у Лысенко или Старицких. Лишь изредка, когда ей слегка нездоровилось, оставалась дома с детьми. Усаживались вместе на диван и перебирали предания старины. В народных легендах и сказках, в воспоминаниях из истории рода Косачей Ольга Петровна усматривала огромное воспитательное значение.
Ольга Петровна была молода, умна, образованна. Она успела побывать во многих странах Европы и всегда, где только уместно было, выделяла, подчеркивала в своих рассказах стремление народов к свободе, к борьбе за лучшую жизнь простого люда. Ольга Петровна следовала демократическим традициям и в собственной жизни, а систему воспитания строила на основе многовековой народной традиции, не чуждаясь, разумеется, и достижений научной мысли. Она считала: первоначальное обучение детей нужно вести на родном языке, надо воспитывать на обычаях и традициях своего народа. Она сознавала, что при отсутствии школ и книг это задача не из легких, ее осуществление нельзя пустить на самотек.
И в конце концов время подтвердило правильность методов воспитания Ольги Петровны Косач. Она вырастила шестерых детей (двух сыновей и четырех дочерей) честными, полезными обществу гражданами. Не случайно Ольга Петровна частенько любила говорить о том, что ее неизменная мечта — «перелить свою душу и помыслы» в сердца детей.
Подруга Леси — Людмила Старицкая-Черняховская — подчеркивала преимущество воспитания в семье Косачей: «Как дети, которые обучались не в гимназии, а дома, Леся и Михаил были значительно серьезнее и образованнее, нежели мы. Отличались они и языком, и одеждой… Все свидетельствовало о высшем уровне Лесиного образования и вообще о высшем настрое ее души. В то время, кажется, Лесе еще не было 12 лет. Но и в этом возрасте Леся и Михаил были вполне сознательными и убежденными патриотами. Интеллигентная и глубоко убежденная мать умела влиять на души своих детей».
И в этот приезд в Киев, и позже — в семье, среди близких и знакомых, — Леся нередко слышала непонятные ей слова: «Громада», «москвофилы», «украинофилы»… Пройдет немало времени, и будет проделан огромный, кажущийся сегодня невозможным для постоянно борющегося со страшным, коварным недугом человека, поистине титанический труд по накоплению и переработке знаний. Неустанный поиск истины приведет Лесю Украинку уже в зрелом возрасте к изучению произведений научного социализма, и тогда сформируется ее собственное мировоззрение, наиболее ярко и зримо отразившееся в революционной поэзии и публицистике. И тогда все увидят, что как мыслитель Леся Украинка поднялась несравненно выше многих и многих прогрессивных украинских деятелей буржуазно-демократического и буржуазно-либерального толка, для которых в силу их политической, идейной и философской ограниченности существовал лишь один враг — российское самодержавие, одна цель — освобождение украинского слова, украинской культуры от притеснений и ограничений. Панацеей от всех бед, по их разумению, была борьба за достижение буржуазных свобод посредством укрепления и развития земства, принятие либеральной конституции.
Но этот сложный и трудный путь, путь формирования идейных, социальных и политических взглядов выдающейся украинской поэтессы, впереди. А ко времени вынужденной эмиграции Михаила Дратоманова она была еще маленькой девочкой и жила в атмосфере почитания, благоговейного отношения близких и знакомых к своему дяде, к деятельности той самой «Громады», о которой она ничего не знала, да и, естественно, не могла знать.
«Громады» — это культурно-просветительные организация украинской либеральной буржуазии и помещиков, возникшие сразу после отмены крепостного права. Существовали они в 60 — 90-х годах прошлого столетия в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и других городах. Объединяя в своих рядах либерально настроенную интеллигенцию, «громады» вели легальную и нелегальную культурническую работу: издавали на украинском языке научно-популярные книги, организовывали вечерние воскресные школы, кружки по изучению истории и литературы, готовили спектакли для простого народа, собирали народный фольклор, этнографические материалы.
Громадовцы, руководители которых были связаны с русской либеральной буржуазно-помещичьей интеллигенцией, подобно русским либералам, резко отмежевались от революционной демократии, целиком поддерживали реформу 1861 года.
В статье «Гонители земства и Ашшбалы либерализма» В.И. Ленин дал глубокий анализ мировоззрения и политической практики буржуазного либерализма. Вот как, например, оценивает Ленин «вершину революционных устремлений либералов»: «…земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом,
Либералы не поняли и не поддержали движения народников, которое «привело к отчаянной схватке с правительством горстки героев, к борьбе за политическую свободу»[3] они «начинают все с той же «тактичности»: «не раздражать» правительство! добиваться «мирными средствами», каковые мирные средства так блистательно доказали свое ничтожество в 60-ые годы!».[4]
Но тем не менее царское правительство считало опасной даже культурническую работу «громад» и в 1876 году потребовало прекращения их деятельности. Однако кружки не распались, продолжали существовать и в условиях преследования.
Накануне отъезда Драгоманова за границу «Громада» собралась на Подоле, в помещении пивоварни «Общества предпринимателей», где один из ее членов, К. Михальчук, служил бухгалтером. С точки зрения безопасности это было удобное и надежное место: полиция и сыщики сюда почти не заглядывали. А осторожность необходима: ведь кое-кто из «Громады», а среди них и Драгоманов, находятся под строгим надзором полиции.
Надо сказать, что первая половина 70-х годов XIX столетия была относительно благоприятной для развития украинской литературы и культурной жизни. Активизация общественной мысли происходила главным образом в русле национально-освободительного и культурнического движения. Это были времена краеведческой деятельности Киевского отделения Географического общества (1873–1875 гг.), создания и работы Киевского комитета освобождения балканских славян, который собирал средства, посылал отряды добровольцев на помощь болгарам. В журнале «Киевский телеграф» печатались статьи, исследования, фольклорно-этнографические сборники; распространялись маленькие книжечки-мотыльки для народа.
В этой разнообразной деятельности Драгоманову по праву принадлежало одно из первых мест. Его дом стал местом встреч прогрессивных деятелей украинской и российской культуры. Выступления Драгоманова в печати, в частности в «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Знании», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе» и «Киевском телеграфе», а также в галицийских журналах, были посвящены проблемам общественно-политической жизни страны, и это раздражало царское правительство.
М.П. Драгоманов понимал, что «мирным путем» нельзя добиться желаемого, но вместе с тем не принимал революционной борьбы народа как единственного пути и потому выступал против народовольцев, «террористов», а позже и против революционеров-марксистов.
В.И. Ленин, цитируя Драгоманова,[5] поддерживает его тогда, когда он высказывает верные мысли: «Справедливо говорил Драгоманов: «Собственно вполне «мирных способов» у либерализма в России и быть не может, так как всякое заявление об изменении высшего управления у нас запрещено законами. Земские либералы должны были решительно переступить через это запрещение и хоть этим показать свою силу и перед правительством и перед террористами. Так как земские либералы такой силы не показали, то им довелось дожить до намерения правительства уничтожить даже обрезанные уже земские учреждения».[6]
В рассуждениях Драгоманова противоречия? Да. Половинчатость? Да. Но во взглядах и общественно-политической деятельности Драгоманова подобных неувязок и расхождений сколько угодно.
На себе, на собственной жизни ему довелось убедиться, что «мирных способов» у либерализма в России быть не может. Именно его выступления в литературных журналах плюс борьба за национальное освобождение Украины повлекли за собой «жесткие меры» со стороны царского правительства.
Позже М. Драгоманов писал в своих «Австро-русских воспоминаниях»:
«Уже в конце лета 1874 года, когда пошли обыски и аресты сотен людей, примущественно «народников-социалистов», дня через два после окончания археологического съезда зашел я невзначай в кафе на Крещатике; сижу, читаю газету. Входит проф. Леже,[7] внимательно смотрит на меня, а потом и говорит по-итальянски:
— Вас не арестовали?
— Как видите, — отвечаю.
— А мне говорили, что вы уже в заключении.
— Кто?
Не сказал. По пути захожу в университет, сижу в профессорской аудитории. Входит один профессор-натуралист, слегка смахивающий на гоголевского Ноздрева, останавливается у порога и крестится:
— Свят, свят, свят! Драгоманов, откуда вы? Из-под ареста?
— Да что вы! Кто это вам сказал?
— Я слышал, что арестован один профессор-филолог, вот и подумал: это вы… Еще говорили, что он имеет связи с галичанами.
— И я слышал нечто подобное, — отвечаю, — но подумал о другом…
— О ком же? — сразу же откликнулось несколько человек.
— О Гогоцком, — говорю. (Гогоцкий, между прочим, давно был связан с галицийскими «славянофилами», и ему была прислана телеграмма, будто на митинге в Галиции я выступил с речью о том, чтобы отделить Украину от России и присоединить к Польше). Услышав имя Гогоцкого (пользовавшегося репутацией доносчика. — А.К.), профессорская аудитория взорвалась хохотом, как на гомеровском Олимпе.
— И я слышал о вас то же самое, — шепнул мне один юрист, когда мы вместе выходили из университета. — Вы должны остерегаться… Это один из видов доноса, распустить слух, что кто-то уже арестован».
«Нет дыма без огня» — коварный смысл этой поговорки ощутил Драгоманов позже. Царское правительство, а пуще всего министр народного просвещения Дмитрий Толстой не обходили своим вниманием доцента Киевского университета, хорошо помнили его критические статьи, которые в своей совокупности отнюдь не свидетельствовали о лояльности. К тому же министр имел и личную неприязнь к Драгоманову, который в очерке «Восточная политика Германии и обрусение» беспощадно высмеял, разбил вдребезги толстовскую «классическую» систему образования», закрывающую дверь перед простым народом.
Весной 1875 года, когда на Драгоманова обрушилась целая серия доносов из Киева и Львова — будто он и революционер, и сепаратист, и бакунинско-польский агент, — его вызвал попечитель Киевского округа Антонович и объявил, что министр требует его отставки с должности приват-доцента Киевского университета. Драгоманов отказался подать прошение об отставке, ибо это явилось бы публичным признанием его вины.
Летом, находясь в Галиции и Венгрии, Драгоманов был недостаточно осмотрителен в частных разговорах. Не успел он возвратиться домой, как в Петербург полетел донос с обвинением его в агитационных антирусских выступлениях на народных митингах в Галиции. Теперь, как говорится, дело было сделано. Драгоманову запретили преподавание в Южнорусских университетах (Киевском, Одесском, Харьковском) и 7 сентября освободили по третьему пункту, то есть без права поступления на государственную службу в системе народного образования. И еще: строгий надзор полиции.
Что же теперь? Может, и впрямь согласиться на поступившее в это время предложение пойти работать коммерческим директором транспортной конторы на Нижней Волге? Или принять приглашение Суворина и стать политическим обозревателем по вопросам международной жизни в монархическом «Новом времени»?
Ни то, ни другое не подходило Драгоманову. И тогда-то родилась мысль о заграничном издательском центре «Громады», созданием которого занялся бы Драгоманов. Были собраны средства, и в марте 1876 года он отправился в Швейцарию.
В эмиграции Драгоманов продолжал публицистическую деятельность, страстно обличал политику царизма и в то же время не воспринимал теории классовой борьбы, критиковал народовольцев. В борьбе с царским самодержавием по-прежнему считал опорой, главной силой земское движение, редактировал журнал «Вольное слово», который объявил себя органом земской оппозиции.
«В конце концов, — писал сам Драгоманов в 1888 г., -…опыт издания земского органа в виде «Вольного Слова» нельзя признать удачным, хотя бы уже потому, что собственно земские материалы стали поступать в редакцию правильно только с конца 1882 г., а в мае 1883 г. издание было уже прекращено». Приведя эту цитату, В.И. Ленин заключает: «Неудача либерального органа явилась естественным результатом слабости либерального движения».[8]
Как уже упоминалось ранее, В.И. Ленин неоднократно обращался к трудам Драгоманова. Чем объяснить такое пристальное внимание к идеям Драгоманова и его деятельности? Весьма определенный ответ на эти вопросы содержится в ленинских работах: «В интересах политической борьбы мы должны поддерживать всякую оппозицию гнету самодержавия, по какому бы поводу и в каком бы общественном слое она ни проявлялась. Для нас далеко не безразлична поэтому оппозиция нашей либеральной буржуазии вообще и наших земцев в частности. Сумеют либералы сорганизоваться в нелегальную партию, — тем лучше, мы будем приветствовать рост политического самосознания в имущих классах, мы будем поддерживать их требования, мы постараемся, чтобы деятельность либералов и социал-демократов взаимно пополняла друг друга».[9]
Дальнейший ход общественного развития показал, что либералы не превратились в реальную угрожающую самодержавию силу. Ибо большинство из них, в том числе и Драгоманов, так и не смогли «освободиться от самой, казалось бы, несостоятельной теоретически и самой живучей практически иллюзии, будто возможно еще парламентерство с русским самодержавием, будто какое-нибудь земство есть зародыш конституции…».[10]
Надеждам Драгоманова на то, что удастся завоевать политические свободы без революции, без вооруженной борьбы, что самодержавие развалится само собой, не суждено сбыться. Шли годы, десятилетия, иллюзии рассеивались. А Драгоманов так и не возвратился на родную землю.
…За два дня до отъезда, приблизительно 10 марта, в доме Павла Житецкого состоялся прощальный вечер ближайших друзей и родственников Драгоманова. Грустный это был вечер, нет-нет да и подкрадывалась гнетущая мысль: чужая земля, чужие люди, неопределенность дела, за которое брался Драгоманов… Все, кто пришел сюда, любили его за искренность и ум, за веселый нрав, за непоколебимость и решительность. И гордились им, видели в нем исключительные способности политического и общественного деятеля.
Однако перспектива скитаний на чужбине, да еще и без надежного источника средств существования, не очень-то радовала жену Михаила Драгоманова, его верную подругу Людмилу Михайловну. Непривычно было видеть поникшей и опечаленной эту красивую молодую женщину. Даже хозяйка, Варвара Житецкая, неутомимая плясунья, обычно душа компании, на этот раз приуныла: все у нее из рук валится…
Только после того, как Михаил Старицкий прочел за ужином стихотворение, обращенное к Драгоманову, разговор оживился. Микола Лысенко сыграл свой романс на слова Шевченко «Сойдемся ли мы с вами снова?» с посвящением Драгомановым. Романс исполнила Ольга Лысенко.
Казалось, что слова, написанные в каземате сорок лет назад, адресуются всем присутствующим здесь:
Сойдемся ли мы с вами снова?
Или навеки разошлись?
И по степям и дебрям слово
Любви и правды разнесли?
Пускай и так!..
Мать не родную
Пришлось нам уважать — чужую!..
И, отправляясь в путь-дорогу,
Друг другу обещанье дать
Любить свою Украину…
В годы и тяжкие часы невзгоды
Ее в молитвах поминать.
Петр Косач сразу после отъезда Драгоманова возвратился на службу, в Новоград-Волынский. В доме на Кузнечной все переменилось — ни веселой суматохи, ни приветливых гостей. В доме остались женщины и дети.
Ольга Петровна собиралась уладить в Киеве свои дела: раздобыть книги на украинском языке для детей, зайти в издательства — возможно, согласятся выпустить альбом репродукций узоров волынских народных вышивок (последнее время она увлеклась их коллекционированием).
Солнце пригревало все сильнее, и дети целыми днями пропадали во дворе Житецких и в соседних усадьбах. Нередко бывало и так: после обеда Ольга Петровна собирала детвору и отправлялась с нею смотреть интересные уголки старого Киева. Прежде всего побывали на Владимирской горке, увидели памятник великому князю киевскому Владимиру. Ольга Петровна рассказала, что после того, как по принуждению князя киевляне получили крещение и приняли православную веру, языческого бога Перуна сбросили с крутой горы в реку.
Вид на Заднепровье и сам легендарный Днепр, который сейчас напрягал силы, чтобы освободиться от ледяных оков, — все это привело детей в восторг: такого простора, такой дали они не видели и не ощущали еще ни разу. Леся даже растерялась: она крепко вцепилась руками в металлическую сетку невысокой ограды и долго-долго всматривалась в голубую даль.
Когда возвращались домой, остановились у огромного красного дома с высокими колоннами, поддерживающими его почти до самой крыши. Не успела Леся сказать, что она узнала этот красный дом, запомнившийся ей по картинкам из маминого альбома, как бойкий Михась опередил ее:
— Да ведь это университет, где наш отец учился. И дядя Михаил… — Он хотел сказать еще что-то, но помешала Лида — подхватила его за руку и вместе с ним вприпрыжку побежала между колоннами…
В другой раз детей повезли на Печерск, чтобы показать им древние златоверхие церкви и колокольню Лавры. Правда, заходить в пещеры детям не разрешили — Ольга Петровна не видела в этом ничего поучительного.
Так незаметно наступило время возвращаться домой. На вокзале Косачей провожала жена Драгоманова с дочерью, и снова было грустно: все вспомнили отъезд Михаила Петровича за границу.
Паровоз набирал скорость, и вскоре исчезли из виду две печальные женские фигурки на перроне. Поезд спешил на запад, а в купе царили молчание и растерянность. Притихшие, посерьезневшие дети прильнули к окну.
Лесе шел тогда шестой год, и, конечно же, многое из того, что происходило вокруг, еще не было ей понятно. Тем не менее эта поездка в Киев запомнилась надолго. Не раз позже из тайников Лесиной памяти всплывали отдельные слова, минуты, образы этой весны, вплетаясь в ткань беспокойных, тревожных дум.
Прошло три года. Они были насыщены значительными событиями в жизни семейства Косачей. У Леси и Михаила появилась маленькая сестренка Лиля (Ольга). Особенно трогательно относилась к крошке ласковая и чуткая Леся. Сама еще ребенок, она заботилась о девочке так, словно на ней основная ответственность за этого маленького человека.
В ноябре 1878-го Петр Антонович Косач был переведен из Новоград-Волынского на такую же должность в Луцк. Весной туда переехала и вся семья. К тому времени Леся не только выросла, но и окрепла физически, стала смелее и подвижнее. Но по-прежнему ей не доставляли большого удовольствия шумные игры, чрезмерная беготня и суматоха.
Новое место жительства не очень-то приглянулось Лесе. В Новоград-Волынском была огромная усадьба с раскинувшимся до самой реки Случи садом. С другой стороны широкое поле, испещренное желтыми песчаными полосами. За рекой зеленый луг, дальше густой лиственный лес. Правда, здесь тоже есть река, даже полноводнее Случи, — Стырь, но вода в ней не такая прозрачная.
Летом 1878 года в Париже открылась седьмая Всемирная промышленная выставка (первая состоялась в Лондоне в 1851 году), и Косачи решили воспользоваться удобным случаем, чтобы навестить Драгоманова. Дабы не навлечь подозрений российской жандармской службы, не обходящей своим «вниманием» интересующих ее лиц и за границей, Косачи заблаговременно условились встретиться с Драгомановым не в Женеве, где добровольный изгнанник теперь жил постоянно, а в Париже. Драгоманов знал, что его резкие выступления против политики царского правительства вызывают бешеную ярость, и поэтому очень беспокоился о том, чтобы предполагаемая встреча не повредила его дорогим гостям. Тем более что он и сам намеревался приехать в Париж на Международный литературный конгресс. Когда Косачи прибыли, Михаил Петрович уже завершал свою работу и располагал свободным временем. Однако настроение у него было далеко не блестящее.
Международный литературный конгресс был созван под патронатом таких всемирно известных писателей, как Виктор Гюго и Иван Тургенев. Драгоманов решил использовать трибуну и авторитет конгресса для того, чтобы выступить с протестом против возмутительного запрета — в буквальном смысле этого слова — украинской литературы.
Дело в том, что в ответ на выступления прогрессивно настроенных кругов украинской интеллигенции в защиту национальной культуры, после доклада специальной комиссии по расследованию так называемого «украинского движения», Александр II подписал постыдный Эмский указ 1876 года. По этому указу запрещалась деятельность кружков и других организаций, если только здесь разговаривали по-украински. Нельзя было не только писать, публиковать, но даже сочинять украинские песни, драматические произведения. Ставить в театре украинские пьесы также строго воспрещалось. Олена Пчилка рассказывала, как однажды певцу пришлось исполнять народную песню «Дощик, дощик капае дрiбненько» на французском. И смешно и грустно было, когда он пел перед аудиторией…
За несколько дней Драгоманов написал, или, как он сам говорил, «сымпровизировал», брошюру на французском языке: «La Literature ukrainienne proserite par le gouvernement russe».[11]
Первые экземпляры с сопроводительными письмами были посланы в бюро конгресса и лично В. Гюго и И.С. Тургеневу, а затем Драгоманов и сам помчался в Париж с сундуком, наполненным экземплярами этих брошюр и другими книгами собственного сочинения. На швейцарско-французской границе чиновники объявили Драгоманову, что не могут пропустить его без цензурного досмотра книг и едва согласились наложить на сундуке пломбы, с тем чтобы он был осмотрен в Париже. А в Париже оказалось, что сундук отправлен в Берси. Было воскресенье, пришлось ждать до понедельника. Как назло, в сундуке остались не только брошюры, которые Драгоманов рассчитывал раздать членам конгресса в день его торжественного открытия, но и его белье и парадный костюм.
По дороге в Дижон Драгоманов узнал, что уже состоялось предварительное заседание, на котором решено было основное внимание конгресса сосредоточить на разработке проекта международного закона об охране авторской литературной собственности (авторского права) и добиться склонения всех правительств к принятию этого проекта. Больше всех в таком законе были заинтересованы французы, так как их литература переводилась на многие языки, в том числе и на русский, причем в огромном количестве. Проведение в жизнь, в практику межгосударственных отношений закона об охране авторского права сулило, таким образом, немалые прибыли французским писателям, и поэтому они — не все, конечно — старались быть лояльными по отношению к царскому правительству. В этой ситуации вопрос, предлагаемый Драгомановым для включения в повестку дня конгресса, был не совсем уместен. Драгоманов понимал это, но решил не отступать и «выпить до дна чашу, какую судьба пошлет… не огорчаясь, если в ней окажется кисловатенькая микстурка». О том, как развивались события на конгрессе, М. Драгоманов писал позже в книге «Воспоминания о знакомстве с И.С. Тургеневым», изданной в Казани в 1906 году.
«Оставшись в Париже и без брошюр, и без редингота, я, кой-как почистившись и купивши белье, успел добыть в бюро конгресса билет на вход в театр Chatelet, где должно было быть торжественное открытие конгресса речами В. Гюго, И. Тургенева, Ж. Симона и пр., и поместился по возможности в тени, желая вообще держаться в роли зрителя, пока я не добуду экземпляры моей брошюры. Но в первую же четверть часа меня окликнул знакомый русский литератор, потом другой, — и объявили мне, что Тургенев обо мне спрашивал и просил их разыскать меня. Но вот на сцене театра появился учредительный комитет конгресса, среди членов которого нетрудно было узнать знаменитую фигуру Тургенева. О речах французов на этом заседании говорить не буду. Упомяну только о речи В. Гюго, которая представляла собой гимн парижскому универсализму и оканчивалась намеком на необходимость амнистии… В. Гюго никаких радикальных заявлений больше не делал, а только принимал божеские почести и прикладывал свою олимпийскую печать к резолюциям конгресса.
Тургенев говорил, помнится, сейчас после В. Гюго. Очевидно, публичный оратор из нашего романиста был плохой: довольно сконфуженная манера, какой-то писклявый голос, слабый, особенно для его фигуры, да и содержание посредственное…
Русская печать славянофильско-шовинистического направления порядком разбранила Тургенева за эту речь, да и тотчас после заседания, в буфете театра, куда повели меня русские знакомые для представления Тургеневу, некоторые из русских литераторов заметили ему, что он слишком уж много авансов дал французам. «Да ведь они другого языка не понимают, — оправдывался Тургенев, — и никаких иностранных литератур не ценят и не знают». Тут же он рассказал анекдот о том, как В. Гюго в разговоре с ним смешал драмы Шиллера и Гёте.
Относительно моего рапорта конгрессу об украинской литературе у меня с Тургеневым установилось такое соглашение: завтра спозаранку я отправлюсь в Берси, получу свой сундук и к 11 часам привезу свои брошюры Тургеневу, он раздаст их членам конгресса в послеобеденном заседании, а потом мы выберем день, когда Тургенев сделает доклад о моей брошюре, я скажу несколько слов, и, смотря по обстоятельствам, предложена будет резолюция. Надежд на большой успех и Тургенев не имел и заметил мне, что иностранцев на конгрессе мало, а большая часть членов — французы более или менее коммерческого направления, причем молодые романисты, как Доде, Золя и др., отсутствуют.
На другой день в 8 часов я был уже в Берси на таможне, но оказалось, что не только книги, но и платье мое получить не так легко. О книгах чиновники, собравшиеся едва после 9 часов, сказали, что они должны идти на цензуру в министерство внутренних дел…
Конечно, к Тургеневу я не мог и думать ехать. Нашел я его после завтрака в зале заседаний конгресса и рассказал свои невзгоды. Решено было отложить доклад о брошюре до получения ее из министерства вн. дел, а пока я и Тургенев раздавали более симпатичным членам конгресса то небольшое количество экземпляров брошюры, которое я вытребовал из Женевы…
Одним утром я приехал на заседание, в котором председательствовал Тургенев. В зале встретился с Мавро-Маки. Этот итальянец, бывший гарибальдиец, один из вице-президентов конгресса, прочитал мою брошюру, проникся сочувствием к нашему украинскому делу и оказывал мне всяческое внимание и покровительство, хватая меня во время антрактов под руку, представляя более известным членам конгресса и рассказывая, по возможности, содержание моего протеста.
— Тургенев говорил о вашей брошюре, — сказал мне Мавро-Маки.
— Как говорил? Да ведь мы условились, что доклад будет, когда я буду в состоянии раздать членам конгресса брошюру! — говорю я Мавро-Маки, которому была известна история моего сундука.
— Да, говорил. Рассказал содержание ее, добавил от себя сожаление по поводу мер русского правительства, но никакой резолюции не предложил. Тогда я предложил воспроизвести вашу брошюру в полных протоколах конгресса.
Мне оставалось только выразить моему покровителю mille grazzie,[12] а потом, выручивши наконец, и то как-то чудом, свой сундук из канцелярии мак-магонского министерства, раздать мою брошюру членам конгресса, преимущественно иностранцам, и считать, что я еще сравнительно хорошо вышел из не совсем ловкого положения».
Это событие глубоко взволновало Косачей. Хоть и не все получилось так, как задумал Драгоманов, однако конгресс одобрительно воспринял протест и отразил это в своих документах. Пусть не в полную силу, но с трибуны международного масштаба прозвучал призыв встать на защиту культуры, литературы, языка украинского народа.
Благодаря конгрессу и его руководителям, в особенности В. Гюго, И. Тургеневу и Мавро-Маки, брошюра с докладом М. Драгоманова получила значительный резонанс среди прогрессивно настроенной общественности всего мира. Заинтересовался ею и основоположник теории революционной борьбы пролетариата. В личной библиотеке Карла Маркса (ныне находится в Институте марксизма-ленинизма в Москве) сохранился этот доклад с пометками Маркса на полях и многими подчеркиваниями в тексте, в частности в тех местах, где речь идет о Шевченко, Костомарове, Кирилло-Мефодиевском братстве и т. п.
Спустя несколько дней Косачи возвращались домой. Драгоманов решительно высказался против того, чтобы они везли с собой запрещенную литературу, и, как показало ближайшее будущее, был абсолютно прав. Хотя Драгоманов и его родственники не забывали о конспирации, русская полиция встретила Косачей на границе, уже имея донесения о том, что в Париже они общались с «очень опасным деятелем», с другими эмигрантами, что они присутствовали на собраниях с участием князя Кропоткина, Веры Засулич и др.
После тщательного осмотра на границе у полиции не было оснований для предъявления каких-либо претензий. Тем не менее приказом по министерству внутренних дел от 7 ноября 1878 года Косачу предложено было сменить место работы. В приказе не называлась причина, а точнее провинность, и все же очевидным было, что это не что иное, как предупреждение. Так окончилась двенадцатилетняя служба Петра Косача в Новоград-Волынском.
Жили Косачи у самой Стыри, вблизи замка князя Любарта. В те годы Луцк был уездным городком с пятнадцатитысячным населением.
В Луцке, да и во всей округе хорошо знали легенды о верхнем замке, построенном некогда удельным князем Любартом, получившим город в наследство от своего отца — литовского князя Гедимина. Неизвестно, что в этих легендах быль, а что выдумка. И наверное, по этому поводу не очень-то ломали головы те, кто передавал легенды из уст в уста, из поколения в поколение. Легендам верили, ими увлекались.
Маленьким Косачам больше всего нравилась история двенадцати побратимов, которые триста лет назад переправились с противоположного берега Стыри, чтобы вырвать из княжеских когтей возлюбленную своего верного друга. В глухую ночь они переплыли рвы, наполненные водой, преодолели неприступный высокий вал. И только во дворе замка их заметила стража и, вызвав на подмогу отряд рыцарей, окружила. Разгорелась жаркая сеча, но силы были неравны, и побратимам пришлось отступить в верхний круглый зал башни. Отсюда они могли отразить любой натиск.
Старый князь свирепствовал, не находя себе места: разрушать башню — славу древнего княжеского рода — не решался. В конце концов он велел сжечь девушку на костре во дворе замка, на глазах у побратимов, отважившихся на дерзкую попытку освободить ее. Князь знал: не выдержат они, пойдут на верную гибель во имя спасения девушки. Но не удалось князю насладиться воплощением своего адского плана. Смельчак из башни незаметно спустился в темные галереи замка, подкрался к слуге, несшему факел, предназначенный для костра, вырвал этот факел и бросил его в пороховой погреб.
Все замерло, вокруг стало тихо. Из башни, как раскат грома, пронеслось страшное, неотвратимое: «Кара за кару!..» — и взрыв неимоверной силы подбросил в воздух главную башню, расколол ее на куски и обрушил на головы князя и его челяди…
Много лет спустя появился дальний отпрыск рода Любартов и задумал восстановить замок, но ему никогда больше не суждено было ожить, подняться из руин.
Слушала Леся народные легенды и были, и в ее сердце закипали гнев, ненависть к тем, кто силу и могущество свое обращает людям во зло.
Взрослые же почему-то поступают по-другому: снимают шапки и заискивающе кланяются, как увидят пана. И чем он спесивее, чем богаче, тем ниже и старательнее отвешивают ему поклоны. Одним словом, диковина, и все тут!
Но если взрослые вели себя не совсем понятно, то дети в своих играх превращали легенды в действительность. Леся и Михась не отставали от местной детворы в жестоких баталиях, разыгрывавшихся в старом замке. Здесь, под устремившимися ввысь стенами заброшенных башен, собиралась ватага — двенадцать вихрастых побратимов. Думу думали: как одолеть злого врага — жестокого князя. В летнюю пору с утра до вечера цепь за цепью шла ватага на штурм вражеской крепости. Под ударами тяжелого меча падали ниц закованные в железо рыцари, пылали замки, спасались бегством короли, их разгромленное войско. Народ торжествует: свобода, братство!..
На всю жизнь остались в памяти эти детские забавы. И они сеяли в глубоко восприимчивой душе зерна, которые после проросли огненным словом поэзии. На тридцатом году жизни Леся писала, что и теперь иногда минувшее — «моих воспоминаний светлый сад» — встает перед глазами:
Мы во дворе разрушенного замка
Сошлись на вече важно и степенно,
Все гладкие, кудрявые головки…
Мы собрались все вместе, все двенадцать…
Совет держали мы. Союз наш тайный
Закладывали мы, куда совсем
Не получали доступа большие.
Торжественно мы дали обещанье,
Что до конца хранить мы будем тайну.[13]
Видная роль в этих играх принадлежала худенькой, тоненькой, «бледнолицей Жанне д'Арк». Девочка с грозно сверкающими голубыми глазами взбиралась на вал, и юные побратимы слышали ее звонкий голос, наслаждались звучанием чарующих слов: равенство, свобода, братство, родной край… Слова перерастали в песню, и все двенадцать голосов сливались в один:
А песни были «красные» такие,
Каких еще не слышал старый замок
И в дни, когда кровь красная ему
Не раз окрасила седые стены.
«Каленые ножи» в тех песнях были,
А в сердце у певцов была любовь
Ко всем «большим», что малыми считались
На жизненном пиру. Напев летел.
Неумолимое время разбросает вскоре побратимов по белу свету, но некоторые из них — как, например, Маша Быковская и Шура Судовщикова — на всю жизнь останутся друзьями Леси.
В Луцке у детей появились новые обязанности: надо было учиться. Михась и Леся уже читали и писали, они могли часами пересказывать приключения гомеровских героев, но этого, конечно же, было далеко не достаточно. Родители старались дать им довольно широкое и основательное образование: воспитать их в демократическом духе, чтобы дети не выросли чванливыми господами, презирающими свой народ. А для этого надо знать и любить историю своей родины, борьбы за свободу и независимость народа, угнетенного своими и чужеземными вельможами.
Ольга Петровна была хорошим педагогом, тактичным и в разумных пределах требовательным. Но, пожалуй, самой примечательной особенностью воспитания детей являлся высокий тонус литературной и культурной жизни семьи Косачей, а также постоянная, неразрывная связь с жизнью простых людей.
Было решено: в школу детей не посылать, чтобы не подвергать опасности нежелательного общения с детьми из богатых и дворянских семейств и, таким образом, избежать отрицательного влияния. Этот факт, естественно, удивлял окружающих, вызывал у них настороженное отношение к Косачам.
В Луцке по соседству с Косачами жила старая, обедневшая пани. Однажды она поделилась с Ольгой Петровной своими впечатлениями о первом знакомстве с ее детьми: «Как-то проходила я мимо вашего дома. Тогда я еще не знала ваших детей. Смотрю, в саду играют двое — девочка-волынянка, и мальчик в свитке, вышитой по волынскому образцу, постриженный, как и крестьянские дети, просто и коротко. Я удивилась: отчего это в господском саду гуляют крестьянские дети? Прислушалась — о чем они говорят между собой? Девочка вдруг остановилась и обратилась к мальчику: — Чуєш, пiвень спiває?
«Что же это такое? — подумала я про себя. — И говорят по-холопски?» У ворот встретила девушку-служанку. Спрашиваю:
— Чьи дети?
— Наши, — ответила она. — Это дети председателя.
Я еще больше удивилась…»
Когда впоследствии мать напомнила этот эпизод, Леся улыбнулась и сказала:
— Если бы знала, что мои слова «войдут в историю», завела бы разговор о чем-нибудь более интересном, нежели петушиное пение…
— Отчего же, — возразила мать, — и это неплохо. Сразу видно, что ты была ребенком впечатлительным, неравнодушным к звукам, а в петушином пении всегда находили нечто романтичное…
Осуществлять воспитание на родном языке трудно было еще и потому, что украинская литература, как художественная, так и научно-познавательного характера была малочисленной, а по некоторым отраслям знаний и вовсе отсутствовала. Первая украинская грамматика, написанная Павловским, вышла в свет в 1918 году. Издавались маленькие букварики, или, как их еще называли, «грамматки». Чего стоило одно название учебника — «Грамматика малороссийского наречия и проч.».
Заботы об учебной и художественной литературе вдохновили Ольгу Петровну на переводы некоторых произведений на украинский язык, о чем она мечтала и раньше. Она составила книгу «Украинским детям», в которую вошли ее собственные переводы лучших русских и польских писателей. Несколько позже она увлекла этой работой и своих детей, которые к тому времени хорошо овладели как родным, так и русским языком.
Ольга Петровна обратилась также к могучему неиссякаемому источнику — фольклору: к историко-бытовым песням и народным думам, которые, по ее мнению, должны были сыграть важную роль в развитии у детей гуманизма, чувства справедливости. Основным подспорьем в этом смысле явился семитомник Павла Чубинского «Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край (1872–1878)».
Чтобы дети лучше познали жизнь народа, его обычаи, родители вместе с ними нередко забирались (бывало, что и надолго) в глухие, заброшенные деревни в те дни, когда там происходили примечательные события: свадьбы, различные народные обрядовые праздники.
Еще в Новоград-Волынском мать привозила Лесю с братом в село Жаборицу. Мелодичные старинные песни, увлекательные предания и легенды, обрядовые пляски, игры, в которых главными действующими лицами были колдуны, ведьмы и русалки, — все это увлекало, поражало и восхищало детей. Здесь же Леся впервые услыхала предание о лесной русалке (мавке), а также о других сказочных существах, которыми народное воображение щедро наделяло леса, дубравы и озера.
Из Луцка ездили обычно в дальнее село Чекну. Однажды Косачи прожили там насыщенную яркими впечатлениями неделю. Все вместе ходили по крестьянским избам в поисках редких художественных узоров волынской вышивки, чтобы пополнить коллекции Ольги Петровны. Случалось и так, что неожиданно встречались с какой-либо интересной песней, слушали и тотчас же записывали в специальную тетрадку слова. Как-то натолкнулись на целое сокровище: в одном дворе устраивали «обстрижчины».[14] Здесь плясали, пели песни, которые пришлись по сердцу и Лесе: «Женчик-бренчик», «Заинька», «Подоляночка».
По вечерам молодежь собиралась у Максимовой плотины. Косачи спешили к своей знакомой — вдове Устинье, изба которой стояла на пригорке, рядом с плотиной; усаживались на полусгнившее бревно и слушали — то многоголосый хор парней и девчат, то старинные легенды, неисчерпаемое множество которых знала и охотно рассказывала хозяйка.
Самым памятным зрелищем для Леси оказался праздник Ивана Купалы. Сохранившийся еще со времен язычества, не признанный официально церковью, этот праздник не был предан забвению, его всегда ждали с нетерпением. Может быть, потому, что выпадал он на начало лета, когда вокруг все цветет, растет, набирается сил. Бабка Устинья посоветовала пойти в этот день в соседнюю деревушку Горовицу.
Крохотное село вытянулось по обе стороны речки Журавы. С наступлением темноты Косачи услышали гомон — это парни волокли по земле огромную корзину из лозы. Доносилась то ли песня, то ли какой-то причудливый речитатив. Трудно было разобрать слова. Ольга Петровна, Леся и Михась смотрели и ничего не понимали, пока наконец девочка из соседнего двора объяснила:
— Парни где-то стащили корзину, волокут ее по улице, а собравшиеся на дороге люди делают им «перейму» — устраивают засаду. Видите посреди улицы поленья, щепки, хворост. Все это пригодится для «купальского», костра. Парни наполнят корзину поленьями и щепками, понесут ее к реке и на берегу разведут костер. Пойдемте, сами все увидите…
Поспешили к реке, там уже собралось едва ли не все село. Парни бросили поленья и сухой хворост в корзину — пусть пламя взметнется повыше. Вот уже первые огненные языки вырвались на волю. Тем временем девушки хлопотали вокруг Купалы: украшали березку венками, лентами, маленькими, заранее припасенными для этого случая свечами.
Наконец костер запылал в полную силу, и в преддверии чего-то необычного всех охватило радостное возбуждение. Начиналась настоящая песенная дуэль между двумя «враждующими лагерями» — девчат и парней. Правда, воинственность противников была напускной, как бы ни старались скрыть это обе стороны…
Ирония, насмешка, вызов — все пошло в ход. Девчата шумно атаковали «врагов», называя их «вояками» против… лягушек. Парни же в долгу не оставались:
Ой, летiв черчик буйним вiтром,
Не чули дiвки зозулi лiтом,
А як почули, злякалися —
Та й пiд мiсточок сховалися.
Снова выпад девичьего хора, наконец парни не выдерживают и порываются захватить Купалу. Но не тут-то было: девчата тесным кольцом окружили Купалу и продолжают хлестать частушками:
Ой, на Купала вогонь горить,
А у наших хлопцiв живiт болить…
Соревнование в шутках и прибаутках длилось долго, пока парням не удалось выхватить деревцо из девичьего круга и бросить его в речку…
Вскоре все притихло. Девчата собрали венки и направились вдоль реки — там они будут гадать. Бросит девушка сразу два венка в реку и с трепетом и надеждой всматривается: сойдутся ли они на воде? Если да, быть ей вместе со своим суженым…
Вскоре пошли домой и Косачи. Парни же остались на месте празднества: начали прыгать через пылающий костер в воду.
Гостям постелили на душистом сене под просторным навесом. Уже сквозь сон Леся слышала, как пели парни, возвращаясь в село:
Ой, на Купала-Купалочка
Не виспалась Наталочка…
В Горовице Ольга Петровна случайно обнаружила в одной избе лоскут: на нем были вышиты знаки Войска Запорожского. Нет сомнения, это обрывок знамени запорожцев. Начали расспрашивать хозяйку, но старая женщина запамятовала, откуда в ее сундуке появился этот лоскут. Все же удалось установить, что в деревне немало потомков участников Берестецкой битвы, что раньше здесь можно было встретить много старинных вещей, имеющих отношение к военному снаряжению.
От Горовицы до Берестечка — рукой подать. К тому же Ольга Петровна давно лелеяла мечту побывать на памятном историческом месте и, самое главное, детям показать — пусть знают и помнят эту страницу освободительной борьбы своего народа. А тут удобный случай. Когда-то еще подвернется… Ехать немедля. Завтра!
Добирались окольным путем. Торфянистая почва, размытая дождями, превратила дорогу в сплошное месиво. Измученные лошади, выбиваясь из сил, медленно тащили телегу. Беспрерывно сеял мелкий дождь. Серые, мутные облака напоминали осень.
В Берестечко прибыли только вечером. К счастью, при грязном кабачке нашлась свободная комната, которую хозяин расхваливал на все лады…
Под утро дождь прекратился. Тучи разорванными клочьями плыли низко над самой равниной, по которой лениво, почти не шевелясь, несла свои воды медлительная Стырь. В нескольких километрах от моста телега остановилась, свернув на обочину. Косачи взошли на самый высокий среди разбросанных вокруг холмов. На северо-западе, там, где когда-то безраздельно властвовал луг, изрезанный непроходимыми болотами, теперь ютились одна подле другой серые полоски крестьянских наделов. В оврагах зеленели ивовые кустарники — они пытались вскарабкаться даже на песчаные холмы.
Ольга Петровна остановилась и задумчиво глядела вдаль. Будто ждала: вот-вот под напором ветра напрочь рассеются тучи, заколышутся знамена и красные хоругви над многолюдными колоннами вооруженных повстанцев. Могучее «слава!» прогремит над землей, некогда так щедро политой кровью… Ольга Петровна вспомнила шевченковские строки и неожиданно для самой себя повторила:
Отчего ты почернело,
Зеленое поле?
«Почернело я от крови
За вольную волю.
Вкруг местечка Берестечка
На четыре мили
Меня хлопцы-запорожцы
Трупами покрыли…»
Леся хотела попросить, чтобы мать говорила громче, но, заметив блестевшие на ее глазах слезы, только прижалась к ней.
Немного помолчав, Ольга Петровна рассказала детям о трагедии, разыгравшейся здесь в июне 1651 года:
— Холм, на котором мы стоим, и местность вокруг него назвали Журалиха, что значит место печали и горя.
Если встать лицом к Берестечку, то справа и слева от него расположилось казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким. Здесь, кроме казаков, поднявшиеся на борьбу с врагом вооруженные крестьяне со всех концов Украины. В тылу, на возвышенности, где начинался тогда лес, раскинул свой шатер союзник гетмана — татарский хан Ислам-Гирей III. На противоположном берегу Стыри, у самого Берестечка, остановились войска польского короля Яна Казимира. Под его началом были и наемники. Отряды немецких рейтар, швейцарских стрелков, литовских пехотинцев. К востоку — непроходимые болота, речка Пляшевка, вы ее видите…
Ольга Петровна рассказывала о том, как развивались события, как после нескольких столкновений с войсками запорожцев король засомневался в успехе. Тогда шляхтичи подговорили татарского хана к измене, и татары ушли из-под Берестечка, пленив к тому же Богдана Хмельницкого. Обезглавленное казацкое войско приуныло и растерялось, а поляки обошли его с тыла, перекрыв единственный путь отхода — узенькую мощеную дорогу, соединявшую Журалиху с сушей на востоке. Основные силы поляков переправились через Стырь и, таким образом, окружили казацкий лагерь. Десять дней казаки и крестьяне, руководимые полковниками Иваном Богуном, Филоном Джалалеем и Мартыном Пушкарем, стойко оборонялись. 28 июня намеревались вырваться из окружения, но этому воспрепятствовали проливные дожди.
Тем временем шляхтичи подослали в казацкий лагерь подстрекателей, распространявших слухи об измене Хмельницкого: вы, мол, стоите здесь, а Хмельницкий вместе с ханом разоряет и грабит ваши дома, в татарскую кабалу продает жен и детей. Расползлись слухи, будто старшины задумали сбежать, бросив крестьян и казаков на произвол судьбы, на поругание шляхте… Это и явилось главной причиной катастрофы. 30 июня Иван Богун с отрядом отважных казаков предпринял отчаянную попытку прорвать вражеское кольцо и оттеснить поляков. Но в этот момент кто-то, возможно подосланный врагом лазутчик, закричал: «Богун бежит!» Поднялась паника: все бросились в разные стороны — куда глаза глядят.
Мощеная дорога, проложенная казаками через болото, была узка, и многие беглецы падали в водянистую тину. Богун, поняв, что произошло, возвратился в лагерь, чтобы успокоить, навести хоть какой-нибудь порядок, но уже ничего не мог изменить — его отряд также увяз в болоте. Польское войско ринулось грабить казацкий лагерь.
— Две тысячи казаков отступили на холм, на котором мы сейчас стоим, — продолжала Ольга Петровна, — и, не имея надежды на спасение, решили стоять насмерть — пусть дорогой ценой достанется врагу их жизнь.
Храбрость и мужество казаков поразили даже врагов. Когда уже совсем невмоготу стало, бросились в реку Пляшевку и в болото. В одном месте собралось сотни три казаков — из тех, кто прикрывал отход главных сил. Враги окружили, наседают, пытаются сломить их дух. По велению короля казакам обещают, что им будет дарована жизнь, если они прекратят сопротивление. Казаки с презрением отказались — все, как один, поклялись погибнуть в бою, с оружием в руках. Они выворачивали карманы и бросали золотые талеры и дукаты в воду, только бы не достались врагу.
Поляки вынуждены были вести жестокий бой с каждым казаком, и каждый казак сражался до последнего вздоха. Наконец остался один. Этот рыцарь на протяжении трех часов боролся против всего польского войска. Он прикрылся чудом оказавшейся рядом лодкой и отстреливался до тех пор, пока не иссякли запасы пороха. А затем, высоко подняв над головой последнее оружие — косу, продолжал отбиваться от врагов.
Все польское войско и его величество король, наблюдавшие этот неравный бой, были изумлены. Потрясенный Ян Казимир обратился к казаку со словами: «Дарю жизнь тебе, отважный рыцарь!» Но казак, собрав последние силы, ответил коротко: «Не хочу я вашей милости. Хочу умереть на поле боя…» Его снова окружили, и немецкий рейтар, подкравшись сзади, сразил богатыря ударом копья…
Давно закончила свой печальный рассказ мать, а дети, охваченные скорбью, словно окаменели. Чудилось им, что стоят они не на земле, а на костях своих прадедов. Им боязно было взглянуть вокруг, туда, где
На четыре мили
Меня хлопщы-запорожцы
Трупами покрыли…
Возвращались домой. Дети расспрашивали:
— Это правда, что все казацкое войско погибло?
— Нет, не все. Здесь положили головы тридцать тысяч запорожцев. Большая же часть войска ушла из окружения, но, разрозненная и почти безоружная, не могла сопротивляться.
— А кто был тот последний казак?
— Говорят в народе — Иван Нечай… На самом же деле никто этого не знает.
— А что было дальше с Богданом Хмельницким?
— Казаки выкупили его из татарского плена, и тогда он вынужден был просить мира у польского короля…
Где-то уже вдалеке от Журалихи Косачи остановились у поля, где возился со своей лошадью пожилой крестьянин.
— Бог в помощь, пани! — ответил он на приветствие. — Куда путь держите, добрые люди?
— Возвращаемся в Чекну, а потом домой, в Луцк. Давным-давно, говорят, была здесь жестокая битва казаков с ляхами.
— Что было, то было. Людей погибло тьма. Когда-то вокруг здесь непроходимые болота были. Кого топь засосала, кого пуля на дно проводила… Теперь, как видите, болото высохло, везде перепахано.
— Вы знаете, за что они погибли?
— А кто ведает?.. Говорят, за волю. И что же, нечестивцев изгнали, а нужда осталась.
— А воля?
— Воля… Где она? Когда я еще молодым был, задумали люди помянуть души погибших. Как раз тогда сто или двести лет прошло — забыл, не помню. Много народу собралось, все соседние села пришли, Даже из Почаева были…
— И чем же закончилось? — нетерпеливо прервала Ольга Петровна.
— А тем, что из Дубно, то ли из Луцка прискакали какие-то господа с урядниками и запретили поминки. Люди пошумели и разошлись. Вот вам и воля…
— А может, вам случалось находить что-либо старинное, к той битве относящееся?
— Чего ж… случалось. Еще и теперь, бывает, возьмет плуг поглубже — когда под коноплю или просо пашешь, — так даже скрежещет по костям — на лемехе зазубрины остаются. Трудно пахать по костям…
«Трудно пахать по костям» — эти слова не давали покоя Лесе, врезались в душу. Она сотый раз повторяла их. Даже когда кочковатая дорога безжалостно подбрасывала телегу… «Трудно пахать»…
В конце концов спросила:
— А почему пашут по костям, скажи, мама?
— Нужда и голод заставляют. Надо же людям где-то сеять.
— А прежде сеяли где?
— Те земли паны забрали.
Выехали на столбовую дорогу. Лошади прибавили ходу. Там, где небо сливается с землей, нужда и голод пашут поля, плуг выворачивает белые кости. Они покрыли поле от горизонта до горизонта, и никому до этого нет дела, и ни у кого не болит душа. Только ветер над ними свищет, только седые тучи над ними рыдают. Да слышен стон хлебороба:
— Трудно пахать по костям…
Ольга Петровна радовалась тому, что ее заботы о всестороннем развитии Леси и Михася не были напрасными. Сообразительность, находчивость молодой матери-педагога дополнялись эрудицией отца. Петр Антонович хорошо знал мировую литературу, а в русской души не чаял и любовь к ней старался привить детям. Вечера, когда он читал вслух сочинения Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, были праздником для детей. Особенно радовались они, когда отец доставал с полки томик Салтыкова-Щедрина: очень уж мастерски расшифровывал он все щедринские аллегории, «иносказания». Петр Антонович мог наизусть — от первой до последней строки — прочитать «Руслана и Людмилу». Это захватывало и его самого, и детей.
Обладая феноменальной памятью, Петр Антонович часами рассказывал увлекательные и поучительные приключения, различные истории из собственной жизни, из жизни своих друзей и знакомых, среди которых были писатели, ученые, артисты, чиновники и т. п. Атмосфера в семье, огромное внимание родителей, не жалевших времени для общения с детьми, — все это объясняет тот факт, что уже в десять-двенадцать лет они приобрели определенные знания в области гуманитарных наук, в частности истории и литературы. В этой связи весьма характерный эпизод приведен в воспоминаниях Олены Пчилки:
«Помню такой случай. Как-то заехал в Луцк историк Илловайский и попросил исправника, чтобы тот познакомил его с кем-нибудь, кто знает Украину и смог бы показать Луцк. Потому-то исправник и привел его в наш дом. Илловайский обратился ко мне: «Будьте добры, покажите мне украинскую хату. Мне очень досадно, что я проехал всю Украину, завтра уезжаю в Москву и не видал простой украинской хаты — белой». Удовлетворить это желание было легко. Сначала я повела его в простую мещанскую хату, там он увидел белые стены украинской хаты. Хозяева, правда, слегка удивились тому, как гость поглаживал рукой стену, приговаривая: «Да, белая стена, совершенно белая». Ведь в России избы рубленые, и очень скоро стена темнеет…
Илловайский благодарил меня за прогулку по Луцку и его окраинам и, между прочим, разговорился с детьми. Как-то сразу же речь зашла о Галицкой Руси. Разговор получился интересным настолько, что Илловайский удивился…
— О, это у вас растет какой-то дока. Посмотрите, как он знает украинскую историю! — воскликнул ученый.
— Не то что дока, а очень люблю читать книги по истории, — парировал Михась.
Имея полную свободу в выборе товарищей и способов развлечений, Леся не ограничивалась играми с ровесниками — у нее были привязанности и посерьезнее. Уже в пятилетнем возрасте возникло влечение к музыке, и мать приобрела для нее фортепиано, которое Леся берегла всю жизнь, как драгоценное сокровище. Леся не просто увлекалась музыкой — природа одарила ее большим талантом. И кто знает, если бы болезнь не покалечила руку, то, возможно, композитором Лесей Косач Украина гордилась бы ничуть не меньше, чем Лесей Украинкой — поэтессой.
Любовь к органной музыке частенько приводила Лесю в Луцкий кафедральный костел, где органистом в ту пору был талантливый музыкант, которого за какую-то провинность изгнали из довольно известной капеллы Краковского монастыря святых бернардинцев. Жутковато было девочке пробираться на кафедру длинными темными галереями, куда едва пробивались серые, тусклые полоски света, а по сторонам, в нишах, неподвижно застыли живые монахи: старые, истощенные, строгие. Леся уговаривала себя не смотреть на них, как и на огромные раскрашенные статуи святых, одетых как живые люди. Несмотря ни на что, желание послушать музыку побеждало, и детская фигурка, дрожа от страха и отвращения, проходила к месту службы.
Летом 1880 года к Косачам приехала со своими Детьми Лесина тетка — Александра Антоновна. Тетя Саша была ласковой и душевной женщиной. С первого знакомства между ней и Лесей возникли взаимно теплые, более того, нежные отношения. Тетя Саша, правда, не имела специального образования, однако играла хорошо и была для Леси первым неофициальным преподавателем музыки.
Была у Петра Антоновича еще одна сестра — Елена. Она закончила пансионат, затем училась на медицинских курсах в Петербурге. Молоденькая, живая, неутомимая Елена Антоновна пришлась Лесе по душе своим веселым нравом, еще когда гостила у них в Новоград-Волынском. С тех пор Леся, а за нею и все домашние стали называть ее «тетенька Еля».
Конечно, тетенька Еля никогда не могла предположить, что именно благодаря ей родилось первое стихотворение Леси Украинки. Собственно, тогда еще не было Украинки, а была просто Леся, девочка Леся.
В связи с покушением на петербургского шефа жандармов Дрентельна (1879) Елена Косач была арестована и по распоряжению министра внутренних дел сослана в Олонецкую губернию, а спустя два года, после убийства Александра II, еще дальше — в Сибирь.
Лесю потрясла эта весть. Она стала серьезнее, молчаливее. А где-то в 1879 году (либо в начале следующего года) это настроение выплеснулось в поэтические строки стихотворения «Надежда»:
Ни доли, ни воли мне жизнь не дала,
Одна лишь, одна мне надежда мила:
Увидеть опять Украину мою
И все, что мне любо в родимом краю,
На Днепр голубой поглядеть еще раз,
А там все равно — пусть умру хоть сейчас…
В этих наивных, но исполненных живого чувства стихах Леся говорит о тоске ссыльной по родной Украине. «Надежда» — это и реакция на печальное событие, и вместе с тем первый проблеск несомненной поэтической одаренности девятилетней девочки. Леся с раннего детства знала и любила свою «тетеньку Елю», которая увлекала не играми и сказками (единственное, что она умела, — плести венки), а откровенным, правдивым словом.
Пройдет двадцать лет, и Леся вспомнит такую сценку. Сидят они в саду. С каштанов осыпается белый цвет. Лесе шел седьмой год, а тетеньке — двадцатый. Старшая плетет венок, а младшая подает ей листья, цветы и травы и слушает. С уст срываются слова — то грустные и скорбные, как слезы, о замученных друзьях, — то страстные, гневные, как грозный приговор всем, кто пролил кровь…
Шумел зеленый сад, а голос пел любимый
О воле золотой весенним днем,
И ряст в венке цвел красотою дивной,
И песни золотым лились дождем…
Шли годы, десятилетия. Давно позабыла эти минуты та, которая говорила «такие красные, неосторожные слова» («Кто помнит о венках, что в юности сплетал…»). «И я забыла их, не вспомню даже слова, — скажет Леся. — Лишь цвет их, звучанье их нежданное мне снова волнует кровь теперь, как и тогда».
Осенью в доме Косачей поселилась Анна Судовщикова с дочерью. Ровесница и подружка Ольги Петровны по пансионату, она слыла девицей романтического и слегка экзальтированного склада. По окончании пансионата осталась преподавать в младших классах. Тогда же обручилась с преподавателем русского языка Евгением Петровичем Судовщиковым.
Однажды на вечеринке зашел разговор о недавнем покушении на царя, которое совершил «злоумышленник» Каракозов. Собеседники высказывались верноподданнически. Один из преподавателей даже слезу обронил и долго-долго сморкался, изо всех сил прославляя костромского шапочника Комиссарова, который спас царя. Экспансивный Евгений Судовщиков не удержался (что с ним случалось не раз) и с возмущением выпалил целую антиправительственную тираду, которая заканчивалась так:
— Побей его гром! Что угодно, лишь бы не царь!
Через два дня Судовщикова освободили от должности преподавателя пансионата. Не задержалось и распоряжение генерал-губернатора о выселении в административном порядке. Аня вышла замуж и вместе с супругом поехала на Север. В марте 1867 года у них родилась дочь Александра. В том же году от простуды умер Евгений. Осиротевшие дочь с матерью возвратились на Украину. Какое-то время жили в Пирятинском уезде, под Оржицей, находили пристанище у своих друзей. Поначалу у Драгомановых в Киеве, а когда ребенок немного подрос, Анна Ивановна устроилась воспитательницей в одной семье.
Часто бывала у Косачей летом, а сейчас приехала и на зиму.
Несмотря на то, что Шура Судовщикова была старше Михася и Леси, дети крепко подружились. Леся гордилась подружкой: ведь она родилась на Севере, о котором Леся знала только из книг или рассказов взрослых. Уже то, что ссылкой в те края карали смелых, бесстрашных людей, вызывало уважение к Северу, а воображение рисовало суровые, страшные картины. Снега. Непроходимые снега. Глухая тайга. Без неба и горизонта. Бесконечные реки, закованные льдом и заметенные снегом. Везде снег, снег, снег. Короткие, сумрачные дни и длинные, как годы, ночи. Холод и голод. Истощенные фигуры тенями бредут в степи, заброшенной и забытой богом и людьми.
Теперь — в рассказах Анны Ивановны, которая любила и умела красочно описывать Север, — эти картины приобретали облик реальной жизни.
В такой атмосфере все больше крепла дружба юных Косачей и Александры Судовщиковой — будущей украинской писательницы, известной под псевдонимом Грицько Григоренко. Сердечные приятельские отношения скреплены были позже и родственными узами.
Лето 1880 года выдалось чрезвычайно жарким и сухим и затянулось едва ли не до середины осени. Повторно цвели каштаны, белая акация и вишни. В сентябре и дети и взрослые купались в Стыри.
Еще в Новоград-Волынском Леся немного пробовала плавать, по-настоящему же научилась только здесь. С помощью тети Саши, плававшей «как рыба», Леся добилась этим летом немалых успехов: даже Михась не поспевал за нею. Ольга Петровна облегченно вздохнула: ее радовало то, что девочка «выровнялась», окрепла и уже не отличалась своим здоровьем от сверстников. Мать давно почувствовала в ней духовную одаренность и была убеждена в том, что растет человек талантливый. Тревожило только ее самочувствие, состояние здоровья. А теперь можно быть спокойной…
Жаркое лето внезапно сменила зима, преждевременно вступившая в свои права. Мало кто из пожилых людей помнил такие затяжные метели… Узенькие улицы Луцка утонули в сугробах — ни пройти, ни проехать. Лишь в преддверии рождества прекратило вьюжить и мести. Зато ударили лютые морозы: иной день детям и на улицу запрещали выходить.
Лесе не страшны были морозы: бабушка Елизавета прислала ей из Гадяча теплые валенки и варежки, вязаную красную шапочку да шарф такого же цвета. Все завидовали. И не только одежде: и санки у Леси были намного лучше, чем у Михася и Шуры. Таких не было ни у кого из тех, кто собирался на горке между часовней святого Себастьяна и Коленом. Справедливости ради надо сказать, что владелицей великолепных саней Леся оказалась не случайно. В минувшем году она познакомилась и подружилась с соседской девочкой. Отец Марийки работал на единственном в Луцке заводе скобяных изделий, мать хозяйничала в доме, воспитывала детей.
Девочки ходили друг к другу в гости. Оказалось, что Марийка — способная девочка, но, к сожалению, не обучена грамоте. Тогда-то Леся и решила помочь подружке осилить эту премудрость. Уже через год девочка неплохо читала, писала. Одновременно Леся обучала Марийку и русскому языку, чтобы в дальнейшем она смогла посещать школу (в городе не было ни одной школы с преподаванием на украинском языке).
В награду за Лесины старания отец Марийки изготовил у себя на заводе эти санки и с первым снегом торжественно вручил их маленькой учительнице. Металлические, с деревянным резным сиденьем, полозья спереди красиво согнуты и закручены в колечки, а сзади приделаны планки, чтобы желающие могли прокатиться стоя… Каждая деталь тщательно обработана и покрашена. Полозья отшлифованы, блестят на солнце, как зеркало. Птицей летели эти санки с горы до самой реки…
После колядок морозы поутихли, на крещенье ударили с новой силой.
Леся с Шурой отправились к реке: слышали, что в этот день будут «святить воду». Этот обряд с детства занимал Лесю. Во время крещения выпускают в небо голубей, палят из ружей, умываются ледяной водой, после того как батюшка обрызгает ее кропилом.
Еще сверху, издали был виден переливающийся в лучах холодного солнца всеми цветами радуги высокий ледяной крест. Людей пока что почти не было, лишь несколько человек чем-то занимались у зияющей посреди реки проруби. Только приблизились Леся и Шура к ледяному кресту, как загудел колокол — громко, весело, призывно. В то же мгновение широко распахнулись ворота собора, и громкая многолюдная толпа повалила по заснеженному косогору.
Вскоре толпа со всех сторон окружила крест, и Леся с Шурой оказались в самом центре. Все бы хорошо, но где-то посреди обряда под тяжестью массы людей лед начал незаметно оседать, вода выступила над прорубью и потихоньку заливала поверхность льда. Толпа всколыхнулась, находившиеся в центре попытались отступить. Но тщетно! Сзади напирали с такой силой, что нечего было и думать вырваться из этого плена. Лесины валенки промокли насквозь, ледяная вода проникла внутрь, и ноги окоченели от холода. Люди стоят плотной стеной — ни побегать, ни попрыгать, чтобы согреться…
Наконец водосвят окончился, и девочки бросились бежать домой. Но у Леси валенки оледенели так, что она едва двигалась.
Последствия этого неприятного события были поистине трагическими.
В промежутке, когда боли в ноге прекращались, начался туберкулез кости левой руки, вылеченный после операции осенью 1883 года. Затем снова заболела нога. После операции 1899 года, как только зажила нога, туберкулез перебросился на легкие. После лечения легких в Карпатах и в Италии болезнь поразила почки. Тогда-то Леся и сказала, что уже 30 лет ведет войну с туберкулезом».
В сентябре 1881 года Петр Антонович отвез жену с детьми в Киев и снял для них двухкомнатную квартиру на Стрелецкой улице. Настало время обучать детей по определенной программе, и было решено, что мать останется с ребятами, подыщет для них студентов-репетиторов по различным предметам. Занятия будут проходить дома под ее наблюдением.
Так закончилось более чем двухлетнее пребывание Леси в Луцке, который она уже успела полюбить. Непродолжительный срок, но весьма значительный.
На Стыри она простудилась. Отсюда подкрался коварный, страшный недуг, навсегда омрачивший радость детства и юности, преследовавший и мучивший ее до последнего вздоха.
Но там же, в Луцке, начался другой, чрезвычайно важный и драгоценный для Леси, для Украины и, без боязни ошибиться, для всей мировой литературы процесс творчества, который вознес ее на могучих поэтических крыльях в такую высь, куда никто еще из женщин ее страны не поднимался.
Две зимы кряду Леся обучалась вместе с братом по программе мужской гимназии. Она не только не уступала брату, но даже опережала его, особенно в овладении классическими языками — греческим и латынью. Помимо гимназической программы, Леся брала уроки музыки у жены Миколы Лысенко Ольги Александровны, происходившей из шотландского рода О'Коннор.
Под влиянием своей преподавательницы Леся еще больше полюбила музыку. Отныне она все глубже понимала, чувствовала ее силу и очарование. С каждым занятием перед Лесей раскрывались новые и новые тайны музыкального искусства. В следующем году к игре на пианино, которую Леся осваивала удивительно быстро, прибавились уроки по теории и композиции. Их она воспринимала так же легко, что и тешило и удивляло Ольгу Петровну. Она присматривалась к Лесиным занятиям и не могла понять: откуда у нее такие способности, ведь в роду никогда не было музыкантов. Правда, в семействе Косачей, как и Драгомановых, многие играли на каком-либо инструменте или пели, но особенной музыкальностью никто похвалиться не мог.
Привычное представление Ольги Петровны о будущем дочери слегка поколебалось. До сих пор она, да и все родные видели призвание Леси в литературе. А теперь открывалось два пути, и трудно сказать, который вернее, какому из них отдаст предпочтение жизнь.
А пока что Леся и Михась увлеченно занимались науками и потихоньку вновь знакомились с Киевом и киевлянами. В свободные часы навещали знакомых и друзей — чаще всего Анну Ивановну Судовщикову. Дети, особенно Михась и Шура, по-прежнему дружили и не упускали удобного случая для встречи.
Однако Лесе больше всего нравилось бывать в семье Старицких. Там всегда было многолюдье, всегда бурлила жизнь.
Вот и сегодня Косачи — Ольга Петровна, Михась и Леся — направились на Малую Владимирскую, где жили Старицкие. Ольге Петровне надобно было по делам литературного альманаха встретиться с Михаилом Старицким.
Девчата Старицкие встретили их шумно и радостно. Потащили в детскую, где уже были гости — товарищи старших сестер — Марии и Людмилы — по гимназии. После нескольких минут обычного при первом знакомстве смущения вновь все загалдели, зашумели. Только худенькая девочка на какое-то мгновение застыла в нерешительности, а затем большие умные глаза на ее бледном лице озарились радостью: она подошла к Людмиле.
Днепр, утомленный весенними разливами, входил в свои берега, уступая натиску зеленой стихии. Притихли грачи, собравшиеся на высоких черных тополях Опанасова Яра. Небо утратило былую прозрачность и синеву. Все предвещало близкое лето.
Занятия Михаила и Леси скоро прервутся, еще две-три недели, и помчит поезд далеко на запад, на любимую Волынь.
Но это произойдет в свое время, а сейчас они идут в Ботанический сад на традиционное первомайское гулянье, устраиваемое — также по традиции — супругой генерал-губернатора в благотворительных целях в пользу «неимущих студентов». Впереди молодые Косачи с Шурой и Людой Старицкой, за ними Ольга Петровна с Анной Ивановной Судовщиковой, как всегда говорливой и суетливой. Все замечая и обо всем стараясь рассказать детям, она время от времени забегала вперед. Остановилась у недостроенного собора святого Владимира и искренне возмутилась: «Уж десять лет как начали… Когда же закончат?»
Наконец Ботанический сад, обнесенный крепким деревянным забором на каменном фундаменте. Ольга Петровна купила билеты, и вся компания, миновав ворота с колоннами, оказалась на широкой площади, откуда под острым углом расходились две дорожки. Одна вправо, к оранжерее, другая также вниз, но левее, огибая густые заросли кустарников и деревьев. По обе стороны дорожки как часовые застыли скифские каменные бабы, перевезенные сюда с юга Украины. Ольга Петровна и Анна Ивановна вспомнили, как в их «пансионный век» модным было забежать сюда на минутку перед экзаменом, чтобы получить «благословение» каменных баб.
Дорожка с каменными бабами вывела компанию на широкую, красивую аллею параллельно большому красному университету, пересекавшую почти что весь сад. Здесь прогуливались толпы празднично одетых людей. Прежде всего бросались в глаза военные в новеньких белых кителях, дефилирующие небольшими группками; молодые бородатые франты в добротных купеческих пиджаках, полосатых брюках и залихватских цилиндрах, с тросточками в руках. Важно и чинно плыли «заслуженные» чиновники, ученые и преподаватели солидных учебных заведений. Само собой разумеется, никто не мог быть элегантнее дам: одетые в шелка, опираясь на зонтики с длинными блестящими ручками, они горделиво несли свои головы с высокими прическами под крохотными, чудом державшимися яркими шляпками. Громко разговаривали студенты, степенно вели себя гимназисты.
Военный оркестр, расположившийся на импровизированной эстраде, исполнял попурри из «Прекрасной Елены» Оффенбаха.
Прошли в который раз из конца в конец аллею, и вечерний сумрак уже начал потихоньку выползать из чащи сада. И тут Михась нерешительно спросил:
— Мама, а где будет гулянье?
— Здесь, на этой аллее.
— А скоро?
— Вот тебе и на! — всплеснула руками мать. — Все это и называется гуляньем. А чего бы ты хотел?
Михась разочарованно хмыкнул, а Шура принялась подтрунивать над его невежеством.
Внезапно благопристойную сонную тишь гулянья разорвали мощные аккорды песни:
Ой там зiбралась бiдна голота
До корчми гулять…
Монотонные движения прохаживающихся господ прекратились, оркестр умолк. Кое-кто встревожился, у других же появилось на лицах какое-то просветленное выражение.
Песню о голоте сменила другая. Чудесный сильный баритон запевал: «Я сьогоднi щось дуже сумую…», а затем его дружно поддержал многоголосый хор:
I про славу свою не забуду,
Що колись я, як вихор, лiтав.
Воронив свою рiдну Вкраїну,
Не боявся я лютих татар.
Умолкла грустная мелодия, стало удивительно тихо. Неожиданно кто-то густым басом завел «Дубинушку». Посреди второго куплета к хору студентов начали присоединяться люди из толпы. А к третьему куплету песня гремела со всех концов.
Юных Косачей, никогда еще не видевших ничего подобного, захватила эта стихия. Они остановились, будто наэлектризованные. В немом восторге, бледная, с широко раскрытыми глазами, Леся стояла неподвижно, лишь губы сами шевелились, повторяя слова песни.
Наконец на эстраде опомнились, и оркестр грянул «Мазурку». На время поднялся невообразимый галдеж, какая-то какофония звуков, в которой все сильнее и отчетливее пробивалась традиционная студенческая песня:
Проведите, друзья, эту ночь веселей,
Пусть студентов семья соберется тесней!..
Но и здесь не обошлось без «бунтарства» — такой уж это народ, студенты: в застольную песню вставили куплеты совсем иного содержания — например, призыв полную чашу выпить за того,
Кто «Что делать?» писал, —
За страданье его, за его идеал…
Сведущая во всем Галина Ивановна тут же шепотом объясняла, что это поют студенты-«нигилисты», таким способом проявляя недовольство деятельностью благотворительного общества, которое предоставляет помощь не всем «неимущим», а только тем, кто «нравится» администрации, то есть не занимается политикой.
Домой возвращались поздним вечером. Устали так, что казалось, на ногах подвешены пудовые гири. Но полны впечатлений и тревожных мыслей и предчувствий. Леся не все поняла из того, что произошло сегодня на ее глазах:
— Мама, а разве это плохо, что студенты пели такие песни?
— Нет, хорошо. Очень хорошо. Ведь это — правдивые песни, они напоминают о судьбе людской, о борьбе за свободу народа…
— А о ком они пели: «Кто «Что делать?» писал… за его идеал»? — включился в разговор Михась. — Тетя Галя несколько раз повторяла эти слова, но так и не сказала, о ком они.
— «Что делать?» — роман русского революционера Николая Чернышевского, которого двадцать лет назад царь сослал в Сибирь. Да, пожалуй, хватит, о Чернышевском вам подробнее отец расскажет — он видел и слушал его выступления на студенческих сходках, когда учился в Петербургском университете…
Свернули на Стрелецкую. В садах слышались соловьиные трели, а со стороны Ботанического сада медным перезвоном катилось попурри из «Аиды».
Резвые лошади едва касались копытами укатанной дороги. Тарантас на мягких рессорах двигался весело и легко. Позади осталась большая часть пути: пыльный, грохочущий поезд, ухабистые ковельские улицы. Впереди Колодяжное. По обе стороны раскинулись колосистые нивы, зеленые рощицы. Солнце стояло в зените, но ветерок от быстрой езды приятно освежал. Ольга Петровна о чем-то беседует с дочерьми. Мужчины на облучке: младший правит, старший с довольной улыбкой посматривает на сына — вырос как-то вдруг, уже четырнадцатый пошел… Впрочем, Михась никогда не был объектом особых волнений: умный, крепкий парень, сумеет прочно занять свое место в жизни.
Иное дело — Леся… После простуды и острого заболевания ноги она до сих пор не оправилась, лицо поблекло, щеки ввалились. А глаза? Даже когда смеется, и тогда нет той безграничной детской радости, как прежде. Глаза стали глубокими, и, кажется, на самом донышке навсегда поселилась печаль.
Петр Антонович любил детей, но сильнее всех — Лесю.
Может, потому, что после родов Ольга Петровна тяжело и надолго заболела. Петр Антонович взял отпуск и, советуясь с врачами, сам выхаживал дочь при помощи искусственного питания, которое по тем временам было делом новым и непривычным. И не только спас жизнь, но и взлелеял, как свидетельствуют фотографии и семейные предания, здорового ребенка.
Может, потому, что Леся унаследовала отцовский характер. Оба были мягкой натуры, сдержанные, терпеливые, у обоих в груди одинаково щедрое сердце. Добры и снисходительны к другим, но не к себе: невозможно представить, чтобы они совершили нечто такое, что сами считали бы непорядочным, нечестным. Им претили жадность, корыстолюбие.
А может, еще и потому, что, будучи весьма проницательным человеком, он раньше всех, даже раньше, чем мать, почувствовал и оценил душевное богатство и огромный талант Леси.
У поворота отец забрал вожжи, и вскоре тарантас въехал в просторный, ничем не отличавшийся от крестьянского двор. Первыми спрыгнули на землю дети.
Вот какое оно, Колодяжное! Простор, раздолье вокруг. Дом, где они теперь будут жить, невелик, но весь утопает в. зелени и благодаря этому выглядит очень уютным. Небольшую зеленую полянку перед домом посыпанная песком дорожка разделяет на два пылающих яркими цветами газона. За домом сад, огород, луг, окруженный ивами.
А дерзкая липа, к безмерной радости юного поколения Косачей, росла… в коридоре, ее ствол сквозь отверстие в потолке проникал наружу, а ветвистая крона раскинулась над соломенной крышей.
Внутри никакой роскоши. Простая гостиная. На полу две-три дорожки с украинским орнаментом. В углу, под пальмой, диван, рядом столик, накрытый вышитой скатертью. На стенах семейные портреты. Напротив входных дверей портрет Шевченко, обрамленный рушником и венком из дубовых листьев. Под стенкой, справа от входа, вместительная книжная полка с терракотовыми бюстами Аристотеля, Сократа и Данте.
Впрочем, детей обстановка дома не интересовала: их манили усадьба, луг, поле.
Жизнь в селе стала для Леси настоящей школой. Она повзрослела и теперь с глазу на глаз сталкивалась с теми людьми, которых все называли народом, во имя которых был убит царь и совершены многие героические поступки.
Волынь славилась не только своей красотой, но и крайней нищетой. Лучшие земли, леса и пастбища еще в далеком прошлом захватила шляхта. Крестьяне вынуждены были осваивать солончаковые почвы, осушать болота. Не мудрено, что в каждой избе царила нужда. Лишь тяжкий, бесконечный труд на помещичьих землях спасал от голодной смерти. Не сыскать избы, в которой хлеб бывал ежедневно: вся Волынь кормилась картошкой. Крестьянские дети — неумытые, в истрепанных лохмотьях — всегда голодали.
Ужасающим был и крестьянский быт. На следующий День после приезда Леся и Михась заметили, что во многих избах Колодяжного отсутствуют дымовые трубы. Бросились к матери с расспросами.
— Что правда, то правда: в этих краях сохранились избы без трубы — так называемые курные избы.
— А печка там есть?
— Есть.
— Куда же уходит дым? — не унимались дети.
Назавтра они зашли в курную избу. Под соломенной крышей обыкновенный пятистенный сруб из деревянных кругляшей с несколькими узенькими щелями-окошками. Ни дымохода, ни трубы в избе не было. Дым из печи валил прямо в избу. Сенная и наружная двери распахнуты: на улице было тепло. В зимнюю пору дым заполнял всю избу, и, когда уже совсем невмоготу становилось, открывали дверь, и плотное облако выползало в сени, а оттуда наружу. Стены, потолок, все, что находилось в комнате, покрывалось толстым слоем сажи. Иные избы были и вовсе без потолка.
Когда глаза привыкли к полумраку, Косачи поразились страшному убожеству жилища. Даже простая деревенская миска и та считалась роскошью. Ели из «долбанок» — небольших углублений, наподобие лунок, в горбыле, специально вставленном вместо доски в стол. После еды эти лунки вытирали тряпкой, иногда мочалкой. В Колодяжном дети Косачей по-настоящему узнали бедствия народа.
Через какие-нибудь две-три недели они уже почти не отличались от сельских ребят ни одеждой, ни поведением. Вместе со своими сверстниками Леся купалась в пруду, играла в салки, гуси-лебеди, хрещики. Или выходила навстречу стаду, возвращающемуся к закату солнца в село. Рассядутся босоногие ребятишки на лужайке, песни поют и ждут, когда вдали покажутся первые коровы, затем все стадо, а за ним немолодой уже пастух в постолах, увешанный сумками, со свирелью за ремнем. Дети подбегут к нему, окружат со всех сторон и просят пастуха сыграть или спеть песенку.
Солнечное лето пролетело незаметно. Наступила осень, а вместе с нею и необходимость возвращения в Киев. Конечно, Леся никак не могла предположить, что это было последнее беззаботное, радостное лето.
Наступающий год принес Лесе немало страданий и горя. Еще в начале зимы появились боли в пальцах левой руки. Болезнь принудила отказаться от занятий музыкой, что было большим ударом для Леси. Ведь она всерьез увлекалась музыкой, даже сочиняла пьески-миниатюры.
Ни лечение, ни колодяженское лето не заглушили болезнь. Напротив, состояние ухудшилось. Осенью девочка совсем извелась, рука вспухла, посинела, а боль — нестерпимая. Зимой Леся так писала бабушке о своей беде:
«У меня до сих пор болит левая рука, так что ничего невозможно делать: ни шить, ни играть, ни что-либо держать в руке, потому я так коряво пишу. Раньше была совсем слабенькой, а теперь будто бы получше, однако я никогда не бывала совсем здоровой, так как рука болит всегда. Раньше я смазывала руку йодом и окунала ее в соленую воду. Но после кожа на руке облазит, и сейчас я прекратила это делать. На праздники никуда не ходила. А третьего дня отмечали годовщину со дня рождения Шевченко, — пошла и я, и Миша, и Лиля — там мы читали стихи…»
Диагноз — костный туберкулез. Выход один — операция — таков приговор врачей. В октябре Петр Антонович привез дочь в хирургическую клинику Киевского университета. Профессор Ринек, который осмотрел Лесю, не вызвал у нее симпатии. Как свидетельствует один из современников, он напоминал кондора из иллюстраций к книге Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Поседевшая голова крепко сидела на длинной красной шее, чисто выбритое лицо с горбатым носом, и впрямь напоминавшим клюв. После разговора с Петром Антоновичем профессор подошел к Лесе. Его глаза, еле заметные из-под тяжелых век и мохнатых бровей, внимательно всматривались в удрученную пациентку. Затем он спросил:
— Как зовут тебя и сколько тебе лет?
— Двенадцать с половиной. Зовут Леся.
— Мы решили оперировать твою руку. Может быть, придется удалить одну-две маленькие косточки. Боишься?
— Боюсь.
— Но ведь не оперировать нельзя — под угрозой вся рука. И не только… Не надо бояться, больно не будет. Позже немного будет болеть… Сделаю все, что смогу, чтоб было хорошо дочери и племяннице моих друзей по университету. Ты помнишь своего дядю — Михаила Драгоманова?
— А как же. Часто его вспоминаю.
— Пишешь?
— Нет. Не смею. Может, у него времени нет возиться с моими письмами.
— Напрасно. Вот вылечим тебя — и пиши. Не забудь передать ему мой привет — скажешь, от шулявского Гиппократа, он догадается.
Леся поблагодарила профессора, теперь он стал ей ближе и симпатичнее.
Операция прошла удачно. Рука зажила. А пальцы так и остались искалеченными. Теперь пришлось навсегда распроститься с мечтой о музыкальном творчестве. Но хотя Леся уже не в силах заниматься композицией, музыка сыграла огромную роль в ее литературных опытах, всегда была верной сестрой-советчицей. В тяжкие минуты жизни музыка утешала, гасила отчаяние, разгоняла тоску.
Обращаясь к своему фортепиано, как к живому, близкому другу, поэтесса писала:
С тобой делилась я своей тоскою,
Тебе вверяла горе и печаль.
В нем находила отраду, когда плакала и рыдала, когда «горе предугадала, что тучей встанет на пути моем!». Фортепиано помогало рассеять «тяжелый туман», и тогда
Прекрасный мир рождался предо мной,
И мне надежды радугой сияли,
Летел далеко дум крылатый рой…
Мой друг! Минут с тобою светлых, чистых
Я больше знала средь тревог своих.
От этих струн — любимых, голосистых —
Рождалось много лучших дум моих.
Заглушённая, стреноженная стихия все же давала о себе знать. Она, как эхо, время от времени звучала в ее поэтическом литературном творчестве. Мечта, не осуществившаяся в нотах и партитурах, возрождалась в гибкости, пластичности и музыкальности поэтических строк.
Кроме операции, Леся тяжело переживала еще одно событие: разлуку с ближайшим и преданным другом — старшим братом Михаилом. До сих пор, сколько она себя помнила, вся ее жизнь протекала в едином русле с братом — сердечным и добрым, советчиком и защитником. Но всему приходит конец. Успешно выдержав вступительные экзамены за пятый класс гимназии, Михась покинул Колодяжное. Нежная, трогательная дружба продолжалась, но это была уже дружба на расстоянии.
Навсегда закончилась и учеба с учителями-репетиторами. Сестры и братья (всего их у Леси было пятеро) закончили гимназию, высшие учебные заведения. Лишь она одна самостоятельно, практически без посторонней помощи, получала образование. Источником знаний были книги и только книги.
После операции руки Леся круглый год оставалась в Колодяжном. Михась уехал в гимназию, и теперь Леся была старшей среди детей. Помимо чтения, увлекалась вышиванием, нередко рисовала, проявляя при этом недюжинные способности. А с приходом весны, когда боль в руке приутихла, Леся занялась одним из самых любимых дел — выращиванием цветов. Рыхлить почву, высевать семена, поливать, приобщать ко всему этому малышей — «майских жуков», как их называли в семье, — все это привлекало и поглощало Лесю.
К сожалению, лето 1884 года было, пожалуй, последним, когда она могла не очень жаловаться на свое здоровье. Весной следующего года туберкулез снова пошел в атаку — на этот раз обрушился на правую ногу. Боль не давала и шагу ступить. Врачи посоветовали испробовать лечение водами источника Друскеник (Друскининкай, вблизи Гродно). Полуторамесячные соленые ванны нисколько не помогли. Малоэффективными оказались и старания киевских врачей весной 1886 года, когда Леся пролежала в больнице почти два месяца.
Летом 1888 года родители решили свезти Лесю к морю. Чувствовала она себя получше, и как раз кстати пришло письмо из Одессы от Михаила Комарова — хорошего знакомого, который пригласил Косачей в гости.
Июньским утром на Одесском вокзале колодяженских путешественников (мать и дочь) встречало семейство Комаровых: молоденькая, ровесница Леси, Маргарита, одиннадцатилетняя Галинка (впоследствии поэтесса Галина Комарова) и сам Михаил Федорович, нотариус по должности и страстный библиограф и библиофил по призванию. «Лесе он был интересен прежде всего как автор первой прочитанной ею книги — «Беседа о земных силах».
Благодаря неугомонному характеру Комарова Леся буквально за неделю освоилась в незнакомом городе. Комаров жил здесь сравнительно недавно, но ориентировался получше некоторых старожилов. Остановится у какого-нибудь здания, едва заметно улыбнется в свои пышные казацкие усы, слегка прищурит глаза и спрашивает:
— Как вы думаете, кто жил в этой гостинице шестьдесят четыре года назад?
Несколько секунд немая сцена, затем кто-то отвечал:
— Адам Мицкевич.
— А вот и нет. Александр Пушкин. Отсюда он был сослан в село Михайловское.
Вскоре Косачевны, как называли их все знакомые, близко сошлись с семьей Комаровых. В Маргарите Леся нашла подругу, умного, правда, своеобразного собеседника и неизменного спутника в прогулках по морскому берегу.
Когда в первый раз перед Лесей вдруг распростерлось море, ей показалось, что все исчезло: смотри вверх, вниз, прямо — везде небо. Небо, и ничего больше нет. Черное море… Веками воспевали его поэты — от Овидия до Пушкина и Шевченко. Это она хорошо знала. И все же была потрясена таким зрелищем.
Маргарита рассчитывала на подобный эффект (выбрала дорогу к морю, чтобы оно открылось взору неожиданно) и с плохо скрываемым любопытством посматривала на подругу. Но Леся не видела и не слышала ничего, кроме моря. Звенели слова Надсона, как аккомпанемент ее чувствам:
Так вот оно, море… Горит бирюзой,
Жемчужною пеной сверкает!..
На влажную отмель волна за волной
Тревожно и тяжко взбегает…
Взгляни, он живет, этот зыбкий хрусталь,
Он стонет, грозит, негодует…
А даль-то какая…
Под вечер небольшой пароходик с людьми, которые никуда не спешили, прогуливался вдоль одесского побережья. Как и большинство пассажиров, Ольга Петровна устроилась с правой стороны, чтобы видна была приморская окраина Одессы. Леся — на противоположной стороне палубы: хотела видеть море во всей его необъятности, во всей его красе. В тот день оно было удивительно прекрасным: синее-синее, с белыми гребнями и розовыми отсветами, с темно-зелеными тенями, с золотыми искрами при закате солнца.
Опускались сумерки. Пароход пришвартовался к причалу. Пассажиры шумно двинулись к трапу. Одна Леся застыла на том же месте, впилась взглядом в горизонт, полыхавший молниями-пожарами, которых никогда не увидишь на Волыни. Странно — на небе ни облачка до самого горизонта, а вспышки сверкали и сверкали, как сабли в руках рыцарей-великанов…
— Леся, пойдем, — решительный голос «Гретхен» (так «окрестили» Косачевны Маргариту Комарову) возвратил Лесю к действительности.
— Иду, бегу, — она поднялась, в последний раз взглянув туда, где полыхали зарницы, и, слегка прихрамывая на правую ногу, направилась к выходу.
Если от отца Леся унаследовала сдержанность, мягкость, покладистость, то мать она должна благодарить за развившуюся с детства страсть к путешествиям. То, что Ольга Петровна всю свою жизнь, даже в глубокой старости, не могла усидеть на одном месте, видимо, передалось дочери. Как только боль в ноге немного унималась, она тут же стремилась расширить круг своих наблюдений, рвалась в новые, незнакомые края.
Так было и в этот раз. Мать с дочерью осмотрели морской берег на восток и на запад от Одессы на сотню километров: Очаков, устье Буга, Херсон, Днестровский лиман. Наибольшее впечатление произвел на Лесю Аккерман, собственно, турецкая крепость в нем.
Возвращаясь из Харькова после бесполезной консультации у известного хирурга Грубе, Леся с матерью заехала в село, а точнее — хутор Косовщину Сумского уезда. В Гадяче жила старенькая мать писателя Панаса Мирного — она и посоветовала съездить в этот хутор к Параске Богуш, широко известной на Харьковщине горячими лечебными ваннами, настоянными на разном зелье. Благодаря успехам этой крестьянки Косовщина — хутор с двумя десятками хат — превратился в народный самодеятельный санаторий. Больные размещались в хуторских хатах с питанием и «ванной» (обыкновенное корыто или лохань). Лекарь Богуш совершала обход пациентов, согласно собственному «диагнозу» и рецептуре готовила раствор для ванны. Стоимость лечения была незначительной, больные платили хозяевам за койку и обслуживание, врачу же — сколько кто мог.
Любопытно, что губернская медицинская комиссия, приехавшая из Харькова с целью проверки методов лечения Параски Богуш, не только не обнаружила никакого шарлатанства, а признала их достойными применения и в дальнейшем. Позже Леся вспоминала:
«У этой женщины немало было больных, и им очень помогало лечение. Были там люди с мокрым лишаем и излечивались так, что и следа не оставалось от тех страшных ран, которые прежде, словно маска, покрывали все лицо… Единственное, о чем могу поручиться, — эта старуха — не мошенница, она не верит ни в какие наговоры, выливания и т. п., а лечение ее очень похоже на лечение грязевыми ваннами в Крыму, — с той разницей, что там их подогревает солнце, а здесь печка. Скука у нее дьявольская. Но чего только человек не вынесет, если знает, что это необходимо».
Не старая, еще крепкая женщина в идеально чистом крестьянском платье вышла навстречу Косачевнам:
— Милости просим, люди добрые.
В хате хозяйка поздоровалась, пригласила сесть на широкую скамью, застланную пестрым рядном. Затем уселась сама. Пока велся «светский» беспредметный разговор между старшими женщинами, Леся осматривала горенку. Сверкают белизной стены. Никаких лишних вещей. Пол недавно освежен желтой глиной, а сверху покрыт душистой травой. Окна — их было пять — освещают помещение с трех сторон. На стенке, напротив входа, красиво вышитые рушники украшают божницу. За незначительным исключением, иконы смахивали скорее на иллюстрации к легендам и сказкам, нежели на изображения святых. На трех больших картинах — «Варвара-великомученица», «Неопалимая купина», «Георгий Победоносец» — многочисленные сцены на тему борьбы человеческих страстей. Рядом пристроился «Казак Мамай». Правда, он почернел от времени, и трудно было рассмотреть, чем он там занимается, а еще труднее разобрать надпись на картинке: «Казак Мамай если не пьет, то вшей бьет, а все ж не гуляет…»
Бывая в крестьянских хатах, Леся всегда примечала, что простые люди. не увлекаются сугубо религиозными иконами, в их вкусе такие картины, где божественные мотивы переплетаются с мотивами жизни, быта. Стихия жизни явственно доминирует над канонизированными церковными догматами…
Ольга Петровна прервала размышления:
— Теперь, Леся, твоя очередь — расскажи все, что интересует лекаря.
— Справедливо сказано: мне надо знать все о вашем самочувствии и здоровье, чтобы решить, пригодятся ли мои ванны…
Баба Параска начала расспрашивать.
С каждым ответом Леси ее лицо становилось тревожнее. Она поняла, что не в силах защитить эту, видимо, добрую и умную девушку от коварной болезни, которая так безжалостно терзает ее тело. Горькая судьба.
— Трудно, ох как трудно с такой бедой бороться… Но попытка не пытка. Говорится же: пути господни неисповедимы. Хуже не будет, а то, гляди, и поможет…
После такого заключения народного лекаря порешили на том, что Леся остается пока что на две недели, а дальше время покажет. Жить будет в хате Трофима Скибы.
Май. На улице летняя тишь. Леся сидит в хатине средь харьковских степей. Одна. Грустит, вспоминая родную Волынь.
Солнце клонится к закату. Раскаленным железом уходит за горизонт. Высушенная, потрескавшаяся степь вся в кровавом мареве. С поля возвращаются голодный скот и натомившиеся, обессиленные люди. Бурным паводком проплывает отара овец, поднимая облако пыли, покрасневшее в последних лучах заходящего солнца. Хутор ожил: носят воду из колодца, поят скот, закрывают ворота, зовут домой детей.
Гомон стихает так же внезапно, как и возникает. За окном все останавливается и утопает в глубокой тьме.
— Хотя бы господь дождик послал, — слышу я начало разговора. Этими словами он начинается всегда, и звучат они совсем не так безразлично, как обычные — «о погоде», — нет, вслед за ними я слышу глубокий вздох, чувствую, говорится не потому, что «так принято».
— Да-а-а… Если бы дал-то бог! А то ничего не придумаешь — хоть бери и паши поле заново! — печально отозвался другой хозяин.
— Поздно уже перепахивать! — вставил третий.
— Что же это делается, — включился молодой женский голос, — и так того поля с гулькин нос, а теперь еще и выгорит все, — что тогда?
— Что? Снова пойдем к пани…
— К госпоже? Снова к ней? Чтоб как в прошлом году — больше расходов на суды, чем самих денег?
— Какой же выход?..
— А вы слышали, что завтра созывают всех в волость?
— Зачем?
— Говорят, будто какую-то бумагу об иске за наши земли читать. Пани таки нас не оставит в покое, не отдаст своего…
— Своего? Как бы не так! Земли-то испокон веку наши были — дедовские, прадедовские!
— Держи карман шире! При дедах было так, а при внуках будет иначе! Нас еще хорошенько помытарят в судах из-за этой дедовщины!
— Помытарят, черти бы их забрали!
Вскоре уже ничего нельзя было понять в сплошном гуле голосов. Только изредка выхватывалось резкое, раздраженное: «Нет, хватит!.. Натерпелись…»
А спустя некоторое время все потихоньку разошлись. Только молодые еще долго не могли успокоиться: пели, громко переговаривались, беззлобно поругиваясь. Наконец и они устали. И лишь звонкие девичьи голоса еще долго отзывались эхом во всех уголках села».
Летели дни, и вечерами Леся становилась незримым участником мирского совета — своеобразного веча. Она привыкла к нему и с нетерпением ждала этих вечерних часов. Жадно вслушиваясь в жалобы людей с огрубевшими лицами, босыми, потрескавшимися ногами, видела: за примитивными, скупыми словами скрыта такая простая, такая глубокая и горькая правда, что Леся готова была выбежать на улицу и что есть мочи закричать об этой правде. Да так, чтобы ее услышал весь мир.
Не однажды видела Леся нищету и горе, не раз была свидетельницей человеческих страданий. Но то все было издали или какие-то единичные случаи. А здесь целая громада… Из года в год, из поколения в поколение — не живет, а страдает. И нет спасения.
В такие минуты собственные горести казались ничтожными и жалкими перед великим, извечным горем народа. Леся стыдила себя за слабость, за минуты отчаяния, когда она считала себя самой несчастной в этом мире. Теперь она понимала: простой народ в нужде, темноте и невежестве одолевает беду пострашнее… Прочь малодушие!..
Еще неделя подошла к концу. Ванны тетки Параски не приносили желаемых результатов. Хотя в целом Леся чувствовала себя лучше, нога болела, как прежде. Приходилось возвращаться в Киев.
В том же году Леся двумя наездами лечилась на Одесском лимане. В 1890 году побывала в Крыму, у моря — принимала грязевые процедуры в Саках. Как только боли утихали, путешествовала по Южному берегу.
Безрадостен был итог, но тут уже ничего не поделаешь: ни Крым, ни лиман не помогли. Туберкулез продолжал свою разрушительную работу. Редкие передышки сменялись обострением болезни. В следующий раз Косачи намеревались испытать силу зарубежной медицины.
Вопреки всем напастям талант Леси мужал, дух креп, а вместе с ним росла отвага борца за права народа, за его освобождение. В этой физически слабой девушке с каждым годом развивались и крепли духовные силы. Родные и друзья удивлялись и радовались тому, что Леся способна преодолевать невзгоды, страшный недуг, умела закалять свою волю.
Талант укреплял веру в себя, давал крылья. Воспитание подсказывало цель борьбы, увлекало на арену общественной жизни. Прививаемые с детства гуманистические идеи и чувства, знание народа и любовь к нему, широкое образование, изучение произведений научного социализма — вот что легло в основу мировоззрения и общественных идеалов поэтессы. Леся шла по жизни с мыслями о трудовом народе, опутанном сетями эксплуататоров, гибнущем в нищете и невежестве. Эти мысли и чувства пробудили ее поэтический талант, родили страстное, правдивое слово.
Весенним днем 1885 года Петр Косач привез в Колодяжное гостя — младшего брата жены Александра Драгоманова, возвращающегося из Варшавы, где участвовал в работе конгресса психиатров. Семье Косачей он привез несколько экземпляров издаваемого во Львове журнала «Зоря» со стихами Леси и ее матери Олены Пчилки, сборник рассказов Н.В. Гоголя, переведенных на украинский язык Лесею и ее братом.
— Сознавайтесь, кто из присутствующих Леся Украинка? — допытывался гость, вынимая из толстого портфеля тоненький журнал.
Все переглянулись, а Михась, улыбнувшись, спросил:
— А вы сначала скажите, в каком грехе она повинна. — Ах, вы молчите?! Знайте же:
Тому, чья совесть нечиста,
Не утаить вины.
Кричат глаза, когда уста
Молчать принуждены.[15]
Слушайте и смотрите на меня, я прочту стихотворение этой Украинки. Оно называется «Сафо»:
Над волнами моря, на круче,
В венке из лавровых ветвей
Прекрасная дева сидела
С певучею лирой своей…
Здесь он быстро взглянул в сторону Леси и, театрально всплеснув руками, подошел к ней:
— Теперь я знаю того, кто «с певучею лирой» сидит, — он вложил журнал ей в руки. — Внимание! Стихотворение «Сафо» продолжит автор — Леся Украинка.
Аплодисменты, смех, радостные возгласы совсем смутили юную поэтессу. Но деваться некуда — надо читать. Установилась пауза, а Леся все никак не могла отважиться. Михась подбадривал:
— Нет, Леся, так не пойдет: перед тобой путь славы и лавров. Привыкай к толпе, к аплодисментам, только помни разумный совет, который мы недавно с тобой вычитали у Джефри Чосера:
Кто властвовать желает над собой,
Тот должен чувство сдерживать порой.
С трудом справившись с волнением, Леся тихим голосом прочла строки — наивные, но трогательные и непосредственные слова о «прекрасной деве», которая
…сбросив лавровый венец,
В пучине шумящего моря
Нашла своей песне конец.
Однако читать стихотворение «Ландыш» Леся отказалась наотрез. Ей приятно было видеть в журнале свое первое напечатанное произведение. Но сегодня Лесе неловко: ведь слабенькое, едва «державшееся на ножках» стихотворение, как и она сама в те двенадцать лет, когда написала его. Теперь Леся понимала, что и «Ландыш», и «Любка», и «Сафо» — пройденный этап.
Дядя Саша разыскал среди бумаг еще одну небольшую книжечку:
— А это другая хитрая штука: «Вечерницы. Рассказы Николая Гоголя. Перевод Михаила Обачного и Леси Украинки». В этом алгебраическом двучлене один нам известен, а поэтому задачу решить просто: господин Обачный, прочтите нам хотя бы страничку.
Михась уверенно подошел к столу, встал у кресла, раскрыл драгоценную книжку, и строка за строкой по-украински зазвучало гоголевское «Заколдованное место» — и Хома заговорил на родном языке.
И снова поздравляли юных авторов. И снова неутомимый дядя Саша, доставая несколько журналов и хитровато улыбаясь, торжественно продолжил:
— Уважаемой аудитории известно, кто такая Олена Пчилка, которая нередко заготавливает душистый мед для бумажных ульев… Вот и в этом, — он потряс журналом, — есть ее щедрые соты…
Когда из горницы все ушли, Леся раскрыла «Зорю». Неизвестно зачем перечитала свои стихи раз, затем второй. Снова и снова. Наконец, поймала себя на том, что думает сейчас совсем о другом. Строки сливались, теряли стройность, исчезала выразительность. Только рифмы шелестели беспорядочно и глухо. И все…
Еще совсем недавно она сгорала от нетерпеливого желания видеть эти строки напечатанными. Даже когда брала журнал в руки, трепетала от счастья. Короткой, однако, оказалась ее радость! Может, у поэтов она всегда такая? У поэтов? Разве это относится и к ней? Поэты «глаголом жгут сердца людей». Что это за поэзия — в самый раз для Лилиных кукол: «Была у матери дочка Любка, чернобровая, умная, прекрасная, но нетерпеливая…»
Что и говорить — наверное, ей самой в пору еще с куклами возиться. А истинные поэты — пророки. Пушкин, Лермонтов, Шевченко… Она взяла с полки томик «Кобзаря», изданного в Праге, и полушепотом, четко выделяя отдельные слова, прочла:
Как будто праведных детей,
Господь, любя своих людей,
Послал на землю им пророка —
Свою любовь благовещать!
Святую правду возвещать!
И как Днепра поток широкий,
Слова его лились, текли
И в сердце падали глубоко!
И души хладные зажгли
Огнем незримым…
Слова, которые «души хладные зажгли огнем незримым»… Но где, где взять такие слова?.. Нет, она их не знает, не может найти…
Долго-долго сидела в раздумье, сложив руки на раскрытой книге. Потом достала из ящика письменного стола тетрадку со своими стихами, внимательно перечитала каждую страничку. Закончив, старательно разорвала тетрадку на две части, затем каждую часть пополам. Делала это медленно, словно чужими руками. Лишь губы слегка вздрагивали, предвещая то ли рыдания, то ли смех…
Три года Леся ничего не писала — с головой ушла в самообразование. Училась, не делая скидок на болезнь, и дома и в пути. Не расставалась с книгами и в больнице. Куда бы ни приехала на лечение, прежде всего записывалась в лучшую библиотеку, запасалась книгами и уж после этого сдавалась в плен эскулапам. Ее кололи, резали, растягивали, заковывали в гипс, а она, крепко стиснув зубы, ждала минуту, когда снова сможет читать. Если же не удавалось самой попасть в библиотеку, просила высылать ей книги по почте.
Леся пользовалась услугами всемирно известных библиотек Москвы, Петербурга, Минска, Киева, Одессы, Львова, Парижа, Вены, Берлина, Женевы, Милана, Софии, Праги, Варшавы, Дерпта и др.
Долгие, томительные недели, а то и месяцы прикованная к постели, лишенная товарищеского общения, обреченная на безделье, Леся целыми часами, сутками предавалась мечтаниям. Книги помогали развивать воображение, мышление образами, картинами. Крылья фантазии уносили ее в далекие миры, в беспредельность вселенной.
Одновременно развивалась способность к обобщениям, к абстрактному мышлению. В одном из писем к Драгоманову она уверяла, что обладает необыкновенной памятью на лица и на окружающий ее мир и к тому же не умеет думать без образов. Это свойство отразилось и на характере поэтессы, на всех ее душевных переживаниях и волнениях.
Сохранился своего рода «автопортрет» Леси этого периода.
Неудовлетворенность собой, критическая оценка собственных знаний и способностей, порой даже слишком суровая, — все это способствовало тому, что Леся все серьезнее и последовательнее углублялась в художественную и научную литературу.
С помощью родных и друзей Леся еще в юношеские годы перешла на регламентированное чтение. Во всяком случае, стремилась читать лучшие — умные книги, действительно раскрывающие мир правды, справедливости, науки, мир реальной жизни и борьбы.
В одном из первых писем к Драгоманову Леся писала о том, что отдает предпочтение полезным, дельным книгам, хоть их и трудно достать — больше попадается глупых, чем умных. Она считает, что лучше в таком случае перечитывать старые. Из французских писателей Лесе нравится творчество В. Гюго, А. Мюссе, О. Бальзака, Стендаля, Жорж Санд. Новейшие писатели школы Золя не привлекают Лесю, ей кажется, что в их произведениях больше всевозможных страхов и эффектов, чем правды, или уж беспросветная мерзость. За это же да за мистицизм не любит она и некоторые вещи Толстого, особенно те, «в которых за чертями и ангелами ничего не видно либо одни только ужасы, как, например, «Смерть Ивана Ильича» или «Власть тьмы».
Само собой разумеется, что Леся Украинка не придерживалась в дальнейшем своих ранних, еще незрелых суждений и признавала позже художественную силу и авторитет этих писателей. Но никогда и не восторгалась ими. — На этом этапе Леся успешно осваивала богатства художественной и исторической литературы России, Польши, Чехии. Здесь не возникало непреодолимых преград — близок и понятен язык, знакомый быт и национальный характер. Не ощущалось недостатка и в наставниках и советчиках.
Совсем по-другому складывалась ситуация, когда Леся перешагнула видимые горизонты и перед нею распростерлась terra incognita. С чего начинать? То, что она раньше изучала древнегреческий, латинский, французский, немецкий (а после — итальянский и английский) языки, облегчало задачу в той мере, в какой знания навигации помогают капитану в открытом море. Но необходим еще и компас, чтобы ориентироваться, определять направление и не сбиваться с верного курса.
Процесс самообразования выдвигал все новые и новые проблемы. И разрешать их помогал Михаил Драгоманов, к которому Леся обращается с массой вопросов преимущественно библиографического либо справочного характера:
«…Не укажете ли Вы мне какие-нибудь произведения об этнографических методах, а именно, о методе записывания народных песен? Этот вопрос меня очень занимает, я знаю много народных мотивов, пытаюсь записывать, но это мне трудно и даже очень, может быть именно потому, что я незнакома с настоящим методом, а литература по этому вопросу мне совсем неизвестна…
Не знаете ли Вы случайно каких-нибудь хороших сборников немецких или французских народных песен?..
Интересно, не видели ли Вы новые этнографические журналы «Живая старина» и «Этнографическое обозрение»?..
Вот еще что: напишите мне, пожалуйста, не знаете ли Вы случайно, какие есть переводы гимнов веды[16] на французском или немецких языках, эти гимны мне очень понравились в отрывках, которые нашла в истории…
Впрочем, довольно уж мне надоедать с этими вопросами, может, у Вас и времени нет на них отвечать…»
Доброжелательные письма Драгоманова ободрили племянницу. Она радовалась тому, что известный ученый говорит с нею как с равной, даже иногда советуется.
Прочитав как-то книгу модного в ту пору Ренана «Жизнь Иисуса», Леся разочаровалась. Пресловутая магическая сила его стиля, о чем непрестанно шла речь среди рафинированной интеллигенции, изысканное всезнайство, томная поэзия елейного безверия — все это не трогало Лесиного ума и чувств. За красивым, утонченным идеалистическим фасадом она ощутила философскую эклектичность, беспомощность мысли. Эти зрелые рассуждения приятно было читать Драгоманову. Он все внимательнее следит за духовным развитием Леси, выдвигает для рассмотрения более серьезные проблемы.
Знакомство с мировой литературой, рекомендации дяди натолкнули Лесю на мысль дать украинскому читателю выдающиеся произведения в переводе на родном языке. Совместно с Максимом Славинским она взялась переводить знаменитую «Книгу песен» Генриха Гейне. В декабре 1890 года писала Драгоманову: «Мой Гейне завтра пойдет в печать, — я этому очень рада!» Книгу издал во Львове Иван Франко, в нее вошло 92 стихотворения, переведенных Лесей. Одновременно она работает над переводом большого произведения Гейне «Атта троль», состоящего из нескольких поэм.
Гейне пленил Лесю своим талантом, наблюдательностью и утонченностью, искрящейся метафоричностью и точностью образов, блестящим остроумием и несравненной иронией. Впрочем, Леся полагала, что Виктор Гюго не менее талантлив и значим, и она переводит его гуманистическую поэму «Бедные люди». Драгоманов прислал ей сборник французской поэзии, и она увлеклась переводами стихов Альфреда Мюссе, а позже «Путешествиями Гулливера» Джонатана Свифта.
Разрозненные переводы отдельных писателей не удовлетворяли Лесю. Родилась идея создать целую библиотечку мировой литературы на украинском языке. Вскоре образовался кружок талантливой молодежи (в Киеве и за его пределами — в Одессе, Чернигове, Харькове), с восторгом воспринявшей этот проект.
Для переводов брали лучшие произведения русской, французской, немецкой, английской, итальянской, греческой и польской литературы.
Леся с радостью сообщает Драгоманову, что «среди молодых киевлян в последнее время (1889) начинает шириться «европеизм»; они начинают изучать европейские языки и интересоваться европейской литературой. Доказательством этого может служить то, что мы (молодежь) задумали издать целую серию переводов лучших произведений европейских и русских авторов».
Эпизодические собрания, вечера-импровизации молодежи, группировавшейся вокруг Леси, ее брата Михаила и Людмилы Старицкой, постепенно становились регулярными и превратились в своего рода творческое объединение, которое участники его в шутку называли «Плеядой».
«Плеяда» не являлась официальной организацией и не имела своего устава, тем не менее были определены цель и задачи ее деятельности, избраны органы самоуправления с четко обозначенными функциями. На вечерах «Плеяды» обсуждались рукописи, проводились литературные игры.
Сохранилось письмо Леси к брату Михаилу, в котором она предлагает программу переводов. В список авторов Леся включила, кроме своего любимого Гейне, произведения Короленко («следовало бы издать полного»), Гаршина («тоже необходимо всего перевести»), «конечно, Сервантес должен быть у нас, что же это будет за «Европейская библиотека»
Писатели, вошедшие в примерный список авторов библиотечки, убедительно подтверждают широту кругозора и глубину познаний Леси в области литературы, показывают тонкость и взыскательность ее художественного вкуса. По ее мнению, надо перевести свыше 70 писателей, причем рядом с именем она называет и какие произведения могут представить интерес для украинского читателя — акцент на произведениях демократической направленности. Из Байрона «нужно перевести «Чайльд-Гарольда» и «Манфреда», Гёте — «Фауста» и «Вертера», несколько лирических стихотворений; Гюго — «Отверженные», «Собор Парижской богоматери», «Труженики моря»; Диккенса — «Давид Копперфильд»; Достоевского — «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание»; Гончарова — «Обрыв» и «Обломов»; Мольера — «Брак поневоле», «Тартюф», «Скупой», «Смешные жеманницы»; Пушкина — «Борис Годунов», «Цыгане» и лирические стихи; Пруса — «Форпост»; Льва Толстого — «Война и мир», «Анна Каренина»; Тургенева — «Отцы и Дети», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Стихотворения в прозе»; Шекспира — «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Ричард III»; Щедрина — «История одного города», «Господа ташкентцы», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист»; Лермонтова — стихи, «Демон», «Герой нашего времени»; Флобера — «Мадам Бовари» и «Воспитание чувств»; Петрарки — сонеты; Бальзака — «Тридцатилетняя женщина»; Лонгфелло — поэму из жизни североамериканских дикарей (никак не могу вспомнить ее названия, но самую поэму читала, и она мне очень понравилась)…».[17]
Огромен литературный багаж восемнадцатилетней девушки, не правда ли? Здесь же, в этом письме, она ставит перед братом и «Плеядой» принципиальный вопрос: кому будут адресоваться книги — народу или интеллигенции? И в противовес общепринятым в «Плеяде» широковещательным заявлениям о том, что переводная литература — это и есть народные издания, Леся пишет: «…если переводная литература должна издаваться для народа, для
Далеко не все замыслы и планы «Плеяды» были осуществлены. И все же творческая атмосфера кружка в значительной мере способствовала развитию, совершенствованию литературного (не только в области перевода) мастерства его участников. Не удивительно, что из «Плеяды» вышло немало писателей, получивших впоследствии известность, — Владимир Самойленко, Людмила Старицкая, Грицько Григоренко, Галина Комарова, Иван Стешенко и многие другие переводчики и публицисты, выступавшие в демократической периодической печати.
Бережно и внимательно относились к «Плеяде» деятели старшего поколения украинской культуры. В домах Старицких, Косачей, Лысенко неизменно бурлила творческая жизнь, здесь всегда читали, обсуждали очередные сборники, дискутировали. По обыкновению в субботу с молодежью встречались Михаил Старицкий, Олена Пчилка, Николай Ковалевский и другие. Выдающийся композитор Микола Лысенко радушно принимал у себя молодых людей. Они нередко становились первыми слушателями его новых произведений.
В 1890 году Леся провела несколько месяцев в Киеве, у брата Михаила на Тарасовской. Это были лучшие дни Лесиной жизни в столице. Сюда, как в клуб, приходили студенты, полемика не прекращалась ни на минуту, а Лесе только это и требовалось — в больницах и далеком Колодяжном ощущался голод по обществу. Она яростно и задорно вступала в студенческие дискуссии.
И в эти месяцы Леся чувствовала себя не вполне здоровой, однако не прекращала работать. В кругу друзей и знакомых пыталась забыться, шутила, смеялась вместе со всеми. Бодрое настроение привезла с собой и в Колодяжное, где вынуждена была из-за «проклятой ноги» неделями не выходить из хаты. Подъем духа чувствуется и в стихотворном послании к брату Михаилу, написанном в шутливой манере:
Перо й чорнило маю,
Натхнення лиш нема!
А надо мною муза
Стоїть, як стовп нiмa.
В лихім гуморі муза,
Так само, як i я, —
Прив'язана за ногу
Фантазія моя.
Лежа в постели без движения, со скованной гипсом ногой, она еще находит силы с юмором относиться к своему состоянию! Стойкость, мужество в борьбе с недугом не позволяли расслабиться:
Вернусь на грунт «реальный»,
До ближчих, власних справ:
Учора мене папа
Як слід у шори вбрав!
Bнoчі тепер сплю мало,
I ледве сліз не ллю,
А в день зо всеї сили
Об землю лихом б'ю.
Переводы из Гейне и Альфреда де Мюссе, постоянная кропотливая работа, переписывание снова и снова, мысли о деятельности «Плеяды» — все полностью поглощало Лесю:
Егеж! — переписала
Я Гейнові nicнi,
Сиділа, як заклята,
Над ними я три дні…
Тепера буду мучить
Альфреда де Мюссе,
I як поможуть музи,
То подолаю все.
Ну, як же там «Плеяда»,
Як справи йдуть у нас?
Чи музи співодайні
Навідують там вас?
Летом старшие Косачи разъехались кто куда. Петр Антонович застрял в Луцке по служебным делам, Ольга Петровна заехала в Киев к Михаилу, чтобы потом вместе отправиться в Гадяч. В Колодяжном под присмотром Леси, которая чувствовала себя в это время довольно сносно, оставалась целая орава детей. Она называла их «хрущами», «тиграми», «неграми» и т. п., а также ласкательными прозвищами: Ольга у нее — Лиля, Лилея, Пуц, Пуцинда; Микола — Микось, Кох, Кохточка; Оксана — Тамара, Марця, Уксус; Исидора (самая маленькая, «мизинчик», родилась в 1888 году) — Дора, Дроздик, Белый гусь, Патька.
Все требовали внимания, ласки, да и просто ухода — особенно малыши. Надо было удовлетворить (или усмирить) каждого. Уезжая в Киев, мать сказала:
— Оставляю на тебя всю нашу республику. Я знаю твою склонность к либерализму и немножко побаиваюсь… Но думаю, что, почувствовав президентскую ответственность, ты будешь осуществлять принцип строгой справедливости…
— Выходит, отныне я полновластный правитель нашей республики? А как быть с формулой, которую ты не раз повторяла: «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно»? Ты забыла?
— Нет, не забыла.
— И тебя не пугает опасность того, что я превращусь в диктатора, деспота, терроризирующего свое общество?
— Ты на это не способна. Из всякого правила есть исключения. Да и времени пройдет не столько, чтобы человек с твоим сердцем и умом смог переродиться в деспота…
В семье Косачей, да и у ближайших друзей — Старицких и Лысенков — шутки, остроумные придумки не переводились, они были неотъемлемым атрибутом повседневного общения, переписки. В письмах Леси встречаются многочисленные, окрашенные мягким юмором прозвища, а также своеобразно употребляемые на протяжении всей жизни местоимения. Друзей и близких знакомых из литературного окружения она называет «кна-кны», даже в письмах к родителям: «Плеяда» соберется у нашей кна-кны — в воскресенье», «Передай привет одесским кна-кнам». В многолетней переписке с Ольгой Кобылянской Леся, как правило, прибегает к местоимению (и когда речь идет об адресате, и когда о ней самой) кто-то (хтось, хтосічок, когось — «Пускай кто-то без кого-то не грустит. Пускай пишет, — кто-то любит, когда кто-то пишет»). Произведения — чаще всего свои, а то и друзей, знакомых — «улиты». Такое шутливое название получали задуманные, но медленно пишущиеся вещи. Происхождение этого слова связано с поговоркой: «Улита едет, когда-то будет». От «улиты» Леся образовала глагол «улитить» («Улиты в следующем письме пришлю», «…бог даст доуличу все благополучно»).
В этот раз управление «республикой» облегчалось благоприятной погодой. Лето выдалось солнечное, теплое, щедрое на фрукты и овощи. Ягод — не собрать! После завтрака разбредутся Лесины «республиканцы» по всем закоулкам усадьбы, а она скорее за свои «улиты». Казалось, на минутку присядет у стола, а проголодавшиеся уже манифестуют.
После обеда Леся возится с вареньем. Каждый получает личное задание «президента»: кто — собирать малину или смородину; кто — разводить и поддерживать огонь под тазом, в котором покрывается пузырьками темно-красное сладкое варево; а двухлетняя Патька — первый помощник «президента» — должна сидеть рядом с Лесей и держать наготове половник для размешивания сиропа. Тот, кто честно работает на республику, вечером получает вознаграждение.
С наступлением темноты в доме становится тихо — все засыпают (или делают вид, что спят). Только «президент» бодрствует. Садится за стол — надо написать маме. Не так просто было больному человеку управляться с таким хозяйством: «Мы теперь все варим да жарим, и, должна сказать, эта работа начинает мне надоедать… Нога у меня болит по-прежнему, вынуждена лежать в постели. Читаю Тена и занимаюсь вареньем. Временами пишу стихи. Пуц с учителем не пререкается, а как учителю живется в республике, узнаешь из его собственных слов — он намеревается тебе написать. Мне кажется, что республика его не обижает. Целую тебя и дорогую кна-книну. Бабушку тоже целую, пусть не гневается, что не пишу.
Ваша Леся. 14.VI. 1890».
Ни домашние хлопоты по хозяйству, ни занятия с детьми, ни болезнь не в силах были преградить путь к поэзии. Леся глубоко чувствовала ее и теперь, когда ей пошел уже двадцатый год, просто не могла не писать. К тому же она сознавала, что литература — это ее судьба, жизнь, счастье, радость и оружие.
Многоликий и многообразный мир раскрывался перед молодой поэтессой — мир сложный и противоречивый, страдающий от несправедливости и насилия, объятый мраком невежества и нищетой. С тех пор как возникло общество, разделенное на классы, противоречия между ними разрослись в бездну. И кажется, нет такой силы, чтобы устранить их. И избежать их невозможно.
Что же делать? Где выход? Надо искать… Кто как, а она придет к людям со своим словом — очищенным в горниле справедливости, согретым в сердце так, чтобы огнем жгло «замерзшие души». Пришли на ум мысли Достоевского о слове, которое пробивает «сердечную кору, проникает в самое сердце и формирует человека. Слово, слово — великое дело».
Долог этот путь и очень труден. Но ведь в борьбе за освобождение народа она не одинока… Такие думы и чувства помогли принять решение, которое четко выражено в программном стихотворении «Мой путь». Автор не убежден, придется ли ему торжествовать победу. Может быть, счастье будет завоевано потом. Не в этом суть. Высшей похвалы заслуживает тот, кто жертвует собой во имя дела, триумф которого не скор.
И тернии ли встречу я в пути,
Или цветок увижу я душистый,
Удастся ли до цели мне дойти
Иль раньше оборвется путь тернистый, —
Хочу закончить путь — одно в мечтах, —
Как начинала: с песней на устах!
Нелегка судьба поэта. Лермонтов, Шевченко, Шиллер, Байрон, Мицкевич. Жизнь каждого из них — драма. Великая драма. Правда, судьба великого Гёте иная. А может, так происходит потому, что они по-разному понимают искусство? Ведь слова Гейне о Шиллере как антиподе Гёте вполне приложимы и к нему самому.
Лесю привлекал не Гёте, а Гейне и Шиллер. Но откуда черпать силы? Как закалить себя для борьбы? Ведь то титаны духа, она же всего лишь женщина, больная женщина…
Но где-то внутри, в глубине души, не соглашалась: десятки, сотни, тысячи других, не отмеченных перстом гения, неутомимо и бесстрашно борются за правду, справедливость. Не только Данте, Байрон, Достоевский, Шиллер стремились проникнуть в таинства жизни и, подобно шиллеровскому герою, отважились забраться в подземелье и сорвать покрывало с Сайского идола. Не один Шевченко нес в ссылке «хламиду поругания». Грабовский, Ковалевский, Манжура, Руданский, Свидницкий…
Каждый, как мог, следовал тем же путем, что и великие избранные, проявляя при этом поразительную силу духа. Например, Владимир Малеванный, один из таких рядовых бойцов. Леся вынула рукопись из ящика и начала читать (очерк должно было переправить Драгоманову для печати за границей).
Владимир Малеванный — поэт, пропагандист, тесно связан с народниками 70-х годов — «землевольцами». В 1879 году был арестован и сослан в Сибирь. При рассмотрении дела в «Верховной распорядительной комиссии» жандармское управление так аттестовало Малеванного: служил делопроизводителем одесской городской Думы, принадлежал к нелегальным кружкам, оказывал помощь деньгами лицам, укрывающимся от властей.
Будучи переправленным в мценскую пересыльную тюрьму и узнав, что место ссылки — Восточная Сибирь, Малеванный не пал духом, не стремился оправдаться, не просил о помиловании. Свое настроение изливал в стихах. Вот эти строки особенно импонируют Лесе:
Не потурай на те, як часом добрі люди
Влещатимуть, щоб не виходив сам.
А ждав, поки завзятих більше буде. всегда сможет правильнее размышлять, видеть недостатки в жизни людей и находить средства для их устранения… Образование для каждого человека — все равно что оружие для воина: каким бы храбрым он ни был, безоружный не много сделает. Как бы ни жаждал человек совершать добрые дела для себя и других, когда у него нет знаний, ум его не развит. Он не ведает, почему людям живется плохо, и тогда остается одно: биться, как рыба об лед.
Каждый должен, не транжиря драгоценное время, приобрести как можно больше знаний, а потом применить их в жизни. К несчастью, сегодня далеко не все люди располагают такой возможностью, но
Как-то в письме к сестре Малеванный высказал опасение, что срок ссылки могут продлить («теперь продлевают многим»). Так оно и случилось. «22 января, — писал он сестре, — в Якутске произошла стычка сорока ссыльных с администрацией, которая закончилась перестрелкой. Были убитые и раненые. Это событие потрясло всех нас, живущих в улусах…» По окончании срока Малеванному, якобы как «участнику якутских беспорядков», прибавили еще четыре года и переселили в Томскую
Вперед рушай, бо честь i воля там.
Не потурай — тоді нас більше стане…
Несколько раз пытался бежать, но его снова возвращали на место ссылки. О непоколебимости и энергии Малеванного свидетельствуют письма к родным. Вот как наставлял он своего сына: «Я смотрю на образование, то есть приобретение знаний, как на средство, с помощью которого человек губернию…
Леся отложила в сторону прочитанную рукопись. Мысль работала напряженно, до боли. Образ Владимира Малеванного затмил реальный мир. Один, второй, третий храбрец… Бесконечная цепь храбрецов, но своей воле, во имя счастья людей пошедших на смерть.
Чернышевский без страха и сомнения ринулся в бой с самодержавием. В этом смысл его жизни, его призвание. В этом внутренний долг, долг перед народом. Может, когда-то в далеком будущем человечество станет единым в своих общественных устремлениях, и тогда исчезнет потребность в самопожертвовании?.. Пока же борьба неизбежна, она разгорается, рождает героев, сопровождается неминуемыми жертвами.
И снова — в который раз! — всплыла мысль о собственной физической неполноценности. Если бы не это, Леся избрала бы путь революционной борьбы — честный и прямой… Тогда она еще не догадывалась, что своим страстным поэтическим словом свершит подвиг не менее значительный. Она этого не знала и понапрасну терзала свою душу. Но понапрасну ли? Может быть, и это помогло ей так высоко взлететь?
18 мая 1890 года, в зеленую субботу, Леся писала брату: «Милый Миша! Я воскресла! И снова берусь поднимать на гору «сизифов камень»… Позволь по такому случаю привести цитату из моего нового стихотворения — «Без надежды — с надеждою»:
Я на гору круту крем'яную
Буду камінь важкий підімать,
I, несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать.
Я співатиму пісню дзвінкую,
Розганятиму розпач тяжкий, —
Може, сам на ту гору крутую
Підійметься мій камінь важкий.
Таких стихов наберется десяток. Эхма, — тем много, а времени так мало!
Как ты полагаешь, поднимется? Эх, вряд ли, — не такой это камень!.. Видишь ли, и я так думаю, — не миновать мне ножа немецкого — мама говорит, что зимой поеду в Бену… Сейчас снова хожу на костылях, болят ноги в стопе, и из-за этого хожу по-кошачьи, да еще спина болит сильнее, чем прежде, — и трех минут не могу просидеть. Вот, Михайлику, какая твоя сестра ленивая! Видит бог, совсем ленивой стала: для собственного развлечения и разрядки пишу маленькие стихотвореньица, а работы никакой! Переводов — ни одного… Увидимся ли мы с тобой до осени? Мне в Киев пока что путь заказан. Неужто не приедешь и ты к нам, здесь уже земляника вызрела. Леса наши шумят, рожь наша волнуется, сады зеленые расцвели, — у нас теперь настоящий рай!.. Ох, не удержусь — запою!
Соловейковий спів навесні
Ллеться в гаю, в зеленім розмаю,
Та пісень тих я чуть не здолаю,
I весняні квітки запашні
Не для мене розквітли у гаю…
Увы!.. Я еще ни разу не была в роще…»
Такие обстоятельства и настрой растревоженной души помогают глубже понять знаменитое Лесино «Contra spem spero». Каждая строка, каждое слово этого произведения — крик наболевшего сердца, стремление вырваться из тисков жестокой судьбы. Здесь нет места вымыслу: ни символов, ни громких и цветистых оборотов, ни малейшего расчета на эффект — одна лишь правда, действительность, искренность. «Золотая весна», «молодые годы», «слезы горячие», «думы седые» — все это, собственно, не аксессуары стиха. Несколько штрихов, упоминаемых в письме, говорят о жизненном фоне, на котором возникла эта вещь: «Зеленая суббота, 18 мая. Среди осоки зелень и цветы…»
Поистине контраст разительный: золотая весна, мелодии лета, а над всем этим — осенние седые тучи, «темнота глухая и унылая», и «смерть налегла мне на грудь». Конечно, все это — индивидуально сложившиеся обстоятельства, абсолютно личное настроение, но какая сила и искренность чувств! И еще одно, пожалуй, главное: в каждой строфе фон безнадежности и беспросветности перекрывается надеждой, призывом к борьбе. И здесь — ни теня позерства, бахвальства:
Да! И в горе я петь не забуду,
Улыбнусь и в ненастную ночь,
Без надежды надеяться буду,
Буду жить! Прочь, печальные, прочь!
А о том, что это настроение не преходящее, мимолетное, а устойчивое, перерастающее в убеждение, свидетельствует цикл «Семь струн», написанный вслед за «Contra spem spero».
Из каждой струны нотного ряда — от «до» до «си» — «извлекала» Леся отдельное стихотворение. В каждом из них — оптимизм, уверенность в своих силах, в конечной победе. Угрозы злых туч не страшны:
Эй вы, тучи, злые тучи!
Будет вам отпор могучий,
Песни-стрелы я достану,
Я сражаться с вами стану.
В этом же цикле есть сонет, посвященный фантазии. Здесь уже общественно-политические и социальные мотивы звучат сильнее:
Фантазия! Ты чарами полна,
Ты сотворила мир в пустующем просторе…
Фантазия, ты мне сказать должна,
Как облегчить людское злое горе?
Как новый мир из старого воздвигнуть?
Как чувства равнодушному постигнуть?
Как мысль живую в спящий ум вдохнуть?
Несмотря на молодость, Леся хорошо умела владеть собой, своими чувствами и настроениями. Она прекрасно сознавала, что путь гражданского, революционного поэта устлан не розами, а шипами. Грусть, тоска, печаль, порою и сомненье еще не однажды навестят ее. Что же делать тогда? Развеять их в шумных сборищах друзей? Нет, забытья не принесет многолюдная толпа, ты в ней утонешь, но горе твое останется с тобой. Лучше в темную рощу или в поле, где ветер смелеет…
Или громкую песню запой веселей,
Чтоб само засмеялося лихо,
И тогда разлучишься с тоскою своей
И на сердце опять станет тихо…
Медлить с лечением ноги было уже невозможно, и после рождества решено отправиться в Вену. Видимо, придется месяца три пролежать, потому лучше сделать операцию зимой. Ужасная штука — скитаться по клиникам. «Это — настоящий ад!» — говорила Леся. Да и нож хирурга страшен. Но что делать, пускай режут, лишь бы выручили из беды. «Зато утешала себя тем, что увижу Европу; пожалуй, Украину тоже можно назвать «Halbasien», как Вы прозвали Болгарию», — писала Леся Драгоманову.
Студеным январским утром 1891 года простился Петр Антонович с женой и дочерью, посадил их на поезд Киев — Волочисск. Еще во время сборов намечено было на несколько дней остановиться во Львове, чтобы повидаться с галицийскими писателями и договориться по литературно-издательским делам.
Во Львов (тогда имевший официальное немецкое название Лемберг) прибыли поздно. Остановились в приветливой и чистой гостинице с явной печатью подражания лучшим европейским отелям. Назавтра побывали в редакции журнала «Зоря», где обе — и дочь, и мать — печатались, затем заторопились к Ивану Франко, не раз уже приглашавшему Ольгу Петровну в гости.
В доме их встретила жена писателя, давнишняя знакомая Ольги Петровны. Разговорились о жизни, о литературе. Ольга Федоровна, закончив Харьковский институт благородных девиц и Высшие женские курсы, увлеклась своим будущим супругом, его талантом, прогрессивными взглядами. Она заботилась о муже, старалась быть помощницей в его делах.
Однако не могла не грустить, вспоминая родные края. Ольга Франко расспрашивала о киевских новостях, общих знакомых, друзьях. Не сдержалась и рассказала о том, как нелегко живется семье, да и самому Франко. Хорошо еще, что есть преданные, разделяющие его взгляды и замыслы друзья — Павлык, Лукич, Гнатюк… Поговорили о детстве Ивана Яковлевича: вырос в большой крестьянской семье, любил одиночество, лес, реку, любил бродить по росе, а зимой босиком бегал по снегу. И никогда не болел. Пас гусей, а потом коров, лошадей…
— В первые месяцы после замужества, — продолжала рассказ Ольга, — я как могла помогала ему: когда бывала в селах, записывала народные предания, легенды. Даже специально ездила собирать нужный материал. Переписывала рукописи, днями копалась в книгах, подбирая понадобившиеся ему факты, данные. А теперь руки не доходят — дети мал мала меньше, нужда…
Вечерело, когда распахнулась дверь и на пороге появился Иван Франко. Олена Пчилка поздоровалась с ним, как с давним и добрым знакомым. Леся же видела его впервые. Неужели это тот самый Каменяр,[19] который могучим голосом зовет дробить тяжелым молотом гранитную скалу, вставшую на пути миллионов трудящихся к лучшему будущему? Облик, манера вести себя были настолько непосредственными, что, казалось, чересчур опрощали его. Даже интеллигентное платье не могло перелицевать простонародный вид Франко в господский.
Завязался разговор, и Леся увидела жизнерадостного, простосердечного и остроумного человека, который не мог не вызвать к себе чувства симпатии. Лесю поразила энциклопедичность знаний Ивана Франко: создавалось впечатление, что он знал буквально все. Книжные новинки, последние романы, новеллы, стихи, пьесы, театральные постановки, конгрессы, сессии — этим не удивишь, этим живет литератор. А вот то, что он досконально знает различные промыслы, сельское хозяйство, кооперацию, жизнь животных и растений, знает, как построить сельскую хату и вышить рубаху, что ему известны обряды индийской и египетской религии, — это совсем другое! Форма рассказа, объяснения даже сложных и абстрактных вопросов была удивительно логичной и понятной — все становилось ясно как на ладони.
Леся не могла скрыть своего восхищения и сказала об этом вслух. Франко слегка смутился, а потом решительно возразил:
— Да нет же, все это пустяки… Если человек имеет голову на плечах, да к тому же записную книжку и карандаш, он много сумеет. Послушайте, расскажу вам по этому поводу об одном приключении, которое стряслось со мной в прошлом году.
И он поведал забавную (но не без морали) историю. Сидят они с польским поэтом Яном Кастровичем в ресторане, ужинают. Вваливаются трое здоровенных, крепких, как медведи, подвыпивших стариков и через четверть часа поднимают страшную кутерьму. Один из них, лесничий, выхватил револьвер и начал размахивать им. Другой, лесоруб, — за топор. Франко спокойно поднялся со своего места, налил разбушевавшимся стариканам по рюмке и, улыбаясь, промолвил: «Выпьем за знакомство… Я вижу, что вы меня не узнаете, а это нехорошо. Может, вспомните, где мы с вами встречались?»
Все трое взглянули на него, на мгновение задумались, а затем лесничий, все еще распаленный, буркнул: «Не припоминаю!» — «Ну, это не беда, — ответил Франко. — Если бы я жил в лесу, как вы, я точно так же не обращал бы внимания на людей». С этими словами он по-хозяйски сел на скамью, вынул из кармана блокнот, карандаш и попросил: «Будьте так добры, повторите еще раз, как вы бранились. Я хочу записать некоторые ваши выражения — уж больно они сочные, народные. Я — писатель и хочу употребить их в одном рассказе о жителях леса». Забияки переглянулись и начали слушать внимательнее. Записная книжка сыграла свою роль. Франко начал объяснять лесорубам, что такое фольклор, словно ни револьвера, ни топора, ни ссоры ничуть не бывало…
На следующий день Леся и ее мать в сопровождении Ивана Франко присутствовали на импровизированном вечере, устроенном в их честь львовским клубом «Просвиты». Три небольшие комнаты. Одна из них, попросторнее, называлась залом. У стенки расставлены стулья, их уже заняли солидные дамы — матери. Дочери же, одетые в красивые, белоснежные платья, сбились в кружок в центре зала; парни выстроились у двери.
Поплыли звуки вальса, «кавалер» из строя парней подходил к девушке, приглашал, делал тур вальса по кругу и отводил ее на то же место. Снова учтивый поклон, и парень возвращался к двери или выбирал другую девушку. Играли только вальс и венгерку. Вечер продолжался до двенадцати часов, и все это время бедные девчата простояли посреди зала.
Леся впервые была на такого рода вечере и всему удивлялась. Она обратилась к Франко:
— Как странно! Здесь ведь все свои, а относятся друг к другу как незнакомые. Никто и слова не промолвил. Почему?
— У нас такой обычай: во время танца разговаривать нельзя, сразу же скажут, что флиртуешь. А это самый тяжкий грех…
Побывали Косачевны и у профессора Шухевича, где обычно собирался цвет местной интеллигенции. Почти все время Леся находилась рядом с Франко, чутко опекавшим гостью.
— Панна Леся, знакомьтесь. Мой товарищ, тот самый Михаил Павлык, который вас так интересует…
Павлык не выделялся ни внешним видом, ни поведением, ни голосом. Одет был скромно: темный пиджак, темно-серые брюки, на высоком воротничке белой рубахи маленькая черная бабочка. По глазам, в которых будто застыли спокойствие и неподвижность, не догадаться: возмущен он или доволен, радуется или грустит.
Леся обратилась к нему обрадованно и растроганно:
— В самом деле, я очень хотела поблагодарить вас, господин Павлык, за журналы и книги, которые вы пять лет назад прислали нам в Колодяжное…
— А я вдвойне рад нашему знакомству. Рад, что вижу вас, молодую писательницу Украины — Лесю Украинку. А во-вторых, мне очень приятно то, что вы родственница чудесного человека — Михаила Драгоманова, расположением и дружбой которого я горжусь. Скажу откровенно, меня пленяет и ваш псевдоним — Украинка, который так вам к лицу, словно вы с ним и родились…
В непродолжительном разговоре с Павлыком Леся ощутила в этом невысоком и болезненном на вид, застенчивом и незаметном в обществе человеке скрытую энергию, несокрушимость характера. Это впечатление укрепилось еще больше, когда несколько позже Франко привел фрагмент из своего разговора с Павлыком.
— У тебя, Иван, есть семья, — говорил он, — тебе есть для кого работать. А я должен остаться один. И так лучше, если погибну, по крайней мере, никто слезы проливать не будет. Ты бери город. Там рабочий сознательный, с ним легче говорить. А я возьму село, там труднее, что я за неделю успею — батюшка в воскресенье разрушит…
Верным другом и помощницей Павлыка была сестра Анна, как и он посвятившая жизнь борьбе за освобождение народа…
Среди львовян, провожавших гостей в столицу Австрии, был и Михаил Павлык. Леся произвела на него глубокое впечатление своим умом. Никогда прежде не встречал он девушку, так всесторонне развитую, с такой свежей и ясной мыслью. Даже не представлял себе, что в девятнадцать лет может раскрыться перед человеком такой огромный мир, что в таком возрасте можно мыслить так масштабно. Конечно, никакого сравнения с галицийскими панночками — даже постарше, — работающими на литературной ниве. Свое восхищение Павлык передал в письме к Драгоманову:
«Не так давно была здесь Ваша сестра с дочерью. Я очень рад был ее увидеть и узнать… Я представлял ее совсем другой, теперь же увидел тихую, серьезную женщину, — об уме ее нечего и говорить. Ну, а Леся просто ошеломила меня своим образованием и тонким умом. Я полагал, что она вся в мире своей поэзии, но оказалось, далеко не так. Для своего возраста она гениальная женщина. Мы много беседовали, и в каждом слове ее видел я ум и глубокое понимание поэзии и человеческой жизни. Весьма интересно и полезно, чтобы ее поэзия и другие литературные труды (на которые она, по-моему, способна) перешли на социальное поле».
Перед отправлением поезда Франко, Павлык, Шухевич сердечно приглашали Ольгу Петровну и Лесю на обратном пути подольше погостить во Львове.
Присмотревшись к общественно-политической жизни в Галиции, а несколько позже и в Вене, Леся убедилась, что правительственный либерализм, даже освященный парламентом буржуазно-республиканского или конституционно-монархического государства, не приносит народу ни свободы, ни счастья, не избавляет его от эксплуатации, насилия и обмана. Народ Галиции находился под тройным гнетом — собственного украинского панства, австрийского (государственного), и польского (помещичьего). Осуществлялась эта политика руками реакционной проавстрийской партии «народовцев».
В ноябре 1890 года, накануне Лесиного приезда, ведущие народовские деятели (О. Барвинский, А. Вахнявин, Ю. Романчук и др.) заключили соглашение с австрийским наместником в Галиции графом Бадени, по которому «народовцы» в обмен на мелкие подачки правительства (несколько мест в парламенте, открытие украинской гимназии, введение украинского фонетического правописания и т. п.) обязались быть во всем солидарными с политикой австрийского правительства и польских господствующих кругов. Отныне провозглашалась «новая эра» в отношениях с польской шляхтой и австрийским правительством.
В вопросах украинского языка «народовцы» вели жестокую полемику с «москвофилами», объединявшими ту часть галицийско-буковинской интеллигенции и духовенства, которая ориентировалась на реакционные силы царской России. В.И. Ленин писал, что москвофилов в России поддерживала «самая реакционная партия, Пуришкевичи и K°, партия крепостников, возглавляемая царизмом».[20]
Хоть эти партии и враждовали между собой, но, по существу, их политические платформы не отличались друг от друга. «Основа обеих наших партий, — писал И. Франко, — одна и та же, разница между ними чисто формальная. Эта ли партия побеждает, та ли — для народа польза одинакова — никакой».
В противовес «народовцам» и «москвофилам» по инициативе Ивана Франко и его товарища и единомышленника М. Павлыка в Галиции в 1890 году образовалась крестьянская «Радикальная партия». Она на первых порах отстаивала интересы трудящихся, развенчивала грабительскую политику австрийского правительства и его приспешников — быстро обогащающихся украинских буржуа. Но со временем эта партия выродилась в обычную буржуазно-реформистскую. В 1898 году И. Франко вышел из нее.
Леся быстро сориентировалась в этих межпартийных перипетиях. Она остро осуждала соглашательство и предательство народных интересов, продемонстрированные «народовцами», с другой стороны, одобрительно отнеслась к радикалам и их журналу «Народ».
Галицийский вопрос волновал Лесю долгие годы. Не однажды возвращалась она к нему в статьях и особенно в письмах. Вмешивалась и непосредственно в галицийские и буковинские дела, когда приходилось бывать там. Она понимала, что «поповство вместе с клерикализмом еще сильно в Галиции, но тем более нужно с ним бороться, а не потакать ему, потому что оно может высосать из народа все здоровые жизненные соки. Галиция ныне уже не прежняя, — писала Леся, — соглашатели остались на бобах, потому что вся галицийская общественность, кажется, скорее бы с чертом помирилась, чем со шляхтою, в этом я уже уверена, потому что хорошо присмотрелась к здешним польско-русинским отношениям».
Художественно-эстетические дела в Галиции тоже обстоят неважно. Отсталость, заметная невооруженному глазу, особенно в сравнении с надднепрянской Украиной. И не где-нибудь, а в среде радикально настроенной интеллигенции.
«Здесь еще возможны споры, — пишет она брату Михаилу, — подобные таким: что лучше — Шиллер или новые сапоги, Венера Милосская или куль соломы и т. п… Ежедневно спорю с «сечевиками» о неоромантизме, о поэзии и вчера все же заставила их признать, что в литературе важнее портреты, а не фотографии (понимаешь разницу?), что без «выдумки» нет литературы, что подлинно реалистическим описанием можно назвать только то, которое перед глазами читателя создает яркую и выразительную картину… Из современных писателей они больше всего ценят Золя и ставят его выше остальных французских писателей, которых они, правду сказать… и не читали!»
Одним словом, Галиция мало порадовала Лесю. Впечатления несколько противоречивые (как-никак заметны хоть эфемерные конституционные свободы относительно украинского слова, австрийский цесарь не подписывает указов о запрещении украинской литературы и культуры, не рассылает циркуляры о том, что «нет, не было и быть не может никакого особенного малороссийского наречия…»), однако общий вывод был таков: произвол правительственных чиновников и польской шляхты, имевшей на местах больше фактической власти, чем сам Франц-Иосиф, а также униатское духовенство, собственная русинская реакция сводили на нет и эти мизерные свободы.
С такими мыслями продолжала Леся поездку на запад.
Ночью поезд миновал Краков, Одерберг, а утром приближался к Вене. Прогремел по Дунайскому мосту и через две минуты остановился под стеклянной крышей Северного вокзала. На привокзальной площади Косачевны увидели новейшее достижение техники, очередное «чудо» — электрический трамвай. Новенькие, окрашенные в ярко-красный цвет вагончики сверкали в лучах зимнего солнца. Рядом чинно выстроились одно- и двуконные экипажи. Ольга Петровна попросила извозчика ехать в гостиницу «Централь».
Обстоятельно выяснив, каким образом будет проходить лечение, переселились на квартиру в старой части города по улице Флориана: всего квартал до больницы, вблизи административных, учебных, научных и художественных заведений — различных министерств, Академии наук, университета, консерватории театров, музеев и т. п.
«Мы живем в старой, очень красивой части Вены, — писала Леся, — недалеко от нас начинается Burg[21] (императорский дворец и парк), там же Burg-theater,[22] недалеко ратуша (Rathaus[23]), все прекрасные здания разного стиля, они сплошь покрыты орнаментикой и украшены скульптурами так, что даже непривычно все это видеть. И когда эти люди успели столько всего понастроить? Статуи — словно фарфоровые игрушки — и, кажется, ничего не стоит накупить их десятками. Что ни дом, то кариатиды, атланты, маски, гении и бог знает что! Такого прекрасного города, как Вена, может, и в мире нет. А общественные здания, концертные залы, театры! Какие украшения, сколько скульптуры, живописи, орнаментики разнообразной — страх! Однако сколько ни пиши, всего не опишешь…»
Архитектура, высокий уровень культурной жизни — все это выдвигало Вену в те времена в число выдающихся городов мира. Не случайно существовала поговорка: Вена — музей искусства и колыбель музыки. Семисотлетняя столица Габсбургской империи поглощала богатства и таланты многих завоеванных и угнетенных ею народов. Она славилась такими древними архитектурными ансамблями, как знаменитый собор святого Стефана — прекрасным образцом немецкой готики, — который возводился, достраивался и перестраивался в течение веков. В основной части собора, воздвигнутой в XIV столетии, — южная башня, имеющая рекордную высоту среди подобных сооружений Европы — 137 метров. Внутри собор покоится на 18 сводах, украшенных многочисленными статуями.
Позже (XVII–XVIII вв.) архитектурный ансамбль Вены пополнился всемирно известными дворцами в стиле барокко: Шенбрунн, Бельведер, Шварценберг и др. Только выдающихся в архитектурном отношении театров Вена насчитывала двенадцать (большинство на полторы-две тысячи мест).
Из венских улиц и проспектов наибольшее впечатление произвел на Лесю Ринг (Рингштрассе), четырехкилометровой подковой охвативший так называемый внутренний город. Посреди Ринга бульвары, а по обе стороны разместилось все выдающееся и примечательное, чем богата Вена. Среди площадей и парков выделяется, в частности, площадь Марии-Терезии с колоссальным двадцатиметровым памятником этой императрице; площадь Шиллера с памятником.
В восточной части Ринга, по соседству с квартирой Косачей, — огромный красивый городской парк, украшенный статуями — фигурами нимф Дуная, памятниками Штраусу и Шуберту. Вена привлекла к себе Лесю еще и потому, что была школой, пристанищем и родиной многих выдающихся композиторов и музыкантов — достаточно назвать Моцарта, Бетховена, Шуберта, Штрауса, Глюка, Гайдна, Листа, Брамса.
В те годы в Вене учились, жили и работали некоторые украинские писатели, общественно-политические деятели, художники, композиторы. Здесь издавались книги, альманахи, газеты, журналы. Созданное под руководством единомышленника Ивана Франко — Остапа Терлецкого — украинское культурно-просветительное общество объединяло эту прогрессивно настроенную интеллигенцию.
По числу жителей Вена занимала тогда четвертое место в Европе. Но толчеи на улицах не было, и это импонировало Лесе и ее матери. Обстоятельства сложились так, что они в избытке располагали свободным временем и ежедневно совершали экскурсии, хотя Лесе они давались с трудом.
Что касается лечения, то Лесе так и не пришлось лечь «под немецкий нож». Известный венский врач Теодор Бильрот решил проводить лечение без хирургического вмешательства, полагаясь главным образом на гипсовый бандаж с месячным постельным режимом, а затем намеревался применить специальное устройство — аппарат для стопы.
Такому повороту Леся была и рада и нет. Таила надежду, что в Вене, после операции, наконец прекратятся ее мучения. А теперь увидела, что хлопот предстоит немало, что снова придется по «чужим украинам» скитаться.
Пока что жила в Вене относительно спокойно, знакомилась с городом, бывала в театрах, кафе. Обидно только, жаловалась Леся, что очень трудно привыкнуть к венскому диалекту. Ходит она здесь как глухая — а ведь немецкий знает превосходно.
В Вене Леся часто посещала драматические и оперные спектакли, музыкальные концерты, смотрела и слушала выдающихся артистов Италии, Франции, Германии и других стран. Впервые в жизни слушала в таком мастерском исполнении произведения Вагнера, Моцарта, Бетховена, Мейербера, Галеви и радовалась тому, что была достаточно подготовлена для восприятия настоящих произведений искусства. Ни роскошь и блеск декораций, ни обольстительная призрачность сцен, ни прославленные имена исполнителей — ничто не ослепило Лесю. За великолепием и изысканностью она сумела увидеть анахронизм и отсталость отдельных спектаклей, их эклектический стиль: то ли романтизм, то ли мелодраматизм — не поймешь…
Встретив афишу итальянской труппы о спектакле А. Толстого «Иван Грозный», Леся решила обязательно посмотреть, как это «итальянцы по-итальянски будут царскую тиранию представлять! Вот смеху-то будет!». Немного времени спустя Леся сообщала сестре Лиле о том, что смотрела детский спектакль «Сказки о мачехе-царице». Интересно было наблюдать игру артистов детского возраста, чего она никогда не видела. Особое наслаждение получила от оперы Верди «Отелло». Дездемона так прекрасно пела песню об иве и «Ave Maria», что хотелось плакать. Некоторые зрители рыдали. Женщины в театре здесь часто плачут.
Очаровательные спектакли и зрелища, великолепная архитектура, прекрасные парки и площади, спокойная, свободная жизнь в «свободном» конституционном государстве — ничто не могло успокоить Лесино сердце, убаюкать ее мятежную душу. Если что и увлекало, то ненадолго. Скорее всего ее больше занимали общественно-политические проблемы.
В письмах из Австрии Павлыку, Драгоманову, М. Косачу, семье и даже тринадцатилетней сестренке она в основном говорит о своих впечатлениях, наблюдениях, чувствах и выводах и меньше всего о болезни.
Так уж повелось — в тот период, да и потом, — если ее собственная жизнь складывалась хотя бы на йоту лучше, более или менее спокойнее, еще сильнее терзали душу мысли о родине, о народе. В Вене Леся явственнее ощутила, осознала горькую судьбу своего народа, изнемогающего под невыносимой тяжестью буржуазно-помещичьего гнета, в условиях ненавистной деспотии — самодержавия.
Примечательные и противоречивые строки! Кажется, Леся в самом деле признает наличие свободы в буржуазном государстве, ее привлекает то, что люди могут собраться там, где они хотят, говорить о чем угодно, о делах своей страны… Этот внешний контраст между жизнью на Украине и здешней жизнью вначале ослепил ее. Этому способствовало, видимо, и то, что приехала она в Австрию в разгар предвыборной кампании: собрания, речи, общества — все это было очень необычным, новым, так что она и «не замечала массы подкупа, доносов, обмана, мошенничества, которые также обнаружились накануне выборов». Только при более пристальном рассмотрении окружающей жизни постепенно раскрывались глаза: «Поразили меня в здешней выборной кампании так называемые «расходы на агитацию», попросту говоря, грубый подкуп! У кого больше денег, того и партия крепче…»
На смену первым поверхностным выводам приходят другие, основанные на более критическом восприятии действительности, на анализе и сопоставлении фактов. Она по достоинству оценила парламентские «свободы», громкие либеральные лозунги — рассмотрела за ними настоящее лицо «конституционной монархии», принесшей свободу буржуазии, но не народу. Так что парламентаризм в такой ситуации — чистое шарлатанство, и австрийский народ вряд ли назовешь свободным!..
Лечение завершилось. Пора возвращаться на Украину. «Сегодня пришли врачи и принесли аппарат, надели на ногу, запрягли меня и ушли, — пишет Леся своей сестренке. — Аппарат этот не такой, как варшавский, — совсем иначе устроен. Кажется, мне удобно будет с ним ходить… Этот аппарат лучше гипса, с ним очень удобно сидеть, а ходить можно где угодно, даже без палки, но я еще не рискую ходить совсем без палки, поэтому мама купит мне маленькую палочку или зонтик… Мы скоро возвратимся домой, но все-таки еще неделю пробудем здесь, так как нужно испытать аппарат».
Погостить во Львове, как намеревались, не удалось. Остановились в доме Ивана Франко, а на следующий день пришла полиция и предложила им, как иностранцам, немедленно покинуть город, ссылаясь при этом на предстоящие выборы в парламент. Вот тебе и хваленая «свобода»!
Но это уже не удивляло и не поражало — насмотрелись досыта.
20 марта Косачевны выехали из Львова и через два дня были дома, в Колодяжном. Полесская весна — сырая и холодная — вынудила Лесю тотчас же двинуться на юг, в Крым. Малярия атаковала с такой силой, что не позволила задержаться для встречи с семейством Ивана Франко, которое Косачи пригласили на лето к себе.
И в целом год выдался неблагоприятным: в Евпатории Лесю настиг тиф, и она переселилась в Бессарабию, чтобы подольше пожить на юге, там, где — не сравнить с Полесьем — тепло и сухо. «Итак, теперь я не у моря, хотя и под ясным небом, — писала она Драгоманову 22 августа, — теперь я на Днестровском лимане у Аккермана, в французской колонии Шаби (швейцарские колонисты приехали сюда в 20-х годах разводить виноград и разводят его до сих пор). Жить здесь так себе, но уж больно скучно. Лучше быть в Ваших лесах, чем ходить здесь у лимана… Что это Вы вздумали болеть? Непорядок это! Вы уж лучше эти привычки оставьте мне, Вам они — не к лицу».
Голый пустынный лиман Приднестровья и однообразные аккерманские пейзажи, чужие и непривлекательные для волынянки, вскоре вконец опостылели. И потому Леся очень обрадовалась, получив письмо от отца с предложением возвращаться домой. Попутно он сообщил новости.
Первая. Чтобы вольготнее было семье и удобнее для Леси, летом в колодяженской усадьбе выстроен отдельный флигель (шале) для старших детей — Леси и Лили (очень скоро его назвали Лесин Белый домик). Комнаты в нем были сухие, светлые, с высокими потолками. В самый раз для Леси. «Худое в таком расселении состояло в том, — вспоминал Петр Антонович, — что Леся нередко засиживалась допоздна, и надо было идти в этот домик в два-три часа ночи и убеждать ее в том, что это вредно. На меня обрушивался гнев дочери и неотразимые аргументы — образ жизни матери и других литераторов — этих «ночных созданий». По моим наблюдениям, такой способ писания для Леси чрезвычайно вреден, и другой раз посетуешь: зачем ее судьба наделила писательским талантом. Не удивляйтесь — в старости ворчанье и брюзжанье вещь распространенная. К тому же я никогда не принадлежал к числу идолопоклонников, то бишь литературных энтузиастов. Еще будучи молодым, убедился, что чистое поле нередко только засоряют черными семенами и что вторая часть известной поговорки («Кто его сеет, тот разумеет») несправедлива — многие из тех, кто сеет, не только не разумеет, но чаще всего ни черта не знает, врет и прямо-таки продается».
Второе приятное известие — отец перешел на службу в город Ковель, в семи километрах от Колодяжпого, и наконец будет жить вместе с семьей. Леся отвечала отцу: «Милый папа! Лучшего подарка, как позвать меня домой, ты не мог бы и придумать. Мне уже надоели эти юго-восточные стороны, и теперь это все равно, если бы ты простил мне год ссылки. Теперь я предполагаю выехать отсюда 8 сентября. Недельки две пробуду в Одессе… Может, для меня и вправду зимой лучше дома. Конечно, в Крыму климат благоприятный, но ведь много денег потребуется… Не скрою, зимы боюсь, но ведь я ее боюсь и здесь: как только наступает похолодание — сразу не по себе делается. Пусть уж дома, с помощью нового камина, «юг устраивать» буду. Но ты не думай, что лето для меня зазря потеряно, нет, нога начала побаливать, а затем успокоилась…»
Однако не только болезнь тревожила Лесю. Неотступная, навязчивая мысль о том, что она «должна такой отшельницей жить», что она «не приносит добра ни людям, ни себе», постоянно угнетала и мучила ее. Хроническое недомогание, не позволявшее целиком отдаться литературно-общественной работе, с головой окунуться в борьбу, было для Леси несравненно большим горем, чем боль физическая.
«Напрасно Вы думаете, — отвечала она М. Павлыку, — что у меня только и забот, только и мыслей о моем здоровье, то бишь о болезни, — будь это так, то никакой беды бы и не было и не о чем было бы говорить».
Путешествуя по южным краям, Леся не упускала ни малейшей возможности, чтобы засесть за свои «улиты». Кроме переводов с французского и немецкого, кроме нескольких десятков прекрасных писем родным и друзьям, она написала цикл стихов «Крымские воспоминания», а также отдельные стихотворения, в которых звучат — пусть нечетко и невыразительно — освободительные мотивы.
О бедный народ мой! Страдая невинно,
В цепях мои братья почти бездыханны.
Увы, незажившие страшные раны
Горят на груди у тебя, Украина!
Закипают чувства от позора невольничьего, бьется мысль в сетях бессилия:
Когда ж это минет? Иль счастья не стало?
Проклятье рукам, онемевшим в бессилье!
Зачем и родиться, чтоб жить, как в могиле?
Уж лучше б смертельною мглою застлало
Печальные очи, чем жить нам в позоре!
Поэтесса видит и понимает, что народ, вся страна стонет, истекает кровью в тисках социального гнета. В отчаянии сердце рвется на части. Но что же делать? Рыдать?
В слезах я стою пред тобой, Украина…
О горе мое! Для чего эта мука?
Чем может помочь тебе тяжкая эта кручина?
И это тягостное уныние, тоску и слезы прерывает решительная мысль, растущая уверенность в том, что «восстанем мы, когда душа восстанет»:
Тогда душа воспрянет от недуга
И ото сна пробудится недаром.
Она размечет все свои преграды,
Она заснуть, как прежде, не сумеет,
Она бороться будет без пощады,
Она погибнет или одолеет.
Бывая изредка, чаще всего проездом, в Киеве, Леся поддерживала отношения с «Плеядой», резко осуждая при этом тех, кто проповедовал «оппортунистическо-рациональную политику» по отношению к правительству.
Среди киевских кружков молодых литераторов был один исключительно женский. Леся была знакома со многими его участницами, но ей претила организационная кастовость, и она радовалась, когда этот кружок объединился с «политиками», где большинство составляли мужчины и где господствовал «политический», а не «культурнический» дух. Слово «политика» подчеркивалось в противовес слову «культурничество». И еще был один кружок, на собрания которого приходила Леся, — кружок «Млечный Путь», организованный Галиной Ковалевской, дочерью единомышленника Драгоманова Николая Ковалевского.
Участие в деятельности этих кружков было полезным для Леси прежде всего тем, что она знакомилась с библиотеками, которые наполовину комплектовались нелегальной литературой, приобретаемой на средства из членских взносов. Были здесь и программные библиографические списки литературы, составленные с целью подготовки молодых революционных пропагандистов. В кружке «Политика» не удовлетворялись культурно-просветительной программой, не верили в политические реформы, считали их вещью неосуществимой и бесцельной. «Мы понимали потребность идти «в народ», — пишет в своих воспоминаниях участница этого кружка Мария Беренштам, — опереться на народные массы, но совсем не знали, как это сделать… Мы считали, что идти на село следует не для того, чтобы учить детей читать и писать, но проводить там пропаганду, организовывать более сознательных крестьян и сельскую интеллигенцию в политические кружки».
Для этой-то цели и создавались рукописные программы литературы для кружков, конечно нелегальных. Эти программы, а точнее, указатели литературы для самообразования были чаще всего на русском языке и в переводах с европейских. Наибольшей популярностью пользовался список, начинавшийся с так называемой «тенденциозной беллетристики», то есть романов социальной и радикально-социалистической направленности: среди них — «Что делать?» Чернышевского, «Кто виноват?» Искандера (Герцена), «Шаг за шагом» Омулевского, «Хроника села Смурина» Вологдина, «Подводный камень» Авдеева, «Два брата» Станюковича, «Сила солому ломит» Наумова, «Boa Constrictor» Франко, а также произведения Глеба Успенского, Щедрина и др.
Леся остановилась на несколько дней в Киеве. Не успели как следует и поговорить с братом, как Михаил, на полуслове прервав очередную фразу, заявил:;
— Да, Леся, ты очень кстати приехала.
— Почему же?
— Сегодня у Ковалевской собираются наши, и, если ты не валишься с ног, пойдем вместе… Там будут твои друзья, знакомые и незнакомые…
— Грех упускать такой случай. К тому же я и по Гале порядком соскучилась… А все же о чем речь будет идти сегодня?
— Это третье собрание после летних каникул. Кроме обычных рефератов, послушаем лекцию Антоновича но географии Украины…
Пришли к Ковалевским загодя, чтобы Леся могла поболтать с подружкой. Из кабинета, отделенного от просторного зала аркой, вышел хозяин, дружески поздоровался. Николаю Васильевичу было за пятьдесят, но седые длинные волосы и борода старили его. Красивые, классические черты лица поражали необычайной бледностью. Видимо, сказалась трагическая гибель жены (два года назад). Это заметно было и по фигуре Ковалевского, неуверенной походке, и по глазам, полным тоски.
А меж тем и формально и фактически разошлись они задолго до ее ссылки. Люди, знавшие их обоих, утверждали, что главной причиной разрыва было расхождение во взглядах. Николай Ковалевский принадлежал к прогрессивно мыслящей интеллигенции, но ограничивался либеральной программой. Его жена — Мария Воронцова — полностью разделяла взгляды «красных» — террористов-народников, признающих только «пропаганду фактами».
Мария Павловна прекрасно сознавала, что раньше или позже, но каторги, а то и виселицы ей не миновать. Чтобы не причинять горя семье и не разделяющему ее взглядов Ковалевскому, она решила расторгнуть брак. Но и после развода Николай Васильевич относился к жене бережно и уважительно. Позже, уже в тюрьме, поддерживал ее материально. Вместе с другими каторжанами Мария Воронцова отравилась — это был протест против произвола администрации…
Собрание открылось лекцией профессора Киевского университета, известного историка Владимира Антоновича. Затем по традиции началось обсуждение. Молодые участники разговора высказывались за более решительные действия. На что Антонович рассудительно отвечал, советуя исподволь вести подготовительную работу: «Пойдете вы в деревню, на завод, будете говорить там о самых злободневных делах: о самодержавной тирании, нищете, эксплуатации — все впустую. Никто и мизинцем не пошевелит, а то еще свяжут и поведут к исправнику. Когда же обстоятельства вызреют, достаточно будет малейшей зацепки, чтобы массы восстали… И тогда не нужны им речи «апостолов правды», они вмиг поднимутся, выдвинут из своей среды вожака-гения… Заранее никогда невозможно узнать, когда это случится, но готовиться к этому следует…»
На вопрос: в чем спасение? Что ждет Украину, ее народ? — Антонович отвечал неохотно и туманно. По всему видно было, что он избегал этой темы. Ответ сводился к тому, что либерализация политики самодержавия неминуема, и в результате на Украине возникнут школы с преподаванием на украинском языке, будут издаваться украинские книги и журналы…
Антонович умолк. Воцарилась тишина. Но вот поднялась стройная худенькая девушка с загорелым и не по годам суровым лицом. Леся встала у дивана, чтобы опираться на его спинку. Пыталась скрыть волнение, но оно пробивалось наружу, выдавало внезапной бледностью. Голос звучал тихо и тревожно, как натянутая до отказа струна.
— Господин профессор, выходит, нам надо становиться богословами или учиться на клерков для будущего «либерального правительства»?.. Я побывала в Австрии, в Галиции, встречалась со многими людьми и окончательно убедилась, что наши «украинофилы», точнее «старогромадовцы», — то же самое, что и русинские «угодовцы» — романчуки и барвинские. Те ползают на коленях перед своим «конституционным цесарем», эти — перед «царем — помазанником божьим», «отцом и радетелем». Видные «украинофилы» не раз писали «прошения» царю и его чиновникам о «кривдах Украины», не касаясь, разумеется, основ этих кривд. Не единожды набивались к правительственным кураторам с «откровенными разговорами», в которых отрекались от отца с матерью или пытались «обмануть москаля» в надежде, что он смилостивится и сделает поблажку, разрешит говорить на украинском языке в школе, в церкви; напечатать какой-нибудь украинский сборничек или, может… может, и газету, хоть какую-нибудь, а в придачу еще на почтовом ящике позволит написать по-нашему. Дальше этого «идеалы» «украинофилов» не простираются, они и думать не хотят о борьбе за социально-экономические права народа, они боялись и боятся собственной тени…
— А что предлагаете вы? — спросил кто-то из присутствующих.
— Спасительных рецептов у меня нет. Я только высказываю свое мнение. Мы должны решительно бороться против фаталистической, или, по-другому, попрошайнической, политики, которую исповедует уважаемый профессор. Дело не в подачках правительства, которое всегда отберет кроху, брошенную сегодня. Суть — в системе самодержавных порядков. Без изменения этой системы — радикального, бесповоротного — не может быть и речи о социальном и национальном развитии. «Украинофильство» давно себя изжило, и мы отказываемся от этого слова и от существа его. Над национальными чувствами и интересами мы должны поставить интересы социального освобождения…
Но каким образом достичь этого? Трудно сказать… Впрочем, вот что писали передовые люди Украины несколько лет назад.[24]
Леся вынула из сумочки брошюру, нашла отмеченную страницу и прочитала:
— «Мы не устраняемся от мирного, труда во имя общественного прогресса. Одновременно мы не питаем напрасных надежд. Нигде и никогда коренные изменения общественной жизни не совершались только мирным путем. На Украине, может быть, еще меньше, чем где-либо, можно предполагать, чтобы начальство и панство по своей воле отказалось от власти, и потому простому народу не обойтись без вооруженной борьбы и восстания (революции). Лишь это восстание предоставит в распоряжение хлеборобских и рабочих «громад» и обществ силы природы и орудия производства».
После выступления Леси говорили другие — из числа «политиков». Затем снова Антонович:
— Вы, молодое поколение, обвиняете старших в оппортунизме, соглашательстве, приписываете нам примиренчество. Вам кажется, что мы ничего полезного не сделали, а вот вы призваны историей выполнить великую мессианскую роль. Да будет вам известно, что, когда мы выходили на дорогу жизни, мы считали точно так же и то же говорили «своим старшим», правда, не в такой резкой и решительной форме…
— Что вы хотите этим сказать? — тихо спросила Леся.
— Я утверждаю: то, что мы делали, было закономерным, исторически необходимым, как, может быть, и то, что выпадет на вашу долю. Во всемирной летописи человечества найдутся целые века, которые сегодня нам представляются бессмысленными, ненужными.
Мир совершил столько ошибок, причем таких, что сегодня их не сделает и ребенок. В поисках счастья человечество нередко выбирало кривые, непроходимые дороги… Сколько раз оно даже среди бела дня сбивалось с пути и, остановившись у пропасти, с ужасом спрашивало себя: где дорога, где выход?
Нынешнее поколение видит эти фатальные ошибки и смеется над неразумными поступками своих предков, не слыша при этом, что каждая буква из летописи человечества неистово кричит о муках поисков, не замечая, что каждая страница той летописи указует перстом на него же, на сегодняшнее поколение.
А оно насмехается над прошлым и самоуверенно, самолюбиво зачинает ряд новых ошибок, над которыми так же когда-то посмеются потомки. Итак, не думайте, что только сегодня начинается день, что только вы познаете истину, а до вас были одни невежды…
Антонович закончил. На этот раз его слова произвели впечатление. Все здесь казалось справедливым. Молчание нарушила недавно приехавшая из Львова Надежда Новоборская:
— Мы не признаем такого разделения. Шевченко и Герцен выступали задолго до старогромадовцев, но мы не отбрасываем, а учимся у них. Драгоманов принадлежит к вашему поколению, но мы считаем себя его учениками.
— Что вы везде суете Драгоманова! — раздраженно воскликнул Антонович. — Хорошо ему быть «красным», сидя 15 лет в Женеве, где к нему и черт клюкой не дотянется, а попробовал бы в России! Конечно, безопаснее посылать молодежь на каторгу и в ссылку, чем самому проводить на практике эти «красные» идеи…
Этот открыто враждебный выпад больше всех возмутил Ковалевского. Гневно обрушился он на Антоновича, посоветовав ему самому попробовать эмигрантского хлеба и радости, прежде чем возводить напраслину на Драгоманова.
Отпор был настолько неожиданным и решительным, что Антонович стушевался и вскоре покинул собрание. А Николай Васильевич продолжал излагать свои взгляды на пути общественного прогресса и благодаря блестящим ораторским способностям быстро завладел аудиторией. Он говорил, как запомнила Леся, «с таким искренним убеждением, с такой болью, с таким электризующим взглядом, с таким порывистым жестом, что после его речи мы на две-три минуты застыли, как загипнотизированные. Потом зашумели, заговорили кто о чем — пламенно и хаотично. Иной увлекающийся оратор вскакивал на стул, как на импровизированную трибуну… Кто знает, чем закончились бы наши споры, если бы один из присутствующих не прекратил их громким аккордом 12-й сонаты Бетховена. Под звуки бетховенского presto встретили весенний розоватый рассвет…»
В 1893 году во Львове вышел в свет первый сборник стихов Леси Украинки «На крыльях песен». Книга была издана с помощью и при непосредственном участии Ивана Франко.
Это огромное событие не только для поэтессы, но и для всего литературного движения и культурной жизни Украины.
В июне того же года Леся по дороге в Гадяч остановилась в Киеве. Первыми, с кем она поделилась своей радостью, были Старицкие. Кроме сборника «На крыльях песен», Леся показала друзьям и книгу переводов Гейне, которая была издана за границей. Вот как описывает эти счастливые часы Лесиной жизни ее подруга.
Мы все вместе с автором расселись вокруг — отец блестяще читал стихи, его любили слушать. Перечитали подряд все Лесины стихи, а некоторые — по нескольку раз. Отец был в восхищении, он целовал Лесю и по своей привычке так крепко обнимал ее, что, ей-богу, тревожно становилось: как бы он не сломал ее в крепких объятиях…»
О небольшой книжечке заговорили по всей Украине — литературная общественность приветствовала рождение талантливого писателя. Выражая общее мнение о поэтическом даровании Леси Украинки, Иван Франко писал: «Со времен шевченковского «Схороните и вставайте, оковы порвите…» Украина не слыхала такого сильного и горячего слова, как из уст этой слабой, больной девушки». Правда, украинские эпигоны Шевченко не один раз рвали оковы, предвещали свободу, но это сводилось к заимствованию поэтических образов великого Кобзаря. Леся Украинка, подчеркивал Франко, не подражает пафосу шевченковской поэзии, у нее есть свой пафос, свой почерк.
Будучи вообще очень чутким человеком, Леся внимательно прислушивалась к отзывам критики на свой первый сборник. Не всякой похвале радовалась, а отрицательные, не очень лестные отзывы и мнения не отбрасывала. В одобрительной по тону и оценке статье Ивана Франко Леся нашла нечто причинившее ей душевную боль. Ей неприятно было, что критик вынес на всеобщее обозрение некоторые стороны ее личной жизни, всякий раз подчеркивая: «слабая, больная девушка», «тело у нее больное, но душа здоровая» и т. п. Неудовольствие это легко объяснить: ведь в то время Леся, как и каждая молодая девушка, встречала весну и мечтала не только о поэзии, но и о любви, о счастье. Именно по этому поводу, отвечая критикам, она говорила:
— Я хотела бы, чтобы меня судили со всей строгостью и откровенностью… Я никогда не обижаюсь, если судят мою работу, но не люблю критику, которая трогает меня как человека. И дело ведь вовсе не в том, что поэт молод или стар, болен или здоров, оптимист или пессимист, от этого его стихи не станут лучше или хуже…
Молодой писатель и журналист из Галиции Осип Маковей прислал Лесе рецензии, помещенные в газете «Дило», а также сообщил о том, что и сам напечатал в «Зори» критический разбор, и высказал некоторые соображения в письме к поэтессе. «Большое Вам спасибо, — отвечает Леся, — за присланные рецензии и письмо. Немного найдется людей, которые так старались бы утешить незнакомого человека. И правда, Вы доставили мне огромную радость. Только напрасно думаете, что я уже в таком отчаянном моральном состоянии, когда человеку ничто не мило, — как говорится, и божий свет не мил… Была бы я в таком состоянии, то, наверное, удержала бы при себе свои грустные и веселые песни, не заботясь о том, чтобы отдавать их в печать и распространять среди людей…..Я сама теперь вижу, что моя книжка получилась слишком печальной, и это портит впечатление. В общем, могу сказать, что хоть и немного времени прошло с тех пор, как вышла моя книжка, но если бы я издавала ее сейчас, то издала бы иначе. Ну, да что поделаешь! «Всяк задним умом крепок».
В этом же письме она решительно и резко возражает Маковею, который утверждал, что для понимания творчества поэта надо знать его биографию: «…Я не согласна с тем, что для понимания чьих-либо стихов необходимо знать биографию автора. Неужели мы, поэты (присваиваю себе это имя с разрешения критиков), и в самом деле должны вечно жить «на большой дороге» и отдавать людям на суд, — скажу даже, на съедение, — не только свои мысли и работу, но и всю жизнь… Я все же думаю, что любой человек имеет право защищать свою душу и сердце, чтобы не ворвались туда насильно чужие люди, словно в свою хату, — по крайней мере, пока жив хозяин… Утешаю себя надеждой, что я еще не сейчас Байроном стану, и никто не придет силком забирать мои биографические материалы… Кроме того, я думаю, что неправилен самый метод критики ad hominem[25] неправомерен, хотя его и признают новейшие французские критики».
Леся противится тому, чтобы критика расценивала любое лирическое стихотворение как страничку из автобиографии только потому, что в нем для большей выразительности употребляется местоимение «я». Что же касается грустного колорита ее стихотворений, то она уверяет Маковея, что это зависит от настроения, а последнее — «больше всего от того, какая погода в душе». И лучше всего пишется ей, когда на сердце ненастье., «Конечно, и у меня на сердце далеко не всегда идет дождь — избави бог, — но об этом, как вижу, нельзя не подумать, читая мои стихи. Я знаю, что это нехорошо, но ведь «натуру трудно изменить»…
Некоторые из литераторов, склонных к предсказаниям и прогнозам, высказали опасения: не станет ли этот «грустный колорит» самодовлеющим в творчестве автора. На это Леся ответила ясно и твердо: «Вы боитесь, что я не пойду вместе с духом времени, а останусь позади, — я так не думаю. «На крыльях песен» — не последнее мое слово. А если я собираюсь идти дальше, то, конечно, вперед, а не назад, иначе не стоило бы и выступать. В общем, я рада, что мои стихи вызвали критический разговор, — пусть люди ругают, только бы не молчали, и то хорошо…
Нашей литературе много чего недостает, но больше всего недостает хорошей талантливой критики… Боюсь, что наши критики смотрят на нашу литературу… с особой точки зрения, что она, дескать, молода, и судить ее так строго не следует, наоборот — нужно хвалить и пробудить в литераторах интерес хотя бы к какой-нибудь работе. Если дело обстоит именно так, то это очень жалко. Не знаю, как кто, но я бы хотела, чтобы меня судили со всей строгостию, не обращая внимания ни на мою молодость, ни на молодость нашей литературы, тогда бы я знала, как мне отнестись к этому суду».
Что же было в книге такого, что она заинтересовала, всколыхнула литературную общественность, вызвала споры, разноречивые мнения? Ведь украинская литература к тому времени уже успела заявить о себе всему миру такими славными именами, как Сковорода, Котляревский, Шевченко, Марко Вовчок, Мирный, Франко и др. Украинская поэзия жила, развивалась, в ней звучали мощные революционные мотивы. В ее сокровищницу вошли такие пламенные стихи и поэмы, как «Гайдамаки», «Сон», «Кавказ», «Энеида», «Сад божественных песен», «Каменоломы»…
Однако голос Леси Украинки прогремел новым, доселе неведомым свежим призывом. Писать о нищенской, горькой жизни народа, выставлять напоказ его извечные страдания — это устаревший мотив! Истинный поэт — не бесстрастный свидетель, нет, он трибун, всегда и во всем революционер. Это она хорошо понимала. Но как должно осуществиться это в творчестве? Как отыскать нужные звенья в нескончаемой цени событий, в водовороте жизни, чтобы достичь поэтических высот? Кто научит распознавать во тьме кромешной истину и ложь? Ведь поколение, к которому она принадлежит, еще не овладело «боевой наукой»:
Мечи давно заржавели, других
не выковали молодые руки;
все мертвые — в земле, а у живых
не боевой учились мы науке.
Леся Украинка понимала, что ее предшественники-поэты пели так, как требовало их время, и что не стоит вторить им. Надо найти свой голос, вести свою мелодию — в унисон ритму сегодняшнего и завтрашнего дня. Шевченко жил и творил в эпоху крепостничества и всю мощь своего таланта обратил против наибольшего зла — против рабства и деспотического самодержавия. Все надежды поэт возлагал на революционное крестьянство. Теперь, на исходе XIX века, ситуация изменилась. Крепостного права давно уж нет, однако жизнь народа не улучшилась, невзгоды и обнищание простых людей приобретают ужасающие размеры. Часть крестьян превратилась в промышленных рабочих. Родился новый, самый революционный класс — пролетариат.
Молодая поэтесса еще не осознавала значение, не представляла роль каждого из этих классов в грядущей освободительной борьбе. Видимо, она догадывалась, что в лице рабочего класса появилась новая, более могущественная сила, чем крестьянство. Это ощущение отразилось в поэзии мотивом надежды, пусть еще не совсем определенной и целенаправленной, но звонкой, радостной. Силы борцов растут — их питает обновленный неисчерпаемый источник. Борцов не страшит «глубокая ночь»:
Огни предрассветные, солнце пророча,
Прорезали тьму этой ночи.
Еще не вставала заря —
Они уже блещут, горя,
Их люд зажигает рабочий!
Аллегорические образы стихотворения воссоздавали гнетущую картину действительности. Действительности, с которой невозможно больше мириться. И далее следует полный пафоса боевой призыв:
Вставайте, живые, в ком дума восстала!
Пора для работы настала!
Гони предрассветную сонь,
Зажги предрассветный огонь,
Покуда заря не взыграла.
В этом призыве — та новизна, та притягательная сила, которая пробуждала общественное мнение и так высоко вознесла этот первый сборничек стихов Леси Украинки.
Вдохновенное слово поэтессы было услышано в стране, оно оказало воздействие на умы и сердца людей. О том, какое впечатление производили «Предрассветные огни» на современников Леси, в частности на молодежь, рассказывает токарь киевского «Южнорусского машиностроительного завода» (ныне «Ленинская кузница») Прохор Коваленко. В девятнадцатилетнем возрасте за распространение революционных прокламаций он был арестован и брошен в тюрьму. Там он оказался в одной камере с молодым рабочим-печатником Сергеем Лапшиным. Их быстрому сближению и дружбе благоприятствовало то, что оба любили художественную литературу, увлекались поэзией. Как-то Сергей Лапшин прочел по памяти стихотворение неизвестного им автора «Предрассветные огни». По душе пришлось это стихотворение Прохору. Молодым рабочим импонировало, что, по мнению автора, именно они, рабочие, призваны зажечь предрассветный огонь среди глухой ночи царского самодержавия, разбередить мысль тех, кто не осознал еще необходимости борьбы, и придать смелости тем, кто пока еще не решается вступать в эту борьбу.
«Это стихотворение было для нас, молодых, не только оружием агитации, — оно помогло нам в известной степени осознать свою роль и назначение в жизни. Выучив новое стихотворение, я с большим увлечением наряду с «Железной дорогой» и «У парадного подъезда» Некрасова читал его товарищам по камере, а также крестьянам, которые отбывали здесь наказание за различные «проступки». Тюремная администрация охотно использовала крестьян на огородных работах, а мы — политические заключенные, — чтобы продлить пребывание на воздухе, добровольно вызывались помогать им и, естественно, не упускали случая для пропагандистской работы: устраивали «концерты», пели революционные песни, читали стихи.
Помнится, как-то после одного из «концертов», где я прочел «Предрассветные огни», ко мне подошел старик крестьянин:
— Эх… Правду говоришь, сынок, темная ночь! До того темная, что кто его знает, наступит ли когда-нибудь тот рассвет…
А я отвечаю:
— Наступит, отец, наступит! Перед рассветом всегда темнеет. Образованные люди уже видят, потому и пишут об этом. Вот другой писатель — Короленко — говорит? «На святой Руси петухи поют. Скоро будет день на святой Руси!..»
— Дай-то бог! — вздохнул старик. — Но вряд ли удастся дожить до этого дня… Вы, молодые, может, и дождетесь, а я вряд ли…»
Выйдя на свободу, Коваленко с огромным трудом разыскал сборник «На крыльях песен». Прочитал его, задумался. Только теперь он понял, что существует современная украинская литература, а до сих пор считал, что был один лишь гениальный Тарас Шевченко с его знаменитым «Кобзарем».
Об огромной популярности «Предрассветных огней» в среде рабочего класса свидетельствует и тот факт, что большевистская «Правда», воздавая должное поэзии Леси Украинки, в 1913 году опубликовала именно это стихотворение.
В этом первом сборнике ярко отразилась идейная эволюция поэтессы, созревание высокого поэтического таланта — от детских стихов к органическому единству мысли и чувства.
Если определять место сборника «На крыльях песен» в украинской поэзии того времени, необходимо решительно подчеркнуть его новаторство. В самом деле, ни творчество Михаила Старинного или Якова Щеголева, Александра Конисского или Олены Пчилки не могло сравниться со стихами Леси. Современников прежде всего поразил огромной силы пафос гражданственности, который, словно свежий весенний ветер, ворвался в поэзию, «Поэтическая красота, — писал Иван Франко, — это не только красота поэтической формы, не нагромождение каких-то якобы эстетических и красивых образов, не комбинация громких слов. Все эти компоненты только тогда создают подлинную красоту, когда являются частями высшего целого — духовной красоты, идейной гармонии». Гармония, целостность идейности и художественности, осмысление глубин и тончайших движений человеческой Души — это как раз и характерно для поэтического почерка Леси Украинки.
В лучших стихотворениях сборника «На крыльях песен», если сравнивать их с поэзией Лесиных современников, бросается в глаза богатство лирических жанров, разнообразие строфики, рифмования, размеров, богатство интонации, словесной образности».
Первый и наиболее проницательный критик творчества Леси Иван Франко, который внимательно следил за ее ростом, так определил идейную эволюцию поэтессы; «…расширяется ее мировоззрение, становится глубже понимание жизни и ее антагонизмов… Она исподволь достигает того, что может вкладывать в песню самые тяжелые, горестные рыдания и этой песней не будить в сердца! отчаяния и неверия, — ибо у нее самой в душе горит могучее пламя любви к людям, к родному краю и широким человеческим идеалам, светится сильная вера в лучшее будущее».
Леся давно ведет переписку с Михаилом Драгомановым. Для нее он консультант по гуманитарным наукам, авторитетный и строгий критик, советчик.
— Драгоманова считаю своим учителем, — говорила она Ольге Кобылянской, — и очень обязана ему многим в моих взглядах на науку, религию, общественную жизнь и т. д.
Леся давно стремилась встретиться с дядей, но всегда что-либо препятствовало этому намерению. Окончательно решили и ускорили отъезд в Болгарию печальные обстоятельства. Застарелая болезнь сердца, деформированного вследствие чрезмерной загруженности работой и нервного перенапряжения, всерьез угрожала его жизни. Не раз отказывали руки, голос. Весной 1894 года пришла совсем худая весть — врачи поставили диагноз: недуг прогрессирует, и Драгоманов, видимо, недолго протянет…
Забыла Леся все свои невзгоды и быстро собралась в путь. «Вот теперь я совсем здорова, а то так раскисла в Киеве, что отвратительно было и самой на себя смотреть. Теперь у меня нет времени болеть, так как собираюсь в дальнюю дорогу, за границу…» — писала она накануне отъезда.
23 мая выехала из Колодяжного, а через несколько дней на Софийском вокзале ее встречали дядя с шестнадцатилетней дочерью Радой (Ариадной). Выглядел Драгоманов плохо. Бледное, припухшее лицо, седая борода, тяжелая походка. Леся видела, скольких усилий потребовалось дяде для того, чтобы подняться на второй этаж, где жили Драгомановы. Одна ступенька — передышка.
Затем вторая. И снова отдых. Правую руку неизменно прижимает к левой ключице, словно там что-то надо все время поддерживать.
Квартира Драгомановых — из пяти комнат. Кабинет, до потолка заставленный книгами, рядом спальня Михаила Петровича. А поскольку тяжелая болезнь нередко калила его с ног, к постели была специально приспособлена передвижная доска, чтобы он мог писать лежа. Здесь же и самые необходимые книги. Гостиная, или, как ее тут называют, салон, комнаты Людмилы Михайловны и Рады и, наконец, еще одна маленькая комната, где и кровать невозможно было поставить. Поэтому Леся расположилась в кабинете, перегороженном на две части этажерками с книгами.
Почти месяц Леся ни с кем не переписывалась. Ведь столько вокруг нового! По обыкновению после семи вечера Леся приходила к Михаилу Петровичу, и начинались тихие беседы, продолжавшиеся иной раз до глубокой ночи. Драгоманов без устали расспрашивал Лесю о родине, об Украине. Прикрыв глаза, внимательно слушал ее, и в памяти всплывали полузабытые уголки старой, знакомой с детства усадьбы в Гадяче, извилистые тропинки, сбегавшие к реке, белые песчаные берега Псела…
От воспоминаний о родной стране, о знакомых и близких разговор неизменно переходил в плоскость общественно-политических проблем. Вот и сейчас Драгоманов говорил о наболевшем:
— Я всегда жил так, что меня по крайней мере с двух сторон ругали. Даже правило для себя установил: если что-либо напишу и ругают только с одной стороны, значит вещь не получилась…
— А какая же в таком случае самая «удачная» работа?
— «Историческая Польша»… Здесь мне в самом деле «повезло»: ругали ее с шестнадцати точек зрения — консерваторы, либералы, радикалы и т. д. и т. п.
Леся не видела ничего необычного в том, что Драгоманова критиковали представители различных, а порой и противоположных лагерей. Например, в национальном вопросе некоторые не могли понять драгомановских выступлений против ограниченности, национальной самоизоляции, хуторянского примитивизма и т. п. Другие же не могли примириться с его идеями освобождения народа — освобождения не только социального, но и национального.
И все же Лесе странными казались возражения одного галицийского этнографа против мыслей Драгоманова о необходимости творческого сотрудничества с русской литературой.
— Вы, Михаил Петрович, — говорил этот господин, — везде пропагандируете московскую литературу, утверждаете, что она поможет подняться к европейскому уровню. В действительности же она тормозит наше развитие. Мы у себя дома страдаем от своих «москвофилов», а вы суете нам еще и русских. Зачем нам читать книги Тургенева или Некрасова о чужой жизни?
— Я не могу спокойно слышать вашу фразу о том, что жизнь, которую изображает Тургенев, чужда для вас. Потому-то ее и надо знать, что она незнакома вам. Потому-то весь мир и читает Тургенева, а вам он ни к чему! И каким способом развивается, обогащается литературный язык, идейное содержание литературы, если не с помощью переводов с других языков? Скажу еще относительно Тургенева, что он и по месту рождения, и по духу ближайший из всех великорусских беллетристов, к тому же ученик Гоголя. Не случайно ведь Тургенев, будучи в зените своей славы, взялся за перевод Марко Вовчок…
— Значит, надо примириться с нашими заклятыми врагами — святоюрцами,[26] которые и слышать не хотят об украинском языке?
— Разумеется, нет. Скажу еще раз, — повторил Драгоманов, — переводы Тургенева и других принесут пользу не только литературе, но и явятся оружием в борьбе со святоюрцами. Не забывайте, что струна, на которой они играют, — братание с Россией — есть струна фатальная, историческая, неизбежная, однако они играют на ней так, что сам черт не поймет, и братаются в России бог знает с кем…
— А что же нам делать? — переспросил оппонент.
— Вырвите эту струну из их рук! Покажите передовую, обновленную Россию. Покажите Гоголя, Тургенева, Островского, Чернышевского, Герцена. Покажите ту русскую литературу, которая своими идеями не уступает Европе, и вы перетащите на свою сторону все свежее и молодое…
Леся слушала. Ясный и открытый характер дяди, умственная и моральная основа его выразительна и проста, глубокая искренность и честность души поражают. Слова рождаются из убеждений, являются точной их репродукцией.
Разговоры с Драгомановым, знакомство с новой для Леси страной — все было необычайно интересно. Но, пожалуй, львиную долю времени поглощала драгомановская библиотека, укомплектованная еще в Женеве и перевезенная оттуда в Софию. Невзирая на летнюю жару, она часами просиживала в кабинете, знакомясь прежде всего с запрещенными в России книгами. Здесь находились издания по истории революционной борьбы в России и других странах, книги на современные общественно-политические темы — Прудона, Фейербаха, Маркса, Энгельса, Бакунина, Кропоткина, Плеханова, Зибера, Степняка-Кравчинского и многих других.
К тому времени Лесе удалось много повидать в жизни. Встречала она добро и зло, переживала радость и горе. Наслаждений выпало на ее долю мало, зато постоянно, неутомимо ее преследовал злой рок. И все же, несмотря ни на что, Леся чувствовала себя счастливой. Ее счастье произрастало из творчества и глубокой веры в то, что своим трудом она принесет пользу родному народу. Счастлива была Леся еще и потому, что открыла для себя смысл жизни и ее цель. И еще потому, что способна была постигать неожиданную красоту движущегося, меняющегося, но вечного мира.
Счастье примитивного существования, где главное — мещанское благополучие, тишина и спокойствие, Леся не признавала. Лучше ад, чем елейный, неподвижный рай:
В ад угодить, быть может, интересно…
Я все же знаю, что зовется адом.
Попасть же в рай (надежда ль есть такая?) —
Там нет печали, горя, — нет и счастья,
И нет любви, сердечного участья —
Такого рая я не понимаю.
Эти взгляды укрепляли твердость и непреклонность Духа. Леся как-то созналась, что «в ненастную тучу кручина собралась», что грусть ударила молнией в сердце и крупным дождем полились ее слезы. Но эта «непогодь-буря»
…Все ж не сломила меня и
Я гордо чело подняла…
И взором, омытым слезами, теперь я взглянула яснее,
И в сердце моем зазвучали победные песни.
Искренняя, открытая для друзей и знакомых, Леся вызывала симпатию и любовь. «Годы и болезнь изменили Лесю, — вспоминала подруга детских лет Лида Драгоманова, — все же я узнала светлую, тихую улыбку — отблеск ее прекрасной души, и хотя мы не виделись с раннего детства, очень скоро вновь сошлись, как родные. Надо сказать, что между теми, кто вырос за границей, и теми, кто жил в России, нередко при встречах образовывалась пропасть. Многое из того, что по известным причинам занимало украинцев, для нас представляло лишь книжный интерес, и, наоборот, многое из того, с чем мы свыклись на Западе, приехавшим из России казалось совершенно чужим, ненужным.
Ничего подобного не произошло у нас с Лесей, — думаю, благодаря ее высокой образованности и глубокому интересу к западной европейской культуре. Европейские языки она знала хорошо, литературу изучала так же, как и мы — те, кто учился во французских гимназиях и университетах. Я тотчас обнаружила между нами много общего, и вдвоем нам не было скучно, как это нередко случается с подружками детства, которые чувствуют, что, кроме воспоминаний об играх и забавах давних лет, их ничего не связывает, что пошли они по жизни разными дорогами».
У Леси был дар — видеть в человеке сокровенное, глубинное. Она терпеливо «снимала» все наносное, искусственное на пути к познанию души человека. Делалось это стихийно, в силу порывов собственной натуры, а не во имя долга или обязанности. Может быть, поэтому к ней самой люди относились с особенной симпатией и уважением. Однажды в ответ человеку, который увлекся ею, Леся призналась:
— Не одни вы говорили, что вокруг меня люди становятся лучше. Хотела бы я этому поверить, ибо это был бы очень счастливый и редкостный дар… Все же не считайте меня идеалом, я этого недостойна. Скажу больше, никто сего недостоин, ведь идеал — это идея, но не человек. Не верьте в мою идеальность, верьте только, что я вас люблю…
Леся крепко подружилась с кузинами, ей очень понравилась Болгария. Не беда, что у Софии вид обычного «нашего губернского города» и «средневековые» порядки, унаследованные от турецкого господства, — Леся полюбила этот край и его людей, за несколько месяцев изучила язык, освоилась с местными обычаями, прониклась уважением к духу народного творчества.
Новое окружение не позволяло скучать. С интересом и удовлетворением побывала Леся на большом гулянье (соборе) с народными хорами и национальными плясками. Знакомые девушки — болгарки — и ее нарядили в вышитый красивыми узорами национальный костюм. Однажды Леся писала, если бы не родные на Украине и чувство долга перед украинским народом, она осталась бы в Болгарии на долгие годы. Когда же возвратилась домой, часто с благодарностью вспоминала этот край: «Смешно сказать, скучаю даже по болгарскому языку. А ведь таким он казался мне неблагозвучным…»
В Болгарии, в доме Драгомановых, Леся продолжала изучать английский язык. Взялась за него еще раньше, в Киеве, о чем вспоминала Людмила Старицкая: «Брали мы уроки у Копейкиной. Нам нравилась ее квартира своим романтичным видом. В гостиной — большой камин… У камина восседала почтенная седая дама с прялкой — мать Копейкиной. Сама же miss Копейкина — широкая в кости, грандиозно построенная дочь Альбиона, несмотря на свою архирусскую фамилию, не знала ни одного русского слова, и мы объяснялись с нею по-французски. Здесь я собственными глазами увидела, какими необыкновенными способностями к языкам обладала Леся. Это было что-то непостижимое, какой-то талант, интуиция. Английский язык, как известно, труден для произношения и правописания. Тем не менее Леся всегда читала и писала правильно. Сама miss, которая уверяла нас (особенно меня — для утешения), что в Англии очень мало людей, пишущих грамотно, удивлялась Лесиным способностям. С той поры миновало двадцать лет. Мои знания английского языка полностью выветрились, а Леся… Леся в последний раз, когда мы виделись, поразила меня — читала и говорила по-английски, словно по-украински».
Пребывание в Болгарии благоприятствовало не только изучению языков. «Не забывайте, — писала Леся Павлыку, — что я здесь учусь. Больше читаю и слушаю, чем пишу». Потому и не торопилась с отъездом: «Право, не знаю, как найти силы, чтоб выехать. Ну, как-то будет! А сейчас на неделе возвращаюсь из села в Софию и там буду себе писать и рыться в дядиной библиотеке… Представьте себе — четыре стенки книг, да еще каких».
После полугодичного пребывания Леси в Болгарии заграничный паспорт удалось продлить еще на такой же срок.
Приближался юбилей Драгоманова — тридцатилетие его общественно-политической и научной деятельности. Леся в какой-то мере выполняла секретарские обязанности юбиляра.
16 декабря 1894 года во Львове состоялось торжественное собрание, посвященное этой дате. В многочисленных поздравлениях из Лондона, Женевы, Парижа, от ученых России, а также поляков, чехов, сербов и других славянских народов подчеркивалось, что Драгоманов, как ученый и деятель освободительного движения, принадлежит не только Украине.
Юбиляр не присутствовал на собрании, не сидел на почетном месте…
Через две недели, когда Драгоманов начал понемногу выздоравливать, были получены юбилейные материалы, и все семейство собралось в кабинете. Леся зачитывала поздравления, которые были оглашены на торжественном собрании во Львове. Драгоманов, верный своей давнишней привычке, время от времени иронизировал, шутил, когда раздавались особенно громкие похвалы. Однако всем было приятно услышать слово крестьянина Стефана Новаковского: «Михаил Драгоманов, — говорил он, — сейчас в Софии, в Болгарии и учит нас бороться и работать. Так вот, от имени крестьян я вношу предложение послать ему такую телеграмму: «Отец родной, просветитель наш, ты свор судьбу, свою жизнь, свое здоровье посвятил темному рабочему люду, чтобы просветить его светом правдивой науки… Прими благодарность за тридцатилетний труд от нас, русских хлопов, собравшихся со всей Галиции на русском вече во Львове. За правду, за свободу, которую ты отстаиваешь, будем стоять насмерть. Желаем тебе долгой жизни, чтобы ты мог нас своим мудрым советом просвещать, помогать нам сбросить оковы рабства, теснящие и хлебороба, и рабочего, и устроить справедливый строй на земле».
Кроме телеграмм и писем, впоследствии пришло немало подарков из Украины и Галиции: альбомы, вышитые рушники, скатерти, резные деревянные тарелки, художественные гончарные изделия и другие вещи. Михаил Петрович посмотрел на все это, на мгновение задумался, а потом, словно сам себе, тихо молвил:
— Похороны мои справляют…
Однако очень обрадовался, обнаружив среди подарков ценное издание на английском языке — «Английские и шотландские баллады», — о нем он давно мечтал. Только приобрести не мог — книга стоила 200 франков.
Весеннее половодье унесло зиму, а вместе с нею еще один год Лесиной молодости. Приходила зрелость, мужала и крепла мысль. Прожитый в Болгарии год закалил ее волю. Не случайно Леся писала своему другу Павлыку, что теперь, наверное, навеки отвыкнет жаловаться на свою судьбу и никогда больше не будет раскисать: «Прошедшая зима повернула что-то в моем характере». В другом письме ему же Леся уточняет мысль:
«Верю в наше дело, в то, что оно будет существовать и расти, в нем есть великое зерно жизни. Я все-таки немного оптимистка или скорее прогрессистка и думаю, что мир идет не к худшему, а к лучшему. Только хотя бы он скорее шел, а то ведь столько сил и людей понапрасну гибнет. А у нас, на Украине, еще много должно погибнуть зря (или только кажется, что зря?), пока что-нибудь порядочное получится. И я, и мои товарищи, вероятно, обречены на напрасную гибель, пусть, лишь бы из этого кому-нибудь польза была…»
Эти мысли, по-видимому, были навеяны последними событиями в России. Новый царь — Николай II — в тронной речи в январе 1895 года заявил о себе, как о решительном ревнителе «твердого режима». Его слова — «оставьте бессмысленные мечтания» — недвусмысленно указывали на то, что царизм будет открыто подавлять малейшие проявления освободительного движения.
Леся никогда не питала иллюзий по отношению к самодержавию, поэтому и от «нового господина», по ее выражению, не ждала «хороших подарков». Однако усиление реакции опечалило: ведь борьба в таких условиях усложняется, требует еще больших жертв.
Такие настроения владели Лесей в начале ее второго болгарского лета.
В доме Драгомановых по-прежнему собирались прогрессивные болгарские ученые, литераторы, эмигранты из Украины. Вот и сегодня заглянул старый знакомый Драгоманова Дебогорий-Мокриевич.[27]
Михаил Петрович поправился, возобновил чтение лекций в университете и выглядел лучше. Увидев гостя, оживился и даже, казалось, помолодел. Пока рассматривали принесенную Дебогорием-Мокриевичем новенькую книгу, изданную в Женеве, пришел Иван Шишманов, болгарский ученый, зять Драгоманова, и писатель Алеко Константинов, с которым Леся была знакома.
После чаепития и воспоминаний о прошлом речь зашла об украинско-галицийских делах. Драгоманов говорил о том, что близится эпоха больших общественных катаклизмов, эпоха социальных переворотов. Жаль только, что скорее всего ему не придется в них участвовать…
— Это уже дело нового поколения и его писателей в том числе, верно, Леся?
— Да, но вам-то рановато складывать оружие…
— Видишь ли, Леся, пути расходятся. Вернее, уже разошлись. История покажет, на чьей стороне правда. Может, на вашей. Может, мы и вправду отстали. Трудно отказываться от идей, которым отдали жизнь. Но невозможно и не признать, что мы обанкротились. Не так ли, Владимир Карпович? — Драгоманов обратился к Дебогорию-Мокриевичу.
— Может, и так. Только кто убедит нас, что на смену пришли люди с более светлой головой, люди, способные к успешной практической деятельности? Где она, эта сила, которой предстоит разрушить русскую или австрийскую Бастилию, смести с лица земли самодержавие?
Этот вопрос я не могу полностью адресовать вам, Лариса Петровна, и не из-за того, что вы женщина, а потому, что вы поэтесса, а не политический деятель. Вы пишете хорошие, нет — прекрасные вещи, ваш сборник «На крыльях песен» и поэма «Роберт Брюс, король шотландский», которую я только что прочел, достойны целого батальона инсургентов…
— Тогда скажите, пожалуйста, кого вы имеете в виду? — спросила Леся.
— Тех молодых, которые группируются в многочисленных кружках, дискутируют на своих собраниях, выдвигают «грандиозные» платформы, о которых много говорят, на самом же деле ни их, ни подвигов, ими свершенных, никто не видел. Где они? Где ваши побратимы, Лариса Петровна? Пусть они отзовутся и докажут, что они живут, мыслят и, главное, действуют.
Владимир Карпович умолк. Молчала, потупившись, и Леся, ей и впрямь нечего было возразить. Разговор продолжался, а она сидела неподвижно и вспоминала долгие вечера и ночи, проведенные в нескончаемых спорах с товарищами. Мечты, стремления, идеи! И политическая свобода, и образование народа… Все казалось таким простым и осуществимым. Надо только всем вместе взяться за дело… Неужто это были одни лишь слова?
Может быть, кто-то и делает свою тихую, незаметную работу, но разве это та заманчивая цель, которая вынашивалась ими тогда, в те долгие вечера?
Кто ведает, что творится на дне морском? Каждый, созерцая спокойную водную гладь и печально поникшие паруса, скажет: «Тишина-то какая…» И у нас тишину нарушат не единичные всплески с гребешком светлой пены на поверхности, а настоящие волны.
И мы сами поможем их рождению. Мы сами должны стать теми волнами, не сидеть же у моря и ждать погоды…
Вечером, когда все гости разошлись и в доме все уснули, Леся засела за письмо к товарищам. Напомнила им долг, клятвы, обещания, призывала к действиям, к борьбе:
«Не от имени украинского народа, не от имени радикальной партии обращаюсь я к вам, мои знакомые и незнакомые товарищи, я осмеливаюсь обратиться к вам от своего, может быть, и неизвестного вам имени: откликнитесь, докажите, что вы живете и мыслите…
Скажите, товарищи мои, отчего не слышно вашего голоса, в то время как всякая «темная сила» не боится поднимать его открыто на людях? Неужели для нашей страны не настало время, чтобы проявили себя силы светлые?…
Вы знаете, уважаемые товарищи, что вся работа по образованию галицииского народа, по защите прав его лежит на плечах двух-трех человек… на них же держится и публичная борьба за наше, украинское дело. Не пора ли и нам, товарищи, взять на себя хоть частицу их труда?..
В нашей художественной литературе есть кому работать (правда, не так уж много), борцов же за свободу, посвятивших этому делу всю свою жизнь, — три человека, да и те изнемогают. За нами более нет старых борцов, впереди нас — дети. Кто же спасет нас, если сами не захотим спасаться? Грустно, что вновь должны выступать мы, необстрелянная молодежь, но ведь иного выхода нет, если не хотим отречься от свободы…»
Немногим позже в журнале «Народ» было опубликовано стихотворение Леси «Товарищам», проникнутое острым чувством неудовлетворенности собой и своими ровесниками.
Старшее поколение, несущее тяжесть революционной борьбы, упрекало Лесю и ее товарищей за голоса несмелые, слабые:
Вы, может быть, на вызовы событий
На все хотите дать один ответ, —
Стонать и плакать, и мечтать хотите,
А сил у вас для твердых действий нет?
Что ответить на эти справедливые упреки ветеранов — борцов против самодержавия, тех, кто подвергался репрессиям, ссылкам, тюремным заключениям, тех, кто в неравных боях потерял друзей и товарищей:
…Упреки принимая,
Как у позорного столба, тогда
Стояла я, безмолвная, немая,
Не зная, что ответить от стыда…
Приближалось лето, и Леся начала готовиться к отъезду. 22 мая она сообщает Павлыку, что в июле вместе с семейством Михаила Петровича прибудет в Вену, где их будут ждать ее отец и мать. Но случилось не так, как задумывалось. Спустя три недели Леся писала отцу о печальном событии:
Михаил Павлык вместе с Иваном Франко намеревался встретиться с Драгомановым в Вене, а довелось спешить на похороны в Софию… Павлык как-то ухитрился обмануть пограничников и прибыл на похороны, И. Франко был задержан в Австрии.
Смерть любимого дяди глубоко потрясла Лесю. Однако она нашла в себе силы, чтобы не растеряться, не потерять самообладания и поддержать осиротевшую семью Драгоманова. События этого лета были суровым испытанием ее физического состояния и моральной закалки. «Если не имеешь права умереть, — писала она, — надо иметь силы для работы». И у нее хватало сил. В одном из писем того периода отразилось ее состояние:
Возвращалась на Украину Леся иной, чем была до этого. Возник мучительный вопрос: что делать на родине, где нет самых элементарных политических свобод? Ведь она переросла «те рамки», в которых можно что-либо делать открыто в России. Иногда появлялась предательская мысль: остаться за границей — привлекательно и просто. Но тут всегда перед глазами вставала обездоленная, страдающая Украина, и тогда Леся стыдилась своего, пусть минутного, но предательского слабодушия. Писательница была убеждена, что ее талант сможет развиваться исключительно на родной почве.
«Думаю, — писал Шевченко, — будь моя родина самой убогой и незначительной на земле, все равно она казалась бы мне лучше Швейцарии и всей Италии». Куда бы ни забросила судьба Лесю Украинку, но мысль о «горемычном крае» не оставляла ее:
Да, стыдно слез, что льются от бессилья.
Моя земля их много проливала —
В них вся страна могла бы захлебнуться.
Довольно! Пусть не льются, —
Что слезы там, где даже крови мало?!
Накануне отъезда из Софии Леся написала стихотворение, посвященное кузине Раде. Пожелала ей, как водится в таких случаях, счастья, о себе же сказала так:
Мне счастия, сестра, не пожелай ты
(Ужиться мы не можем почему-то)!
Отваги, силы больше пожелай мне,
Чтоб выполнить великий тот завет,
Который я везу на Украину.
Отваги и силы просит у судьбы поэтесса, чтобы сторицей отдать их борьбе за свободу и счастье народа.
По пути в Россию Леся на некоторое время остановилась в Галиции, чтобы повидаться с друзьями и заняться своими делами в редакциях журналов и издательствах. После львовских встреч, гостеприимных вечеров у Ивана Франко и Михаила Павлыка Леся направилась на свою любимую Волынь, которую не видела уже два года. Остаток этого и весь последующий год Леся в основном прогнила в Колодяжном и Киеве.
Не очень-то приветливо встретил Лесю родной край. Тяжелая утрата в Софии, а вслед за нею смерть бабушки Елизаветы Ивановны в Гадяче, утомительная дорога со многими пересадками — все это пошатнуло и без того слабое здоровье. К тому же еще и мать под впечатлением смерти любимого брата затосковала так, что всерьез расхворалась и слегла.
Да и сама Леся чувствовала себя худо. Вновь нога — уже в который раз — изводила ее бессонными ночами и изнуряющими днями, и так неделями, а то и месяцами. В такие периоды она не в состоянии была браться за перо, а мысли и чувства сжимали в тиски, заводили в безвыходные лабиринты. Нередко среди хаоса мыслей, чаще всего ночью, Леся пыталась вызвать видения; напрягала воображение, чтоб увидеть какой-нибудь мираж. Она бы ему поверила, как когда-то, в старину, люди верили в чудеса. «И почему это люди так боятся галлюцинаций и безумия, — говорила она в таких случаях, — я бы порой дорого заплатила за них…»
Досадно, бесконечно обидно было ей, больной, в окружении подрастающих, взрослеющих сестер и братьев. Все они, как и родители, очень любили и почитали Лесю за ее ум, доброту и справедливость. И разумеется, не могли не сожалеть о том, что судьба так жестоко обошлась с нею. Сочувствие даже самых близких людей оскорбляло ее, выводило из равновесия. Она стремилась быть для младших достойным примером мужества, их опорой в жизни. «Для вас, мои дорогие сестры и братья, — говорила она, — я хотела бы быть энергичной, крепкой, с ясным взглядом, с сильными руками, способными к постоянной и путевой работе, с нормальным сердцем и здоровой душой — тогда бы я не была вынуждена что-либо скрывать от вас и вам было бы на что посмотреть, а сейчас…»
В годину тяжких испытаний Леся не уходила в себя, не переставала глубоко интересоваться событиями общественно-политической жизни. «Ко всем моим бедам в последнее время, — писала она в Софию, — прибавились еще и общественные беды: в Киеве было много обысков и арестов, полиция ворвалась даже в университет и там обыскала лабораторию, кабинет одного профессора. После этого начали брать студентов, между прочим, схватили одного нашего доброго знакомого,[28] что повергло нас в уныние и печаль, которые не рассеялись и поныне, так как товарищ наш находится в заключении и до сих пор рыщут по городу «летучие отряды». Это уже третий погром в нынешнем году!»
Наступление царизма на развивающееся освободительное движение побудило Лесю к активному протесту. Она выступает с острыми, как стальной клинок, стихами против темных разнузданных сил господствующих слоев, против произвола правительства:
О, ночи царь!
Наш самый лютый враг! Недаром ты боишься
Цепей кандальных музыки железной!..
А чем же ты заглушишь дикий голос
Сплошного хаоса, и голод, и беду,
И те отчаянные вопли: «Света! Света!»?
На них всегда, как будто эхо в далях,
Отважный, вольный голос отзовется:
«Да будет тьма!» Но этого ведь мало,
Чтоб хаос заглушить, чтоб умер Прометей.
И если ты силен безмерной силой,
Последний дай приказ: «Да будет смерть!»
Для борьбы с врагом необходимо оружие, безжалостный меч, разящий насмерть. Так родились огненные, страстные строки одного из лучших творений Леси Украинки:
Слово, оружье мое и отрада,
Вместе со мной тебе гибнуть не надо.
Пусть неизвестный собрат мой сплеча
Метким клинком поразит палача.
Лязгнет клинок, кандалы разбивая,
Гулом ответит тюрьма вековая.
Встретится эхо с бряцаньем мечей,
С громом живых, не тюремных речей.
Пересылая эти стихи Ивану Франко для печати, Леся замечает: «Как видите, я не складываю своего последнего оружия. Вообще я сейчас очень зла и недобра, и, хуже всего, не хочу стать добрее, не стоит!»
В это время произошло событие, которое вызвало у Леси внезапную и острую вспышку гнева и ярости.
Осенью 1896 года Николай II с царицею совершал путешествие по Европе: Австрия, Германия, Англия и, наконец, Париж. Официальная Франция принимала русского царя с большой помпой, причем писатели, артисты, композиторы воздавали ему не меньше почестей, нежели официальные лица. Русскому государю посвящались льстивые, хвалебные стихи, песни, здравицы. Самодержавная дипломатия и пропаганда сумели хорошо подготовить этот вояж, прославляя царя как гуманного человека — отца всех народов великой империи, как первого благодетеля и защитника интересов всех слоев населения. Словом, не царь, а сама добродетель…
В Париже присутствовавшие на торжественной встрече с царской четой французские художники приветствовали ее криками «Vivat!».
Зажатое железными тисками полицейской цензуры общественное мнение России вынуждено было молча переносить этот позор. Правда, несколько раньше, когда бельгийские студенты прислали приветственную телеграмму студентам петербургского Лесного института по случаю коронации Николая II, прогрессивная часть студентов института возмутилась этим приветствием и в ответ направила протест в редакцию венской социал-демократической газеты «Арбайтер цайтунг», возможно, что и в «Реформу». Этот протест в переводе на украинский был напечатан И. Франко в журнале «Життя i слово».
А теперь, во время визита царя во Францию, прозвучал мужественный голос Леси Украинки: писательница переслала за границу написанную по-французски статью «Голос русской узницы» с просьбой содействовать ее опубликованию во французской социалистической прессе. «А Вас прошу узнать, — обращается она к Л.М. Драгомановой, — адрес «La Reforme» или какой-нибудь другой французской газеты радикального или социалистического направления… и срочно отослать туда эту штуку… Я опоздала немного с этой посылкой, да если времена у нас теперь пес plus ultra[29] подлые, приходится возвращаться к спартаковскому методу переписки. «Да, были хуже времена, но не было подлей».[30] А все-таки мне хочется, чтобы из России дошел хотя бы один протест против такой профанации поэзии и талантов, которую допустили французы в этом году в Версале… «Молчание — знак согласия» — так думали, должно быть, те русские студенты, которые послали протест бельгийским студентам против поздравления с коронацией…»
В своем памфлете[31]«Голос русской узницы» поэтесса всю силу возмущения и гнева обрушила на тех французских поэтов и артистов, которые лакействовали перед царем: «Позор лицемерной лире, льстивые струны которой наполняли аккордами залы Версаля… Позор вольным поэтам, которые перед чужеземцем бряцают добровольно надетыми на себя цепями. Неволя еще мерзостней, когда она добровольна. Позор вам, актеры, когда вы своими кощунственными устами произносите имя Мольера, который некогда своей ядовитой насмешкой подтачивал страшного великана, сотворенного во Франции покойным королем-солнце. Призрак этого короля, столь бледный накануне, покраснел от радости, услышав ваши песни в Париже, этом городе-цареубийце, каждый камень которого кричит: «Долой тиранию!»
Услужливые писатели разливались сладкими речами, называя Николая II великим монархом великой империи, правителем огромной богатой страны. На это Леся отвечает:
«Знаете ли вы, знаменитые собратья, что такое убожество, убожество страны, которую вы называете такой великой?.. Да, Россия величественна, русского можно со слать даже на край света, не выбрасывая за государственные границы. Да, Россия величественна: голод, невежество, преступления, лицемерие, тирания без конца, и все эти страшные несчастья огромны, колоссальны, грандиозны. Наши цари превзошли египетских своей склонностью к монументальности. Их пирамиды высоки и очень прочны. Ваша Бастилия была ничто по сравнению с ними. Что ж, великие поэты, великие артисты, ступайте, взгляните на величие наших крепостей, наших Бастилии, сойдите с эстрад, снимите ваши котурны и осмотрите нашу прекрасную тюрьму…
Живите спокойно, собратья, прославленные вашими великими именами. А ты, французская муза, прости безымянной певице-узнице. Все же я меньше оскорбила тебя своей бедной прозой, чем твои свободные друзья своими прекрасными льстивыми стихами».
В сентябре 1894 года Ольга Петровна переехала с детьми в Киев, где сняла дом на Назарьевской улице, вблизи Ботанического сада. В Колодяжном остался Петр Антонович с шестилетней Дорой. Это было сделано в интересах детей, чтобы они могли получить образование в учебных заведениях.
Отныне Леся имела постоянное пристанище в Киеве. Откровенно говоря, это надо понимать условно, так как лето она проводила в Колодяжном или Гадяче, а зиму чаще всего в Крыму. Однако две зимы кряду (1895/96 и 1896/97) находилась дома и вообще за эти два года не выезжала за пределы Украины.
Первая зима после возвращения из Болгарии ничем не примечательна. Хлопоты по хозяйству почти целиком легли на Лесю, поскольку мать постоянно находилась в разъездах. Лесе приходилось помогать младшим в учебе, а кроме того, давать уроки французского и английского языка, чтобы поправить финансовые дела. И еще одна забота: в доме появился квартирант, что позволяло как-то возместить расходы на оплату за аренду помещения.
«Время у меня теперь так разбросано, — писала она Л.М. Драгомановой в Софию, — что даже стоящего письма невозможно написать. Как только мама уехала, хлопот по хозяйству прибавилось. Теперь у нас еще квартирант живет — надо на кухню ходить, поторапливать и помогать кое-что кухарке, так что до полудня работа идет урывками. К тому же у меня утром урок, а после обеда свой учить надо, да и кое-что написать, прочитать… Жизнь идет как-то неровно, то тихо, то стремительно. Скажу Вам, если бы я руководствовалась одним лишь узким эгоизмом, то должна была бы остаться у Вас и закрыть глаза на все остальное, но для этого надо жить под девизом: oure non le delug…».[32]
Тем не менее никакие повседневные заботы не могли придушить неистощимый интерес Леси к окружающему миру, к людям, с которыми она сталкивается в жизни. В этот раз она познакомилась с народом и его страной, которая в будущем приютит ее. Произошло это не на Кавказе, а дома, в Киеве, на Назарьевской улице. Грузия предстала перед нею в лице Нестора Гамбарашвили.
Младшая сестра — Исидора Косач (по мужу — Борисова) рассказывала, что молодой грузин снял у Косачей комнату после того, как поступил в Киевский университет (из Московского он был исключен за участие в запрещенном собрании студентов, оппозиционно настроенных по отношению к царскому правительству). Нестор Гамбарашвили сразу же завоевал симпатии всего семейства. С Лесей и Лилей быстро подружился, а к меньшим был неизменно внимателен и добр. «О веселом нраве Нестора, — продолжала Исидора Петровна, — и говорить не приходится: остроумный, ласковый и к тому же рыцарского поведения, воспитанный на лучших национальных традициях. Мы, дети, очень полюбили его. Заочно познакомил он меня со своей маленькой племянницей, моей ровесницей. Привез ее фотографию — в национальной грузинской одежде, и я, в свою очередь, выслала ей свою — в украинской одежде. Так состоялось наше знакомство и завязалась переписка…
В том же году, когда он жил у нас, вышла замуж Людмила Старицкая. Я, хоть и маленькая была, хорошо помню ее свадьбу, на которую был приглашен и Гамбарашвили. Он много плясал, конечно, со взрослыми девушками, но при этом не забыл и своих маленьких приятельниц — меня и младшую дочь Миколы Лысенко — Марьянку… Нас это очень радовало…»
В семье Косачей Гамбарашвили чувствовал себя уютно и свободно. Дети настолько привыкли к нему, что частенько увлекали его своими играми, заходили в его комнату, иной раз устраивая там «художественный беспорядок». Однажды, возвратись из университета, Гамбарашвили обнаружил, что все вещи, книги, листы с записями совершили путешествие по комнате, а на столике лежит записка: «Когда кота нет дома — мыши танцуют» (написано было по-французски, это сделала Леся, так как знала, что Нестор изучает французский).
Гамбарашвили в своих воспоминаниях рассказывает, что поэтесса нередко беседовала с ним на самые различные темы, но чаще всего — на общественные. Она быстро воспламенялась, когда речь шла о притеснениях трудового народа как на Украине, так и в России, в других районах империи. В такие минуты она не могла быть спокойной и, как обычно, сдержанной. Голубые глаза сверкали огнем ненависти, лицо становилось совсем бледным, а голос звенел металлом — не жалобы и сетования слышались в нем, а гнев и угрозы.
Как-то, увидев на столе у Гамбарашвили книгу Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на русском языке и прочитав ее, Леся была изумлена этим шедевром грузинской литературы XII века. Она подолгу расспрашивала о природе и древней культуре Грузии, о писателях, художниках, театрах и т. п. Поразила ее и героическая упорная борьба грузинского народа за свою независимость. Внимательно слушала она Гамбарашвили, а затем сказала:
— Какой интересный, дивный уголок — Грузия! Сколько мужества и доблести должен иметь народ, чтобы уцелеть и сохранить себя от всех напастей и невзгод, которые выпали на его долю! Если б я не была украинкой, я хотела бы быть грузинкой…
— Ваши слова, Лариса, — откликнулся Гамбарашвили, — напомнили мне другого украинского поэта, большого сердца и любви которого хватило и для моего угнетенного народа:
Слава синим горным кручам,
Подо льдами скрытым!
Слава витязям великим,
Богом не забытым!
Вы боритесь — поборете!
Бог вам помогает,
С вами правда, с вами слава
И воля святая!
Эти разговоры разительно схожи с беседами Акакия Церетели и Тараса Шевченко, которые велись около четырех десятилетий назад. Тогда, в Петербурге, поэт узнавал о народе и культуре Грузии также из уст студента — будущего выдающегося писателя. Ни Лесе, ни Гамбарашвили, конечно же, об этом не было известно, так как Церетели написал свои воспоминания гораздо позже. Примечательно, что и Шевченко, слушая Церетели, выразил подобную мысль другими словами:
— Как много общего у наших народов!
Впоследствии Леся жила на Кавказе, разглядела грузинский народ вблизи и еще больше полюбила его.
В другой раз у Гамбарашвили собралось грузинское землячество, главным образом студенты — Васо Церетели, Миха Чхенкели, Шио Читадзе и другие. Зашла к ним и Леся. Она охотно слушала хоровое пение, ей очень нравились грузинские мелодии. Вот только слова… И назавтра Леся предложила Нестору помощь в обучении французскому языку, с тем чтобы он, в свою очередь, познакомил ее с грузинским. Гамбарашвили вспоминает, что грузинские слова Леся запоминала быстро, но произношение некоторых букв и звуков давалось ей с трудом.
Леся предлагала Н. Гамбарашвили для чтения произведения русской революционной мысли, запрещенные книги Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Степняка-Кравчинского и других. Как-то она подарила Нестору томик стихов французского поэта Альфреда де Мюссе, сказав при этом: «Это вам на память о нашей лингвистической «академии»… На книге рукой Леси сделана по-французски надпись: «Учителю, ученику и товарищу на память о нашем товариществе взаимной помощи — от Ларисы Косач».
Леся дала ему свою фотографию. Он взял, прочел на обороте: «Желаю Вам, господин Нестор, послужить преданно и беззаветно Вашей прекрасной родной стране. Когда будете нуждаться в товарищеской помощи и совете, — вспомните, что есть на свете Лариса Косач. Киев, 6. V, 1896 г.».
Поблагодарив за фотографию, Гамбарашвили спросил о том, что мог бы он привезти Лесе из Грузии. Последовал ответ:
— Острый кинжал, как эмблему борьбы с ненавистным врагом.
На первые заработанные уроками деньги Нестор Гамбарашвили заказал лучшим дагестанским мастерам небольшой кинжал из отличной стали, рукоять и ножны которого были отделаны серебром и гравировкой. Вручил свой подарок со словами:
— Будьте крепки в вашей благородной работе, как сталь этого кинжала. Пусть ваше слово будет острым, как этот клинок.
Через некоторое время Гамбарашвили съехал с квартиры Косачей. А Леся надолго отправилась в Крым. Потом и переписка прекратилась. Но до самой кончины поэтесса бережно хранила дорогой подарок.
В 1896 году Леся Украинка написала свою первую пьесу — драму в пяти действиях «Голубая роза». Как и в поэзии, она стремилась если и не противостоять, то, по крайней мере, отойти от так называемого бытового реализма и мелодрамы, которые импонировали ее предшественникам. Украинская сцена того времени была переполнена мелодраматическими картинами с неизменно присутствующими примитивными аксессуарами: убийства, самоубийства, водка, гопак, пение и т. п.
«Голубая роза» — первая драма из жизни украинской интеллигенции, в которой отсутствовали традиционные действующие лица. Откровенно говоря, и здесь еще кое-где оставался налет мелодраматизма, но все же чувствовался новый и оригинальный для украинской литературы творческий метод. Разрабатывая ту или иную проблему, показывая борьбу идей, автор последовательно, диалектически развивает главную мысль произведения. Столкновения, ожесточенный поединок с противоположными взглядами на жизнь и борьбу в душе писательницы не могли, естественно, не отразиться на творчестве. Увлечение остроконфликтными, контрастными ситуациями заметно было еще в ранних стихах, однако в драматических произведениях этот прием прозвучал еще ярче.
Суть любой драматической коллизии — борьба, возникающая из противоположности явлений, взаимоисключающих принципов героев, различных состояний их духа и пр. Это закон драматургии. Особенность пьес Леси Украинки состоит в том, что она необыкновенно тонко вскрывает внутренние мотивы поведения героев. Лаконичные реплики в ее диалогах можно сравнить с эффектными репликами античных трагедий. Едва приметное расхождение во взглядах между действующими лицами вначале намечается как бы пунктиром. Затем расхождение становится все более зримым, перерастает в противоречие, и в конце концов персонажи оказываются, как говорится, по разным сторонам баррикад. Острый конфликт двух поначалу будто бы близких по духу людей.
Что касается замысла «Голубой розы», есть основания полагать, что он возник не без влияния пьесы выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена «Привидения». Оба произведения посвящены разоблачению буржуазной морали, и там и здесь проходит тема наследственной болезни, приведшей к катастрофе. В «Привидениях» Освальд унаследовал психическую болезнь от отца — инвалида душой и телом; Любовь Гощинская — от матери. Неминуемое приближение болезни является двигателем сюжета драмы, а конечное появление ее — кульминационным пунктом. Да и герои «Голубой розы», когда речь заходит о наследственности, вспоминают Ибсена.
Возможно, мотивы драмы Ибсена глубоко восприняты Лесей Украинкой потому, что они в какой-то степени отражали ее собственные страдания. Трагедия Любови Гощинской частично является и трагедией самой писательницы, пораженной неизлечимым недугом. Не случайно именно в это время Леся писала:
Я знаю, так, се хворії примари, —
Не час мeнi вмирати, не пора.
Та налягли на сердце чорні хмари
Лихого предчуття, душа моя вмира!
С этим созвучен и другой пессимистический мотив — несчастливая любовь. Хотя о последнем можно только догадываться, так как никаких материалов не сохранилось, однако же нет сомнения — молодая, так щедро одаренная природой, она не могла не страдать, не мечтать о любви:
Меня тут стены тесно окружили…
И жалко мне, и думаю я с болью:
Не так ли раньше, как теперь весну,
Я видела любовь свою, и юность,
И все, чем красен век людской короткий?
Так было все, но только за окном.
«Голубая роза» принесла автору немало хлопот и неприятностей. Мало кто понял, что эта драма психологическая, новаторская. Да и поставить ее, подобрать артистов, в частности на главную роль (Любови), было не так-то просто. Леся очень обрадовалась, когда ей сообщили, что Мария Заньковецкая изъявила желание сыграть роль Гощинской.
«Мне было очень приятно узнать, что Заньковецкая берется за роль Любы; если у нее не все хорошо получится, то все-таки темперамент, настроение, голос, фигура, лицо будут отвечать роли. Лучшей, чем она, украинской артистки я не знаю, и если у Заньковецкой Люба хорошо не получится, то, значит, ей (Любе, а не Заньковецкой) нужно ждать благоприятного времени или совсем погибнуть для украинской сцены… Вы уж там как-нибудь объясните, кто или что такое мойра, фатум, голубая роза и т. п.». Так писала Леся матери.
А репетиции проходили со скрипом, постановка пьесы откладывалась. Леся находилась в Крыму, нервничала, лечение не шло впрок. «Не пришлось бы моей «Розе», — писала Леся в Киев, — последовать совету Горация: novem annos prematur,[33] жаль только, «Роза» может за такое продолжительное время увянуть и засохнуть».
Миновала зима. Заканчивался сезон, а дела с «Розой» становились все безнадежнее. Все старания и ожидания оказались напрасными — Заньковецкая и еще некоторые артисты собирались ехать на гастроли. Леся в отчаянии: «Нет, видимо, суждено мне быть «бескорыстной» писательницей. Господи, чего только не рассказала мне Лиля о считке моей драмы!.. Лиля справедливо говорила: «Публике недостает таких драм, как «Роза», но таким драмам недостает актеров», — вот и cercle vicieux!.[34] Ну, наконец, и я скажу, как госпожа Калмыкова: «Пусть они рехнутся — и драмы, и актеры!»
Впоследствии «Голубую розу» поставили-таки в Киеве, но особым успехом она не пользовалась.
Лето Леся провела в Гадяче, переводила на русский «Голубую розу», много читала. Вообще читала она массу книг: все, что издавалось в России и доставлялось из-за границы, как правило, не ускользало из поля зрения поэтессы. Да еще журналы — и «свои», и «чужие». В один и тот же день она могла с утра заниматься переводами, после обеда работать над статьей, а затем читать Л. Толстого «Об искусстве», драмы Ибсена, просматривать журналы, отвечать на письма. Леся была глубоко убеждена в том, что писателю, даже маститому и очень талантливому, непременно надо читать: много и ежедневно. А о молодых и говорить нечего. Поэтому она с такой неприязнью говорила о тех украинских писателях, которые только пишут и почти ничего не читают. Чего стоит писанина таких литераторов!
В Киеве Лесю ожидала приятная новость — свежий номер журнала «Литературно-науковый виснык» со статьей Ивана Франко о ее творчестве, в которой большой мастер слова, прославленный публицист высоко оценил ее талант. Однако такое лестное мнение не вскружило ей голову, в письме к автору статьи мы находим не только удовлетворение, благодарность, но и… нескрываемую иронию по отношению к самой себе.
Хотя немного и преждевременно, но все же пользуюсь оказией, чтобы поздравить Вас с юбилеем, но в спешке я не могу, к сожалению, найти соответствующий стиль. Была бы рада, если бы мне удалось приехать на Ваш праздник, тогда, может быть, искреннее рукопожатие заменило бы слова. Да разве в стиле дело! Вы знаете, как я искренне уважаю Вас и Ваш талант, а зная тяжелую долю украинского поэта, рада бы «горы своротить», только бы ей пособить. Счастья Вам на Вашем пути!»
Осень этого года оказалась неожиданно благоприятной для творчества. Несмотря на обострение болезни, а может, именно вследствие этого обстоятельства Леся работала увлеченно и настойчиво. Когда болезнь надолго приковала к постели, она невероятным усилием воли заставляла себя забывать о ней во всепобеждающем упорном труде. Это были психические контратаки на вражескую блокаду, не дававшую пощады и снисхождения на протяжении тридцати лет. В это время еще не потеряна была надежда на выздоровление. Но рождались и мысли иные: сегодня худо, завтра может быть еще хуже. В ожидании лучших времен потеряешь драгоценные дни. Она, несомненно, знала и, наверное, часто повторяла слова Петрарки: «Если человек жаждет выйти из своего плачевного состояния, жаждет искренне и настойчиво, — такое желание не остается безуспешным».
Размышляя о своей беде, Леся убеждалась в том, что болезнь, причиняя страдания, возможно, выкует для нее такое оружие, какого и у здоровых людей нет. Как в том немецком парадоксе: Nur ein kranken Mensch ist Mensch. Вот как Леся оправдывала свой неспокойный характер в одном из ялтинских писем, адресованных матери:
«Что правда, мама, то правда, — олимпийство никогда не было мне свойственно, и по временам трудно бывает сохранить олимпийское спокойствие; но, по правде сказать, теперь у меня скорей бодрое, нежели кислое настроение. Может быть, это и не совсем нормально, но мне кажется, что меня ожидает какая-то большая битва, из которой я вернусь победителем или совсем не вернусь. Если у меня и в самом деле есть талант, то он не погибнет, — это не талант, который погибает от туберкулеза или истерии! Пусть и мешают мне эти болезни, но зато, кто знает, не куют ли они мне такое оружие, какого нет у других, здоровых людей. Nennt man die qrosten Schmerzen, so wird auch das meine qenannt,[37] — сказал Гейне, и я скажу вместе с ним; но Гейне сказал, и справедливо сказал, еще и другие слова, которые я не решусь произнести; только в минуты какого-то безумия они звучат в моей душе, и трудно заставить их умолкнуть».
«Может, болезнь моя толкнула меня на писательский путь, — иной раз думала Леся. — Ведь я мечтала о фортепиано, о музыке… А если бы не эти трагические обстоятельства? Превратилась бы в мещанку?..»
Страшно подумать… Но, наверное, не личные человеческие страдания и муки определяют силу и мужество поэта. Нет, конечно, нет! Единство судьбы поэта и народа с его вечными страданиями и мечтой о счастье — вот что выносит поэта на высоты времени и славы. Не случайно писал Лермонтов:
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.
С той поры как Косачи переселились в Киев окончательно, взаимоотношения между тремя семействами — Старицкими, Лысенко и Косачами — стали более близкими и тесными. Позже, когда Лесины родители переехали с Назарьевской на Марьино-Благовещенскую, 97 (рядом с Лысенко и Старицкими), образовалась своего рода колония людей с общими мыслями и стремлениями. Старицкие и Лысенко издавна связаны были родственными узами: Михаил Старицкий был женат на родной сестре композитора — Софье Витальевне. Косачи же этим семьям были «родными по душе».
Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что литературное творчество являлось сердцевиной духовной жизни «колонии». И Михаил Старицкий, и его дочь Людмила, и мать Леси, да и другие члены этих семейств писали стихи, пьесы, прозу. Лысенко хотя и не оседлали Пегаса, однако внимательно следили за всеми событиями литературной жизни.
Вокруг моросил мелкий осенний дождик, мы теснились у своего огня и ощущали приток новых сил. Может, это пламя верного товарищества, может, эта атмосфера жизни в сочетании с гордым и непобедимым характером Леси и предоставляли ей возможность «contra spem sperare»…
— Не было такого дня, — вспоминает Галина Лысенко, — чтобы мы не посетили Косачей или они нас. Никто не верил, что мы не родственники. Мы, дети, любили бывать у Косачей в те дни, когда слетались в отцовский дом молодые. Когда же в Киеве жила Леся, приходили по нескольку раз на день. Обычно дверь отворяла она сама, так как ее комната была расположена у входа, и, несмотря на то, что мы хорошенько докучали своей беготней, всегда встречала нас приветливо: «А, Лысенчата!» — или «О, Alline and Katrin!»
Питая пристрастие к музыке, Леся полюбила Николая Витальевича, его семью и дом, где все, казалось, проникнуто чарующим миром звуков. Когда юная поэтесса переводила Гейне, к некоторым стихам Лысенко написал музыку, и здесь же, в его кабинете, состоялось первое исполнение. Так в содружестве молодой поэтессы и опытного композитора появились на Украине новые песни. Великий музыкант без оглядки поверил Лесиному поэтическому таланту и настолько высоко ценил его, что даже заказал ей, шестнадцатилетней девушке, написать слова к траурному маршу на годовщину Шевченко.
Как-то в зимний день, еще до поездки в Болгарию, Леся зашла к Лысенко по поводу подготовки к изданию сборника народных песен, которые она собрала на Волыни. Композитор сидел в своем кабинете у рояля и что-то тихонько напевал. Собственно, это был даже не кабинет, а часть зала, отгороженного аркой. За аркой — большой рабочий стол, на котором рассыпаны белые листы нотной бумаги. На стонах — фотографии, преимущественно групповые — хоровые и театральные снимки, а также со вкусом выполненные фотопортреты Марко Кропивницкого, Михаила Старинного, Антона Рубинштейна. Над самым столом увенчанный рушниками написанный маслом портрет Тараса Шевченко. У арки стоит большой черный рояль немецкой фирмы «Блютнер» — гордость хозяина. В углу, на этажерке, застыла скульптурная группа — кобзарь с поводырем.
Лысенко был в приподнятом настроении и встретил Лесю радостно, приветливо:
— Очень хорошо, что вы пришли. Словно догадались, что именно в эту минуту я вас жду…
— И что-то новенькое напевали…
— Вот об этом-то и речь! Я «нарисовал» нечто вроде детской оперы, но что с нею делать дальше, помилуйте, не имею понятия.
— Как же она называется?
— «Коза-дереза». Сочинить сумел, а вот как поставить ее?
— Детских театров у нас нет. А действующих лиц много?
— Нет, четыре-пять человек, можно до трех сократить.
— Коли так — поставим дома своими силами. Вон у нас мелкоты сколько…
— Видите, как здорово вы сразу нашли выход! Берите это дело в свои руки, а мы с Ольгой будем вам помогать. Привлекайте наших малышей в артисты, занимайте под театральный зал гостиную и начинайте репетиции…
Уже через несколько дней работа над постановкой домашнего спектакля была в разгаре. По утрам Николай Витальевич играл на фортепиано и низким, хрипловатым баритоном напевал арии Козы-дерезы и Лисички. «Премьера» состоялась на рождество, успех был грандиозный… Пришлось повторить спектакль — и раз и два. После «Козы-дерезы» Леся готовила с детьми оперу «Зима и Весна». Эта вещь была много сложнее, хотя «артистические силы» остались прежними. Одним словом, хлопот хватало: Леся и режиссер, и костюмер, и декоратор. и даже суфлер. Самой пришлось придумывать и одежду для Осени, Зимы, Снеговика, Весны; по собственным эскизам Леся шила костюмы.
Окружающие поражались тому, откуда у нее столько неиссякаемой энергии, а главное, терпения. Дети быстро охладели к репетициям — теперь они проходили ежедневно — и разбегались кто куда. Но неумолимый режиссер находил, извлекал их из укромных закоулков, и репетиция возобновлялась…
В этот период тесного общения с семьей Лысенко Леся близко сошлась с женою Лысенко — Ольгой Антоновной Липской. Видимо, какая-то из задушевных, интимных бесед послужила основой для известного стихотворения Леси «Забытая тень».
А было это так. Разговорились как-то они с Ольгой Антоновной о женской доле. Поэтесса приводила примеры из литературы, цитировала выдающихся поэтов, ссылалась на Данте и Беатриче, как символ глубоких чувств любви и дружбы, вспоминала Шевченкову Катерину. Ольга Антоновна слушала рассеянно, с каким-то едва уловимым чувством неудовлетворенности. А потом, немного поколебавшись, заговорила о том, что все поэты почему-то мало писали о незавидной судьбе женщины — жены великого или просто одаренного человека. В голосе Ольги Антоновны все явственнее звучали нотки сожаления и обиды на судьбу женщины, добровольно отрекшейся от своего имени и независимости, пренебрегшей собственным талантом. Затерявшаяся, забытая тень, Липская говорила о себе. У нее удачно складывалась музыкальная карьера, но она сама поставила на ней крест, полностью отдалась семье, заботам о муже. К тому же их брак не был официальным, так как светская и духовная власть не дала Лысенко развод с первой женой.
Ольга Антоновна говорила о том, как оскорбительно порой слышать: «Кто эта пани?» — «А, это жена Лысенко…»
— Я ощущаю в таком ответе одно: речь идет не о человеке, а о какой-то вещи. А между тем… кто знает, может, успех Лысенко и не был бы таким блестящим без этой «вещи»? Может быть, и сама «вещь» могла бы излучать собственный свет… Леся, голубушка, гордость наша, вы многое умеете… Скажите свое слово в защиту гордой женской души, скажите, что она не тень…
Леся возвращалась домой сосредоточенная, углубленная в свои мысли. Она всегда относилась к Ольге Антоновне с уважением и симпатией, но сейчас к этим чувствам прибавилось и другое: благодарность за то, что молодая, красивая, талантливая женщина пожертвовала многим, чтобы создать наилучшие условия другому человеку для его труда.
Спустя несколько лет об этом эпизоде рассказывала Галина Лысенко: «В 1900 году во время родов умерла наша мама. Когда немного утихла первая горечь утраты, я решилась пересмотреть мамин архив: книги, йоты, альбомы и пр. Среди писем обнаружила книжку Леси «Думы и мечты», изданную в 1899 году во Львове. Раскрыла. Между страницами, где начиналось стихотворение «Забытая тень», лежал листок бумаги — то был автограф упомянутого стиха. Сборник я видела и читала, Леся подарила его, как только он был напечатан. Однако особого внимания на «Забытую тень» не обратила, понравилось стихотворение, и все тут… Теперь вновь читаю, повторяю строки:
………Кто она?
Жена поэта. Имени другого
Не сохранило время нам, как будто
Ей собственного имени не дали…
Меня вдруг осенило: — ведь это же мамины слова, сказанные ею Лесе два года назад:
— Кто она?
— Жена Лысенко…
И дальше — продолжение того памятного разговора:
………И не раз
Его рука, ища себе опоры,
Ей на плечо с надеждой опускалась.
Ей дорога была поэта слава,
Но рук она не протянула к ней,
Чтоб взять себе хотя бы луч единый.
Потом, уже не в силах сдержать рыдания, я читала такие знакомые и такие горькие слова:
Тень верная! А где ж ее судьба,
Где собственное счастье, радость, горе?
История молчит. И вижу в грусти я
Всю горечь дней далеких, одиноких,
В тревожном проведенных ожиданье,
Ночей бессонных, темных, как забота,
И долгих, как нужда, я вижу слезы…
По тем слезам, как по росе жемчужной,
Прошла в отчизну славы Беатриче.
Меня потрясло то, как искренне восприняла Леся мамины чувства, как глубоко прониклась ее настроением и так мастерски, даже гениально, отразила их в сюжете, казалось, таком далеком, в легенде, встающей «из сумрака времен средневековых».
Николай Витальевич в полной мере импонировал Лесе Украинке своими радикальными взглядами в сфере общественно-политической, а также своим деятельным, решительным характером. Близкие знали, что за мирной профессией музыканта скрывается настоящий бунтарь, что под дирижерским фраком бьется пламенное сердце шевченковской закалки. Лесе импонировало в Лысенко и то, что он, находясь в плену мелодий и звуков, откладывал, если надо, волшебную палочку и брался за перо, чтобы беспощадно отхлестать тех, кто этого заслужил. Вот, например, какую отповедь дал он землякам-полтавчанам, которые жаловались правительству на притеснения после революции 1905 года:
«Что худо живется вам — в этом ничего удивительного нет, — писал им Лысенко, — ибо кого теперь правительство не притесняет, кроме черной сотни и всякой прочей рвани-сволочи. Но так вам, полтавчанам, и надо, ежели вы дожились до того, что у вас, у громады, коллектива общественного, нет сознательной жизни. Вы все — филистеры — замкнулись в своих домах, забрались на украинскую крепость — печку — и хоть трава не расти во всем мире, — лишь бы мне тепло и спокойно было… Рабы, подонки, грязь… Когда-то кормили ляхов своим мясом, а теперь «единое неделимое» кривословие лелеют… Ни отпора, ни протеста, ни солидарности между собой. Может, резко говорю, но желчь кипит при виде лицемерия земляков, которые все забросили, отреклись от всего святого и потопали вслед за разбойничьим режимом и кривословием, приспособившись к пирогу государственному и общественному».
Много дорогих сердцу Леси воспоминаний тесно переплетено с семьей Старицких. Развитие украинской культуры на протяжении последних трех десятилетий XIX века нельзя представить без Михаила Старицкого. Его дом являл собой театральный и литературный клуб, как, впрочем, и дом Лысенко. С композитором Старицкий сдружился и побратался еще в юности. Вместе учились в Киевском университете, тогда же, в 60-х годах, собирали и записывали народные песни, делились своими замыслами и нередко помогали друг другу в их осуществлении. Почти все оперы Миколы Лысенко («Черноморцы», «Рождественская ночь», «Утопленница», «Тарас Бульба») написаны на либретто Старицкого. Многие драматические произведения Старицкого насыщены музыкой Лысенко.
Еще в юношеские годы, после одной из студенческих сходок, друзья встречали рассвет на крутых днепровских склонах, на Владимирской горке.
— Мы дали клятву, — вспоминал Михаил Петрович, — жить для многострадального народа, собирать его песни, изучать его слово, помогать ему и знаниями своими, и любовью. Не однажды житейское море швыряло нас в бездну, но клятвы той мы никогда не нарушили…
В апреле 1894 года, когда украинская общественность отмечала 30-летие деятельности Старицкого, поэтесса сердечно поздравляла его такими словами:
— Мне суждено было жить и работать в тяжкую пору — и, кто знает, дождусь ли я лучшей! Я знаю, до чего тернист и тяжел путь украинского литератора, и поэтому я могу хорошо понять и оценить Вашу работу и Ваши заслуги. Я понимаю и признаю и то, что моя собственная работа оказалась бы для меня трижды тяжелей, если бы пришлось трудиться не на поднятой целине, а на невспаханном поле… И если наше слово вырастет и окрепнет, если наша литература займет почетное место бок о бок с литературами других народов, — я верю, что так и будет, — тогда, вспоминая первых работников, которые трудились на невозделанной, дикой почве, украинцы наверняка помянут добрым словом Ваше имя…
На закате своей короткой жизни, в последнем письме к Людмиле Старицкой-Черняховской Леся еще раз за свидетельствовала свое глубокое уважение к корифеям украинской культуры;
«С Николаем Витальевичем связаны мои воспоминания самых дорогих молодых лет, в его доме столько не забываемого пережито! Старицкий, Лысенко — эти имена, для других принадлежащие только литературе и музыке, для меня же — вечно живые образы, близкие и родные люди, которые не умирают, покуда живо наше сознание. Не знаю, будет ли кто-либо из молодого поколения вспоминать меня с таким чувством, как я вспоминаю сейчас Николая Витальевича и Михаила Петровича (всегда их вижу рядом!). Хотела б я такое заслужить. Не пришлось мне вместе с Вами проводить в последний путь Ваших родных и потому, наверное, я всякий раз вижу их живыми, как всегда вижу своего отца и Михася, и ни за что не хочет душа моя поверить в это…»
Старицкого унесла смерть в 1904 году, через пять лет — Петра Косача, а еще через три — Миколу Лысенко. Но побратимство, заложенное ими, продолжало жить в молодом поколении.
Прогрессивные круги украинской интеллигенции давно вынашивали мысль о создании в Киеве культурно-просветительного очага. В середине 90-х годов было основано Литературно-артистическое общество со своим собственным клубом в двухэтажном доме на Рогнединской улице. Формально общество считалось русским, но по доброй воле организаторов здесь нередко проводились украинские вечера. В состав правления общества вошли известные деятели украинской культуры: Тадей Рыльский, Микола Лысенко, Михаил Старицкий, Леся Украинка и другие. Благодаря доброжелательному отношению передовой русской общественности Киевское литературно-артистическое общество стало пристанищем преследуемого самодержавием украинского слова.
Да и невозможно было выдержать официальную направленность общества, ведь именно на спектакли, вечера украинских писателей приходила масса зрителей, заполняя все уголки клуба. Таким образом получались неплохие сборы в кассу общества.
Близилось знаменательное событие — столетие новой украинской литературы. Сто лет назад вышла в свет «Энеида» Ивана Котляревского — первое выдающееся произведение, написанное современным украинским народным языком. «Энеида» пробудила интерес к родному слову, получила известность и признание во всей стране и вызвала к жизни целое поколение писателей. Спустя полвека, когда появился «Кобзарь» Шевченко, украинская литература прочно встала на собственные ноги и теперь уже всему миру заявила о своем существовании. Стало быть, год рождения «Энеиды» — 1798-й — начало новой литературы.
Готовясь к празднику, Леся написала стихотворение «На столетний юбилей украинской литературы». Вообще говоря, она скептически относилась к тем поэтам, которые пишут стихи «по случаю», и сама практически избегала таких «событийных» произведений. Но здесь был случай исключительный. Эта тема — судьба украинских писателей — давно волновала сердце поэтессы.
Она прекрасно знала историю мировой литературы и не могла не заметить, что фортуна не очень-то жаловала выдающихся певцов. Не розами, а скорее терниями был устлан их путь. Овидия император Август сослал в далекие края; Данте был осужден на пожизненное изгнание; Байрон умер в далекой Греции, борясь с турецкими завоевателями… Мицкевич, Шевченко, Пушкин, Лермонтов… У них разве не такая же судьба?
Но если доля поэта во всем мире такая, то что же говорить об украинских писателях? Украинская литература революционно-демократического направления, отражающая интересы и чаяния народа, вынуждена была вести борьбу на два фронта — против «своих», украинских эксплуататоров в лице помещиков, фабрикантов и заводчиков, духовенства и против национального и социального угнетения со стороны самодержавного правительства и эксплуататорских классов России. Трудная и неравная борьба! С одной стороны, огромная армия солдат, жандармов, полиции, руководимая послушным государю бюрократическим аппаратом, в распоряжении которого находились печать, школы, учебные заведения, церкви и… темнота народа. С другой — группка беззащитных людей, единственным оружием которых являлись их произведения.
Только солидарность и братская поддержка деятелей демократической ветви русской культуры помогли украинской литературе выстоять; расти и развиваться. Еще во времена Квитки-Основьяненко и Шевченко прогрессивные русские журналы предоставляли свою площадь произведениям украинских писателей, их лучшие сочинения переводились на русский язык. Некоторые издательства, нарушая и всячески обходя официальные распоряжения и запреты, печатали украинские книги, сборники, альманахи. Но все это лишь частично облегчало жизнь украинской литературы.
Деятельность и творчество таких писателей, как Шевченко, Франко, Грабовский, Руданский, Свидницкий, Манжура, Тесленко, и многих других — настоящий подвиг. Они бесстрашно боролись за свободу и счастье народа. И что получали в награду? Преследования, бесконечные каторги, мытарства в ссылках, голод и нищету в своем доме. Вот об этой горькой участи украинских писателей и говорит Леся в своем юбилейном стихотворении, прочитанном на многолюдном собрании 26 ноября 1898 года.
К празднику начали готовиться задолго. Главное — разрешение властей. Наконец после длительных и настойчивых уговоров и просьб из Петербурга было получено разрешение министра внутренних дел — «разрешить литературное собрание в память Котляревского под наблюдением местной администрации».
Вечер был устроен в большом зале Литературно-артистического общества. После доклада и приветственных выступлений хор Миколы Лысенко открыл концертную Программу. Известный актер Микола Садовский прочел стихотворение Шевченко «На вечную память Котляревскому», а затем на сцену вышел Михаил Старицкий. Сначала прочел свое стихотворение, затем Лесино — поэтесса сидела рядом, но считала, что у нее слишком тихий голос для такой аудитории, и к тому же ей нездоровилось.
Стихотворение Леси Украинки произвело глубокое впечатление на присутствующих. Строки о судьбе угнетенного народа и его поэтов:
Да, в каждой стране есть преданье о рае,
И нет его только в родном моем крае…
А были ж певцы и у нас,
Чьи песни бессмертной исполнены силы,
А как имена их? И где их могилы —
Чтоб славу воздать хоть сейчас?!
грустью откликнулись в зале, тяжкой печалью легли на сердце.
Передовые демократические писатели Украины честно трудились для своего народа, и потому:
Их брать под защиту никто не старался,
С высокого трона никто не спускался
Прославить достойно певцов.
Лавровыми их не венчали венками,
Шипов не старались укрыть за цветами,
Страдал одиноко поэт;
Кафтан его был не богатым и новым,
А коль на руках и звенели оковы, —
Уже не из золота, нет!..
Старицкий закончил чтение, и зал на какое-то мгновение замер, а потом взорвался громом аплодисментов. Затем из разных концов зала послышались выкрики:
— Автора, автора!.. Лесю Украинку!..
Старицкий сошел с эстрады и представил поэтессу публике. Высокий, крепкий, с длинными седыми усами, рядом с тоненькой девушкой он был словно дуб в паре с хрупкой березкой. А зал с восторгом скандировал:
— Слава! Слава Лесе Украинке!
То были незабываемые минуты. Присутствующие выражали писательнице признание, глубокое уважение и любовь.
В этот момент к Старицкому подошел полицейский чин и что-то начал говорить ему. Но овация не утихала, и полицейский, безнадежно махнув рукой, исчез в толпе. Позже выяснилось, что Лесино стихотворение в утвержденной заранее программе отсутствовало. За такое самоуправство Старицкий был вызван в полицейский участок и предупрежден, что подобные вечера и собрания будут вообще запрещены.
Полный 1898 год Леся трудилась не покладая рук. Помимо поглощавшего ее литературного творчества, она быстро и увлеченно выполняла многие задания общественного характера. Тем временем болезнь не сдавала позиций, хотя сама Леся старалась «не замечать» ее. На вопрос Павлыка о здоровье отвечала: «Было бы терпимо, если бы не эта глупая истерия, хорея, слабость сердца или — да черт знает, как она называется. Хожу себе по земле, как человек, пишу — временами даже много, принимаю участие в общественной жизни, но только расплачиваюсь за это регулярными приступами… Кажется, я скоро с ними свыкнусь, как вельможные пани привыкают к балам…»
Но чем дальше, тем боли в ноге сильнее и невыносимее. Теперь уже мысль об операции сустава не оставляла ни Лесю, ни ее родителей. Как-то им рассказали знакомые о том, что в Берлине есть крупный хирург, профессор Бергман, который специализируется на операциях конечностей, пораженных туберкулезом. Выходит, надо ехать к нему. Местные хирурги либо не решались на такую сложную операцию, либо не вызывали доверия. А согласится ли Бергман? Венские врачи в свое время отказались…
К счастью, берлинское светило пригласили на Украину для консультации, и Лесе удалось попасть к нему на прием. Мнение профессора благоприятное. Спустя несколько дней Леся пишет Павлыку: «Чувствую себя получше. Случилось повидать своего берлинского оператора, он согласился меня резать, так что недельки через три уже буду лежать на операционном столе. Такая перспектива меня не страшит, ведь после — лучшие перспективы: не станет туберкул в организме, значит, одной бедой меньше. Что касается самого процесса резания, лежания etc., - мне это не в диковинку. «Quod medicamenta non sanat ferrum sanat»,[38] надеюсь, что к третьему лекарству — ignis[39] — не придется прибегнуть. Новая перспектива испугала не меня, а мою истерию, — она приутихла и не терзает меня вот уже недели две. Пользуюсь этим и занимаюсь ликвидацией литературных дел».
Неотложных забот оказалось несметное множество: закончить рассказ «Над морем» — для Литературно-артистического общества, снять вопросы цензуры по драме «Голубая роза», которую Леся сама перевела на русский язык, завершить сцену из драмы «В пуще», написать письма родным и друзьям. И симфонический концерт послушать хочется, и проэкзаменовать надо Оксану, Микося и Зорю (сын покойного дяди) по французскому и латыни…
— Нет, я, кажется, объявлю себя банкротом, — сказала она, собираясь в Берлин.
Вместе с матерью выехали из Ковеля только 13 января, на следующий день прибыли в Варшаву. Остановились в гостинице с огромной, на весь фасад, вывеской «Замковая» и сразу же пошли осматривать город. Прежде всего — к недавно поставленному памятнику Адаму Мицкевичу. Затем пересекли центр, побывали на площадях и улицах Варшавы, ознакомились с историческими достопримечательностями, памятниками, роскошными старыми и новыми дворцами.
Через два дня Лесю встречал хмурый, строгий Берлин. Вскоре ее положили в частную клинику Бергмана: Йоганнесштрассе, И. Натруженная нога болела еще сильнее, и хирургическое вмешательство было невозможным. Надо немного повременить, пока боль уляжется. Леся была относительно спокойной и не прекращала заниматься литературными делами, интересоваться жизнью страны, которую впервые увидела так близко. Берлин поразил ее и внешним видом, и порядками, и ритмом жизни. 20 января она пишет своей сестре:
«Как видишь по почерку, уже лежу, но меня еще не резали, ждут, чтобы нога немного успокоилась, а она, как назло, болит…
Тут так много необыкновенного, начиная от мелочей комфорта и до грандиозных сооружений. Даже я, мало выходя за стены отеля… все-таки увидела целый мир. Вена рядом с Берлином не казалась бы большой, а о Киеве и говорить нечего. Здесь, собственно, три города: подземный, наземный и надземный. Над улицами и более низкими зданиями построены эстакады, по которым беспрестанно мчатся поезда… Непосредственно по улице поезда не ходят, только по этим эстакадам. На первых этажах домов всюду магазины, даже жутко подумать, сколько человеческого труда кристаллизовано в этих изделиях, порой совсем излишних. Больше всего меня поражает не то движение, которое видно днем, но то, которое слышно ночью: особенно оно было слышно в отеле, где мы жили первые два дня. Как только жильцы отеля улягутся спать, начинается починка и чистка водопроводов, лифтов и т. п., словно какие-то гномы, подземные духи, ведут свою таинственную работу».
Все здесь удивляло Лесю. Несмотря на ограниченность наблюдений, каждый день приносил ей что-то новое. Много узнавала поэтесса и от больных, прибывших сюда из разных уголков мира. В соседней комнате, например, лежала десятилетняя девочка из Африки, из Трансвааля.
Воскресенье, 24 января. Леся — на операционном столе… Операция закончилась успешно, но медленно заживающая рана, перевязки, затем подгонка ортопедического аппарата для ноги еще долго причиняли страдания Лесе.
Впоследствии Леся говорила Ольге Кобылянской, что операция и все процедуры после нее были таковы, что вторично она себе и за царство небесное подобного не пожелает. Три с половиной месяца Леся не поднималась с постели, но и в такой ситуации не потеряла оптимизма, живо интересовалась общественными и литературными новостями, вела активную переписку с друзьями. Ее палата походила скорее на комнату-читальню, нежели на больничное помещение. «Я теперь много читаю, — писала она, — ведь здесь можно найти различные книги на чужих языках, в России это затруднительно».
Поездка в Берлин на операцию принесла пользу не только Лесиному здоровью, но также делу революционной пропаганды. Сюда не распространялась власть царской цензуры, и Леся вела переговоры о пересылке в Россию запрещенных изданий (в частности, с Павлыком), советовалась с опытными пропагандистами, подталкивала там, где в этом возникала потребность.
Показателен в этом смысле отрывок из Лесиного письма к Павлыку: «Напишите, приходил ли кто-нибудь к Вам от моего имени за популярными изданиями, а если бы и получил их от Вас, то на какую сумму? Если я не смогу уплатить этот долг, попрошу брата сделать это. Следовало бы завязать более тесные отношения с теми людьми, которые обращались к Вам, может быть, они и вправду способны вести позитивную работу, во всяком случае, не надо решать это apriori, ведь это люди доброй воли. Они говорили, что будут присылать мне сюда деньги и материалы для издания в Галиции. В соответствии с тем, что они мне направят, буду советоваться с Вами, где и каким образом можно опубликовать их… Я и указала им дорогу к Вам на случай… Они имеют намерение издавать популярные книжонки и разные Schriften[40] на политическо-экономические темы».
Леся стремилась влиять на политическую деятельность социал-демократических кружков в Галиции. В ряде писем она выступает в роли советчика, давая понять, что делает это не по собственной инициативе, а по поручению своих единомышленников из киевских марксистских кружков. К примеру, последние события — обострение отношений между украинскими и польскими партийными деятелями — подчеркивают противоречия и обоюдное недоверие. Пока речь идет «вообще» — все нормально, а как дело доходит до местных проблем и возрождения Польши — все летит кувырком.
Очень прискорбно, что социал-демократы в Галиции, представленные малочисленными и разрозненными кружками измельчали, беспринципны. Леся Украинка хорошо понимала насколько сильно шовинистическое течение в польском движении: эта реакционная стихия либо поглощала радикальные галицийские кружки, либо толкала их под националистические лозунги. Естественно в таких условиях много времени уходило на обывательские распри. Все это беспокоило поэтессу, занимало её мысли даже в больничной палате.
Несмотря на утверждение Леси, что публицистика не призвание, все же приходилось время от времени обращаться к этому жанру. Так было и в этот раз:
— Несчастная душа моя чует, что надо будет засесть на Украине за рефераты обо всем этом и писать, и читать, а ты, господи, веси, что я охотно оставила бы эту работу кому-нибудь другому…
Время шло. Нога заживала медленно. В мае Лесе разрешено было сидеть и даже совершать небольшие прогулки — сначала в гипсовой, потом в повязке из крахмала и со специальным ортопедическим устройством. Хотя Леся и поправлялась, однако постоянно жаловалась, что попусту тратится время, что она занимается не литературной деятельностью, а пустяками: письмами, аннотациями, правкой перевода, сделанного сестрой для русского журнала. Совет Павлыка прибегнуть к писанию диктовку не приняла: «Вы говорите — диктовать: к сожалению, не могу, не умею это, абсолютно, — все мысли неизвестно куда улетучиваются! Я даже не люблю, чтобы кто-либо сидел подле меня, когда пишу. А вслух думать могу разве что в горячке. Здесь все обстоятельства настолько не способствуют писанию, ведь пока не литератор и даже не человек, а хирургически-ортопедический манекен… Последние годы я большей частью живу одиноко и потому усвоила непрактичный обычай: собственно литературой могу заниматься только тогда, когда остаюсь одна в комнате и то по преимуществу вечером и ночью. А тут и днем и ночью — вдвоем, в 10–11 иду спать (таков режим), потом — каждый вечер массаж, снятие и (утром) накладывание аппарата портят мне настроение, ибо всегда напоминают, что я «материал», а не человек. Писать «как-нибудь», только бы не терять время, я могла бы, да не хочу… не считаю согласным ни с моею любовью к литературе, ни с моею литературной гордостью (сознаюсь, что она у меня таки есть)».
В конце концов вопрос о возвращении на Украину был решен. Леся занялась приобретением книг, которые трудно было раздобыть в России. Покидала Берлин с радостью — за пять месяцев он порядком надоел ей своими каменными пейзажами и сугубо урбанистическим ритмом жизни.
Всю дорогу думала о родине, о том, что изменилось там за это время. Под впечатлением зарубежной печати казалось, что произошли сдвиги к лучшему. В радостном возбуждении Леся восклицает:
Мечта далекая, надежда золотая —
Моя страна, к тебе стремлюсь душой,
Страшусь и радуюсь, высоко залетая…
Так птицы возвращаются домой.
Операция сустава правой ноги завершилась благополучно, и Леся возвратилась на Украину — сначала в Киев, а через неделю в хутор Зеленый Гай.
Еще будучи в Берлине, Леся написала и отослала через Павлыка первое письмо Ольге Кобылянской, заочно предлагая знакомство. Тотчас же получила быстрый и благосклонный ответ, и с тех пор завязалась личная Дружба и интенсивная переписка Леси Украинки и Ольги Кобылянской. Обе женщины, чье творчество составляло предмет восхищения современников, были влюблены друг в друга и эту взаимную любовь сохранили на всю жизнь, никогда не позволив не то что туче — даже тени омрачить свое чувство.
Прошел месяц с тех пор, как Леся написала первое письмо, а все никак не может нарадоваться.
Такое отношение и забота Леси о творческом пути Кобылянской сыграли значительную роль в ее развитии. Только благодаря знакомству с такими писателями, как Наталья Кобринская и Осип Маковей, а позже Иван Франко, Леся Украинка и другие, Кобылянская нашла свой путь в украинской литературе.
На грани двух веков — XIX и XX — Ольга Кобылянская вместе с Коцюбинским и Стефаником является выдающимся представителем нового социально-психологического направления в украинской прозе. Кобылянская впервые широко показала образы женщин, которые осознали свое рабское положение в буржуазном обществе и бесстрашно ведут борьбу за освобождение.
Неожиданно сложились благоприятные условия для приезда Кобылянской — она и Наталья Кобринская получили делегатские мандаты на Всемирный археологический конгресс, который должен был состояться в Киеве. Леся чрезвычайно обрадовалась этому. Теперь мечта о встрече приобрела реальные очертания. Известная писательница Ольга Кобылянская впервые приедет на Украину, где ее почти не знают, но где рады и счастливы с ней познакомиться.
«Это истинное счастье, милая подруга, — писала Леся Кобылянской, — что мы скоро увидимся! Только я в Киеве не буду, потому что все равно по съездам и выставкам мне не ходить, а сидеть дома здесь лучше, чем в Киеве… Поэтому, прошу Вас, быстро осмотрите выставку, поглядите на людей, рефератов слушайте не очень много… да и направляйтесь ко мне сюда как можно раньше. Пока я лежала в больницах, мама построила здесь хороший дом, где могли бы поместиться мои приятели со всего света. Окрестности здесь красивы, горизонт широкий (после каменного Берлина я научилась это ценить), людей не слишком много, может быть, Вам покажется и мало. Будем на лодке кататься и плавать, если умеете; я буду Вам играть Шумана и Шопена, которых Вы, кажется, очень любите, кроме того, множество украинских песен…».
Лесе очень, хотелось не только встретиться с Ольгой Кобылянской, но также познакомить ее с надднепрянской Украиной. Поэтесса обещала, что ее сестры покажут все окрестности, что она увидит такую Украину, «украинистей» которой и нет». Леся таила надежду, что все эти новые впечатления усилят мотивы из жизни народа в ее творчестве…
Утром 21 августа 1899-го в Зеленом Гае Кобылянскую встречала целая толпа — Косачи, их родственники и друзья. С непривычки к таким публичным чествованиям гостья в первый момент ужасно смутилась, но Леся сразу же поспешила на выручку — взяла ее за руку, обняла, а тогда уже, обращаясь ко всей компании, скомандовала на домашнем жаргоне:
— Козероги козерожейшие, расступитесь. Пани Ольга устала с дороги. Мы сейчас пойдем в дом, а во время завтрака наша гостья со всеми познакомится…
Прекрасные дни на прекрасном хуторе. Обе писательницы, словно влюбленные, встретившиеся после долгой разлуки, не расставались. Задушевные, веселые, грустные, а порой и бурные разговоры буквально захлестнули обеих. А между тем и в жизни, и в литературном творчестве они отличались многим: Кобылянская — нерешительная, не всегда уверенная в себе, проявляющая свои стремления и чувства приглушенно; в ее речи нередки недомолвки. Леся же, напротив, натура открытая, бескомпромиссная и страстная.
Тем не менее и гостья и хозяйка остались довольны друг другом. Не удивительно, что спустя два месяца Леся писала: «Эх, приезжайте, пани Ольга, снова ко мне, и будем снова szare godziny[41] справлять! И чай будем пить «не отвратительный», и Грига сыграем, и я Вам страшные драмы и дикие фантазии буду рассказывать, да и улетим обе ins blaue Hinein.[42] А пока будьте здоровы, liebe Freundine[43]».
Осенью 1899 года Косачи переехали на Мариино-Благовещенскую улицу, ныне Саксаганского, 97. Леся на скорую руку оборудовала себе небольшой кабинет на новом месте и с головой ушла в литературные дела. На первом плане — заботы о сборнике стихов «Думы и мечты», готовившемся к изданию во Львове: чтение корректуры, изменения в тексте, дополнения и т. п. На этот раз книга печаталась под непосредственным наблюдением товарища и единомышленника Ивана Франко — известного фольклориста В. Гнатюка.
Семь лет разделяют первый и второй сборники Леси Украинки. Именно эти годы окончательно определили характер, идейную направленность ее поэзии. Если первая книга во многом еще отмечена печатью детского, наивного восприятия мира, то вторая свидетельствует о рождении зрелого поэта-лирика.
В первом же цикле стихов («Мелодии») читатель чувствует, что встретился с утонченным мастером слова, умеющим без малейшей фальши передать настроение неугомонной, «бунтарской» души. Можно заметить также близость поэзии Леси Украинки лирике Гейне и Мюссе. Чтобы выразить глубину и богатство эмоционально насыщенных мыслей, она с большим вкусом и тактом использует многообразие стихотворных средств их поэзии. Например, кольцевую композицию строф в стихотворении «Ночь была и тиха и темна». Или прием повторов, выделяющих, подчеркивающих ту или иную тему, мысль: «Вновь весна и вновь надежды», «Все ожило и все вокруг запело» и т. п. Сила и богатство поэтических выразительных средств ощущаются почти в каждом произведении этого цикла. Даже в маленьком стихотворении «Эта тихая ночь-чаровница» масса образов, эпитетов, сравнений.
Второй цикл, «Невольничьи песни», представляет собой дальнейшее бурное развитие общественной, гражданственной лирики, которая поражает своей актуальностью, гармонией содержания и лексики. С одной стороны, Леся звала современников к революционной борьбе, с другой — горькими, жгучими словами посылала проклятье пассивной, слабой и беспомощной части своего поколения, которая не решается вступить в борьбу с эксплуататорским строем:
Так, мы — рабы, рабов печальней нету!..
Мы — паралитики с горящими глазами,
Наш дух могуч, но плотью мы слабы,
Хоть крылья гордые за нашими плечами,
Но мы к земле прижаты, как рабы.
Жизнь — это жестокая, бескомпромиссная борьба с насилием и несправедливостью, а потому «к лицу ли крепостным, — говорит Леся, — голубки кротость: взор лучистый, ясный», когда нужен меч, ибо
Бар вразумить не сможет раб несчастный
Словами — красноречием своим.
Леся решительно вступала на путь собственного оригинального поэтического творчества. И все же никак не скажешь, что все ей давалось легко, без особого труда. Не раз терзали, больно ранили душу сомнения, пока снова не возвращалась вера в себя, в свой талант. Вот что писала она по этому поводу Ольге Кобылянской:
Что это была не фраза, не традиционная автобиографическая сентенция, убеждают нас ее стихотворения, где время от времени звучат те же нотки сомнения.
Но ясное сознание общественного долга помогало преодолевать такие настроения. Лесе не впервые томиться «в тоске страшных ночей», не впервые ждать, когда «вспыхнет пламя в тех священных горнах, где закаляется железо для мечей…». Не это страшит. Главное — не смириться, не упасть:
И если сделаюсь я сталью в том огне,
Скажите: новый человек родился;
А если я сгорю, не плачьте обо мне;
Клинок непрочный все равно б сломился!
Итак, в преодолении сомнений, предательских приступов малодушия крепла сила духа, мужала воля борца. Леся с полным правом бросила вызов слепой доле, заявив, что «отнимает теперь у нее поводья жизни» и отныне жаловаться на нее не станет:
Полно отныне! Ни жалоб, ни плача,
Ни на судьбу нареканий, — конец!
Конец и сладким мечтаниям — новая дума, распустив свои крылья жар-птицы, манит, властно зовет туда, где
…беспощадно лютует во зле неусыпном война,
Люди там гибнут на поле жестокого боя…
Где я в неволе погибну в лихую годину,
Новая дума, с тобою и там будет рай!
В ту осень (1899) много времени и энергии поглотили общественные культурно-просветительные дела, прежде всего лекции в Литературно-артистическом обществе. 7 октября в присутствии 120 человек Леся прочла реферат на тему «Два направления в новейшей итальянской литературе» — это и была ее первая публичная лекция. Она сама удивлялась, что не испугалась такой массовой по тем временам аудитории (Леся вообще называла эстраду «каким-то Blutgertiste»[45]). Прошло полтора месяца, и она выступила с новым рефератом — «Малороссийские писатели на Буковине». Обе лекции были написаны и прочитаны на русском языке.
«Жизнь» дает мне хоть и не слишком большой заработок, но зато постоянный, и это для меня теперь довольно много значит».
Кроме заработка, этот журнал привлекал Лесю своей прогрессивной направленностью. Это, пожалуй, было главным в выборе печатного органа, в котором она сочла возможным сотрудничать. В полушутливой форме она писала по этому поводу сестре о том, что «кладет лапки» не куда-нибудь, а только на чистое место, где мои лапки не только мне одной могут послужить».
Именно в эти годы журнал «Жизнь» сплотил вокруг себя лучшие силы освободительного движения России. Здесь печатались статьи В.И. Ленина («Ответ г. П. Нежданову», 1899; «Капитализм в сельском хозяйстве», 1900). Литературным отделом, по существу, руководил А.М. Горький, и авторами «Жизни» были Чехов, Серафимович, Вересаев, Франко, Стефаник, Кобылянская. Журнал завоевал огромную популярность среди демократически настроенных читателей, а это, естественно, не могло не встревожить правительственные сферы. Вскоре департамент полиции потребовал закрыть журнал по той причине, что редакция и его сотрудники «не что иное, как революционный кружок». В апреле 1901 года редакторы были арестованы и сосланы, а в июне закрыт и сам журнал.
В своих статьях Леся Украинка осветила достаточно много актуальных вопросов и типичных литературных явлений, тесно увязывая их анализ с классовой борьбой, с революционным движением народных масс. В этих статьях весьма заметно влияние марксизма на их автора.
Так что последние месяцы истекающего столетия были чрезвычайно загружены работой. Надо много писать. «А если не пишу, то шью, когда не шью, то обучаю сестру Дору или
А условия, в которых жила в то время Леся, были далеко не идеальными — маленькая комнатка на двоих с сестрой. Конечно, ей хотелось быть одной в комнате, но тогда бы остальные теснились еще больше. «Но я еще не так погрязла в эгоизме, чтобы пойти на это», — говорила Леся.
Совершенно неожиданно для нее выкроились «каникулы». Рефераты прочитаны, статьи для «Жизни» написаны, «Думы и мечты» вышли в свет, перевод поэмы Г. Гейне «Атта Троль» подготовлен, неотложные общественные дела завершены, и даже длинные письма кое-кому отосланы… Итак, свобода! А свободу Леся всегда охотно использовала для своих любимых путешествии.
Странно и непонятно возникает порой у человека влечение только к тому, что дается нелегко, ценой огромных усилий. А может быть, это закономерное свойство человеческой натуры? Леся очень любила ездить, причем как можно дальше, чтобы видеть новые края и города, знакомиться с неведомой жизнью. Это для нее большое благо, ее стихия. Не случайно же родственники и друзья шутя прозвали ее «boule vagabonde».[47] И это при ее слабом здоровье, искалеченном организме! Да что там организм — «я хоть и беленькая, натура у меня цыганская, и мило мне бродить по свету», — говорила она. Может быть, эта страсть была унаследована от родителей и усилена семейными традициями: все Косачи постоянно в разъездах: отец — по служебным делам; мать — по семейным и литературным, дети — для продолжения образования.
Месяцами не поднимаясь с больничной койки, о каких только странах и континентах не мечтала Леся! Как же можно отказаться от поездок теперь, когда нога окончательно вылечена и немецкая хитроумная машина больше ни к чему. Прочь оковы! Салют мудрому немецкому эскулапу Бергману! Немедля ехать в Прибалтику, Северную Россию, Белоруссию — в края, которых еще не видала:
«…намереваюсь недели через три ехать на север к брату и Лиле, а еще по дороге думаю навестить того своего друга, у которого чахотка, — писала Леся Кобылянской 18 января 1900 года, — может быть, еще тетя Саша поедет со мной в Ригу, где живет старшая тетка, которой тоже «сделаю визит». Таким образом, надеюсь, что путешествие будет очень приятным… Перелечу такие просторы, что каждая среднеевропейская душа ужаснулась бы от одной мысли о них! Но что для меня просторы, с тех пор как я не ношу «оков»?»
4 февраля Леся выехала из Киева. Первую остановку она сделала в Минске, чтобы встретиться с Сергеем Мержинским. С ним она познакомилась в Крыму тремя годами раньше, по рекомендации известного в то время деятеля РСДРП на Украине Павла Тучапского. Мержинскому было тогда 27 лет, он производил впечатление человека серьезного, убежденного в правоте марксистского учения. Леся видела в нем единомышленника, человека, целиком отдавшегося революционной борьбе. Между ними возникло чувство взаимного уважения, дружбы и глубокой, преданной любви. Невеселая это была встреча — уже тогда он был серьезно болен. Через несколько дней Леся прибыла в Петербург, где училась в то время ее сестра Лиля.
В Петербурге Лесе было хорошо и интересно, только немного утомительно: расстояния там огромные, а дома не сидится. Хочется много увидеть, встретиться с людьми. Нашла старых знакомых, обзавелась новыми. Отнесла в редакцию «Жизни» рукописи статей «Два новейших направления в итальянской литературе» и «Малорусские писатели на Буковине». В журнале приняли Лесю очень тепло: «Редактор «Жизни» сам предложил мне писать в его журнале обзоры украинской литературы (поэтому я и дала ему буковинцев) и вообще отнесся ко мне очень хорошо, пригласил меня на вечернее редакционное собрание и разговаривал со мной en confrere,[48] как далеко не всегда относятся к пришельцам».
Виделась Леся и со своими земляками, живущими в Петербурге, — Славинским, Кистяковским, Карташевским, Цветковским и другими.
Вот небольшой фрагмент ее собственных петербургских впечатлений: «Была на балу Академии художеств, где видела и петербургский высший свет. Побывала в музеях. Изъездила Петербург вдоль и поперек на извозчиках, на конках и на «вейках» (крестьяне-эстонцы приезжают на масленицу катать развлекающихся петербуржцев)… Выехала я из Петербурга потому, что уже начала очень уставать, а сидеть там и никуда не выходить и нельзя и не стоит».
Из Петербурга Леся переехала в Тарту, где жил и работал в университете ее брат Михаил. Здесь она неожиданно попала в студенческую компанию (как раз отмечалась годовщина Шевченко). На вечере в университете читали рефераты, стихи, пели песни. Упросили и Лесю выступить со своими произведениями, даже принесли книгу ее стихов: «Я прочитала три стихотворения, а мне наговорили комплиментов — словно за тридцать. Признаться, дьявольски неловко быть в роли «знаменитой иностранки»…»
Посетив тетку Елену в Риге, Леся вновь заехала в Минск, к Мержинскому,
Леся Украинка была также мастером литературно-критического очерка. Почти все ее статьи на литературные темы глубоко пронизаны социальным содержанием и характерной общественно-политической направленностью. Все они, будь то обзорная статья «Два направления в новейшей итальянской литературе» или полемическая «Новые перспективы и старые тени», продиктованы злобой дня и все вместе до известной степени дают представление о методе, которым пользовалась Леся Украинка. Не следует, однако, здесь искать какую-то методологическую, строго последовательную систему: нужно помнить, что мы имеем дело со статьями поэта, а не профессионального критика, и что написаны они по заказу или «по поводу». Например, «Утопия в беллетристике» имеет сугубо исследовательский характер; «Новые перспективы и старые тени», «Европейская социальная драма», «Заметки о новой польской литературе» — обзорные статьи; «Два направления в новейшей итальянской литературе» и статья о писателе Винниченко — аналитические, свидетельствующие о незаурядной широте литературно-эстетических взглядов Леси Украинки; «Малороссийские писатели на Буковине» — критико-информационный популярный очерк, рассчитанный прежде всего на русского читателя.
Большая эрудиция и талант писательницы, проявившиеся и в области литературной критики, дали ей возможность выразить свои эстетические принципы. Внимательное чтение статей убеждает нас в том, что Леся Украинка хорошо знала не только упоминаемых там Платона, Маркса, Энгельса, Тэна, Леметра, Де-Вогюэ, Брандеса, но и многих других историков и критиков литературы, как западных, так и русских.
Вне всякого сомнения, статьи Леси Украинки — все вместе и каждая в отдельности — стоят несравненно выше декадентски-эстетствующих творений ее современников — критиков Евшана, Сриблянского, Никовского, а также примитивно-просвитянских писаний идеолога консервативного направления Ефремова. Можно смело утверждать, что она была новатором не только в поэзии, но и в литературной критике.
В статье «Утопия» в беллетристическом смысле»,[49] развенчивая клеветнические картины будущего социалистического общества, нарисованные буржуазными писателями, Леся Украинка спрашивает: «Когда же рассеется этот кошмар? Когда же появится искренний художник и покажет нам на «неизменном человеческом фоне» новые картины вполне художественной правды и неотрешимой от нее красоты?» В этих словах выражается сущность художественной литературы как социального явления, как идеологического фактора, утверждается единство, неделимость понятия правды и красоты как целого, ибо правда без красоты не будет искусством, а красота без правды вообще немыслима.
Понимая под
Считая незыблемым законом творчества единство правды и красоты, поэтесса доказывала, что нарушение этого принципа пагубно для самого талантливого писателя, что оно всегда дает отрицательные результаты. Среди многих примеров, иллюстрирующих эту мысль, особенно ярким является критика книги Анатоля Франса «На белом камне».
Произведение Анатоля Франса по форме напоминает знаменитое сочинение Платона, состоит из ряда диалогов, произвольно связанных друг с другом, — говорит Леся Украинка, — и, таким образом, все это «игралище мыслей» превращается в ничто. С методологической точки зрения можно объяснить такой провал, — продолжает она, — классовой психологией автора, принадлежащего тому строю, которого он уже не уважает, а поэтому утешает себя тем, что, мол, всякий иной строй не лучше. Отсюда и те непривлекательные картины будущего общества, которые он рисует в своей книге «На белом камне».
Придерживаясь в своем творчестве критерия:
Именно поэтому она взялась за исследование мировой художественной литературы, посвященной прогнозам, «взглядам» в будущее свободного от непримиримых противоречий и эксплуатации общества, то есть литературы «утопического социализма». В той же статье подвергались анализу мечты человека о будущем, начиная с памятников древних времен и кончая романами и повестями Лесиных современников — Анатоля Франса, Метерлинка, Вильяма Морриса, Уэльса. Такое исследование было осуществлено впервые в истории не только украинской, но и русской литературы. И надо сказать, Леся Украинка хорошо справилась с этой задачей, проявила зрелость и прозорливость, увидев главные факторы, определяющие характер будущего строя и жизни в нем. Статья изобилует интереснейшими мыслями, раскрывающими мировоззрение Леси Украинки — человека, который считал борьбу за освобождение народа величайшей радостью и счастьем и даже страдания, неминуемо сопровождающие всякую борьбу, воспринимал как нечто необходимое и животворное.
Леся Украинка не принимала всерьез разрекламированных ранними утопистами наивных картин будущего рая, а еще решительнее отвергала буржуазно-мещанский «социализм», где господствует сытое благополучие, безделье и беззаботность, «ленивое счастье». О романе английского писателя Вильяма Морриса «Вести ниоткуда», в котором живописуется именно такой мещанский эдем, поэтесса пишет:
«Нам жутко в нем, нас томит это безоблачное счастье, наше воображение страдает от этой картины без теней, подобной длинной веренице египетских барельефов, лишенных перспективного ракурса и полутонов, мы чувствуем, что это не жизнь, а медленное умирание от счастья, от бесцельного, ненужного благоденствия. Эти люди пьют, едят, работают, даже любят друг друга, делают все это красиво, изящно, но, в сущности, они не живут. У них нет
Каковы же в конечном счете перспективы человечества в этом Моррисовом раю? Люди достигли высшего материального благополучия, а что дальше? Какими целями они будут жить? Эти люди стали подобны богам, но это умирающие боги! Утопия Морриса — настоящий Gotterdammerung,[51] несмотря на яркий колорит и отсутствие теней. Может быть, действительно такова будет смерть человечества, спрашивает Леся Украинка, изо всех смертей она, пожалуй, самая изящная, но все-таки грустно думать о ней и нет желания стремиться к ней самим или подвигать к ней других.
Она признается, что не понимает этих людей, как и они, очевидно, не поняли бы пришельцев из XIX века, хотя им знакома их история. Почему же возник такой тупик? Дело в том, что эти будущие люди Морриса вовсе не люди, а «манекены для примерки красивых платьев, автоматы для производства общественно необходимых работ и изящных игрушек».
Как же случилось, что такой известный художник и писатель, как Вильям Моррис, низвел роль искусства к простой забаве, ведь в созданном им обществе оно служит только развлечением? Отвечая на этот вопрос, Леся Украинка считает нелишним напомнить о целях искусства, основных законах его развития, которые действительны в любой век и при любом строе.
Искусство отображает жизнь. Какова жизнь, таково и искусство. Что можно требовать от «искусства там, где нет конфликтов, нет борьбы, нет контрастов, почти пет страдания»? Если у человечества нет цели, то нет ее и у искусства. Поэтому «украшательская» роль искусства в таком обществе является единственно реальной и оправданной. «Моррису не оставалось другого выхода, — продолжает писательница, — если он хотел следовать логике своего замысла создать на земле мир, «идеже несть ни печали, ни воздыхания», — что делать искусству в таком мире? Превратиться в декорацию, приняв за образец утреннюю и вечернюю зарю, раскраску и формы растений и прочие эффекты в сфере явлений природы…»
Читая сегодня статью «Утопия в беллетристике», являющуюся, по существу, социологическим изысканием, нельзя не удивляться тому глубокому проникновению Леси Украинки в сложнейшие проблемы современности, которое помогло ей, поэтессе, молодой женщине, высоко подняться над многими писателями-современниками. Нельзя не восторгаться ее верным реалистическим пониманием, хотя бы в общих чертах, главной идеи будущего социалистического общества. И нельзя не видеть в этих изысканиях насущной политической потребности. Ведь это было время, когда каждому сколько-нибудь мыслящему человеку было ясно, что мир меняется, что он должен измениться. И этому человеку надо было знать, каков тот, другой мир, идущий на смену старому. Пусть он наступит не сегодня, но ему надо знать, за что он должен бороться. Ученые идеологи предлагают ему научные схемы, строят планы, подсчитывают pro и contra, но «массам, жаждущим пророческого слова», нетерпеливому народу этого мало, он ищет «знамений времени».
Народная масса «хочет осязать будущего человека». «И она, — пишет Леся, — права! Ей надо знать или хотя бы предвидеть того, кому она готовит путь, перенося труды и лишения не только невольно, но часто и сознательно, ей нужна хоть мечта, хоть видение, чтобы не впасть в отчаяние. От нее требуют сознательности, ее бранят за косность, восхваляют за героизм, так неужели же ей примириться с ролью «пушечного мяса», «святой скотинки», идущей неведомо за что и за кого на героическую смерть? Она имеет право доискиваться, додумываться, кто будут эти будущие люди, которые на фундаменте ее тяжелых страданий построят свое новое здание? На что будет похоже это здание — на строгий белый храм, на серую, скучную казарму, на идиллический, расцвеченный веселыми красками коттедж или на грандиозный народный дом, где все краски, линии и формы сольются в жизненную гармонию? Кто будет жить — братья ли наши по духу или чужие, которые будут смотреть на наши скорбные тени с высоты своего неизвестно чем заслуженного счастья с обидной улыбкой снисходительного презрения? Ни схема, ни чертеж, ни выкладка, никакая наука не дают нам живого образа, который мы могли бы любить или ненавидеть, благословлять или проклинать. Это может сделать только живое человеческое чувство. А ведь это
Освещать путь к будущему, укреплять веру и желание, бороться за него — вот к чему призывает своих коллег Леся Украинка. И призывает читателя не верить пессимистам и клеветникам, порочащим великие идеи будущего социалистического общества. «Мы склонны видеть, — писала она по этому поводу, — в этой мрачной фантазии не столько искренний пессимизм души, одержимой мировой скорбью, сколько брюзжание представителя одряхлевшей общественной группы и желание напугать во что бы то ни стало своих читателей мнимыми ужасами социализма».
Требуя от современного писателя активного отношения к действительности, поэтесса осуждает отрешенность и безразличие, невмешательство и беспристрастность. Она остро полемизирует с Анатолем Франсом, с его идеалом беллетриста — «не желать и не бояться» осуществления всякого идеала. Кому безразлична мысль о возможности более справедливых или же более невыносимых форм человеческой жизни, тому лучше не браться за перо, чтобы писать «утопию», так как она «своим мертвым духом будет только угашать живой дух читателя».
Писать о будущем должен только тот, кто способен чувствовать счастье и горе, борьбу и победы «дальнего своего» на расстоянии будущих веков, кто умеет распознавать не только кристаллы и окаменелости человеческой психологии, называемые «моралью», но и переменчивые индивидуальные формы ее, кто имеет способность и смелость воплощать их в живые образы. Писатель несет большую ответственность за будущее общество, за его приближение, за веру в него:
«Ученый скажет нам, верны ли эти пути, точно ли они ведут к намеченной нами цели и достижима ли эта цель вообще, публицист скажет, справедливы ли эти пути и полезна ли цель, но только беллетрист или поэт может сказать нам о терниях и цветах новых путей, о пятнах и лучах новых светил, вместе с ним мы будем жаждать и бояться, любить и ненавидеть, будем жить не только в настоящем и прошедшем, но и в будущем, но и в вечности, насколько она доступна нашему воображению. Кто открывает будущее нашему чувству, тот расширяет пределы вечности нашей души».
Статья эта привлекла к себе огромное внимание прежде всего глубиной социологического анализа современных литературных процессов в теснейшей связи с эпохой и ее идейно-политическими тенденциями. Огромное значение этого критического обзора не столько в литературной информации, сколько в подходе и понимании идейной сущности процесса. Не так уж важно, в конце концов, о какой литературе — итальянской, французской или немецкой — здесь идет речь, важен
Для характеристики этих двух направлений, особенно ярко проявившихся в конце XIX века, Леся Украинка выбрала двух писателей — Аду Негри и Габриэля д'Аннунцио. Первая представляла пролетариат, второй — аристократию. Оба они принадлежат одной и той же литературной эпохе, сжато охарактеризованной в начале статьи с некоторыми историко-литературными экскурсами в прошлое. Там больше всего ее интересует Джозуэ Кар-Дуччи — писатель, повлиявший на Негри и д'Аннунцио. Но как же получилось, что они пошли совершенно разными дорогами?
«Ада Негри и д'Аннунцио, — пишет Леся Украинка, — личности диаметрально противоположные по идеям, по симпатиям, по темпераменту и, наконец, по происхождению. Ада Негри — поэтесса-плебеянка, д'Аннунцио — поэт-аристократ. Принадлежа к двум враждебным лагерям, оба они обладают сильным классовым самосознанием. Ада Негри родилась в бедном уголке Италии… Отец был сельским рабочим. Он умер в общественном госпитале, когда дочь его была совсем еще маленьким ребенком… Мать была рабочей на прядильной фабрике. Рано оставшись вдовой, вынуждена была вести жестокую борьбу за существование… Габриэль д'Аннунцио — потомок древнего аристократического рода и любит с гордостью вспоминать о своих родовитых предках».
Но объяснения не исчерпываются одним социальным происхождением. Есть и другие важные факторы, определяющие credo писателя. Одним из них является литературное влияние. Касаясь этого вопроса, Леся Украинка понимает его не как простое подражание, а как определенную трансформацию подряжаемого, причем эта трансформация есть явление не «чисто литературное», но еще и социальное. Она хорошо понимала, что литературный стиль не является чем-то неизменным, стабильным.
Леся Украинка придерживалась мнения, что один и тот же источник влияния может оказывать различное воздействие на писателей. Так произошло и с влиянием Кардуччи на своих учеников, тем более что его творчество не было монолитным — на нем лежала печать раздвоенности. Дело в том, что Кардуччи хоть и был поэтом-республиканцем, но его демократизм был слабым, маловыразительным, что в конечном счете привело его в лагерь официальной идеологии, принесло ему лавры академика-лауреата. Творческий генезис Ады Негри Леся выводит от Кардуччи-демократа, а писательскую линию д'Аннунцио — от Кардуччи-академика. При анализе идейно-художественного содержания произведений обоих писателей она показывает свою огромную эрудицию и незаурядную способность к тонким наблюдениям психологии поэтического творчества.
Прежде всего Леся Украинка отмечает, что Негри является поэтессой экспрессивного настроения. В ее творчестве больше музыки, чем живописи. И далее: «Ада Негри — поэт резких контуров и цельных тонов. Синтез у нее значительно преобладает над анализом. Она не подыскивает фактов для иллюстрации своих идей, — напротив, поразившие ее факты возбуждают внезапно мысль и чувство. Она не гоняется за новыми ощущениями, каждому налетевшему чувству она отдается со страстью, беззаветно». Поэтический темперамент д'Аннунцио является полным антиподом этому энергичному характеру.
Любопытно то, как «два таких противоположных темперамента — Ада Негри и д'Аннунцио — реагируют на окружающую их среду и на общие, воспитавшие их условия». В конце XIX века Италия переживает глубокий идеологический упадок. Литература в растерянности, большинство ее представителей просто «ушло от зла»… «Только двум писателям этого времени принадлежат «новые песни» — декаденту д'Аннунцио и Аде Негри, которую я затрудняюсь отнести к какой-нибудь из современных школ». Исходный пункт в оценке окружающей действительности был для них общим: резкое осуждение существующего буржуазного строя. На этом их общность и заканчивалась.
Описывая исключительно пороки общества, д'Аннунцио выбирает героев — носителей этих пороков — главным образом из среды пролетариата и буржуазии, проявляя к последней сочувствие и снисходительность. Политическая борьба, парламентаризм, стачки, бунты пролетариата вызывают в нем отвращение и ненависть. Народ для него вечный раб, толпа. «Плебеи, — пишет он, — останутся всегда рабами, потому что им свойственна врожденная потребность протягивать руки к цепям». Италию, как и все человечество, спасут только «сильные личности», ибо сила первый закон природы. Мир основан на силе. «Если бы новые поколения вдруг возникли из камней после потопа, они бы сражались между собой, пока сильнейший из них не покорил бы всех остальных». По мнению д'Аннунцио, великий Рим снова возродится, и тогда итальянский мессианизм превратится в мировой мессианизм. «Он будет способен построить и перебросить в будущее тот идеальный мост, по которому привилегированные смогут, наконец, перейти пропасть, пока еще отделяющую их от вожделенного господства».
Кто же будет этот «новый римский цезарь», — спрашивает Леся Украинка и приводит его портрет, взятый из произведений д'Аннунцио: «Это типичный аристократ времен Цезаря Борджиа, красивый, сильный, жестокий, страстный. У него на щите девиз: «Берегись, я здесь!» Этот герой должен возродиться с новой силой в каком-нибудь своем отдаленном потомстве, и тогда-то настанет «великий день», день освобождения Италии, а за ней и всего мира».
Вслед за тончайшим мастерским анализом мировоззрения д'Аннунцио Леся делает убедительный вывод, что он является типичным сыном своего века, ибо в его психологическом портрете без труда узнает себя вырождающийся человек — представитель обреченных классов. Она глубоко проникла в социально-исторические процессы, удивительно правдиво определила сущность творчества писателя. Но поразительнее всего то, что она так пророчески понимала будущее самого автора — проповедника «итальянского мессианизма». Ведь за его героями уже тогда стоял фашизм, правда, в эмбриональном состоянии, но все же фашизм. В ранних произведениях д'Аннунцио звучали мотивы индивидуализма, эстетизма и аморализма; а значительно позже присоединятся мотивы национализма, империализма и воинствующего фашизма. Во время империалистической войны д'Аннунцио вступил в армию добровольцем, ратуя за патриотизм и победу, расчищая путь к диктатуре новому Цезарю Борджиа — дуче Муссолини.
Литературный портрет Ады Негри — не менее яркий и правдивый. В то время итальянской поэтессе было лишь 26 лет и вышло только два сборника стихотворений («Судьба» — 1892, и «Бури» — 1896), свидетельствовавших о том, что она является пламенным певцом рабочих и бедноты. Леся характеризует ее как «поэта четвертого сословия», который, проклиная настоящее, смотрит в будущее. «Не римские развалины, а ломбардские фабрики, плантации и поля пробуждают в ней надежды на лучшее будущее Италии. Вид фабрики в действии на водит ее на мысль о непобедимой силе трудовой армии, сплоченной под знаменем ясной идеи, объединенной сознанием. Не новый римский цезарь, а весь итальянский плебс будет тем мессией, который возродит Италию к новой жизни… Ада Негри провозглашает гимн новой любви, новой борьбы, нового освобождения… Поэтесса чув ствует свое призвание в том, чтобы выражать стремления рабочих масс:
Иду! За мной идут воскресшие народы;
Они полны сил, веры и свободы,
Их будущее ждет.
Я светлый гимн пою; в моих руках, как пламя,
Сверкает орифламма. Это знамя
К победе нас ведет».[52]
Заканчивая исследование поэтических произведений Ады Негри, украинская поэтесса с глубоким пониманием и сожалением отмечает: «…у нее бывают жестокие сомнения». Но эти приступы сомнений и опасений не должны бросать тень на отважную поэтессу. Ее душа — это она доказала — принадлежит к числу тех, кого никто не может унизить.
На критику недоброжелательных «мудрецов» Леся отвечала: «И побежденная, ты будешь вестница», — готовы мы повторить вслед за поэтессой. Если бы так случилось, что она уже не создала ничего нового, что путь ее свершился, все же место ее в итальянской и мировой литературе велико и значительно: она вестница новой зари возрождения, она предтеча нового великого подъема…»
Замечательные слова! Как правдиво и убедительно звучат они сегодня. Слова Леси Украинки, относящиеся к Аде Негри, указывают на то, что сама она не только верила в новое возрождение, осуществляемое пролетариатом, но и жаждала его быстрейшей победы, беззаветно боролась за нее.
Поездка Леси в Минск, Прибалтику и Петербург, встречи, общение с членами революционных кружков и деятелями освободительного движения способствовали утверждению взглядов, близких к программе социал-демократической партии. Теперь в ее письмах, лекциях и рефератах все чаще и чаще звучат идеи социализма и классовой борьбы. Леся Украинка не только верит в силу, истинность марксистского учения, но и содействует его распространению среди интеллигенции и народных масс.
Вот Леся узнает последние политические новости из Галиции, где кружки Польской социалистической партии насаждали шовинизм, разваливали работу единого фронта. Она тотчас же пишет Павлыку свои соображения по этому поводу: «Мне жаль молодых социал-демократов русинов, если их «съест» Польша, но совсем «съесть» социал-демократию русскую она не может, это направление все же пробудится после, освободившись от остатков национально-духовной неволи… Это слишком универсальное движение для того, чтобы украинская нация смогла обойтись без него. Если бы я была публицистом (сейчас больше, чем когда бы то ни было, сожалею, что не имею публицистического таланта), обратила бы самое серьезное внимание на социал-демократическое движение и на то, какое место должен занять в нем элемент национальный, то есть как, например, украинские, польские и великорусские социал-демократы обязаны относиться друг к другу… Хотелось бы найти какого-нибудь талантливого публициста на Украине и «втравить» его в это».
Такие весьма знаменательные, свидетельствующие об уровне развития Леси Украинки — мыслителя и политического деятеля — идеи высказаны ею в 1899 году — вскоре после I съезда РСДРП и, вне всякого сомнения, не без его влияния. Для партии это был период консолидации марксистских сил в России, объединения разрозненных социал-демократических кружков и групп.
О социал-демократическом движении Леся, безусловно, знала от друзей и знакомых — прежде всего от близкого ей человека — Сергея Мержинского, а также от семейства Тучапских, которые дружны были с Мержинским. Тесные приятельские отношения между Лесей, ее братом Михаилом и Павлом Тучапским возникли давно, еще в студенческие годы последнего, когда он участвовал в кружке драгомановского направления. Однако вскоре Тучапский под влиянием произведений Плеханова занялся изучением и распространением марксистских идей, вступил в социал-демократическую группу «Рабочее дело», которая, по примеру петербургской, в 1897 году приняла название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В связи с арестами в Петербурге и ссылкой Ленина подготовкой съезда занялись киевские социал-демократы. Спустя некоторое время выработали проект повестки дня съезда и договорились с другими организациями провести его весной 1898 года. Здесь же, в Киеве, было решено издавать «Рабочую газету», которая бы вела борьбу за создание единой марксистской партии в России. К числу участников I съезда РСДРП принадлежал и Лесин товарищ Павел Тучапский. Он же и представлял на съезде Киевскую организацию социал-демократов.
Работа шла дружно и по-деловому. Прежде всего был решен вопрос о необходимости создания партии. Около часа ушло на определение названия партии. После докладов с мест, при этом проявилась полнейшая солидарность членов съезда в вопросах пропаганды и агитации, началось обсуждение вопроса об организации партии. Был избран Центральный Комитет, в который вошли представители трех влиятельнейших организаций…
Я предложил просить Г.В. Плеханова составить программу партии, а также декларацию о ее возникновении. На этом, по сути, и закончились заседания съезда, проходившего три дня (1, 2 и 3 марта)… Я приехал в Киев, выступил с докладом в «Союзе борьбы» и рабочем комитете. Решения съезда были полностью одобрены. Казалось, теперь работа пойдет успешнее, чем прежде. Однако через неделю после моего возвращения Киевская организация была разгромлена… То же произошло и в Москве, Екатеринославе и других городах».
Высоко оценивая значение I съезда как этапа создания «партии пролетариата всех национальностей России», Ленин говорил, что теперь наступила пора выработать программу партии. Этого требует сама жизнь. Находясь в ссылке, В.И. Ленин пишет ряд программных статей, предназначенных для публикации в «Рабочей газете». Он даже согласился быть редактором этой газеты после того, как на съезде в Минске было решено, что ее будет издавать Центральный Комитет, как орган общепартийный.
Тучапский был сослан в Вологодскую губернию, и связь с ним Леся поддерживала, переписываясь с его женой, известной деятельницей социал-демократических кружков Верой Крыжановской-Тучапской.
В тяжкие, нескончаемые дни и ночи, когда на руках Леси Украинки в страшных мучениях умирал Сергей Мержинский, среди друзей, искренне и сердечно поддерживавших ее своими письмами, были и супруги Тучапские.
В течение нескольких лет Леся выполняла поручения, связанные с нелегальной деятельностью Тучапского. Как-то еще в 1897 году в записке, пересланной сестре не почтой, а через надежных знакомых, Леся писала, чтобы она передала через Лиду Драгоманову-Шишманову какие-то секретные материалы от Павла Тучапского:
«Дорогой Лицик! Пишу перед отъездом наших и, конечно, тороплюсь. О разных «житейских» вещах напишу в обычном письме, а сейчас есть
Кривинюк принадлежал к подпольным революционным кружкам. Вскоре он был арестован в связи со студенческими волнениями, и, конечно же, в письме речь шла не о «житейских» вещах, а о
Переписку такого рода Леся вела на протяжении пятнадцати лет. Она хотела бороться против социальной несправедливости не только своими произведениями, но и непосредственно — практической деятельностью. И чем большим препятствием на пути становилось слабое здоровье, тем больше ее это угнетало.
Стремление участвовать в революционной деятельности отразилось и в творчестве поэтессы. Один из героев ее рассказа, во многом напоминающий самого автора, не может довольствоваться одной лишь ролью писателя: «Хочу жить работой партийной, потому что мне стыдно только писать в то время, когда люди «живут и гибнут», мне тягостно из-за того, что моя работа слишком безопасна сравнительно с работой пропагандистов, распространителей литературы и другой рискованной работой, которую берет на себя преимущественно зеленая молодежь, как бы служа для нас, «старших», щитом. Я думаю, стыдно так жить за спиной у молодежи. Кому-кому, а мне это даже непростительно: ведь из меня, как видно, «идеолог» не получился, потому что я не публицист (здесь уж ничего не поделаешь — факт остается фактом!), влиянием в партии как оратор или организатор тоже не располагаю — а надо думать, и не буду располагать, — но тем временем отважен по характеру, в сложные моменты умею быть рассудительным и держать свои нервы в руках, имею определенный дар наблюдательности, немного психолог…»
И это были не одни слова. Мысли и стремления подтверждались делом, которое не афишировалось, но, по существу, было большим и важным. Выполняя партийные задания, Леся со свойственной ей скромностью всегда оставалась в тени. Чего стоит, например, история перевода «Ткачей» Гауптмана. По просьбе одного из марксистских кружков Леся взялась перевести это произведение с немецкого на украинский. В те времена, конечно, нечего и думать было, чтобы цензура разрешила его издать, но социал-демократические деятели хорошо знали, что произведение это равноценно многим прокламациям, и потому решили напечатать его в подпольной типографии или за границей, с тем чтобы распространить среди рабочих. Леся вложила в этот перевод немало сил, добиваясь высокого художественного звучания. Однако судьба перевода оказалась незавидной: рукопись издатели где-то потеряли. Новый перевод не увидел свет из-за отсутствия средств. Третья попытка также была неудачной…
Когда Леся жила в Киеве, к ней нередко обращались из различных кружков радикального направления, затем — марксистских, с просьбами написать то или иное Для практического применения. Поручения эти много значили для Леся. Порою, когда писала что-либо «свое», а не «по заданию», то досадовала: «Вот я пишу это, а, собственно, надо писать другое, я же обещала, да и говорят, что надо, а в том, что я пишу, может, никто и не нуждается».
К. Квитка не соглашался с Лесиными высказываниями о том, что она обделена талантом публициста. Напротив, говорил он, Леся «очень хорошо ориентировалась в вопросах сугубо политических, равно как и в вопросах межгосударственной и межпартийной политики. Говорила на эти темы и в последние годы, при этом, как правило, возбуждалась, но всегда высказывала свою принципиальную точку зрения убежденно и ясно, находя яркие и остроумные выражения, настолько остроумные, что было обидно, что она не в Киеве и что газетчики, составители передовиц, не присутствуют рядом, чтобы просто из ее шуток и саркастических замечаний составлять сильные и остроумные статьи. К тому же ее беседы в интимном кругу всегда были более блестящи и остроумны, чем публичные выступления и разговоры с малознакомыми людьми».
Придавая социалистическим идеям первостепенное значение, Леся затратила много сил для их популяризации на Украине; по собственной инициативе организовала перевод произведений научного социализма на родной язык. «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, «Развитие социализма от утопии к науке» Энгельса, «Очерки материалистического понимания истории» итальянского философа-марксиста Антонио Лабриолы — вот лишь некоторые из этих произведений. Книжечку польского социал-демократа Шимона Дикштейна перевела сама. Когда эти издания начали печатать во Львове, Леся попросила Ивана Франко проследить, чтобы на книгах непременно значилось: «Издания группы украинских социал-демократов». Она сознавала, что для широкого круга читателей в этих книгах будет немало непонятных мыслей, а потому считала целесообразным давать к ним предисловия или послесловия с разъяснением главной идеи.
Так, в предисловии к «Манифесту Коммунистической партии» Леся Украинка писала о том, что «Манифест» «с восьмидесятых годов вместе с огромным ростом социалистического рабочего движения становится достоянием пролетариата всех цивилизованных стран от Калифорнии до Сибири. Повсюду, в каждой стране, где поднимается рабочий люд, прежде всего переводится этот мастерский набросок наших великих учителей Маркса и Энгельса. Теперь приходит черед и Украины. Мы впервые издаем на украинском языке это произведение, этот очерк и изложение мировоззрения и программы современного пролетариата, который борется за лучшую будущность».
Публицистическая деятельность Леси Украинки тесно переплетается с ее художественным творчеством. Как-то она писала: «Замечательный пример соединения самой высокой поэзии и самой страстной публицистики мы видим во всей литературной деятельности Мицкевича и его современников». В той же мере это можно отнести и к ней самой. Все ее творчество малых и больших форм (стихи и драмы) насыщено социальным содержанием и острой политической направленностью.
Иначе и не могло быть у настоящего талантливого писателя, так решительно провозгласившего в двадцатилетнем возрасте свой девиз:
Не поэт, кто забывает
О страданиях народа…
Ярко выраженный пафос поэзии в единстве с общественной мыслью и философией подчеркивался Белинским еще в первой половине XIX века. Поэт нашего времени, говорил он, есть одновременно и мыслитель. Поэзия и философия идут рука об руку, взаимно поддерживая, переплетаясь друг с другом до такой степени, что иное философское сочинение можно назвать прежде всего поэтическим, а поэтическое — философским.
К публицистике, то есть творчеству, стоящему где-то на границе между художественной и научной литературой, Леся Украинка прибегала в тех случаях, когда общественно-политические события, актуальные проблемы современности потрясали ее настолько, что она вынуждена была непременно и немедленно откликнуться на них. Так написана, например, упоминавшаяся выше статья для французской газеты «Реформа» «Голос русской узницы». Так родилось письмо-воззвание к товарищам в 1895 году, статьи «Беспардонный патриотизму «Государственный строй» и другие.
Публицистика предоставляла возможность непосредственно обращаться к более широким кругам читателей и таким образом усиливать пропагандистское воздействие революционных идей, утверждаемых в художественных произведениях. Леся Украинка явилась достойным продолжателем лучших традиций таких блестящих писателей и публицистов, как Иван Франко, Михаил Пав лык, Михаил Драгоманов, Михаил Коцюбинский, Павло Грабовский. Она занимает среди них особое место не только как поэтесса, но и как публицист, вписавший новую страницу в развитие революционной мысли на Украине, — ведь все ее выступления тесно связаны со временем, когда обострилась борьба революционного пролетариата против империализма, когда развернулась пропаганда всепобеждающих идей марксизма-ленинизма, когда русские и украинские рабочие подняли знамя пролетарского интернационализма. В тот исторический момент ее публицистическая деятельность была очень близка к марксистской публицистике: в своих статьях Леся Украинка ставила близкие, конкретные и понятные для рабочего класса цели.
Не случайно большевистская газета «Рабочая правда» в 1913 году подчеркивала: «Леся Украинка, стоя близко к освободительному общественному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. Нам надо сказать ей спасибо и читать ее произведения. Леся Украинка умерла, но ее бодрые произведения долго будут будить нас к работе — борьбе. Добрая, вечная память писательнице — другу рабочих!»
Ориентируясь на рабочих, она избирала соответствующие способы и манеру изложения своих мыслей. Раскрывая сущность сложных категорий науки, она делала их понятными для малоподготовленного читателя. При этом Леся Украинка остается верной себе, своему стилю, отличающемуся прежде всего ясностью и остротой мысли.
В неоконченной статье «Государственный строй» (1898), касаясь вопроса политической свободы и прав человека, она категорически осуждает тех, кто утверждает, «будто не все люди способны жить свободно, и что испокон веков были, есть и будут между людьми господа и подданные, и что так оно и должно быть, а кто хочет изменить такой строй, тот или дурак, или преступник».
Прибегая к полемическим приемам, Леся Украинка остроумно и убедительно опровергает реакционные измышления и «теории» господствовавшей идеологии эксплуататорских классов. «Пусть даже и правда, — отвечала она, — что не все люди способны жить свободно, но какие же это люди? Это или душевнобольные, сумасшедшие, которых, безусловно, следует содержать в лазарете под надзором, чтобы они не сделали какой беды себе или другим, ибо они, конечно, невменяемые.
Или это люди, которые не хотят признавать чужих прав и для своей наживы убивают, грабят и мучают других людей… Это преступники, и от них надо защищаться судом, правом и законом, а если суд, право и закон не защитят, тогда какими угодно средствами, хотя бы и собственной силой».
Вот так последовательно и неуклонно Леся Украинка подводит рабочего к неминуемому выводу: по природе своей он полноправный человек и должен бороться за собственную свободу, надеясь только на собственные силы.
Но поначалу она разъясняет, что такое свобода вообще и, в частности, свобода политическая:
«Мы больше всего будем говорить о
В другой своей работе, написанной через два года как приложение к книжке известного польского социалиста Шимона Дикштейна (1858–1884) «Кто с чего живет», Леся Украинка в доступной форме рисует пути и способы борьбы рабочего класса за свои права, за политическую свободу. И делает она это, опираясь на труды Маркса и Энгельса, а также на программу и устав Первого Интернационала.
В этом приложении Леся шаг за шагом, последовательно и понятно даже для неграмотного человека рассказывает, как практически следует осуществлять объединение трудящихся в борьбе за их освобождение.
Писательница убеждает, что это хотя и не так просто, но вполне осуществимо, так как всегда есть люди понимающие, образованные и сочувствующие рабочему делу, готовые помочь, умеющие разъяснить рабочему и книгами, и живым словом:
«Из таких людей больше всего прославился ученый Карл Маркс и его ученик и товарищ Фридрих Энгельс, которые многому обучали рабочих и написали книги, где совсем иначе изложена политическая экономия, чем она излагалась до них, и где высказаны такие же мысли, как и в этой книжечке, только более глубоко и научно обоснованно. Оба эти ученые (теперь уже умершие) много сделали для того, чтобы в Германии, да и во всех других странах возникли большие рабочие объединения для защиты от всякого насилия и рабства, поэтому память о Марксе и Энгельсе в большом почете среди всех сознательных рабочих».
Разъяснив понятие
«Сознательные рабочие не должны обращать внимания на то, кто из них какой веры или какой национальности (рабочий-немец, например, не должен считать, что он лучше поляка, поляк — русского, русский — украинца и т. д.), они должны единодушно держаться вместе, так как у них у всех один враг — класс богачей, капиталистов, который пользуется трудом рабочих. Вот потому-то для каждого рабочего должны быть святы слова:
Развивая, иллюстрируя наглядными примерами свою мысль, Леся Украинка убеждает читателя в необходимости объединения «больших и маленьких
Рассказав в подробностях, как следует организовываться рабочим, начиная с отдельных кружков и до партии целой страны, и даже до всемирного объединения «из партий различных стран», она замечает тут же, что, мол, ей могут возразить: совещаться-то не штука, но богачей этим не одолеешь, — ведь деньги, войска, полиция и правительство в их руках. Это, конечно, важно, отвечает она, но переоценивать сил врага не следует. Рабочие тоже располагают деньгами уже и теперь, а когда создадут большие объединения, будут в состоянии устраивать забастовки и заставлять богачей идти на уступки. Но это не единственное и не самое главное средство борьбы с господствующими классами.
«Что касается войска, то из кого же оно главным образом состоит, как не из трудящихся, только не всегда сознательных. Нужно стараться чтобы эти трудящиеся-солдаты стали сознательными и хотя бы не стреляли в своих же товарищей при «усмирении бунтов». Что касается полиции, то без нее рабочим жилось бы значительно лучше, правительство же, если нужно, каждая партия может сама себе выбирать».
Организовать в России рабочие кружки, а тем более такую большую организацию, как рабочая пролетарская партия, дело нелегкое, ведь царское правительство запретило какие бы то ни было собрания рабочих. Это, конечно, так. Но точь-в-точь так же было, — говорит поэтесса, — ив других государствах, и рабочие организации там не с неба упали, «а добыли их себе люди просьбой или угрозой (больше угрозой, нежели просьбой), или уговором, или оружием, как где пришлось. Так же, если мы захотим, будет и у нас».
Убежденностью в конечной победе рабочего класса, призывом к сплочению во имя этой победы заканчивает Леся приложение к книге Дикштейна.
«Ведь и сейчас в российском государстве возникают кое-где рабочие группы, о которых мы упоминали! Пусть пока они собираются украдкой, сначала тайно, а потом будут и явно. Явно — когда наступит благоприятное время, а это благоприятное время наступит тогда, когда рабочие станут сознательными, поймут и свои права, и свое единство, и свою силу. Это благоприятное время не за горами, если мы поможем ему прийти. А для того чтобы пробил час полного освобождения всех рабочих из рабства:
Рабочие всех стран, соединяйтесь! Соединяйтесь, как свободный со свободным, равный с равным!»
Исходя из основных положений марксистской теории, Леся Украинка видела в рабочем классе и его авангарде самую передовую революционную силу. Вообще же следует сказать, что уже в этом приложении к книге «Кто с чего живет» чувствуется огромное влияние марксизма на украинскую поэтессу.
Обратимся к статье В.И. Ленина «Насущные задачи нашего движения», опубликованной в «Искре» (1900, № 1), в которой Ленин настойчиво доказывал потребность и необходимость политической борьбы рабочего класса. «Легко бросается в глаза, — пишет исследователь Лесиной публицистики К. Кухалашвили, — то обстоятельство, что и Ленин и Леся Украинка пользуются положениями устава Первого Интернационала — о том, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». И в статье В.И. Ленина, и в «Приложении» Леси Украинки идет речь о создании партии пролетариата. Таким образом, вполне вероятно, что Леся Украинка, имея у себя комплект «Искры», была знакома с названной статьей вождя всероссийского пролетариата».
Об идейной близости этих двух выступлений свидетельствуют и другие вопросы, затронутые в них, в частности вопрос солидарности рабочих, создания пролетарской партии, пропаганды социализма и революционной борьбы. Лесины взгляды, о которых шла речь выше, совпадают с ленинскими. В «Насущных задачах нашего движения» Ленин писал:
«Социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом. Оторванное от социал-демократии, рабочее движение мельчает и необходимо впадает в буржуазность… изменяет великому завету: «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Во всех странах был такой период, когда рабочее движение и социализм существовали отдельно друг от друга… В России необходимость социализма и рабочего движения теоретически провозглашена уже давно, — но практически это соединение вырабатывается лишь в настоящее время… Отсюда сама собою вытекает та задача, которую призвана осуществить русская социал-демократия: внедрить социалистические идеи и политическое самосознание в массу пролетариата и организовать революционную партию, неразрывно связанную со стихийным рабочим движением…
Содействовать политическому развитию и политической организации рабочего класса — наша главная и основная задача».[53]
Марксистским пониманием революционной борьбы рабочего класса и его партии проникнуты и «Заметки по поводу статьи «Политика и этика», написанной известным галицийским социалистом Николаем Ганкевичем. Леся Украинка подвергает острой критике мелкобуржуазный нигилизм автора, отбрасывающий всякую этику в партийной борьбе. Она утверждает, что партийная борьба, как и всякая другая, может быть честной или постыдной в зависимости от морального лица тех, кто борется, ибо не так политика портит характеры, как характеры политику. Правый и честный, говорит она, должны придерживаться девиза: «Чистое дело требует чистых средств». Анархистский субъективизм Ганкевича зиждется на фанатизме первых христиан, на их формуле: «Нет правды и разума, как только во мне».
«Взгляд на партийную борьбу как на некую антиномию (противоположность) гуманности, — пишет Леся Украинка, — вполне совпадает с мнением, когда ее считают элементарным злом, как землетрясение, наводнение и т. п. Но даже и эти несчастья люди стараются как-то гуманизировать, предохраняясь от них, устраняя их последствия».
Критикуя Ганкевича за его «угорелый фанатизм», являющийся синонимом слепой веры, бессмысленности и единственным, по его мнению, путем к достижению цели, Леся противопоставляет ему «путь глубокого убеждения, основывающегося на
Об изучении Лесей Украинкой революционной теории пролетариата и законов диалектического развития общества свидетельствует также и ее высказывание о том, почему Маркс и Энгельс пришли в лоно пролетариата. Именно на этом примере она показывает всю несостоятельность безапелляционного мнения Ганкевича: «Каков класс общественный, такова его этика. Каков класс общественный, такова его политика, такова и политическая партия, представляющая его потребность и стремления». Она критикует не самую эту формулу, но то, как ее понимает автор статьи «Политика и этика», и то, как примитивно применяет он ее в дальнейшем изложении своих взглядов:
«Этого общего принципа может быть достаточно для того, кто уже принадлежит сознательно к определенному классу или партии. Но вспомним себе двух молодых буржуа Маркса и Энгельса в то время, пока они еще не были сознательными представителями пролетариата — им, видимо, мало было этого абстрактного принципа, чтобы бросить свой класс и пристать к другому, вражескому, не будучи принужденными к этому материально. Им нужен был более точный критерий, чтобы установить и проверить: за каким, собственно, классом будущее и какой должна быть та политика и этика, чтобы к ней могли присоединиться такие прогрессивные идеологи, как эти двое молодых из буржуазных семей?»
Леся Украинка не оставила нам развернутого и систематизированного изложения своих взглядов на основы марксизма. Да и задачи такой перед собой не ставила, ибо она была прежде всего мастером художественного слова, но в ее статьях и письмах есть множество таких высказываний, которые дают нам полное право считать, что она не только близко стояла к марксизму, как это признается многими исследователями, не только была под его влиянием, но что она знала, понимала и разделяла основные его положения о законах общественного развития.
Некоторые исследователи, говоря о мировоззрении Леси Украинки, всегда делают ударение на том, что она признавала закон классовой борьбы. Но и революционные демократы как в России, так и на Украине еще в 40 — 60-х годах XIX столетия говорили о борьбе классов, их непримиримости. Таких высказываний мы найдем немало, например, у Герцена и Шевченко, Чернышевского и Добролюбова. Но тем не менее они не были марксистами. Ведь сущность марксизма не в этом, о чем не раз писал сам Маркс:
«Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою… Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов… То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего:
1) что
2) что классовая борьба необходимо ведет
Марксистом может называться только тот, говорил Ленин, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. У нас нет достаточных материалов, оставленных самой поэтессой, чтобы безоговорочно судить о полноте ее понимания принципа диктатуры пролетариата, но зато есть ряд документов, свидетельствующих о ее сочувствии и одобрении революционного движения пролетариата, в частности Парижской коммуны.
В тех же своих «Заметках», высоко оценивая первую пролетарскую революцию, Леся говорила: пусть у нее были ошибки, но это была справедливая революция. «После коммуны не осталось новой формы гильотины, новой версии этого буржуазного усовершенствования Брутового меча… ибо парижские коммунары были потомками Спартака, а не Брута и Цицерона… они верили в
После этих проникновенных и справедливых суждений Леси Украинки о Парижской коммуне, где впервые была осуществлена, пусть и не на долгое время, диктатура пролетариата, нет оснований сомневаться в ее глубоком понимании основных идей марксистской теории пролетарской революции. Именно это прежде всего поднимает поэтессу над ее предшественниками — революционными демократами — и ставит в ряды борцов, исповедующих марксизм.
Много ли нашлось в те времена поэтов, в творчестве которых так органично сливались бы голос музы и голос политической борьбы? Вряд ли. К тому же пропаганде идей пролетариата служили не только публицистические выступления Леси Украинки, но и ее художественное слово, ее стихи, воспевающие социалистические идеалы, а потому бравшиеся на вооружение революционными кружками.
Примерно за год до II съезда РСДРП был создан организационный комитет, который издавал немало прокламаций, популяризировавших идеи «Искры». В одной из и их после лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» была заверстана переведенная на русский язык строфа из стихотворения «Слово мое, почему ты не стало…»:
Звякнет клинок о железо цепей,
Эхо пойдет по твердыне царей,
Встретится звяканье многих мечей
С гулом иных, не тюремных речей.
Слово и дело для Леси — единый акт бытия. Если надо, не чуралась она и черновой работы, например занималась распространением нелегальной печати. Некоторые следы этой деятельности сохранились в архивных документах царской полиции. Один из них свидетельствует, что в 1902 году после ареста группы социал-демократов и следствия по их делу установлено участие Леси в распространении газеты «Искра». В это время Леся была за границей — лечилась в Италии, в Сан-Ремо, и Киевское жандармское управление обратилось в Петербург за санкцией на ее арест по возвращении в Россию. Департамент полиции ответил: «Что же касается… выбывшей за границу дворянки Ларисы Петровны Косач, то об обыске ее по возвращении в Россию будут отданы департаментом полиции соответствующие распоряжения на пограничные пункты с тем, чтобы о результатах обыска Косач и направлении избранного ею пути было сообщено одновременно департаменту полиции и вашему превосходительству, а в случае задержания ее она была бы препровождена в ваше распоряжение».
Задержать Лесю не удалось — ее предупредили об этих замыслах полиции, и при обыске в Одессе у нее не обнаружили никакой «крамолы».
Застарелая болезнь легких Мержинского неожиданно вспыхнула с необычайной силой, и с каждым днем здоровье его ухудшалось. Денег на лечение — ни гроша, и при этом полнейшая неустроенность — его приютили минские родственники. Еще весной, когда Леся побывала в Минске, врачи не сказали ничего утешительного. Осенью Леся снова прибыла в Минск. И вновь печальная встреча, невеселые разговоры…
С приближением зимы состояние Мержинского становилось угрожающим. Леся очень тяжело переживала это. К тому же дома неприятности — родители не одобряли поведения дочери: сама после стольких недугов едва на ноги поднялась, а теперь изводит себя еще чужой бедой. Хотя и понимали они и в душе сочувствовали ей, все же побеждала тревога за судьбу дочери. Они не упрекали ее вслух, не препятствовали поступать так, как хочет. Только молча осуждали происходящее.
Ох уж эти немые конфликты, сколько страданий приносят они! Леся, в свою очередь, жалела родителей, которым приносила столько хлопот, но никогда и на миг не колебалась, она вся на стороне обреченного, она с тем, кто мучается и погибает. Разве можно бросить человека — близкого человека! — когда он ждет тебя, храня надежду на спасение?
Ближайшие друзья — брат Михаил и сестра Ольга — как могут поддерживают Лесю. Пересылая сестре письмо врача Элиасберга, лечившего Мержинского, Леся с присущей ей сдержанностью пишет: «Милая моя Лилея! Пересылаю тебе письмо, из него ты увидишь положение вещей. Теперь уже и речи быть не может о том, еду я или нет. Конечно, еду. Кажется, мне в этом году понадобится немало энергии, но ничего, если есть ясная цель, энергию найти нетрудно. Как бы ни отнеслись ко мне все остальные, но я уверена, что ты и Миша меня всегда поймете и поддержите — это для меня много значит».
Невыразимая печаль звучит в эти дни в ее стихах:
Все, все покинуть, до тебе полинуть, —
Miй ти единий, мій зламаний квіте!
Все, все покинуть, з тобою загинуть,
То було б щастя, мій згублений свiтe!
Лесю не радовало, а скорей раздражало, что она сама чувствовала себя в этот период неплохо. Она в сердцах говорит Лиле:
— Часто все говорят, что я теперь здорова и что это должно быть для меня очень ново и приятно! Если бы они знали, что быть здоровой только одной для меня ничего не значит. Не радует, вовсе не радует мое здоровье!
В начале января 1901 года Леся снова в Минске. В этот раз приехала не проведать больного — ухаживать за ним, так как почти все знакомые и товарищи его находились вдали от Минска — кто в ссылке, кто на каторге, кто за границей. В критическую минуту пришли на помощь Лесины родители: писали ей в Минск, давали советы, как ухаживать за больным, обращались за консультациями к киевским врачам.
«Милые мои мама и папа! — писала Леся. — Спасибо вам, что подали весточку, а то я уже начала беспокоиться, не случилось ли что дома, так как все молчат. Я и так боюсь, мамочка, что мое несчастье отразится на твоих и без того слабых нервах. Не буду, конечно, уверять тебя, что будто бы мне теперь легко жить, — это было бы ложью, но лишь напомню тебе, что я очень вынослива, значит, ты можешь быть уверена, что мне никакая опасность не угрожает. Временами даже досада разбирает, что я чересчур вынослива…»
Силы Мержинского таяли с каждым днем. Ничто уже не могло его спасти. Никакие врачи не помогут тому, для кого нужно «чудо»… Он не поднимался с постели, мало разговаривал.
Почти два с половиной месяца Леся преданно и самоотверженно боролась за жизнь своего друга. Но спасения не было — 3 марта он скончался у нее на руках.
Измученная, обессилевшая, разбитая, возвращалась она домой. Не любила показывать людям свое горе. Не выплескивала даже в присутствии друзей и родных, старалась спрятать его в себе. А как это тяжко, как невыносимо тяжко! Лишь белые листики бумаги знали все:
Уста твердят: ушел он без возврата.
Нет, не покинул, — верит сердце свято.
Ты слышишь, как струна звенит и плачет?
Она звенит, дрожит слезой горячей
Здесь, в глубине, трепещет в лад со мною;
Я здесь, я здесь всегда, всегда с тобою!
Потеря дорогого и близкого человека невыносимой тяжестью легла на сердце поэтессы. Тяжело и долго она переживала эту утрату, но не согнулась, не впала в отчаяние. Позже она писала:
И пусть тогда проходит год за годом,
Пусть век мой уплывает по теченью, —
Ты будешь красотою жить в цветах,
А я слезою в песнях жить останусь.
Еще долго не зарубцовывалась, кровоточила глубокая рана в сердце Леси Украинки, и печальные мотивы в ее стихах то и дело напоминали о ней. Но память о павших вызывала к жизни и призывные стихи, обращенные к новым борцам, ведь и для них пришло время встать в боевые ряды.
Своему другу поэтесса посвятила драматическую поэму «Одержимая». Она была создана в одну ночь с 18 на 19 января, когда дни Мержииского уже были сочтены. По своей фабульной основе «Одержимая» напоминает евангельский миф. На первом плане два действующих лица — Мириам и Мессия. Мириам — «одержимая духом» — в глубокой печали бродит меж камнями на берегу Гадаринского озера. Поднявшись на вершину скалы, она следит за едва заметной в глубине пустыни неподвижной фигурой Мессии:
Он там сидит все так же неподвижен,
Как эти камни, что вокруг чернеют.
Опять над ним, как вижу я отсюда,
Нависли думы тучею тяжелой,
Свет молнии из них вот-вот прорвется
И озарит всю землю…
Мириам безгранично любит Мессию всепоглощающей человеческой любовью. Она верит, что Мессия — воплощение правды, он несет избавление от зла и мир всему человечеству:
Исчезнут войны, смерти и болезни,
Настанет мир и счастье человекам…
Однако желанная встреча с Мессией не принесла ее мятежной душе удовлетворения. Он отвергает самопожертвование Мириам и хочет один, жертвуя собой, побороть зло. А ей завещает покой и любовь к ближним, призывая прощать всех, даже врагов, «ибо они не ведают, что творят». Проклятия падут на голову того, кто их произносит. Мириам отвечает:
…….Пускай!
Я знаю все, я проклята навеки
За то, что я злодеев ненавижу.
О, каждая усмешка фарисея
Мне ненавистней скорпиона злого…
Я вся дрожу, когда его увижу,
В моих глазах тогда сверкают копья…
Она без колебаний готова пролить кровь за Мессию, но ни за что не согласна с его требованиями всепрощения. Это свыше ее сил. С каждой строкой диалога противоречия обнажаются все сильнее, и наконец, уходя, Мессия отрекается от нее: «Нет, для тебя, несчастная, отныне я не Мессия. Ты меня не знаешь».
Мессию предали и казнили. Ученики, сочувствующие и все, кто преклонялся перед ним при жизни, разбежались, бросили, спрятались. Только одна Мириам под крестом Мессии оплакивает его муки и свое вечное одиночество на этом и на том свете.
На городской площади она узнает, что Мессия воскрес, и всем, кто радуется, с глубоким возмущением бросает:
…….Значит, есть надежда,
Что он за вас вторично кровь прольет,
Когда наступит время!
Но тут же в гневе отрицает:
……..Я не верю,
Что он воскрес; не стоите вы чуда
Воскреснуть ради этого народа!
На это не хватило б и Мессии!
Наконец, толпа, подстрекаемая слугой синедриона, с диким ревом набрасывается на Мириам. Под градом камней она падает со словами:
Мессия! Если за меня ты пролил…
Хоть каплю крови даром… я теперь
Всю за тебя отдам… и жизнь… и кровь…
И душу… безвозмездно!.. Не за счастье
На небесах… нет… за мою любовь!
Древняя легенда под пером Леси Украинки превратилась в страстную антирелигиозную поэму. Каждая строчка направлена против христианской морали. Всесильный Мессия, творящий чудеса, воскрешающий мертвых, не в состоянии переубедить женщину, жаждущую любви и правды — не небесной, а земной. Мириам — никому не известная, простая женщина — побеждает в споре прославленного на весь мир Мессию. Мириам отдает за него все — «и жизнь… и кровь… и душу… безвозмездно», не требуя ни преклонения, ни смирения перед богом.
Через год «Одержимая» была напечатана и произвела глубочайшее впечатление на современников. В статье об украинской литературе для энциклопедии Брокгауза и Эфрона «Одержимая» названа «прекрасным драматическим этюдом». А украинский журнал за границей «Молода Украина» написал: «Это глубокое, сильное произведение отмечено огромной художественной ценностью. Оригинальная, неповторимая тема… Фактически следует позавидовать автору самой темы, но прежде всего ее гениальному исполнению. Сцены местами чрезвычайно сильны и потрясают психологической глубиной».
Сама поэтесса, как видно из ее писем, тоже считала удачной эту поэму, но отмечала, что досталась она ей дорогой ценой: «…признаюсь, что я писала в такую ночь, после которой, верно, долго буду жить, если уж тогда жива осталась. И писала, даже не исчерпав скорби, а в самом ее апогее. Если бы меня кто-нибудь спросил, как из всего этого жива вышла, я бы могла ответить: J'en ai fait un drame…».[55]
Литературоведы нередко вспоминают этот поистине драматический эпизод в жизни Леси Украинки. В небольшой комнатке в одном углу лежит молодой умирающий человек, притихший и обессилевший от борьбы с изнурительными приступами. А в противоположном — сидит, склонившись над столиком, такая же молодая женщина, скупо освещенная керосиновой лампой. Строка за строкой скользит без устали перо, на лице печать глубоких страданий, в глазах разбушевавшийся океан страстей и дум. Идет жестокая борьба извечных начал — жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти.
Но почти никем из исследователей идея «Одержимой» не раскрывается до конца. В самом деле, отчего это вдруг в такой крайне напряженной, мучительной ситуации, когда умирает революционный деятель, пропагандист марксизма, его подруга, тоже исповедующая эти убеждения, пишет драму на евангельские мотивы?
Ответ следует искать в самом произведении, изобилующем автобиографическими элементами. Любовь Леси, как и любовь Мириам, произросла не из одного лишь влечения, страсти, но и из кировоз-аюевческой общности. Есть основания утверждать, что в этой любви, помимо некоторого неравенства чувств, наложившего отпечаток на их взаимоотношения, немалую роль играл и тот факт, что Леся как личность интеллектуальная стояла значительно выше своего друга, а в последние месяцы жизни Мержинско-го, когда его мозг и дух ослабевали, она была более решительной и непоколебимой в своих убеждениях. Отсюда доминирование воли и разума Мириам в споре
Конечно, было бы грубой ошибкой во всем отождествлять образ Мириам с самой поэтессой или Мессию с Мержинским. «Одержимая», как и многие другие произведения Леси Украинки, вызывает немало ассоциаций с событиями того времени, когда она писалась, а порой и с событиями в жизни поэтессы.
Но следует еще раз подчеркнуть, что ни одно ее драматическое произведение не вкладывается в конкретные исторические рамки, не расшифровывается буквально. Леся стремилась передать дух, идеи своего времени, но не конкретные исторические частности.
Минская драма для Леси не ограничилась лишь моральным потрясением. Перенапряжение — нервное и физическое, — чрезмерное переутомление тяжело отразилось на ее здоровье.
После операции в Берлине туберкулез не снял блокады, а лишь изменил направление штурма — перебросился на легкие. «Тридцатилетняя» война вспыхнула с новой силой. Предательская болезнь угрожала жизни.
Резкое ухудшение здоровья Леся объясняла исключительно горем, обрушившимся на нее. Казалось, со временем все пройдет. Лишь бы вырваться куда-нибудь на простор — подальше от города и опостылевших своим сочувствием людей. Вспомнилось приглашение Кобылянской — а может быть, и в самом деле махнуть в Черновцы и пожить там некоторое время?
«Есть у меня только одно желание, — пишет она подруге, — глубокое и сильное: это приехать к Вам на зеленую Буковину. Мне хочется услышать Ваши тихие речи, увидеть Ваши нежные взгляды. Хочется Вашей еще не слышанной мной музыки, меня манят Ваши незнакомые, но уже милые горы и вся Ваша страна, которая давно стала моей мечтой.
Напишите мне, дорогая подруга, могу ли я приехать к Вам так, чтобы не стать Вам в тягость… Странно это: я так утомлена и разбита, а все же что-то гонит меня в мир, куда-то, где я еще никогда не была, дальше, дальше, все дальше…»
Едва получив ответ из Буковины, Леся тотчас собралась в путь. 9 апреля была во Львове, где ее встретил и устроил в гостиницу художник Иван Труш, а еще через четыре дня — в Черновцах, в доме Кобылянских, по улице Новый Свет, 61.
Город очаровал своей тишиной, живописностью и мягкой теплой погодой, удивительной в столь раннюю весеннюю пору. Леся считала Ольгу идеальной подругой: приветливой, внимательной, но не назойливой, не лезущей без спроса в душу. Мать ее, Анна, внешне напоминала святую Анну древних художников. Отец, 75-летний «патриарх», степенный, благочестивый, следовал старосветским обычаям. Посторонних людей в доме практически не бывало. Изредка зайдет поэт Осип Маковей, заглянет новеллист Василь Стефаник. О последнем Леся говорила, что он внешне здоровый, громадный (с виду — «разбойник»), а на самом деле болен, — и это чувствуется даже по его настроению: всегда какой-то грустный, словно потерял что-то и тщетно силится вспомнить, где именно… Стефаник в то время вынужден был бросить университет из-за отсутствия средств на плату за обучение.
Поначалу Леся не бралась за серьезные вещи, но постепенно так увлеклась работой, что не заметила, как пролетели дни, недели. Добро еще, что переутомление не угрожало, — здесь существовал двойной контроль: первый «контролер» — ее организм, довольно определенно командовавший: «баста!», второй — семейная «конституция» Кобылянской, согласно которой все должны ложиться спать в десять тридцать вечера. Писать можно только до обеда, то есть до половины первого, после обеда «мертвый час» (разрешается не спать, если уж так не хочется). Затем можно писать письма и заниматься всякими мелочами. С пяти часов и до ужина нрогулка. После ужина разговоры, музыка — обычно Ольга играла на цитре.
После анархии родительского дома налаженный, размеренный, спокойный образ жизни хорошо повлиял на Лесю. В Черновцах она старалась жить тихо, незаметно — это диктовалось и состоянием здоровья, и угнетенным настроением. Одета была обычно в черное, траурное платье.
И все же, как ни стремилась Леся избежать огласки, вскоре о ее пребывании в Черновцах узнала вся Буковина. Ничего не поделаешь — пришлось согласиться на проведение публичного вечера, или, как говорят буковинцы, «товарищеских сходинок» в честь гостьи.
Буковинцы, как, впрочем, и галичане, в то время достаточно хорошо знали Лесю Украинку как поэтессу, значительно лучше, чем на Правобережной Украине. И это естественно, так как ее произведения издавались во Львове и свободно распространялись среди интеллигенции и студенчества. Молодежь Буковины отличалась активной общественной жизнью: нередки были студенческие волнения, ежегодно во Львове созывались студенческие съезды с участием учащейся молодежи со всех концов Австро-Венгрии. Существовала единая организация украинской молодежи Буковины и Галиции, которая издавала журналы, печатала библиотечки, календари и т. п.
Вечер Леси Украинки состоялся 9 мая 1901 года в зале Народного дома. Здесь собралась интеллигенция, студенты, были даже крестьяне из далеких сел (о «сходинках» заранее было объявлено в газетах).
Лесю очень растрогало неожиданное приветственное слово видного крестьянского деятеля, депутата австрийского парламента Кирилла Трилевского, вечно бодрого, веселого, улыбающегося, выступившего от имени крестьянства Галиции и Буковины. Доклад о творчестве поэтессы сделал одаренный студент Черновицкого университета Василий Симович, который особо выделил общественно-политические мотивы в поэзии Леси Украинки. Стихи и отрывки из поэм вдохновенно прочел другой студент — Платон Лушпинский.
Большое впечатление на присутствующих произвело стихотворение «Другу на память». Леся безжалостна к своему поколению к нерешительности, раздвоенности и бесплодному «гамлетизму» с его бездной чувств и непригодностью к практической борьбе. Зал слушал молча, молодежь сидела понурив головы, а слова ударяли сильнее и сильнее ранили души. Отвага прежняя — меч, залитый кровью, давно уж заржавел. Неужто это все, конец бесславный? Нет!
Мы носим имена невольников продажных,
Не знающих стыда, — пускай и так! —
Но как же называть воителей отважных,
Которых собирал в свои войска Спартак?..
Призывом к смертельной схватке с врагом звучит финал:
Позорно мучиться и гибнуть молчаливо,
Когда в pукax у нас, хоть ржавый, все же меч,
Нет, лучше уж врагу отпор дать горделиво,
Да так, чтоб голова слетела с плеч!
После доклада Сямовича и чтения стихов попросили выступить поэтессу Леся говорила мало. Сердечно благодарила земляков за теплый прием, за все, что о ней здесь сказали, и, вконец, кратко, в двух словах коснулась освободительного движения в Восточной Украине:
— У нас дела идут к лучшему, и оснований для пессимизма нет. С тех пор как все сильнее становится социал-демократическое движение, правительство начинает смягчать свой противоукраинский курс…
Ничего сверх этого она сказать не могла: ведь речь шла об антигосударственном движении на территории царской России. Но я эти осторожные высказывания буковииская общественность восприняла с восторгом. Даже та часть, которая отнюдь не была солидарной с этими «бунтарскими взглядами», также аплодировала. Или же слушала молча, не осмеливаясь возразить. Да и сделать это было бы нелегки; строгая и скорбная фигурка поэтессы, голос, взгляд ~- все это поистине воплощало в эту минуту волю народа его судьбу, саму истину…
Этот памятный вечер закончился за полночь. Черновицкая газета «Буковина» писала тогда, что «необычная землячка очаровала, всех своим высоким образованием, искренним патриотизмом и редкой скромностью».
Больше месяца провела поэтесса в Черновцах, а затем двинулась дальше — в румынские Карпаты, к Кимполунгу. Остановилась она в небольшом домике Иоганны Низнер и жила здесь до июня. Из ее комнаты открывалась чудесная панорама на Рунг и Магуру — верхушки гор, знакомых ей по новеллам Ольги Кобылянской. Сюда же намеревалась приехать позже и ее подруга. Но поездка сорвалась — все время шли дожди. Пришлось сидеть дома, смотреть из окна на окутанные туманом горы и писать Ольге в Черновцы «дождливые письма». Письма эти отличались своеобразным стилем: в них вместо имен обоих писательниц фигурировали местоимения кто-то (хтось, хтосiчок, когось). Ольга Кобылянская была кто-то черненький; Леся Украинка — кто-то беленький.
В одном из писем к Кобылянской поэтесса живописала свой быт в Кимполунге так: «Вчера с самого утра до полудня дождь наконец оставил нас в покое, и кто-то бродил по Магуре целых три часа, и ему было очень хорошо, а сегодня нет чистого неба до самой ночи (ночью тоже лило как из ведра). Рунг совсем спрятался, Магура в тоске, горы против моего окна не все видны, так что из нашей запроектированной экскурсии к Vace saca[56] ничего не выйдет. Кто-то сидит надувшийся… и не хочет даже за работу приниматься. Только чье-то письмо пробудило слегка чью-то сердито-сонную энергию, и, может, с работой как-то утрясется…»
Неприветливая погода — дожди и туманы — вынудила Лесю покинуть румынские Карпаты. Местные врачи и знакомые советовали переселиться в Буркут — уютное местечко в горах над быстрым Черемошем. Недолго думая она приехала в Вижницу. Пробыла там день, хорошо отдохнула, простилась с ласковой хозяйкой Анной (у нее была непонятно откуда взявшаяся фамилия — Москва) и записала ей в альбом на память:
В iншi гори я полину,
Але спогад не покину
По зеленiй Буковинi,
По привiтнiй господинi.
Еще путешествуя по Буковине, Леся познакомилась с киевским студентом Климентом Квиткою, который тоже искал в Карпатах уголок для лечения. Вместе они добрались и до Буркута.
Куты, Косов, Яворов, Жабье и, наконец, Буркут… Какие красивые места! И гостеприимные, сердечные люди непременно приглашали на ночлег или хотя бы к столу. В Криворивке Леся встретилась с Иваном Франко и Владимиром Гнатюком. Из Жабьего в горы, к месту конечной остановки, подниматься было долго и тяжело. Ехали над Черемошем на обычной телеге: было тряско, все время подбрасывало. Зато вокруг красота неповторимая. Красота, простор, свобода… Везде и на всем печать векового господства природы.
С каждым отвоеванным метром высоты Лесе казалось, будто она сбрасывает с себя тяжесть, влекущую к земле. Чем выше в горы поднималась телега, тем настойчивее овладевало ею ощущение какой-то удивительной легкости и тихой, беспричинной радости. Словно все душевные передряги, все жизненные хлопоты и заботы остались внизу, в долине. Несчастья и беды развеялись в просторе, растаяли в темно-синих глубинах, неподвижно зияющих внизу. С глазу на глаз с этим безбрежным океаном человек всегда чувствует себя маленьким и незначительным. На какой-то миг Лесе почудилось, что она и сама вот-вот растает, растворится в этом океане. «Интересно, как относятся ко всему этому люди, — думала она, — которые родились и постоянно живут здесь? Вероятно, им подобные ощущения неведомы, — ведь они — не чужие, не посторонние, они сами — неотъемлемая частица этой огромной вечной стихии».
Селились здесь отдельными, казалось, чудом прилепившимися на отрогах гор гнездами. Жили здесь люди в вечной нужде и на самом деле редко задумывались над величием и красотой своего окружения — они просто не замечали его. Изгнанные с плодородных равнин, они трудились в горах, жили непритязательной жизнью. Но как бы там ни было, гуцулы крепко любили свою родную, суровую и далеко не щедрую природу, ведь свобода и независимость для них превыше всего. Позже поэт Василий Атаманюк нашел удивительно точные слова:
Хоч злидні взяв гуцул до хати,
Хоч жити став в гнізді орла —
Але над ним природа мати
3 любов'ю руки простягла.
Где-то около полудня путешественники прибыли на место. Буркут тогда был еще непотревоженным, живописным уголком Гуцульщины. На опушке несколько хаток; вблизи стремительный ручей с ледяной прозрачной водой. Густой до черноты ельник пугал своей тишиной, которую нарушали только птичье пение да доносящийся снизу глухой шум быстрого Черемоша, Прекрасное местечко, лучшего в Карпатах не найти!
В Буркуте жизнь потекла размеренно и спокойно. Вскоре Леся стала поправляться — меньше кашляла, кровотечения из горла прекратились. Спустя недельку-вторую она уже принялась за свои литературные занятия, и, как всегда в таких случаях, то есть находясь за границей, в первую очередь за нелегальные издания социал-демократической партии. По этому поводу она вела активную переписку с ближайшими друзьями и знакомыми — Франко, Павлыком, Гнатюком, Симовичем, с издателем Ганкевичем.
В Буркут к Лесе приехал дорогой гость — Иван Франко. Был он в гораздо лучшем настроении и «уже не казался таким пришибленным», охотно рассуждал об общественных делах и в конечном итоге вызвался помочь в издании политической литературы, Ганкевич долго тянул с печатанием этих популярных книжек. Леся нервничала, теряла душевное равновесие. Писала ему. Уже подходит срок возвращения в Россию, а дело не сделано. Теперь надежда на Франко. Из Черновцов Леся посылает ему письмо инструктивного характера: зашифровывает названия книг, просит сообщить все, что касается их дальнейшей судьбы.
Когда приедет Ганкевич, скажите ему, что я горько сожалею о той минуте, когда я передала ему эти злополучные рукописи, но уж так «получилось»; итак, я требую от него, чтобы он сделал отдельный оттиск перевода Дикштейна «Кто чем живет», напечатанного в «Воле».[57] Остальные переводы — Лабриола,[58] Энгельс,[59]«Коммунистический Манифест», — если он еще не начал печатать, то пусть и не печатает, а передаст Вам. Вы же будьте любезны переслать их Василию Симовичу и больше ничего… Если же Ганкевич паче чаяния начал их печатать, то пусть назовет «Издания группы украинских социал-демократов» и скажет, сколько будут стоить все издания и каждое в отдельности, причем если будет писать мне по почте… то пусть «Кто чем живет» называет «Над морем», Лабриолу — «Атта Тролем», «Манифест» — «Ратклиф», исследование Энгельса — «Балладами», чтобы казалось, что речь идет о моих собственных литературных делах с редакцией «Вестника»… Когда вышлете перевод Симовичу, то напишите: «Ваши стихи отдал в редакцию «Буковины».
К подобным способам распространения марксистской и другой запрещенной в России литературы Леся прибегала не в первый и не в последний раз.
Возвращалась в Киев Леся не совсем выздоровевшей, но с чувством глубокого удовлетворения. Она познакомилась со многими интересными и нужными для установления более тесных контактов с Надднепрянской Украиной людьми. А если говорить о Буковине, это было целое открытие еще одной пусть малочисленной, но жизнеспособной горстки своего народа. То, что Леся здесь увидела, еще раз убедило в том, что Украина огромна, многообразна и щедра талантами.
Перед отъездом Леси из Черновцов общество буковинской молодежи обратилось к ней с просьбой дать для издания сборник своих стихов, на что она охотно согласилась. Никаких особых условий не выдвигала, только чтобы книжечка вышла, как она говорила, «аккуратненькой» да чтобы корректура сделана была по-человечески — по рукописи, а не согласно местному диалекту. Никаких гонораров от издателей Леся не ждала, как и при публикациях во Франковом «Литературно-науковом висныке», так как на это у них попросту не было средств.
7 сентября Леся вместе с Ольгой Кобылянской покинула Черновцы. Только разъехались они в разные стороны — одна в Киев, домой, другая в Вену, с визитом к родственникам.
Осенью того же года Симович получил от Леси хорошо составленный сборник под названием «Отзвуки». Состоял он из разделов «Невольничьи песни», «Ритмы», «Мгновения», «Легенды».
На буковинских студентов, явившихся инициаторами этого издания, сборник произвел необычайно сильное впечатление.
Сравнениям, эпитетам, восторгам не было конца. Счастьем и гордостью за украинскую литературу, имеющую такой сильный талант, полнились сердца молодых.
— Я могу сказать только, — заметил Василий Симович, — если о второй книге Франко отозвался с высочайшей похвалой, то неизвестно, найдутся ли у него слова теперь, чтобы достойно оценить «Отзвуки»…
На смену стремительным, словно буря, строкам о непокоренном слове, о пламенной песне приходили строки, сотканные из мучительных раздумий и вопросов:
Кто гордость мне вложил вот в это сердце?
Кто даровал отваги меч двуострый?
Кто взять велел святую орифламму
Мечтаний, песен, непокорных дум?
Нет здесь ни прямого призыва, ни образа человека, с молотом в руках прокладывающего путь правде… Поэтесса умело передает читателю собственное настроение, заставляет переживать то, что ей хотелось бы. Она лишь спрашивает, но какая неотразимая власть в ее вопросах, какова сила приказа!
Кто приказал мне: не бросай оружья,
Не отступай, не падай, не томись?
Последующие, казалось бы, наполненные отрицательным смыслом «зачем» не только не снимают идею, но усиливают ее:
Зачем должна я слушаться приказа?
Зачем уйти нe смею с поля чести
Иль, наконец, упасть на меч свой грудью?
Отсутствием прямого ответа, который скорее всего снизил бы высокое напряжение эмоций, поэтесса придала еще больше силы и властности переживаниям, закончив стихотворение последним вопросом:
Зачем при мысли о таких словах
Сжимаю я незримое оружье,
А в сердце зреют кличи боевые?..
Все, буквально все пленило в этом сборнике читателей. Минет немало времени, студент Василий Симович станет известным ученым-филологом, но и тогда он скажет, что в мировой лирической поэзии XIX века нелегко найти стихотворение такой силы и гармонии, как «Талого снiгу платочки сивенькії»…
Это действительно жемчужина украинской поэзии. Кто хоть один раз прочитал стихотворение, в котором так органично слиты краски и звуки, тот уже никогда не забудет его: глаза запомнят нежную акварель весны, а серебряные ручейки будут журчать в словах:
Талого снiгу платочки сивенькії,
дощик дрібненький, холодний вітрець,
проліски в рідкій травиці тоненькії —
то ж була провесна, щастя вінець.
Небо глибокеє, сонце ласкавеє
пурпур i злото на листі в гаю…
Такой сборник надо было издавать, и немедленно, во что бы то ни стало! Жаль, денег не хватает, тем более что очень хотелось бы напечатать его на хорошей бумаге.
Помощь пришла неожиданно: один из студентов предложил взаймы. Но этой суммы на «аккуратненькое» издание недостаточно. Тогда наборщик типографии Николай Грабчук в надежде на заработок согласился набирать сборник. Только посоветовал Лесе добавить стихотворений, чтобы книга не была такой тоненькой. Не имея ничего готового, писательница прислала поэму «Одержимая». Сборник вышел в свет весной 1902 года на 96 страницах (шесть полных листов), каждое стихотворение начиналось на новой странице.
Николай Грабчук набирал орнамент и заставки для художественного оформления; и аист, и чертополохи с женскими головками на обложке — также его вкус. Работал он по вечерам и, конечно, никакого вознаграждения за свой труд не получил.
Леся увидела свой сборник, когда уже была в Италии. «Моя новая книга стихотворений («Отзвуки»), — писала она матери, — уже вышла. Ее мне прислали: хорошо издана и в красивой обложке».
Возвратившись из Карпат в Киев, Леся вскоре почувствовала себя хуже: снова боли в груди, кашель, общий упадок сил.
— Тот «жир», которым «обросла» в горах, я уже спустила, — говорила она сестре Лиле.
На очередном семейном совете мать безапелляционно заявила, что ухудшение — результат заражения в Минске, и необходимо лечиться в теплых краях, Петр Антонович придерживался иного мнения. Как всегда в таких случаях, он говорил:
— Самое важное для Лесиного здоровья — ей самой беречь себя, не простуживаться. Пересиживать плохую погоду в доме, правильно, по режиму питаться. Всего этого при желании можно достигнуть и дома. Если же она будет бегать и мотаться, то даже идеальнейший климат не пойдет впрок. Следовательно, нет смысла ехать на край света…
Леся молчала. Ей хотелось уехать на зиму в теплые края, так как она хорошо понимала: местная холодная и сырая зима окончательно расправится с нею. Лесю привлекала Италия. Конечно, это стоит больших денег, которых уже и так много на нее потрачено. А какая польза? Только отцу тяжело. Сейчас необходимо иметь 500–600 рублей! Отец, разумеется, не пожалеет их, но Леся очень хотела заплатить хотя бы половину этих денег из собственного заработка. А где возьмешь его, этот заработок, когда нет ни одного украинского журнала…
В конце концов родители решили отправить Лесю в Италию, в Сан-Ремо, где в это время находились на лечении дальние родственники Косачей- Садовские.
Утром 6 декабря после короткой остановки в Милане венецианский поезд с грохотом проскочил еще два тоннеля, повернул влево и степенно вкатился под стеклянную крышу вокзала в Генуе.
Трехчасовая стоянка позволила Лесе и ее тетке Елене Антоновне, которая также ехала в Сан-Ремо, познакомить ся с городом. Сознательно отказались от трамвая и наняли ветурино (извозчика), который мог, правда, с грехом пополам говорить по-французски, направились на знаменитую генуэзскую набережную.
Памятник Колумбу при въезде в город напомнил им, что здесь родился (1451) и вырос великий путешественник — открыватель Америки и других земель. Остановились. Каменная статуя задумчиво и грустно всматривалась в безграничную даль моря. На высоком постаменте, украшенном резным орнаментом, были видны слова:
«La Patria»… Поздновато же она — лишь в 1862 году — догадалась отдать почести своему сыну, может быть, самому великому генуэзцу.
Улицы Бальби, Гарибальди и Кайроли. Ослепительный в своей роскоши дворцы когда-то могущественной Генуи. Ветурино, указывая на сооружения «золотого века» республики, перечисляет: «палаццо Россо», «палаццо Бианко», «дель Муниципо». А затем вновь «палаццо» Спиноли, Адорио, Дориа, Дураццо-Палавинчини…
Древняя история. Однако она волновала, бередила душу. Лесю обуревали противоречивые чувства: восхищение и возмущение, сочувствие и неприязнь. Ведь вся эта роскошь — дело рук невольников со всего мира. Генуя разбогатела на грабительской торговле, насилии и жестоком, колонизаторстве. Из самых отдаленнейших земель приплывало сюда золото, запятнанное кровью. Под аккомпанемент кандалов строился город — эти мраморные палаццо, готические соборы, вековые гранитные мостовые…
После осмотра набережной, длинным полукругом забравшейся в морские владения, возвратились на главную улицу. Отпустили извозчика. И сразу же к ним подкатился невысокий живой брюнет — местный чичероне. Он заметил, что Леся и Елена Антоновна любовались фронтоном дворца Россо, и предложил свои услуги при осмотре картинной галереи.
С порога дохнуло чем-то, навсегда канувшим в Лету. Леся видела немало исторических памятников, и всегда они вызывали какую-то непонятную грусть, волновали душу мыслями о минувшей славе, зачастую позорной, постыдной для тех, кто оставил эти реликвии — дворцы, статуи, портреты, украшения… Они переходили из зала в зал, и от впечатлений кружилась голова.
Настойчивый чичероне уговорил осмотреть еще два дворца, которые также являются музеями и также переполнены картинами и скульптурами. Прославленные имена — Рафаэль, Рубенс, Ганнибал Карачи, Гвидо Рени, Тициан, Веронезе, Леонардо да Винчи, Ван-Дейк, Караваджо, Дюрер — словно соревнуются на посмертном турнире за свое бессмертие…
Когда возвращались знакомой уже дорогой, тетка Елена вдруг остановилась:
— Посмотри, кто стоит подле Колумба.
Там была красивая коляска с молодым ветурино, а перед статуей великого мореплавателя — молодые, красиво и модно одетые мужчина и женщина. Это были не англичане, которых здесь встретишь на каждом шагу, не французы, не итальянцы, а… негры! Американские негры. Черные, словно выточенные из антрацита, лица…
— Что они увидели в этом памятнике? — молвила Леся, когда они оставили позади этих необычных туристов. — О чем они думали, глядя на мраморную статую человека, который открыл для них вторую, пусть и подневольную, родину? Осознают ли они, эти двое, фатальное значение для их народа того, что сделал этот человек?
— Наверное, они не совсем постигли связь судьбы своих предков и этой фигуры, — сказала Елена Антоновна.
— А мне кажется, что эти кудрявые головы все же поняли. И сейчас под впечатлением воспоминаний о трагическом прошлом своего народа, видимо, шепчут слова из поэмы Лонгфелло «Сон невольника» — о далеком, но дорогом их сердцу предке с серпом в руках, — припоминаете?
У нивы рисовой он спал
С серпом своим в руке;
Раскрыта грудь его была
И волосы в песке,
И видел сквозь неясный сон
Родную землю он:
Привольно там свои валы
Могучий Тигр катил,
А он по-прежнему царем
Под пальмами ходил;
И караваны по горам,
Звеня, спускались там.
Для этих двух, — продолжала Леся, — сон того невольника лишь воспоминание о прошлом, а для многих негров он еще и теперь реальность… А вообще-то очень символично. Только представьте, тетушка Еля, вон тот, в сером сверкающем цилиндре, — потомок раба, который только во сне видел себя свободным, а в жизни его хлестал кнут ненасытных плантаторов. Этот потомок стоит свободный у памятника Колумбу рядом со своей чернокожей подругой, внучкой дяди Тома. Их ждет шикарная коляска с не менее шикарным ветурино. Римлянин — извозчик! Да и кто ведает, может, в жилах этого ветурино течет кровь Гракхов, а то и какого-нибудь святейшего папы… А в коляске негры!
Увлекшись разговором, не заметили, как подошли к вокзалу. И вот уже поезд снова мчит, теперь уже по побережью Лигурийского моря. Генуя осталась позади…
У Савонны поезд прополз по длинному, нависшему над песчаным берегом виадуку. Внизу копошились ребятишки, пассажиры бросали мелкие медные монеты, я ватага устремлялась туда, где они врезались в песок. Мгновение, и рука счастливою сорванца с триумфом вскидывалась кверху. Это напоминало крымскую детвору, которая отчаянно прыгала в море, чтобы выловить монеты, брошенные туда курортниками.
Сан-Ремо расположен в одном из красивейших уголков западной части итальянской Ривьеры, имеющей еще и другое название — Понетская Ривьера. Вся береговая полоса защищена от северных и восточных ветров грядой гор. Здешний прекрасный климат притягивает к себе, особенно зимой, множество людей со всех концов света. Удобные пути сообщения с соседними Монте-Карло и Ниццей убыстряют ритм жизни. Из всех курортов итальянской Ривьерды Сан-Ремо, пожалуй, самый красивый и благоустроенный.
Старая часть его очень живописна, со своеобразными строениями, узенькими ступеньками и улицами, аркадами, виноградниками, с красочной одеждой простого народа. На самом берегу, вокруг центральной улицы Витторио-Эмануэле, раскинулась новая часть города. Здесь городской сад (пальмы и эвкалипты), чудеснейший бульвар, вдоль бухты — корсо Имнератриче. Неподалеку от главной улицы картинная галерея. Рядом русский санаторий для тяжелобольных, открывшийся за год до Лесиного приезда.
Леся поселилась в отдельной комнатке в доме Садовских, который они снимают с прошлого года. Садовские живут внизу, а Леся на втором этаже, чему она несказанно рада: сразу за окном — море.
Семья эта — больные и обиженные судьбой люди — не отчаивалась и не убивалась постоянно по этому поводу. Муж был давно и безнадежно болен. Супруга его, внешне походившая на Лесю, — такая же беленькая, тоненькая и болезненная, — умела быть веселой и рассудительной, ей удавалось поддерживать в доме совсем не госпитальное настроение. Она была для Леси самым близким человеком.
На радость Лесе, в первую неделю ее пребывания в Сан-Ремо стояла чудесная, солнечная погода. После киевских осенних дождей и туманов то было истинное счастье.
Не случайно Леся не уставала твердить себе в Италии: необходимо как можно скорее «склеиться», вырваться из этой смертельной пропасти, куда толкает ее страшная болезнь, вырваться и физически и морально. Она чувствовала, что недавнее прошлое тащит ее назад, растравливает душу, лишает воли. В такие мгновения рука сама тянулась к перу, слова отчаяния предательски ложились на бумагу:
Ой, я постреляна, порубана словами,
душа моя на рани знемагає,
неначе стрілами i гострими мечами,
мене його рука здалека досягає.
И только решительный поединок с этим отчаянием принесет спасение. Поединок. А может, наступает година, когда надо сознаться, что слово увяло, что уже не способно разить молнией? Нет, этого не может быть. Она слышит гром борьбы — там, впереди. Надо бороться:
…..И если бы не сумрак,
А тьма суровая была кругом,
Не сдамся я, прислушиваться буду —
Звучит ли давний гром в душе моей,
И гляну в сердце с думою тревожной, —
В нем полыхают ли еще порою
Былые молнии…
Если же нет, если утихли навсегда,
Тогда зима остудит мое сердце
И победит мою весну живую,
И обожжет мороз мои цветы,
Скажу: я этого не ожидала!
Умри, душа! Как лед, разбейся, сердце:
Так жить нельзя!
Итак, муза, повелительница поэтического слова, — вот кто превыше всего. Без нее «жить нельзя». Только в нее верит, ею живет Леся. Это credo — высший критерий, и теперь она еще сильнее осознает, чувствует, что слово — единственное ее оружие:
Слово, оружье мое и отрада,
Вместе со мной тебе гибнуть не надо.
Вот что в первую голову придавало ей силы, помогало выкарабкиваться из пропасти, побеждать «печаль, как море», вырываться из тисков болезни. Поэтесса не жалеет себя, она беспокоится лишь о том, чтобы не поблекла поэзия — «звезда в лазури», — и страшится одного — пережить ее, а это хуже смерти. И она обращается к своей музе:
Переживи меня…
Краса моя! С тобою
Ничто не страшно, без тебя же все:
Жизнь, и работа, и любви волненье —
Страшны мне без тебя, звезда моя,
Когда погаснешь…
Поставив слово — «звезду свою» — выше жизни, работы и даже любви, Леся Украинка победила и мрак ночи, покрывший все вокруг, и саму себя.
Не скоро залечились раны сердца, и еще не раз хотелось ей «уплыть по теченью Офелией, украшенной цветами». Но это уже не представляло опасности. Отныне она уже вырвалась, выплыла из «волн своей печали». И снова в родной стихии:
Эй, безумная песня!
В кого удалась ты такой непокорной?
Смотри, я смеюсь, когда сердце рыдает,
И взгляд мой и голос мне стали покорны,
И я так спокойна. А ты? — словно ветер…
Прошло два месяца в Италии, а врачи все еще не разрешали заниматься серьезной работой, хоть и утверждали, что ничего опасного нет. Труднее всего удержаться, чтобы не писать стихи, ведь это «мгновенные импровизации, определенная форма приступов сумасшествия, за которые человек чаще всего поручиться не может».
Конечно, курортный режим вовсе не отвечал Лесиной натуре. С наступлением весны она почувствовала себя удовлетворительно и с нетерпением ждала того дня, когда верные слуги Гиппократа разрешат сесть за стол с бумагами, когда «подарят ей более свободную конституцию», чтобы наверстать упущенное.
Однако нет оснований считать, что первые несколько месяцев, прожитых Лесей в Италии, были полностью пожертвованы врачам. Отнюдь нет. Она без ограничений читала, писала рефераты и аннотации к произведениям мировой современной и древней литературы, в частности итальянской. В процессе такого изучения «надумала еще один маленький драматический этюд (наподобие «Мириам»)», который и был закончен через год («Вавилонский плен»). Подготовила реферат об украинской литературе в Галиции.
Одновременно завершала освоение итальянского языка. По этому поводу писала: «Читаю по-итальянски много, а разговариваю мало, — не с кем: в доме только один итальянец служит… Да и то говорить с ним пользы мало из-за его местного Лигурийского диалекта, о котором в Италии слава худая: за земные грехи на нем в аду заставляют говорить! Но с сегодняшнего дня начну разговаривать с учительницей-тосканкой, мы с нею учредили Conversationstunden[60] один день она со мной час будет говорить по-итальянски, а на второй — я с нею по-французски».
Будучи человеком скромным, сдержанным и не очень-то компанейским, Леся неохотно заводила новые знакомства, а с другой стороны, и не избегала встреч с людьми, которые представляли для нее интерес. В первые же дни после приезда в Сан-Ремо она познакомилась с итальянской писательницей Альбини Биззи, собиралась даже поселиться в ее доме. Однако потом изменила свое решение, так как Биззи насторожила ее: слишком уж настойчиво и бесцеремонно предлагала билеты на религиозные конференции, проводимые с целью сбора денег для какой-то ничем не примечательной церквушки.
Но от общения с писательницей Леся не отказалась. «В гости к ней буду ходить, — писала она матери, — у нее довольно интересно и приятно. Показывала она мне портрет Ады Негри, — интересное лицо и большие черные глаза, но лицо совсем не такое, как я себе представляла, — круглее и проще».
Множество здесь англичан, но мне они с первого взгляда пе нравятся… высокомерные, а женщины — ужас некрасивые…»
Близилось лето, а вместе с ним и время возвращения на родину. Врачи советовали еще одну-две зимы провести на юге. А лето и полтавское не повредит. Итак, Леся собиралась в дальний путь.
С согласия родителей перед отъездом на Украину Леся посетила Швейцарию, чтобы получить там консультацию у врачей: в Берне у профессора Салли; в Цюрихе у знаменитого Эйхгорна. Швейцарские светила весьма оптимистично высказались о Лесином здоровье: недалек тот час, когда она окончательно вылечится, — катаральный процесс закрылся, в легких остались только некоторые следы. Разрешили работать: шесть часов исключительно днем, вечером что-нибудь легкое читать.
За несколько дней до возвращения на родину Леся имела точное расписание своей поездки. Как и предусматривалось, 4 июня трехпалубный пароход «Энтелла» уже бороздил волны Тирренского моря. Леся часами смотрела в бескрайнюю морскую даль. Она любила море, которое не мешало ей думать и на фоне которого воображение рисовало самые фантастические картины.
Минуя Тосканский архипелаг, «Энтелла» проплыла вблизи острова с отвесными, рыжими, почти что красными берегами. Пассажиры — правда, их вообще было немного — перешли на правый борт, жадно всматриваясь в землю, видневшуюся за скалистым мысом. Остров Эльба! Именно здесь Наполеон вкусил горечь первого изгнания. Отсюда смотрел он на свою родную Корсику, едва заметную далеко-далеко на западе. Вспомнились пушкинские строки:
Вечерняя пора в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна,
Уже на западе седой, одетый мглою,
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
На рассвете 6 июня пароход причалил в порту Неаполя. Леся сгорала от нетерпения: скорее к Везувию — живому, огнедышащему, знаменитому вулкану. Однако туман над Неаполем и его окрестностями лишил возможности полюбоваться желанным зрелищем — видны были только далекие слабые вспышки огня.
В Неаполе пароход простоял около десяти часов, и Леся смогла ознакомиться с городом. Несомненно, он произвел на нее, как и на многих, кто здесь побывал, незабываемое впечатление.
Леся Украинка не посетила ни Везувия, ни острова Капри, ни другие живописные места. Она все внимание и время отдала тому уголку, который говорил о прошлом, о memento mori.[64]
«На Везувий и Капри не стоило, говорили мне, ехать в такой не слишком яркий день. Я много времени потратила на руины Помпеи, однако не сожалею, потому что, как мне кажется, это — вещь единственная в мире и невероятно интересная».
Помпеи — давнишняя Лесина мечта, ведь это единственный в мире город-музей, в котором экспонируется сама жизнь, существовавшая десятки веков назад. Вместе с большой группой путешественников Леся рано утром поехала железной дорогой. В вагоне все экскурсанты развернули карты, путеводители, чтобы предварительно ознакомиться с историей древнего города. Но вот проплывают окрестности Неаполя, и все прильнули к окнам, их не могла не привлечь панорама сказочных пейзажей. Курганы вулканических пород, под которыми захоронен античный Геркуланум. Маленький, словно игрушечный, фуникулер с туристами, карабкающийся по крутой дороге почти к самому конусу Везувия. В зелени парков и садов утонули Торре-дель-Греко, Торре-Аннунциата, выросшие на кладбище похороненных городов. Через несколько минут после поворота влево поезд остановился на станции Помпеи.
Рассеявшись на небольшие группки, толпа направилась к мертвому городу. Дорога извивалась между невысокими холмами, сплошь покрытыми виноградниками и прочей растительностью. Под этими холмами свыше восемнадцати веков назад был город, славившийся некогда кипучей жизнью, богатством, красотой, прекрасным искусством. За многие годы на поверхности низверженных пород образовался толстый слой плодородной почвы, на которой ныне буйствует зелень. Трудно представить силу тех потоков лавы, если под ними бесследно исчезли целые города и даже море отступило от тогдашнего берега на несколько километров.
В наши дни Помпеи раскопаны полностью — прямоугольные кварталы, узкие улицы с тротуарами, вымощенными каменными глыбами. Когда же там побывала Леся, еще треть города находилась под землей.
Купив за две лиры билет, Леся вместе с другими экскурсантами миновала городские ворота. Сразу же гид показал им небольшое строение — музей, в котором выставлены главным образом окаменелые трупы погибших помпеян. Ужасное зрелище, страшные позы людей в агонии. Леся остановилась у витрины с копиями двух драгоценных исторических писем Плиния Младшего, своими глазами видевшего гибель Помпеи.
Изучая древнюю историю, Леся, несомненно, была знакома с этим документом, однако здесь, на месте катастрофы, это письмо двухтысячелетней давности воспринималось по-иному — обостреннее и отчетливее. Леся читала эти документы, и ей казалось, что все захороненное под этими камнями начинает оживать, она ступала на плиты мостовой осторожнее: «Sta, viator! Herois sepulerum…».[65] Перед нею был не мертвый, а живой, шумный, красочный город. Она ощущает его неспокойный, бурный ритм. Зрительное воображение поднимает из руин храмы, базилики, статуи, обелиски… Помпеи встают перед ее взором во всем своем величии и красоте.
Вот руины базилики на виа Марина — 28 ионических колонн образовали перистиль (внутренний дворик). На противоположном конце улицы один из крупнейших в Помпеях храм Венеры, окруженный портиком со многими уцелевшими колоннами. Прямо против храма Венеры руины роскошной базилики Евмахии. Эта базилика была создана очаровательной жрицей, гордостью Помпеи — Евмахией. Статуя этой служительницы олимпийских богов поражала художественным совершенством, а лицо неописуемой красотой. Если и в самом деле она была такой прекрасной, то нет ничего удивительного в том, что помпеяне молились не на Венеру и Юнону, а на нее.
Сказочный античный мир! Нелегко понять формы и сущность его жизни. Разве не поразительно то, что все эти жрицы, да и просто женщины играли огромную роль в государстве, пользовались уважением. Наверное, в античном мире «женский вопрос» разрешался проще, чем во времена Леси, когда мир трубил о своей цивилизации, а женщин не принимали в университеты и не допускали к участию в государственных делах. Не случайно писатель Даниил Мордовцев написал в своих путевых заметках после осмотра Помпеи:
«А вот и следы «женских курсов» в Помпее. Под колоннами изображена публичная школа, и девушка, помпейская «курсистка», а может быть, «медичка» подносит учителю свои тетрадки, то есть дощечки, tabulae… Это в Помпее, за 2000 лет… А у нас закрыли женские медицинские курсы. Срам! — перед Помпеей стыдно… Посмотрите на эти изображения помпейской жизни: все они, и помпейцы и помпеянки, почти голенькими ходят, и профессора голенькие. А у них уж и женские курсы, и все такое… А мы… мы ходим в панталонах и в юбках, а женских курсов у нас нет».
Осмотрев все самое интересное на этой площади, зашли в храм Фортуны, построенный Марком Туллием, предком прославленного оратора Марка Туллия Цицерона. Здесь уцелели стены, лепные украшения, колонны и постаменты для статуй. Помпеи просто ошеломили Лесю богатством статуй, бронзовых скульптур. Боги, а их здесь была тьма, мифические создания, легендарные герои, природа, ее могущественные силы и стихии — все воплощалось в скульптуре.
Так, минуя одну руину за другой, пришли наконец к воротам Геркуланума. Отсюда устремилась за город дорога Гробов, по обе стороны которой стояли похоронные склепы и виллы богачей. Гид обратил внимание на виллу Цицерона, почти разрушенную и не совсем еще раскопанную. Над нею стеной зеленела пшеница, сильная и рослая, как камыш. Дальше находилась вилла Диомеда — самая большая из загородных и оригинальная по своему архитектурному замыслу: три яруса косогором сходили к морю. Со специальной площадки верхнего яруса, куда поднялась Леся, открывался вид на весь Неаполитанский залив с окружающими его урочищами. Всматриваясь в эту панораму, Леся старалась яснее представить исторические события, происходившие в местах, прославившихся именами Вергилия, Горация, Цицерона, Сенеки, Тацита, Тита Ливия, Плутарха.
Долго простояла она в задумчивости. Картины действительные сопоставлялись с картинами, нарисованными воображением еще ранней юности, когда впервые она узнала из книг о древних и далеких событиях… Там, на высоком берегу, в своей вилле, Юлий Цезарь готовился к грядущим баталиям, здесь неистовствовали Калигула и Нерон, вынуждая людские толпы отдавать им божественные почести, льстиво прославлять их отвратительнейшие поступки, возводить в их честь храмы, ставить дорогие статуи. Сами же они, простые люди, оставались без крова и куска хлеба…
«И все же в античном мире, — думалось Лесе, — больше величия и благородства. Не было там справедливости и равенства — верно, однако властвовали людьми большие страсти, в нем не было всеразьедающего мещанства и меньше было подлости, — и все разом в некоторой степени компенсирует недостатки той эпохи, заставляет снисходительнее отнестись к ее жестокости. А может, так только кажется. Может, нас вводит в заблуждение проецирование времени из настоящего в прошлое…»
Возвращаясь к железной дороге, Леся приобрела в туристической конторке альбом открыток с изображением выдающихся памятников и панорамы Помпеи. В вагоне вдруг ощутила смертельную усталость и голод.
Когда выходили из ресторана «Виторио», оставалось еще три часа до отплытия парохода. Усталость миновала. Захотелось еще побродить по городу. Недолго думая, отправилась на могилу Вергилия. У места вечного отдыха автора «Энеиды» Леся слушала гида, который больше рассказывал о побывавших здесь знаменитостях, чем о самом поэте. Запомнилась история Боккаччо, который здесь, у этой могилы, принес клятву забросить торговлю, в которой до тех пор преуспевал, и посвятить свою жизнь литературе.
Почему-то именно сейчас, когда люди разошлись и у могилы воцарилась тишина, когда она одна стояла перед этим скромным, овеянным тысячелетними легендами холмиком, Лесе приоткрылась тайна великого Вергилия: поэт — современник краха колоссальной Римской империи обратился к мифологии и легендам не случайно. Создавая римский вариант греческой «Илиады» и «Одиссеи», он наполнил героические подвиги троянца Энея новым содержанием — актуальным для своего времени. Величие гомеровского эпоса, бессмертие его образов и вечность идей помогли Вергилию глубже и ярче отразить современность, раскрыть ее трагедию.
Через два часа «Энтелла» проплыла мимо Сорренто. Он навеял воспоминание о похороненном здесь страстном борце за свободную объединенную Италию — поэте Торквато Тассо. Держа курс на Палермо, пароход огибал остров Капри, тот самый остров, на который через семь лет приедет лечиться другой украинский писатель — Лесин единомышленник и добрый знакомый Михаил Коцюбинский.
Знакомство с античным миром и сегодняшней жизнью народа, его освободительная борьба произвели на Лесю неизгладимое впечатление. В Италии она окончательно избавилась от порою закрадывавшихся в душу сомнений; хорошо ли то, что она так широко использует в своем творчестве древний мировой эпос? Не отрывает ли от реальной жизненной почвы это древнее «чужое»? Поймет ли народ ее мысли и чувства, выраженные таким образом?
Так было совсем недавно, а теперь она утвердилась в мнении, что эта «экзотика» — ее творческая стихия, которая поможет глубже отразить жгучие вопросы жизни и борьбы своего народа. Отныне «экзотика» вольется в творчество Леси Украинки могучим потоком. И не удивительно, что, покидая Неаполь, этот «кусок неба, упавший на землю», Леся сочинила отнюдь не идиллические стихи и совсем не о Неаполе, а о своей далекой родине:
Дантова ада, на страх всем потомкам,
Вечное пламя пылает —
Муки мы терпим страшней, чем у Данта,
Данта же край наш не знает.
Эти строки, как и подобные им, навеянные воспоминаниями о родном крае, неожиданным контрастом врываются в симфонию синего моря. Думы о родине не мешали видеть и понимать жизнь незнакомой страны и ее людей. Из Палермо она послала родственникам весьма любопытное, прежде всего для характеристики самого автора, письмо:
«Дорогие мои! Уже пятый день как я в пути… Теперь я в Сицилии… Почему-то не подозревала раньше, что в этой «стране бандитов и вендетты» такие большие города. Между тем сицилийцы (те самые «бандиты») оказались более учтивыми и приветливыми, чем неаполитанцы. В Неаполе так пристают, хватают за одежду, упрашивают купить какой-нибудь пустяк, что единственный способ отвязаться от них — бежать прочь, куда глаза глядят, размахивать руками и кричать: «Нет, нет, оставьте меня в покое!!!» В Палермо совсем по-другому: люди необычайно внимательны и предупредительны. Спросишь их дорогу — сами проводят до того места, куда надо, и при этом ведут себя скромно и не лезут с расспросами и предложениями. Здесь и язык понимаю, а в Неаполе — почти ничего, — таков там диалект. Компания моряков на нашем пароходе — все из Палермо, я уже со всеми познакомилась, так как мы обедаем за табльдотом, все вместе, пассажиры и пароходный персонал».
За семнадцать дней морского путешествия и поездку в Швейцарию Леся насмотрелась, как сама говорила, всяких чудес. Видела заснеженные горы, голубые и зеленые озера, Рейнский водопад, золотисто-радужную Сицилию и святой Акрополь афинский — престол вечной красоты, множество островов самобытных, Смирну — город цветастых тканей — и фантастически прекрасный Константинополь… А меж всем этим море и вечная песня волн… Впечатлений масса. Трудно было высвободиться из-под их власти и засесть за работу. Единственное, что могла делать, — писала родным и друзьям.
20 июня «Энтелла» причалила к пристани в Одесском порту, а 23-го Леся уже была в Киеве. Встретилась с Драгомановыми, Старицкими, Черняховскими, Лысенками, с Квиткой и галицким художником Трутнем. Спустя неделю Леся перекочевала в хутор Зеленый Гай, где провела целое лето вместе со всем семейством.
Осенью опустел косачевский хутор. Затем и киевский дом: сестра Ольга уехала в Петербург продолжать учебу, Оксана — к тетке Елене в село, младший брат Николай, студент, — в институт, старший — Михаил — преподавать в Харьковский университет. Разъехались и друзья: Квитка — на Кавказ, на место работы, Кривинюк — во Львов. Собиралась в дорогу и мать. Теперь, когда дети подросли, Ольга Петровна все больше занималась литературно-издательскими и общественными делами.
И только старый Косач — Петр Антонович, — который перешел на работу в Киев, теперь постоянно находился дома.
В субботу 18 октября 1902 года Леся покинула Киев — вторично поехала на зиму в Италию. Снова в Сан-Ремо.
В этот раз она была настроена гораздо оптимистичнее, так как чувствовала прилив сил и понимала, что сможет работать. Надеялась на то, что удастся заполучить работу «для души и для хлеба». После закрытия петербургского журнала «Жизнь», где охотно печатали ее статьи, Леся искала другое издание. Наконец она смогла договориться о своем сотрудничестве в известном столичном журнале «Мир божий». Редакция обещала Лесе платить 80 рублей за лист (50 тысяч знаков) ее обзорных статей.
Таким образом, она намеревалась хоть частично обеспечить себя материально. «Материальная независимость является одной из важнейших основ нравственной независимости», — говорила Леся. Если бы добиться этого, мечтала она, можно было бы целиком отдаться работе «для души» — художественной литературе, поэзии.
Вскоре закончена и отослана в редакцию «Мира божьего» статья о прогрессивной польской писательнице М. Конопницкой. Леся очень довольна: «Теперь на некоторое время могу оставить себя в покое… буду писать что-нибудь ad animal salutem».[66]
Забегая вперед, отметим, что замысел не удался. «Мир божий» хоть и считался тогда органом оппозиционным, однако и по существу был умеренным либеральным журналом. Лесина статья редакции не понравилась, и ей было отказано в сотрудничестве. Из отдельных писем Леси очевидно, что редакция была отнюдь не в восторге от оригинальных и чересчур радикальных суждений автора статьи. «Кто-то слишком уж самостоятельным критиком показался», — писала она Кобылянской.
«Это так плохо, что украинский литератор не может «в своей хате» ни копейки заработать, — жаловалась Леся Украинка, — и это истинный наш тяжкий крест такое обивание порогов. Еще слава богу, что я могу перебирать и выбирать, а другие еще и в луже оказываются, когда так поступают».
Вынуждена была обратиться к заграничным журналам. Будучи проездом в Австрии, Леся специально зашла в редакцию венского журнала «Цайт», чтобы договориться о сотрудничестве, а впоследствии выслала из Сан-Рема статью для него. Но и здесь постигла неудача. Чужие отнеслись не лучше своих.
И все же как бы там ни было, но связи Леси с российской печатью не прерывались. Об этом свидетельствует ее участие в различных русских изданиях, в частности в таких, как «Жизнь», «Русская мысль», «Вестник Европы», «Южные записки», петербургские газеты, издательство «Донская речь», издательская фирма Марии Малых.
В этом списке особое место занимает фирма Малых. которую нередко вспоминает Леся в письмах к сестре Ольге в Петербург: «Кстати, что с теми переводами для фирмы Малых?» Или: «Ты ничего не узнала в фирме Малых?» До сих пор не установлено, какие переводы имелись в виду и какая дорога привела Лесю Украинку в это издательство. Известно другое: фирма Малых выпускала социал-демократическую литературу и произведения небольшого объема прогрессивных писателей и публицистов — как русских, так и иностранных. Тиражи были массовыми и предназначались главным образом для рабочих. В женевском письме ЦК РСДРП от 3 октября 1905 года В.И. Ленин с симпатией говорит об издательской фирме Малых, рекомендует использовать ее: «…Малых дала заработок куче здешних лиц, коих партия содержать не в силах. Не забывайте этого. Советовал бы и с Малых заключить договор…».[67]
Эта фирма импонировала Лесе, так как способствовала распространению социалистических идей среди рабочего класса, среди народных масс России. Последнее обстоятельство было для Леси особенно важным, потому она и говорила: «…кроме материальных видов, у меня есть и другие…»
Более детальное знакомство с характером издательской деятельности Малых позволяет понять внимание к ней Леси и высказать некоторые предположения относительно ее участия в этом издательстве. Литературоведу Александру Дуну удалось встретиться и беседовать в 1956 году с Марией Александровной Малых, а после вести с нею переписку. Вот что сообщила М.А. Малых:
«Я закончила гимназию в 1896 году и поехала из Томска в Петербург на курсы. Мы, молодые, рвались «служить народу», но как это делать, — не знали. Мы суетились, метались в поисках верного пути. В 1899 году я выехала в Швейцарию, в Цюрихский университет. И там, в центре революционного движения, столкнувшись с эмигрантами-марксистами, вождями социал-демократического движения, нашла свою дорогу. Тогда же у меня и моего будущего мужа А.Г. Эдельмана впервые родилась идея организации легального издательства в России для распространения среди рабочих популярной революционной литературы. Ленин и Плеханов придавали огромное значение распространению легальной марксистской литературы в России, и, когда мы рассказали о нашем замысле, они горячо поддержали его. Получив их «благословение» и согласие сотрудничать в будущем издательстве, мы наметили общий план изданий. В 1901 году, прекратив учебу в Цюрихском университете, я возвратилась в Россию. В том же году вышли в свет первые книги серии «Современная научно-образовательная библиотека» по 10 копеек за номер. До 1905 года, в цензурный период, мы издали 60 номеров.
С 1905 года, когда была отменена предварительная цензура, начали печатать все, в чем была нужда… Большинство сотрудников издательства — социал-демократы, революционеры-эмигранты, которых направляли к нам Ленин и Плеханов. Так, постоянно сотрудничали A.И. Елизарова-Ульянова, Н.К. Крупская, А.М. Коллонтай, В.В. Боровский, А.И. Аксельрод-Ортодокс, B.М. Величкина, В.Д. Бонч-Бруевич, В.И. Засулич и др.».
В 1909 году Мария Малых была арестована и заключена в тюрьму. Однако ей удалось бежать в Швейцарию, где она издавала журнал «Авангард» для распространения в России.
Что касается переводов Леси для этого издательства, то письма Малых не дают прямого ответа, но в определенной степени приоткрывают занавес над этой загадкой, по крайней мере, указывают путь для ее решения. На предположение А. Дуна, что наивероятнейшим переводом следует считать поэтический сборник стихов Ады Негри, Мария Малых ответила положительно:
«Стихотворения Ады Негри были изданы в серии «Общедоступная читальня». Цена книжек этой серии была 1–3 копейки. Ада Негри была выпущена за № 16 (3 копейки). Стихотворения Ады Негри, я думаю, почти уверена, были переведены именно Лесей Украинкой. Считаю так потому, что стихотворения для нашего издательства обычно переводили В. Башкин или Андрусон. Однако стихов Ады Негри они не переводили».
Казалось бы, имея такие данные, решить этот вопрос очень легко: взять в руки книжку стихов Ады Негри в русском переводе, изданную фирмой Малых, и сопоставить ее с поэтическим творчеством Леси Украинки. Но вот беда: разыскать этот сборничек в библиотеках Я Советского Союза, в некоторых частных и зарубежных Я библиотеках не удалось…
Тем не менее факт сотрудничества Леси Украинки в издательстве Марии Малых — явление интересное и знаменательное в жизни поэтессы. Она переводила для издательства и других авторов. «Переводы других поэтов, — пишет М. Малых, — сделанные Лесей Украинкой, были помещены в сборнике стихотворений «Марсельеза пролетариев». Сборник этот был конфискован в типографии во время печатания. Не сохранилась даже корректура, которая была изъята во время обыска…»
Но не только поэтические переводы — Леся готовила, оказывается, и прозу. М.А. Малых не помнит, были это ее собственные рассказы или И. Франко, но они были запрещены цензурой из-за революционного содержания. Мария Малых отвечает и на второй вопрос, — каким способом поэтесса поддерживала связь с издательством: «Я с Лесей Украинкой, к сожалению, никогда не встречалась, хотя и хотела с нею познакомиться. Но всегда ценила ее как идейную писательницу. Я не переписывалась с нею, так как все переговоры вела с ее сестрой Ольгой Косач — подругой моей двоюродной сестры Екатерины Малых. Вдвоем они часто приходили в наше издательство и уносили наши книги, главным образом запрещенные, для распространения их среди курсисток Женского медицинского института».
Наряду с переводами для издательства Леся Украинка напряженно трудилась над собственными произведениями. Вторая зима на берегу Лигурийского моря оказалась для нее счастливей прежней. Здесь она написала драматическую поэму «Вавилонский плен» и несколько стихотворений, начала работу над большой драмой «Кассандра», драматическим этюдом «Три мгновения», обдумывала произведение «На руинах».
В это время Леся много размышляла о своем творчестве, о его направленности.
Произведения итальянского периода (1902–1903) различаются по жанру и размеру стиха. По духу же, идейному содержанию — едины. Все они пропахли «дымом» — тем горьким, черным, удушливым дымом, который поразил поэтессу в самое сердце, когда поезд не спеша пересекал фабричные предместья Генуи. Не впервые проезжала она этот город, да и знакома с ним не только из окон вагона. Не впервые ныло сердце при виде задымленных, черных и суровых домишек, где
…Окна были
Золой покрыты, цепкою, как горе,
Которое не выгонишь из дома.
За окнами мелькали очертанья
Каких-то лиц невольничьих, бескровных,
А надо всем тот дым, тот легкий дым,
Что глаз не ест, как будто и не душит,
А только небо ясное скрывает
И у людей крадет сиянье солнца,
Пьет кровь усталых лиц и гасит взоры…
Но в этот раз тот дым вызвал воспоминания о таких же задымленных кварталах многих городов и стран, где Лесе довелось побывать. Они стоят над разными морями и реками, а дым расстилается везде одинаково ядовитый.
Тот итальянский дым проник мне в сердце,
И сердце больно сжалось, онемело
И уж не говорило мне: «чужбина».
Так родилось первое поэтическое произведение в украинской литературе, в котором глубокие чувства и большой талант вылились в гимн интернационализму пролетариата. Поэты нередко убеждали, что «дым отечества нам сладок и приятен…» «Дым отечества» — символ родины не только для Грибоедова, но и для многих поэтов, которые жили сто и тысячу лет назад. Леся Украинка своими глазами увидела, что повсюду, где живет рабочий люд, заводские трубы, «точно мачты у пристани огромной виднеются сквозь мглу седую». Поэтесса поняла, что дым, который «белит все лица и чернит одежду», объединяет людей.
В произведениях Леси Украинки в полный голос зазвучали новые, современные мотивы — интернационализма, которым она хранила верность всю свою жизнь. Глубокое социальное содержание, политический пафос, пламенный лирический порыв свойственны многим произведениям, написанным в Сан-Ремо.
…Поэтесса у моря. Многие поэты славили море. И Леся тоже. Но ее голос неповторим в этом многоголосом хоре. Она так же восхищалась силой и красотой моря, очаровывалась «острым блеском волн», но эти волны рождают в ее памяти иные ассоциации — не элегические и не «лучезарные». Для нее разгневанные волны в лунную ночь — это
Будто войско мечами булатными
Хочет снять вражьи головы прочь.
Достаточно двух слов — меч и враг, — и вдруг морская стихия перевоплощается в народное восстание. Померкло серебро волн. Еще миг — исчезло море. Перед глазами вспышки факелов, блеск острой стали. Слышно бряцанье оружия, грохот разрушенных тюрем:
Будто встал возмущенный народ,
Будто сила народа могучая
Непреклонно на приступ идет.
Еще мгновение — нахлынули иные думы. А что же после взрыва стихии, которая «разрушает и возводит миры»? Каким будет тот, новый мир? Победят в нем правда и справедливость? Станут люди счастливее?
Море, море, людское, народное… Из чего ж ты оружие выкуешь? Что же будет, что встанет на пустоши, Вместо мира, что ты разобьешь?..
Здесь же, в Сан-Ремо, все заметнее становится обращение поэтессы к широкому художественному полотну — для того, чтобы полнее и глубже выразить мысли и чувства, которые импульсивно взрывались в коротких стихотворениях. Драматическая поэма «Вавилонский плен» — второе произведение такого жанра. В нем, как и в «Одержимой», на фоне древних исторических событий звучит современность. Почти всегда так будет и в дальнейшем — Леся пишет о чем-то далеком, прошлом — Египте, Трое, Риме, — а думает о современной ей жизни,
В мае 1903 года Леся Украинка покинула Сан-Ремо и Италию. Никогда больше она не побывает в этой прекрасной, целебной стране, которая возвратила ей жизнь, способность работать и, наконец, обогатила духовно, гостеприимно распахнув перед нею неисчерпаемую сокровищницу искусства.
По дороге домой Леся заехала во Львов, где ее ожидали неотложные дела, прежде всего встречи с Павлыком и Франко. В последнее время ею овладела мысль переселиться из России куда-то, как она выражалась, в более свободную страну, например Галицию, где можно было бы заниматься творчеством чг пропагандой освободительных идей. Леся хорошо знала, что в Галиции, находящейся под владычеством Австро-Венгрии, нет политической свободы, но там не запрещался украинский язык, как это было в царской России, где угнетение «инородцев гораздо сильнее, чем в соседних государствах».[68] Угнетенные народности, говорил Ленин, по ту сторону границы пользуются «большей национальной независимостью (достаточно вспомнить хотя бы по западной и южной границе государства — финнов, шведов, поляков, украинцев, румын)».[69]
Именно эти обстоятельства Леся Украинка намеревалась использовать. Из Галиции можно было бы, думала Леся, поддерживать связи с надднепрянской Украиной, пересылать туда нелегальную литературу и даже специальную газету, издаваемую во Львове. Но на какие средства жить? Как заработать кусок хлеба? Вопрос осложнялся еще и тем, что Леся имела намерение перебраться во Львов не одна, а со своим другом Климентом Квиткою, который к тому времени окончил правовой факультет.
Разведка возможностей переезда велась через Павлыка. Леся полагалась на свои знания европейских языков; но, не имея никакого диплома и даже свидетельства, она могла рассчитывать разве что на уроки или случайные переводы деловых бумаг. Еще из Италии Леся писала Павлыку, что согласна принять австрийское подданство, только пускай он все же узнает, каким способом она сможет заработать на жизнь.
Информация, полученная из писем Павлыка, видимо, не удовлетворяла Лесю. Потому-то и необходимо было встретиться.
Павлыки — Михаил и его мать — встретили ее сердечно и приветливо, как всегда, когда Леся останавливалась или просто приходила в гости.
Вечером Леся сидела на диванчике и просматривала газету «Дило». В комнату зашел Павлык. По всему видно, он чем-то расстроен и тщетно пытается скрыть это. Начался разговор, собственно, продолжение диалога, который уже велся в письмах. Павлык снова спросил, что же препятствует ее переезду и что же неясно.
— Все неясно. Во-первых, о моем друге. Он не проживет менее чем на пятьдесят франков в месяц, потому что человек он болезненный да еще должен помогать бедным родственникам. Хотелось бы знать, какова оплата лекций по французскому языку в реальных школах и гимназиях, где он рассчитывает работать.
— Это очень легко выяснить.
Затем Леся начала расспрашивать о том, есть ли шансы найти учеников для нее. Ведь она хорошо знает французский и немецкий, а теперь и с итальянским дела получше. На английском может свободно читать и переводить без словаря. Объявись ученики-поляки, сумеет объяснить и по-польски.
— Это основной источник моего существования, — продолжала Леся, — так как на литературный потеряла всякую надежду. Если такие феноменальные работники, как Франко, едва-едва перебиваются, то куда уж мне!
— Пункт первый, а дальше?
— Второе — каков минимум обычно принятой платы за час занятий? Третье — этой весной врачи сократили мой рабочий день: разрешают четыре, не больше пяти часов труда. Достаточно ли этого времени, чтобы заработать на жизнь да еще часок-другой посвятить литературе?
— Я берусь выяснить пункт первый и второй, а третий, видимо, зависит от «бога» и частично от вас, Лариса. Кое-что я уже разузнал. Могу вас порадовать: есть должность, которая обеспечит материально и не будет препятствовать литературным занятиям. Она, собственно, и устанавливается специально для вас…
— Вот тебе и на! Что же вы до сих пор молчали?
— Это должность устроителя и хранителя архива. Только, видите ли, вынужден вас предупредить, что эта должность потребует от вас лояльного поведения и…
Здесь Павлык замялся, опустил глаза и, какое-то мгновение помолчав, нерешительно закончил:
— …и отказа от всякой политики.
Леся резко вскинула голову, широко раскрывшимися глазами взглянула на собеседника, словно усомнилась: он ли сказал эти слова. Только теперь Леся увидела, как постарел ее верный товарищ — справедливый, бескорыстный, мужественный Михаил Павлык. Вспомнила, что через три месяца ему стукнет пятьдесят. Возраст не ахти какой, но болезни, нужда, постоянное дерганье и ожидание произвола и расправы со стороны властей погубили человека. На секунду до боли сжалось сердце, и она уже не смогла бросить ему в лицо слова возмущения и обиды. Но… бог ты мой, как он мог такое сказать! Немного успокоившись, она заговорила спокойно, хотя и не без упрека:
— Мне обидно слышать это от вас, искренний и старый мой наставник. Как же понять ваши речи? Выходит, в Галиции я должна жить еще «тише», чем на Украине? Возможно, я и могла бы еще не вмешиваться в местную политику в том смысле, что не занималась бы личной агитацией, не вступала бы в члены местных партий, ибо к первому я ие чувствую в себе таланта, а вторым мало интересуюсь, полагая, что как литератор я больше сделаю, если буду выступать совсем независимо, пусть хотя бы и одиноко. Но отказаться от «всякой политики» — этого не только мои убеждения, но и мой темперамент не позволит…
— Если того требуют обстоятельства и далеко идущие замыслы, темперамент надо подчинять воле, а убеждения некоторое время не высказывать. Изменять им нельзя. Ни при каких условиях. А не раскрывать их можно, если это нужно. Поработайте год, два или три, акклиматизируетесь, тогда посмотрим. Примете австрийское подданство, удобнее будет участвовать в политической жизни… — Павлык хотел продолжать, но Леся перебила его:
— Выходит, я должна была бы несколько лет выжидать, отстраниться от самых актуальных перипетий жизни, а только потом выступать? С чем и перед кем? Может, мне вообще отмерено несколько лет жизни. А вы хотите, чтобы я их угробила, превратилась в немое бревно?
— Панна Лариса, если я советую вам отказаться на какое-то время от политики, то лишь потому, что забочусь о вас, о вашем непрочном здоровье, о том, чтобы вас не трогали. Я, как и все, кому дорога украинская литература, не хочу, чтобы погиб великий мастер слова, которого она имеет в вашем лице. Что политика? Ею могут заниматься многие. А вот Леся Украинка у нас одна.
— Но ведь мои стремления, мои желания не согласуются с подобными аргументами… Мой дядя хотел, чтобы я по возможности продолжала дальше то, чему я у него научилась и чему могла научиться у жизни за столько лет, прожитых на Украине. А вы?..
Павлык сидел растроганный. Смотрел на нее и с восторгом принимал каждое слово, потому что это были целебные капли для его израненной души. Ему хотелось, чтобы она говорила и говорила, чтобы вдребезги разбила его, может, и впрямь нелепое предложение. «Старый дурак, как мог ты додуматься — ты же ее достаточно хорошо знаешь: она и на мгновение не может отречься от своих идеалов! Ты до сих пор смотришь на нее, как на женщину, собственно, как на девушку, пусть и гениальную, но теми же влюбленными глазами, какими смотрел на нее, когда был молодым, когда тебе было тридцать пять! Ты лелеял тогда сладкие мечты… Эх, да что вспоминать!..»
А Леся спустя некоторое время снова заговорила:
— Может быть, тот архив и достоин жертвы, но у меня не поднимается рука на такое самоубийство. У меня нет еще такой смелости, я еще не нажилась душой, я еще даже как следует не испытала своей силы, а уж должна ее отвергнуть, придушить, отказаться? Нет, не хватает отваги, хоть бросьте в меня камнем. Не могу.
Леся замолчала. Молчал и Павлык. Затем вспомнил о ее товарище и о том, стоит ли ему приезжать сюда при таких далеко не «мирных» намерениях.
— Я, собственно, потому и хотела бы, чтобы он поселился здесь, тогда была бы возможность разделить труд. На той должности, о которой вы говорите, он служил бы прекрасно. А я вместе с вами занималась бы изданиями. Это было бы хорошо, не так ли?
Павлык внутренне соглашался с Лесей, но чем он в состоянии был помочь?
— Видите ли, Лариса, эта должность предназначена исключительно для вас. Ваш протеже может рассчитывать лишь на лекции и эпизодические гонорары, весьма низкие.
— Итак, и я, и, как вы говорите, мой протеже будем зависимы от его величества случая… Этого я боюсь — говорю вам открыто…
В этом одинаково сложном и трудном для обоих собеседников разговоре Леся не раз обращается к имени Михаила Драгоманова, которого она всегда уважала и с огромной благодарностью вспоминала как своего учителя.
Однако было бы непростительной ошибкой делать вывод, будто Леся Украинка являлась единомышленником Драгоманова и разделяла его общественно-политические взгляды и убеждения. Еще до поездки в Болгарию (и во время пребывания там) поэтесса выступила с такими произведениями, как «Предрассветные огни», «Мой путь» и другие, в которых звучат более революционные и современные мотивы, нежели в работах Драгоманова. Уже в этот период она стояла ближе к народу, глубже понимала и чувствовала его интересы. Все последующее творчество и практическая деятельность Леси Украинки свидетельствуют о том, что она продвинулась значительно дальше своего учителя. Она, например, напрочь отбросила его мысли о переустройстве общества методами реформ, не воспринимала его идеи федерализма, культурно-национальной автономии и чрезмерного увлечения европеизмом. Она всегда горячо отстаивала революционные методы борьбы во всех вопросах социального движения, а социал-демократию считала самым универсальным движением, то есть самым передовым, наиболее отвечающим интересам рабочего класса и крестьянства.
Назавтра Леся нанесла визит Франко. Теперь он жил в новом доме по улице Понинского. Трамвая тогда еще не было, и Леся наняла извозчика.
Перед высокими каменными ступеньками, которые вели в домик, гостья остановилась. Молодой сад, кусты смородины вдоль дорожек, небольшой цветник у самого дома. Жена Франко встретила Лесю как давнюю добрую знакомую. Казалось, она стала меньше ростом, еще больше осунулась и похудела. Но черные глаза, как и прежде, искрились. Услышав разговор, Франко вышел в коридор. Тепло поздоровался с Лесей и пригласил в свой кабинет.
Его комната, как, впрочем, и все остальные, обставлена непритязательно: грубо выстроганная мебель, книжные полки от пола и до потолка, на стенах портреты Шевченко и самого хозяина, написанные художником Юлианом Панкевичем, картина Ивана Труша «Вид на Днепр». К украшениям кабинета можно было отнести, пожалуй, только некоторые вещи, подаренные Франко в дни его юбилея. На столе, кроме книг и бумаг, красивый рог в бронзовой оправе чеканки итальянских мастеров — подарок Соломин Крушельницкой.
Леся отметила, что книги расставлены в таком же порядке, как и в предыдущей квартире Франко. С закрытыми глазами он мог найти любую. Сохранился старый небольшой шкаф для рукописных материалов и даже маленькая картонная коробочка, в которую он прятал свои стихи… Неизменной осталась и привычка писать на клочках бумаги — они были разбросаны на столе…
Никогда прежде не приходилось Лесе говорить с Франко на такую грустную тему, как сейчас. Речь зашла о стихотворениях Франко, напечатанных в «Литературно-науковом висныке» («Из дневника»), в которых вылились горькие чувства, неописуемая скорбь израненной души поэта по произведениям, задуманным и погибшим в самом зародыше, так как обстоятельства им «свернули голову». Поэту жаль их, как детей. Нередко являлись они среди ночи, тревожили, изводили сомнениями. Наконец, не выдержал и однажды написал обо всем Лесе в Сан-Ремо. Выслал ей журнал и попросил высказать свое мнение. Она сразу же откликнулась.
«Скажу прямо: далеко не каждое Ваше стихотворение отзывалось у меня где-то в глубине сердца, как эти строки «Из дневника». Я не знаю, что было с Вами в этот страшный день, которым датированы стихи, только понимаю и чувствую, что он был страшен. И я понимаю Ваши стихи широко — может быть, слишком широко, скажете Вы, но помните, что я всегда ищу в произведениях поэта не автобиографию (особенно если он не хочет ее дать), а нечто такое, что не только его одного касается. И я, кажется, нашла это сразу, без усилий.
Когда-то давно, еще в Колодяжном (Иван Франко был там у Косачей в мае 1891 года. — А.К.), Вы посвятили меня в один свой замысел, который мне показался необычайно интересным и оригинальным, потом элементы его я узнала в драме «Каменная душа» и искренне призналась Вам, что от плана я ожидала большего. Вы сказали, что действительно должны были «свернуть голову» плану по не зависящим от Вас причинам…
Еще раз, тоже давно (кажется, когда я в первый раз была во Львове) Вы говорили, что намереваетесь писать какой-то роман, что он Вам очень по душе. Припоминаете? Позже я спросила, что с Вашим романом? Вы ответили что-то безнадежное… Как раз тогда я прочитала где-то в «Курьере», что ли, описание какой-то сельскохозяйственной выставки, signe[70] Франко!.. Тогда же Вы писали по всякому поводу множество мелких корреспонденции. Мне неизвестно, что вышло из плана Вашего романа, ибо не знаю его темы. И часто я думала об этих «свернутых головах» и об этих корреспонденциях… Думала и тогда, когда писала свою драму о скульпторе среди пуритан в диких пущах первых американских колоний.
Думала и тогда, когда кое-кто упрекал меня в том, что я из-за поэзии отхожу от реальной, полезной работы… Мне ставили в пример Вас, и, знаете, у меня действительно много «горячего» в натуре: задумано — сделано. И я не одну голову «свернула», думая, что выполняю гражданский долг, отдавая свое время и свои очень ограниченные силы «полезной» и никому, даже мне самой, не заметной работе. Я и до сих пор не знаю, хорошо или плохо я делала, но только когда я прочитала крик и жалобы Ваших «детей»,[71] то и мои отозвались тем же голосом!.. Я тоже могла бы сказать, что «не появившиеся на свет дети» приходили по ночам и ко мне и я слышала их рыдания, — «тень голоса, вздохи»…»
Это она писала зимой, а сейчас Франко снова вспомнил «свернутые головы», говорил робко, словно стыдился своей распахнувшейся души и нежных и горьких чувств, которые тогда так отчаянно прорвались… Жаль было смотреть на него, на то, как он пытался то ли объяснить что-то, то ли оправдаться. Видимо, от появившегося ощущения неловкости Леся возражала резко и решительно:
— Может быть, я понимаю вас больше, чем некоторые ваши адепты, и буду говорить откровенно. В позапрошлом году, по дороге в Италию, я остановилась во Львове. Мои нервы тогда были не очень-то послушны, и у меня появилась склонность к откровенным беседам. Однажды я в течение целого вечера спорила с Трушем и Ганкевичем о вас. Они говорили о вашей универсальности и радовались, что у вас такой талант — беллетристический, научный, поэтический, публицистический, практический и т. д. — все в одном лице. Я же сетовала, что наша жизнь требует от одного человека сразу стольких добродетелей, говорила, что в этом наша беда, и сравнивала судьбу всякого писателя с судьбою Madchen fur alles…[72] Вспоминая снова ваше описание сельскохозяйственной выставки, всякие газетные заметки, а рядом с этим «свернутые головы», разнервничалась до крайности, а мои собеседники обвиняли меня в писательском аристократизме. Спор велся примерно в такой форме:
Я. А если бы вас, уважаемый товарищ Труш, заставили малевать вывески да вагоны красить для общественной пользы, а пейзажам, которыми вы так увлекаетесь, «свернули бы головы»?
Труш. Это совсем другое дело!
Я. А вам, дорогой Ганкевич, приказали бы площади подметать для митинга, «свернув головы» вашим речам?
Ганкевич
Я. Мне было бы вас очень жаль!
Они. Это значит, вы хотите уберечь Франко от. практической работы?
Я. Разумеется!
Они. Франко бы вас за это не поблагодарил. Имейте в виду, что такой писатель, как Франко, никогда не жалуется «на подметание площадей». А потом «и подмести площадь», с точки зрения обыкновенной публики, — честь для гражданина. Не забывайте, Лариса Петровна, что и Геркулес чистил конюшни.
Я. А кто же будет писать «Увядшие листья», если Франко возьмется за метлу?
Они. «Увядшие листья» только для вас имеют значение, а для нашего общества, для нашей эпохи прогресса и социальных преобразований заметка о хозяйственной выставке, может, значительно полезнее, нужнее и интереснее.
Я. Только подумайте, о чем вы говорите! Ведь вы готовы погубить большой талант…
Они. Ваша защита Франко не нужна. Она оскорбительна для него…
Естественно, эта дискуссия была не такой лаконичной, как я вам пересказываю, и не такой последовательной, а, напротив, беспорядочной, протекавшей в раскаленной атмосфере (со мной вообще тогда трудно было говорить по-человечески). Долго потом я бранила себя за отсутствие выдержки. Но самого худшего мои собеседники не видели: полночи проплакала я после этого спора, но не потому, чтобы чувствовала себя оскорбленной или «разбитой по всем пунктам», нет. Я бредила этими «свернутыми головами», теми самыми, что вам казались «утопленными детьми». И я была уверена тогда, что вы поддержали бы меня в этом споре, но от этого было еще горше. Было бы легче, если бы вы действительно оказались таким «твердокаменным», каким представили вас Труш и Ганкевич…
Франко поднял голову и с удивлением в голосе спросил:
— Простите, Леся, разве вы и на самом деле хотели видеть меня таким?
— Я сказала легче, но это не значит почетнее или героичнее. Ведь с легким сердцем топят своих детей не герои и не честные, — а совсем иные люди — трусы и скоты. Так пусть же никто не думает, что украинские поэты нашего времени были enfanticides[73] с легким сердцем! Пусть знают и последующие поколения, какие это страшные времена, когда писатель должен был быть детоубийцей. От одной страницы ваших стихов «Из дневника» стынет кровь! Такие стихотворения писать не стыдно… Почему все имеют право на слезы: и материнская скорбь, и несчастная любовь, и беды общества, а только душа поэта, лишившегося своих детей, должна молчать?..
Франко подошел к Лесе, осторожно взял ее руку и пожал:
— Спасибо вам, Лариса Петровна! Огромное спасибо. Как никто другой, вы поняли меня. Да я в этом и не сомневался, более того — был уверен, что ни одна душа, кроме вашей, не исполнилась таким глубоким сочувствием… Это придает силы, которых у нас так мало…
— Я говорю все это, — продолжала Леся, — а в мыслях неотступно вертится одно и то же: «Рахиль рыдает и не может утешиться в скорби по детям своим, потому что их нет…»
Франко слушал и радовался. Да, он не ошибся, увидев в этой женщине большой талант и несокрушимую волю.
Только вечером Леся простилась с хозяевами. Несколько дней Франко находился под впечатлением этой встречи. Тем временем Леся переехала в Черновцы, к своей верной подруге Ольге Кобылянской. А 19 июня писала ему уже из Гадяча — просила разрешения перевести его рассказы на русский язык: «Cher confrere!».[74]
Обращаюсь к вам за разрешением перевести Ваши рассказы на русский язык. Мне заказала эту работу издательская фирма в Ростове-на-Дону (книгоиздательство «Дон») и поручила самой выбрать произведения и договориться с авторами. Фирма эта ставит перед собой не коммерческие, а просветительные цели (дешевое издание лучших произведений для народных великорусских масс), и, как всегда в таких случаях бывает, большими капиталами не располагает. Переводчикам платят 15–20 рублей за 50 тысяч знаков (полтора нормальных листа в 16 страниц), а авторам не выплачивается ничего. Однако если Вы считаете, что я нарушу Ваши авторские права, зарабатывая на переводах Ваших произведений, то я уступлю Вам одну четвертую гонорара. Больше трудно, так как мне дорого обходится получение книг из Галиции (в закрытых конвертах), да и сама работа дорого стоит при моих силах и здоровье, о чем Вы хорошо знаете… Но обижать Вас не хочу и на формальную точку зрения (отсутствие литературной конвенции между Австрией и Россией) становиться не собираюсь в моих отношениях с галицийскими и буковинскими товарищами».
Все лето прожила Леся в Зеленом Гае: переводила произведения Франко, писала драму «Кассандра». Однажды собралась по литературным делам в Киев, но стачки на железной дороге, охватившие тогда весь юг России, воспрепятствовали этому. На Украине прокатилась волна забастовок и политических демонстраций — не только на железной дороге, но и в промышленных центрах: Екатеринославе, Одессе, Киеве, Харькове. Уступками и репрессиями царское правительство восстановило относительное спокойствие в стране. Однако революционные выступления рабочего класса дали толчок широкому освободительному движению, активизировали общественную жизнь.
В начале осени 1903 года произошло событие, которое собрало вместе представителей надднепрянской и Австро-Венгерской Украины. Может быть, впервые в истории Украины состоялся конгресс культурных сил пробуждавшегося к деятельной жизни и борьбе украинского народа.
В Полтаве, на одном из бульваров, открывался памятник Ивану Петровичу Котляревскому, Еще летом были разосланы официальные приглашения. С особым подъемом готовились к полтавскому празднику в Киеве. Некоторые семьи делегировали по два-три человека. Собиралась и Леся вместе с матерью.
В день отъезда на вокзале образовалась целая толпа Кроме киевлян, здесь были представители интеллигенции Петербурга, Минска, Тарту, Варшавы… Были и заграничные гости: из Австрии, из Галиции, Буковины, Чехии, Швейцарии — в общем, все, чей путь пролегал через Киев. Леся и Олена Пчилка попали в вагон, где разместились представители заграничной Украины, давнишние знакомые: Василь Стефаник, Филарет Колесса, Юлиан Романчук, Кирилл Студийский и другие.
Как только поезд тронулся, все перезнакомились и завязался общий — сердечный и непринужденный разговор. Воцарилось возбужденное, радостное настроение. Когда поезд оставил позади Дарницу, один из пассажиров предложил послушать отрывки из «Энеиды» в его исполнении. Как выяснилось потом, это был адвокат и общественный деятель из Полтавы Николай Дмитриев. Слушали его охотно. К тому же население вагона постепенно выросло почти вдвое — пассажиры из соседних вагонов, главным образом студенты, садились на пол, взбирались на багажные полки, словом, устраивались как могли. А Дмитриев читал главу за главой, да так талантливо и с таким чувством, что и артист позавидовал бы.
После чтения «Энеиды» выступали другие, также по собственной инициативе. Даже Старицкий, седой и болезненный, не усидел и прочитал несколько своих стихотворений.
Полтава встретила гостей тихими солнечными днями. Еще теплый воздух ранней осени был чист и прозрачен. Гости бродили по улицам города, оживленно и радостно разговаривали, поздравляли друг друга.
Тем временем по городу распространился слух о приказе министра внутренних дел Плеве, запрещающем употреблять на торжественном собрании украинский язык. Это несказанно возмутило всех.
На Протопоповском бульваре, где стоял прикрытый брезентом памятник, нельзя было не заметить, что к празднику подготовились и местные власти: усиленные наряды полиции, донские казаки, окружившие площадь. Несколько сотен всадников наготове на Кобищанской улице.
Открытие прошло спокойно, если не принимать во внимание беспорядок и толкотню, обычные там, где собирается множество людей. Тысячная толпа запрудила все улицы, ведущие к памятнику; люди взбирались на деревья и крыши домов. После молебна и провозглашения «вечной памяти» Ивану Котляревскому покрывало сброшено. Перед присутствующими предстал красивый памятник, бронзовый бюст поэта на высоком постаменте, выполненный скульптором Позеном в классическом стиле.
Многоголосое «слава! слава!» и бурные аплодисменты долго не утихали. Делегации возложили венки. Подул ветерок, и затрепетали разноцветные ленты с надписями.
Насмотревшись вдоволь на памятник, люди начали тихо и спокойно уходить. В этом молчании было своеобразное величие и в то же время что-то невысказанное.
Лесю и ее мать пропустили в первые ряды. Вокруг были старшие писатели, деятели культуры. Прислушиваясь к Борису Гринченко, который громко читал надписи на венках, Леся смотрела на колышущееся людское море и думала: «Самое пагубное для нас — тишина, спокойствие. Необходимо движение, да такое, чтобы земля дрожала и небо багровело, — только в этом спасение».
Вечером в зале театра открылось торжественное заседание думы. В глубине сцены — портрет Котляревского, выполненный тушью; другой, написанный масляными красками, висел над главным входом в зал. В фойе второго этажа — портреты украинских писателей: Гребинки, Квитки-Основьяненко, Гулака-Артемовского, Шевченко, Кулиша и Костомарова.
Зал переполнен. Леся вместе с дочерьми Миколы Лысенко сидела в ложе бельэтажа. После краткой вступительной речи полтавского председателя Трегубова гласный Маркевич зачитал записку о сооружении памятника, в которой подчеркивалась большая роль простого народа: из семи тысяч тех, кто пожертвовал средства на памятник Котляревскому, четыре тысячи — крестьяне Полтавской губернии. Итак, народному поэту — народный памятник. В заключение Маркевич сказал:
— Осуществлено громадное культурно-национальное дело — поставлен памятник украинскому писателю, который родным языком — этим орудием духовных творческих сил — первый прокладывал путь национальному возрождению. Слава писателю, который дал право украинскому народу на признание его одним из участников культурного поступательного движения человечества! Пусть расцветает, вечно живет украинская литература![75]
G первым и основным докладом выступил известный литературовед Иван Стешенко. Затем на трибуну взошла Олена Пчилка и произнесла свое приветствие — правда, очень краткое — на украинском языке. Трегубов растерялся, а когда опомнился, Пчилка читала свой реферат уже на русском. А потом выступила исследовательница украинской старины Александра Ефименко. Эта пожилая худощавая женщина буквально поразила всех своим докладом «Котляревский в исторической обстановке».
С приветствиями выступили галичане и буковинцы. Затем слово предоставлялось делегатам губерний. На трибуне — молодая артистка Черниговского драматического театрального общества Ольга Андриевская. Не успела она и двух слов сказать, как Трегубов вскочил с места и заорал на весь зал о том, что не разрешает читать приветствие по-малороссийски, так как «господин министр внутренних дел» и т. п. Сам разволновался, побледнел. Девушка в растерянности умолкла. В зале мертвая тишина.
Для большинства собравшихся это было неожиданностью. Ведь только что на украинском выступал Коцюбинский, а также галичане, буковинцы. И другое: все ораторы, включая и самого председателя думы Трегубова, ставили в заслугу Котляревскому именно то, что он писал на родном языке! Собственно, и памятник поставлен ему как создателю украинского литературного языка. И вдруг запрещают то, за что чествуют поэта. Абсолютная бессмыслица…
Публика загудела, послышались выкрики:
— Просим читать!
Но председатель стоял на своем.
Тогда на эстраду решительно поднялся делегат харьковской общественности Михновский:
— Господин председатель, у меня тоже украинский текст. Мне тоже не разрешите зачитать?
— И вам, и всем — кому бы то ни было — запрещено!
— Хорошо, я подчиняюсь вашей власти, подчиняюсь силе, но, зная, что это самочинство и произвол, требую внести ваш постыдный запрет в протокол заседания и дать мне выписку из него, чтобы я имел возможность обжаловать в сенате.
— Оставьте же ваше приветствие, — обратился председатель к харьковскому делегату, когда тот сходил с эстрады.
— А вы не имеете на него права, коль отказались выслушать. Вот что я могу дать вам, господин председатель. Возьмите!
С этими словами Михновский вынул приветственный адрес, положил его в карман, а пустую папку бросил на стол. Трегубов машинально подхватывает ее, держит в руках — и не знает, что делать, что говорить…
Зал снова онемел. Затем зашумел, взорвался в едином порыве возмущения… Кто-то выкрикнул: «Покинуть зал в знак протеста!» Все, как один, встали со своих мест и начали продвигаться к выходу. А тем временем делегаты, не успевшие выступить, подходили к столу президиума, швыряли Трегубову пустые папки и требовали занести в протокол их протест. Вслед за Михновским это сделал присяжный поверенный из Чернигова Шраг, делегат Кубани Прокофий Понятенко. Из солидарности с украинцами так же поступили и представители русской общественности — из Орла, Тулы, Ростова и других городов. Они заявили, что не согласны с дискриминационными действиями властей, направленными против их братьев украинцев, и потому отказываются зачитывать свои приветствия, хоть и написаны они на русском языке.
На столе образовалась целая гора папок. Оторопевший председатель так и не мог решить, что ему предпринять в этой ситуации. Наконец он пригрозил, что прекратит заседание. Но этого можно было бы и не говорить: театр уже опустел…
Вся печать России широко комментировала это событие. Подавляющее большинство журналов осуждало произвол правительственной администрации. По этому поводу Владимир Короленко писал в журнале «Русские записки»:
«Вместо торжества вышла печальная трагикомедия. Выходило таким образом, что язык Котляревского и Шевченко, привлекший в русскую Украину зарубежных паломников, законен только в Австрии. На своей родине, у своей колыбели он запрещен. Распоряжением полтавской администрации он оказался высланным в административном порядке в австрийские пределы, без права возвращения в русское отечество. Этот грубый и дикий эпизод как бы говорил представителям зарубежной интеллигенции: вы считаете нашу Украину метрополией и центром вашей культуры и вашей речи. Мы этого не желаем; пусть он остается у вас, за рубежом: пусть лучше все наши украинцы, ценящие сокровища родной речи, паломничают к вам во Львов, к вашим школам, музеям и университетам. А у себя мы этого не допустим. Мы лучше создадим новый призрак «неблагонадежности» и «измены» и применим к ним привычную политику родного Мымрецова, станем и здесь «тащить» и «не пущать». Мы ставим памятник Котляревскому лишь по недосмотру Мымрецова. Но отныне, за постановкой памятника, язык Котляревского лишается права въезда в наши пределы и навсегда остается «зарубежным»…
Всякий, кто дал бы себе труд проследить эту маленькую историю о празднике Котляревского в Полтаве по отголоскам в русской печати, легко убедится, что подавляющее большинство органов ее отнеслось с горечью и осуждением к этому поистине вандальскому акту. С теми же чувствами горечи и осуждения русское общество относится к дальнейшим проявлениям того же вандализма, сказывавшегося в последние годы в виде закрытия просветительных учреждений, газет и журналов на украинском языке и объявления «мазепинством» самых законных элементарно-культурных стремлений украинцев».
Таково было мнение выдающегося русского писателя-гуманиста Владимира Короленко; так оценивала это событие и вся русская прогрессивная общественность.
Покинув театр и полтавскую думу, публика направилась в Купеческий сад. В летнем открытом павильоне, вне опеки «властей предержащих» до поздней ночи продолжался праздник.
Назавтра, в воскресный день, чествование протекало своим чередом, словно вчера ничего и не произошло: утром — концерт, вечером театральное представление, выступление хора Лысенко.
Празднества увлекли Лесю. После вечера в Купеческом саду и утреннего концерта она повеселела, выглядела значительно лучше, чем в первые дни пребывания в Полтаве. На вечере, где показали «Наталку-Полтавку») и совсем была радостной. Как ни странно, многочисленные встречи, разговоры пошли ей на пользу. Первого сентября фотографировалась: сначала большая группа приехавших в Полтаву деятелей украинской культуры; затем отдельно, семь человек: Леся Украинка, Коцюбинский, Старицкий, Стефаник, Олена Пчилка, Хоткевич и Самойленко. Обе фотографии стали популярными еще в дореволюционные годы, особенно вторая.
Возвращаясь из Полтавы, Леся с тревогой думала о своем будущем. Наступает осень, вот-вот пойдут дожди. А там зима — страшная для ее здоровья пора. Ехать в далекие теплые края — Египет или Италию — нет денег. Оставаться в Киеве слишком опасно. Где же искать спасения?
Венский врач Нотнагель, хорошо знавший Лесю, настоятельно советовал ей ни в коем случае не зимовать на Украине, так как ее слабый организм не может противостоять сырому, холодному климату. Украина благоприятна для нее лишь летом, когда тепла и солнца вдоволь.
Может быть, она уже тогда имела серьезное намерение побывать на Кавказе, где зима теплая и жизнь несколько дешевле. К тому же в Тбилиси второй год работал помощником секретаря окружного суда ее друг Климент Квитка. Этим летом он гостил в Зеленом Гае, и, конечно, этот вопрос обсуждался не раз.
С Квиткою Леся познакомилась, когда он был еще студентом Киевского университета и музыкально-драматической школы. Впоследствии Исидора Косач-Борисова рассказывала, что родом он был из крестьян. После смерти отца мать, оставив в деревне дочь, вместе с четырехлетним Кленей отправилась в Бердичев. Работала поденщицей, при этом время от времени выполняла работы по дому в семье Карповых. Александр Антонович Карпов занимал хорошую должность, жил в достатке. Однажды, возвратившись со службы, он увидел в кухне мальчика, который прилежно мастерил что-то и очень красиво, чистым детским голоском напевал песенку. Тихий, спокойный, симпатичный и певучий Кленя понравился Карповым. Бездетные, они захотели усыновить мальчика. Но мать согласилась отдать сына не «навсегда», а лишь на воспитание. На том и сошлись.
Следовательно, Квитка сохранил свою фамилию, знал свою настоящую мать, а все заботы, любовь и ласку получал от Карповых. Помогали они и его матери, которая навещала мальчика. Бывало, что она злоупотребляла добрым к себе отношением — грозилась забрать сына. Тогда Карповы давали отступного, и все оставалось по-прежнему.
Когда Климент учился в университете, старый Карпов по болезни вышел на пенсию. И сразу семья почувствовала стесненность. Феоктиста Семеновна Карпова открыла «полный пансион» для десяти гимназистов. Климент давал частные уроки. Кое-как сводили концы с концами.
Уже тогда Квитка увлекался музыкой и народными песнями. Не оставляя службы — иначе где взять средства для жизни, — он, как талантливый музыковед, собирал и издавал народные песни в нотных записях. В трудные минуты, в которых Леся не ощущала недостатка, он был рядом с нею, сопровождал ее в поездках. Постепенно дружба крепла, становилась необходимостью.
Кроме щедрой музыкальной одаренности, Климент отличался еще и мягкостью характера, скромностью, способностью чувствовать и понимать прекрасное. Здоровьем своим он похвастаться не мог и потому почти всегда сторонился веселых и шумных компаний молодежи, что также вызывало сочувствие у Леси. «Ты права в том, что Квиточку следовало бы «взять в руки», — писала она сестре Лиле, — ужас какой он теперь несчастный! Да еще, как назло, и материальные дела чертовски плохи. И врачи наговорили ему всяких глупостей».
Те, кто знавал Квитку позже, утверждали, что он производил впечатление человека доброго, чуткого и вместе с тем сдержанного, неразговорчивого. Держался всегда просто. Казалось, он весь поглощен своим любимым музыкальным искусством. Мало кто видел на его лице улыбку. Лесина подруга Ариадна Труш говорила: «Квитка — моих лет. Он был красивым, способным, прекрасно играл на фортепиано. Можно сказать, что Леся воспитала его своим постоянным влиянием. Но любила ли она его? Трудно поверить в это».
В семье Косачей эту дружбу воспринимали по-разному. Собственно, особого интереса ни отец, ни братья и сестры не проявляли. И только мать принимала все близко к сердцу. Как и в случае с Мержинским, она не одобряла Лесиной симпатии к Квитке. Возможно, ей казалось ненормальным то, что он несколько моложе Леси. А может, претила его неприспособленность и беспомощность. Какая уж тут опора и поддержка в трудную минуту…
А как сама Леся? В одном из писем к сестре она так высказалась о позиции матери:
«Мама писала мне раза два… в хорошем настроении и уравновешенно (одно было мне обидно, что у мамы еще раз прорвалось какое-то несправедливо придирчивое отношение к Квитке)… Это уже, я вижу, начинается «материнская ревность», но все равно, быть может, для этой ревности чем дальше, тем больше будет поживы, но своего отношения к Клене я не изменю, разве только в направлении еще большей душевной нежности к нему. Во всяком случае, не мамины холодные мины могут нас поссорить. Только все-таки это горько, и тяжко, и фатально, что ни одна моя дружба или симпатия, или любовь не могли до сих пор обойтись без этой ядовитой ревности или чего-нибудь вроде этого со стороны мамы. И ведь Кленя решительно ничем не провинился перед мамой, напротив, сначала он даже очень ее идеализировал, да и потом, когда уже факты в значительной мере разрушили эту идеализацию, он всегда относился к ней с уважением, без малейшей неприязни».
Недовольство Ольги Петровны не остановило Лесю — она шла своим путем, руководствуясь собственными чувствами и разумом. В другой раз, отвечая на упреки матери по поводу Квитки, Леся с чувством убежденности в своей правоте отвергла всякие попытки бросить тень на ее отношения с Квиткой — ведь он ее ближайший друг! И она не видит своего несчастья в том, в чем усматривает его мать; не назовет «горькой судьбой» того, кто делит с нею ее невзгоды и искренне старается помочь ей, забывая о себе. Она уверенно заявляет матери: «Надеюсь, что мы еще будем одинаково понимать, что для меня счастье, а что горе, — и этой надеждой утешаю себя».
В такой атмосфере развивались отношения между уже известной поэтессой и будущим музыковедом, который со временем внесет значительный вклад в сокровищницу украинской культуры (последние двадцать лет своей Жизни Квитка — профессор Государственной консерватории имени Чайковского).
В августе Леся известила Кобылянскую о своем намерении относительно «зимовки».
«Кто-то замышляет выехать зимой на Кавказ, но с мамой о том не говорил и опасается некоторой оппозиции, — ведь мама наслушалась о кавказских лихорадках и не хочет принимать во внимание, что отнюдь не все места кавказские малярийные. Однако кто-то, пожалуй, туда поедет, потому что сам все взвесил и деньги на то будет иметь: немного дает отец, а немного сам себе заработал и еще заработает писанием».
По всей вероятности, по пути в Киев дочери все же удалось сломить «оппозицию» матери и получить Согласие на поездку в Тбилиси. Через несколько дней она была в Одессе, где ее ожидал Квитка. Отсюда путешествие продолжалось уже по морю. В Сочи их встретил известный украинский ориенталист, профессор Агатангел Крымский, проводивший их до Батуми. В первые дни пребывания Леси в Тбилиси Крымский (специально для этого приехавший) знакомил своих земляков с достопримечательностями города, с бытом и нравами его жителей.
Не успела Леся как следует устроиться на новом месте, как ее постигла тяжелая утрата: 3 октября 1903 года в Харькове от воспаления легких внезапно умер брат Михаил. Михась был надеждой и гордостью всего семейства Косачей. Способный математик, он проявил себя и в литературе. Михаил успешно вел научную деятельность, а прекрасные лекторские данные, умение влиять на молодежь сулили блестящую профессорскую карьеру. Многие Лесины мечты и порывы юности связаны с именем брата. А сколько дерзких замыслов, начинаний и планов!..
Однако слепая судьба не благоволила Лесе. За восемь лет ушли из жизни самые близкие люди: Драгоманов, Мержинский, Михась. И каждый из них был частицей ее души.
Смерть любимого брата надолго выбила из колеи: два-три месяца Леся не могла браться за работу. При всей твердости духа еще долго не могла избавиться от чувства подавленности и какого-то отупения. Даже в следующем году, навестив могилу брата на Байковом кладбище в Киеве, она не могла смириться с тем, что его больше нет. Ей все казалось, что она должна писать и говорить о нем не иначе как о живом.
Трудным был этот первый год на Кавказе: немало сил забрал. Нелегким был и для творчества. И все же не поколебал веру в себя, не погасил в ее сердце пламя борьбы. Понимая свое беспомощное состояние, она не впадала в отчаяние, не теряла надежды на лучшие времена.
Будь Леся одна, ей, конечно, пришлось бы значительно труднее, и кто знает, выстояла бы она… Однако у нее были друзья. Много друзей. Пускай далеко, но они помнят о ней, о ее жизни и творчестве, а это обязывает ко многому. Напрячь все силы — только бы не изменить самой себе…
Мало их было, но были друзья и рядом.
Случись это в Италии или где-то на курорте, — говорила впоследствии поэтесса, — наверное, не пережила бы такое. А в Тбилиси помогли подруга Маша Быковская и Климент Квитка.
Вот здесь-то и испытывалась и закалялась дружба с Квиткой. «Мой «хтосичек» знает, что кто-то всегда хорошо относился к «Квиточке», — писала Леся в Черновцы Кобылянской, — а теперь относится еще лучше, и сегодня уже «Квиточка» совсем не может без кого-то жить, да и кто-то близок к этому. Плохо или хорошо, каждый может думать как угодно, — так уж оно и есть. Я не знаю, какова будет форма или формула наших отношений, но ясно одно, что мы будем стараться как можно меньше расставаться и как можно больше помогать друг другу — вот главное в наших отношениях, а все остальное — второстепенно».
Пришло лето, и Леся снова дома, снова Гадяч и Зеленый Гай. Для ее здоровья это, пожалуй, благоприятнейший уголок на Украине. Вдоволь солнца, смягченного запсельскими лугами, прекрасными прозрачными озерами и дубовыми лесами. Сам Псел в этой местности удивительно красив: то задумчивый, притихший, затаившийся, а то вдруг встрепенется и мчит, бурлит, несет по белому дну прозрачные жемчужины-песчинки. А какие берега! Оправа под стать алмазу.
Но, как бы там ни было, Леся не изменяет своей любви к Полесью. Ни просторы с хрустальными реками, ни живописные рощи, ни синее небо Полтавщины — ничто не влекло ее так, как леса родной Волыни с их неприступными, затерянными в глуши озерами. Сюда стремилась ее душа во сне и наяву.
А тело — тело требовало тепла, солнца и сухого воздуха. Голос разума непререкаем. Кавказ зимой, Полтавщина летом — и дела пошли на поправку. К середине лета туберкулезный процесс в легких остановился.
Осенью Леся возвращается в Киев. И вновь, как всегда в отчем доме, все завертелось, да так, что и здоровому человеку не просто было бы выдержать. И раньше спокойствие было редким гостем в семье Косачей. А теперь, когда дети стали взрослыми и каждый из членов семьи жил по своему собственному уставу, — и подавно. В доме постоянно — по делу и без дела — торчали посторонние люди: родственники, близкие и дальние, друзья и друзья друзей.
Во время второй поездки на Кавказ, в октябре 1904 года, Леся остановилась на несколько дней в Одессе, у Комаровых. У нее появилось желание установить более тесные связи с местным еженедельником «Южные записки» — при этом не без тайного умысла отвоевать в этом издании уголок для украинских материалов. Кажется, это осуществимо именно сейчас, когда в России повеяло «либеральным ветром». К тому же редактор М. Славянский свой человек, соавтор по переводам Г. Гейне. Заодно хотелось сдвинуть с места издание своих поэтических книг в России, так как издание, вышедшее за границей, во Львове, десять лет назад, давно разошлось. Да и слишком мало пришлось его на долю читателей по эту сторону границы.
В понедельник, 18 октября, Леся отправилась пароходом в Батуми, а 23-го была уже в Тбилиси, В этот раз Квитка снял квартиру еще накануне ее приезда. Он поселился вместе со своими родителями, и Лесе не было нужды вести хозяйство.
— Квартира у меня чудесная, в красивой части города, и вообще я чувствую себя как дома, — говорила она своим друзьям.
Через три недели произошло событие, едва не нарушившее Лесины планы относительно зимы. Славинского неожиданно призвали в армию: война с Японией была в разгаре. И одесские «Южные записки» лишились редактора. Для украинских литераторов это большая неприятность, равнозначная потере журнала. Леся решила послать телеграмму Славинскому о том, что согласна занять этот пост.
Напрасно Квитка старался отговорить ее от такой затеи. Не помогли и аргументы в письмах из Киева. Леся стояла на своем: если позовут — поедет в Одессу, и баста. В ожидании ответа писала матери: «Мне неприятно, если подумают, что украинцев-литераторов якобы «просто нет»… Наконец, меня манит мечта пожить хоть некоторое время совершенно самостоятельно, имея определенную ответственную работу, работу активную и как-никак организаторскую. Как видишь, не одна «слепая богиня» владеет мной… Не скажу, что мне это легко; я чувствую, словно две большие силы тянут меня в разные стороны и разрывают, если не вмешается еще одна «великая слепая» — Судьба, то я пойду все же за прежней богиней — литературой. Наконец, эта жертва не так уж велика: Кленя говорит, что если я перееду в Одессу, то он постарается как можно скорей перебраться туда же… Значит, наша разлука будет непродолжительна… Ты, я думаю, не огорчишься ни моим планом, ни тем, если он все же осуществится. Наоборот, тебе должно быть приятно, что твоя дочка не такая уж «рабыня», как ты думала…»
Однако из этого ничего не вышло — Лесина телеграмма опоздала, и редактором «Южных записок» был назначен другой.
А тем временем жизнь шла своим чередом. В эту зиму писалось значительно лучше. Преимущественно дорабатывала свои произведения (а некоторые откладывались уже не один год). Кроме того, не чуралась и работы ради куска хлеба: переводила на русский (в частности, произведения И. Франко).
Революционные события 1905 года придавали силы, окрыляли надеждой. Тбилиси далеко от Петербурга и Москвы — этих очагов революции, — однако новости долетали мгновенно. После Кровавого воскресенья 9 января, когда было расстреляно мирное шествие рабочих, многочисленные демонстрации и стачки прокатились по всей империи. Массовые антиправительственные выступления захлестнули Тбилиси.
События, происходившие буквально на глазах поэтессы, волновали и вовлекали ее в свою орбиту. В эти дни она снова отложила в сторону «спокойные темы» и под влиянием ежедневных перемен «весны» и «зимы» обратилась к темам, созвучным боевой «Марсельезе». «В Тбилиси был также один такой «весенний» день, когда лужи человеческой крови стояли на тротуарах до вечера. Не до спокойных тем при таких обстоятельствах…»
А обстоятельства она знала хорошо от своих грузинских друзей, которые сами участвовали в организации революционных выступлений. Леся была очень дружна с известным общественным деятелем Шио Читадзе, с которым она познакомилась еще в 1896 году в Киеве. Читадзе был женат на Лесиной землячке — симпатичной девушке Устинье Щербань, — и это во многом способствовало установлению более тесных контактов и взаимодоверия. Этим общением поэтесса была очень удовлетворена: «Только что была госпожа Читадзе, я к ней захожу частенько».
Будучи свидетельницей уличных демонстраций, отмечая настроение, энтузиазм восставшего народа, Леся не раз слышала песню демократов «Смело, друзья!» — песню, минорные мотивы которой, как ей казалось, не созвучны революционным событиям. Это неожиданное открытие поразило ее настолько, что она написала своеобразный триптих — «Песня про волю». В начале первой части — картина могучих, сплоченных рядов красными, как огонь, знаменами:
Колышется строй,
«Песни про волю» звенят над толпой.
«Смело, друзья!» Что ж так песня рыдает?
«Смело, друзья!» Как на смерть провожает.
Страшно, какой безнадежный напев,
Кто с ним на битву пойдет, осмелев?
Поэтесса убеждена — время для этого пришло — борцы должны сами сложить песню, она призывает их к этому:
Новую песню слагайте, друзья.
Так, чтоб она засияла лучами,
Так, чтобы ясное красное знамя,
Следом за нею взлетев в небеса,
Реяло гордо, творя чудеса!
В этот раз Леся с нетерпением ждала лета, торопилась домой: ведь и там, на Украине, красные хоругви. Революция! Долгожданная революция.
В начале июня Леся была уже в Киеве. Лето 1905 года она провела в Зеленом Гае и Колодяжном. Как никогда оно оказалось щедрым в творческом отношении — особенно «пошли» произведения больших форм — драматические поэмы. С каждым днем все мощнее и полноводнее становилось народное восстание. Монархия содрогалась, как парусник во время океанского шторма. Подобной бури она не знавала за всю свою историю. Все, что веками наслаивалось, теперь ожило, всколыхнулось, забурлило и «красным шумом» покатилось от города к городу, от села к селу. «Красный шум» окрылил поэтессу. Еще совсем недавно революция — далекая мечта, а сегодня — реальный факт. Кто же из писателей мог оставаться равнодушным? Кто из них, у кого в груди билось сердце, а не комок верноподданнических мышц, мог не откликнуться на призыв «Марсельезы»?
Этим летом забыла Леся о красоте Зеленого Гая, очаровательном Пселе и веселых прогулках на челне, не любовалась волынским «зеленым шумом» — вся пребывала в плену «красного шума». Под воздействием «ежедневных перемен весны и зимы» писала новые произведения о «весеннем дне», рождавшемся в «лужах крови». В письмах к друзьям она говорит о том, что гражданская муза теперь подвластна ей полностью. Пишется без принуждения, легко и только на темы, созвучные сегодняшней борьбе:
«Между тем в поэзии я достигла неожиданной гармонии между настроением моей музы и общественным настроением (это далеко не всегда бывало!). Мне как-то не приходится даже напоминать этой своевольной богине о ее «общественном долге» — так очаровал ее суровый багрянец красных знамен и говор бурной толпы. Я даже не понимаю, что за удовольствие этой citoyenne-Muse[76] возиться теперь с таким немощным созданием, как я: на ее месте я избрала бы поэта с такой героической фигурой, как V. Hugo, с голосом, как у Стентора, приложила бы ему рупор к устам и вещала бы через это усовершенствованное приспособление свою волю на весь мир. Но, видно, у богов никогда не было и не будет логики…»
«Три мгновения», «Осенняя сказка», «В дому труда, в краю неволи» и, наконец, драматическая поэма «В катакомбах» — вот произведения Леси Украинки, созданные ею по горячим следам событий 1905 года. Пожалуй, самым ярким из этих произведений является поэма «В катакомбах». Эта вещь, как выражалась сама поэтесса, не была написана «с ходу». Изучение исторических источников на эту тему проводилось значительно раньше, однако по иному поводу. И неожиданно вылилось в поэму. Изучение подтвердило собственную гипотезу. «Я уже раньше думала, — писала она Крымскому, — что нынешняя форма христианства является логическим и роковым следствием его первичной формы… Я не принимаю теорию Толстого и многих других, будто современное христианство является аберрацией, болезнью этой религии. Нет! В древнейших памятниках, в «Деяниях апостолов», в посланиях апостола Павла, в аутентичных фрагментах первоначальной галилейской пропаганды я вижу зерно этого рабского духа, этого узкосердого политического квиетизма, который так разыгрался потом в христианстве…»
Итак, реакционность христианства — это следствие самого его существа, а не его искривление. Углубившись в первоисточники, Леся увидела, что совсем не случайно в притчах и евангелии так часто употребляются слова «раб» и антитезис «господина и раба» как единственно возможная форма отношений между человеком и его божеством.
Анализ посланий и проповедей апостола Павла показал писательнице, что «коммунизм первых христиан — это фикция, его никогда не было, или это был коммунизм нищего, у которого все равно не было никакого имущества, или «коммунизм» добродетельного богача, который бросает крохи со своего стола «коммуне» собак, сидящих под столом своего господина. Вот и все…»
Из изучения первоисточников Леся Украинка вынесла понимание того, что «демократизм» христианства также невысокой пробы. Он представлялся ей схематично так: деспот и народ — и никого больше между нами. Стадо и пастырь. Однако подобного рода демократизм никогда не выбрасывает деспота из своей проповеди…
Единственное же, что «поддается настоящей идеализации у первых христиан, — это не их quasi анархические доктрины, а разве что грация чувства… всепрощающей симпатии, которое так украшало отношения Христа к его склонным к измене и тупым ученикам… Ну, и еще два-три элемента в сфере чувств, но не теории. Только все эти элементы я уже использовала до конца, и мне неинтересно было на них долго останавливаться…».
Типичный христианин тех времен должен был меч-гать о том, чтобы все стали слугами Христовыми. Но разве это не значит — рабами? Именно против этого «восстает мой раб-прометеист», — говорила поэтесса. Он совершенно резонно рассуждает, что, пока будут господа и рабы (на земле или на небе, все равно), будут и посредники между ними — надсмотрщики, экономы, проповедники… И все они, прикрываясь именем бога, будут эксплуатировать людей.
Епископ успокаивает раба — придет Христос вторично к людям, свершит божий суд, и вновь сравняются все: «Едино будет стадо, единый пастырь». Но раб-неофит не удовлетворен:
А при нем не будет
Помощников, наместников господних,
Неправедных начальников над нами?
Тогда уже не будут больше люди
Свободны в мыслях и рабы телесно?
Невразумительный ответ епископа о «подпасках божьих», к коим он и сам принадлежит, утверждал на веки вечные тиранию всяких «посланцев», «наместников» бога на земле. Сказано было это в середине II века. Выходит, уже тогда, на рассвете христианства, был заложен фундамент духовной темницы, в дальнейшем она лишь достраивалась. В этом Леся Украинка глубоко убеждена, и в этом лейтмотив ее произведения.
Почему же писательница обратилась к этой теме в бурное время революции 1905 года? Возможно, натолкнула петербургская драма 9 января. Ведь ей известна была провокаторская деятельность попа Гапона среди рабочего населения. Призывая народ идти с прошением к царю, этот «подпасок божий» повел огромное доверчивое «стадо» под град пуль…
Как бы там ни было, а давно выношенные мысли воплотились в этой драме-жемчужине с необычайной силой и убедительностью. Такого страстного и в то же время поражающего своей логикой опровержения религиозных догматов в украинской литературе не было доселе.
В этом произведении нет ни хитроумных, запутанных сюжетных перипетий, ни экстравагантных сцен. В глубоких катакомбах Древнего Рима собрались христиане. Пришел сюда и недавно крещенный раб (неофит) — в надежде отыскать дорогу к людской правде. Епископ уверяет неофита, что лишь в лоне общины верующих получит он все, к чему стремится: равенство, братство, любовь. Когда же неофит услышал, что в царстве небесном все люди — божьи рабы, то был повержен в смятение:
Господень раб? Там тоже есть рабы?
А ты мне говорил, что в царстве божьем
Нет ни хозяев, ни рабов!
Охваченный недоверием к епископу и страхом перед «божьим рабством», неофит решительно и страстно протестует против этой добровольной неволи, требует подлинного равенства — без господ и рабов:
Не для того пришел я в вашу церковь,
Чтоб новый крест или ярмо найти.
Нет, я пришел сюда найти свободу
По слову: несть раба — несть господина.
Острый, напряженный диалог заканчивается победой раба-неофита. Убедившись, что и в христианской общине нет равенства и нет спасения, он отрекается от всех богов — небесных и земных. Неукрощенный дух зовет его вдаль, на поиски истинной правды. Отныне он прокладывает путь в лагерь повстанцев, которые собираются где-то за Тибром. От злости и бессилия епископ теряет самообладание, свою показную благочестивость и гонит прочь неофита. Но тот и сам покидает катакомбы:
Я встану за свободу против рабства,
Я выступлю за правду против вас!..
В возникновении замысла поэмы «В катакомбах», как и вообще в творческой жизни писательницы, немалую роль сыграл выдающийся ученый-востоковед, поэт и академик Агатангел Крымский.
Познакомились они еще в юношеские годы, когда Крымский учился в Киеве, и с тех пор между ними на всю жизнь установились дружеские отношения. Не всегда была возможность непосредственного общения — тогда выручала почта. Фундаментом этой дружбы была любовь к родине, к пароду. Есть основания утверждать, что Крымским владели еще и другие, более сильные чувства, которые он питал к Лесе Украинке.
Да и в творческой биографии у них было немало общего. Начали печататься в одном и том же издании — львовском журнале «Зоря» (только Леся несколько раньше). И первый критик у них был один и тот же — Иван Франко. После выхода в свет первого поэтического сборника Крымского Франко писал: «А. Крымский — высокооригинальное явление в нашей литературе. Пишет он филологические статьи или критические рецензии, прозаические произведения или стихотворения, — во все он вносит свое собственное «я» в такой степени, как немногие из наших писателей».
Характерной чертой творчества Агатангела Крымского является прежде всего масштабность мысли и темы, отрицание моралистических шаблонов и традиционной ограниченности. Однако поэзия Леси Украинки была для Крымского прекрасной и непостижимой. Будучи уже известным ученым, профессором Московского института востоковедения, он с огромным уважением и нескрываемым восхищением относился к творческим приобретениям поэтессы, что явствует из их переписки.
«Ваше письмо, — отвечала ему Леся в 1901 году, — проникнуто, такой дружбой, которой я совсем не заслужила… Неужели Вам могли так прийтись по сердцу мои стихи, когда для Вас открыто целое море мировой поэзии, — ведь в нем все мои напечатанные и ненапечатанные думы и мечты должны раствориться, как капля дождя!.. Странно и, однако, приятно думать, что и такой сломленный жизнью (или, лучше сказать, без жизни уставший) человек, как я, может кому-нибудь дать минуту радости».
Крымский часто обращался к Лесе за советом, посылал на ее суд только что написанное им. Так было и с повестью «Андрей Лаговский», которую он переслал ей в 1905 году. Спустя некоторое время Леся откликнулась большим письмом с детальнейшим разбором этого произведения. Невзирая на приятельские отношения (а может, благодаря им), поэтесса высказывала откровенные и бескомпромиссные суждения, какими бы горькими они ни были для автора. Леся советовала ему решительно отказаться от ненатуральных характеров и надуманных проблем, от излишнего копания в душе героя, от болезненного самоанализа и отвратительного натурализма, который порою выползал на страницы повести. В заключение добавила: «А что касается практического совета, о котором Вы меня просили, то я Вам вот скажу: не мешало бы вырезать несколько страниц из Вашего романа. Идея Вашего произведения совсем не требует такого доведенного до крайности натурализма, скорей даже затемняется им. Не мучьте так себя в следующий раз, искренне прошу Вас, дорогой товарищ, потому что я хорошо чувствую, как трудно Вам дается этот натурализм (хотя бы в сцене с прокусыванием пальца)!.. А тем временем в Ваших лирических стихах… значительно больше живой правды, чем в этих натуралистических «протоколах вивисекции». Может быть, поэтому я способна
Теперь, много лет спустя, очевидно, что Леся Украинка была права, уговаривая Крымского отказаться от прозы, которая и в самом деле не принесла ему славы. Другое дело — поэзия. Здесь Крымский проявил свое дарование — как в оригинальном творчестве, так и в многочисленных переводах других поэтов.
Творческие связи Леси Украинки и Агатангела Крымского не были односторонними. Ученый-филолог и историк Крымский оказывал поэтессе немалую услугу своими советами по вопросам древней истории, средневековья, археологии. Это было ценно: ведь почти все драматические поэмы Леси Украинки являли собой результат кропотливой исследовательской работы, и автор их не мог не нуждаться в научных консультациях. Писательница нередко обращалась к Крымскому за помощью, когда надо было разыскать документальные материалы или научную литературу.
А. Крымский вспоминал, как Леся попросила его прислать из Москвы научные труды по истории христианства того периода, когда оно преследовалось. Крымский передал поэтессе диссертацию «Развитие власти митрополитов в первые три века христианства». «Леся Украинка основательно изучила эту большую диссертацию, — замечал Крымский, — а затем написала: «Это меня не удовлетворяет, мне нужны оригинальные документы…» Я послал ей диссертацию потолще (Олар, «Преследование христиан Римской империей») — на французском языке. Поэтесса за два месяца прочла ее и вновь написала о том, что не может ограничиться «одним лишь научным исследованием». И заказала еще ряд книг. Я ей целую библиотеку послал…»
Вследствие напряженного, неутомимого труда Леси Украинки была написана поэма «В катакомбах», поражающая не только своей эмоциональной силой, но и глубиной научного осмысления истории. В знак благодарности писательница решила посвятить это произведение Крымскому, если оно ему «действительно по душе придется»… Она просила Крымского искренне высказаться на сей счет — «так же, как я сказала о Вашем романе». А дальше в этом письме идут красноречивые строки: «И Вы немного виноваты в ее рождении, так как пробудили во мне мысли в этом направлении своим письмом, в котором Вы упомянули о евангелии и о споре о нем с Вашим старым учителем. Поэтому мне кажется, что моя поэма близка Вам, и я хотела бы связать как-нибудь Ваше имя с нею. Но это только если Вы захотите и позволите».
Крымский с радостью согласился, и поэма вышла в свет (1906) с такими словами на обложке: «Посвящается уважаемому побратиму А. Крымскому».
Не раз писательница обращалась к А. Крымскому и с конкретными вопросами. «Посылаю свои новые стихи, — писала она в 1903 году, — и прошу, если у Вас есть время и желание, прочитать их и возвратить мне с Вашими замечаниями, нет ли в них каких-нибудь неувязок с точки зрения бытовой и исторической (например, золотые украшения на царских палатах, конкуренция финикийских мастеров и т. п.)…
Если будете отвечать, мне, то будьте гак добры справиться в книгах, есть ли в якутском языке слово «свобода»… о чем однажды Вас уже спрашивала, — этот интерес не исчез у меня и теперь».
Этот вопрос Леси Украинки вызван ее работой над поэмой «Одно слово» — о драматическом эпизоде в жизни революционера, сосланного в Якутию. Ссыльный пытается объяснить местным жителям, что такое свобода, по которой он так тоскует. Однако они не понимают его, так как в их языке даже нет такого слова — «свобода»… Это еще больше угнетает его. Вскоре ссыльный умирает. Леся назвала поэму «Одно слово», объяснив в подзаголовке: «Рассказ старого якута». В таком виде поэма и была опубликована, так как Крымский почему-то вовремя не смог ответить Лесе.
Уже в годы Советской власти Крымский писал об этом эпизоде в своих воспоминаниях:
«Когда я прочитал «Одно слово», сразу же написал статью, что поэма прекрасна, однако построена на неправде, так как в якутском языке для слова «свобода» существует три синонима… Замысел поэтессы интересен, идея правильная, но якутский язык выбран неудачно. Леся Украинка с пониманием отнеслась к моей критике и очень сожалела, что в ее произведении допущена такая ошибка. Конечно, якуты испытывали в те времена жестокий гнет царизма. Народ был почти на сто процентов неграмотным, и поэма «Одно слово» не могла дойти до него. Но Леся Украинка умела видеть перспективу, она понимала, что в художественном произведении не может быть ни одного слова неправды: наступит время — и эта неправда всплывет на поверхность… Случай с поэмой «Одно слово» был единственным исключением во всем литературном творчестве Леси Украинки».
В последующем издании поэтесса изменила подзаголовок («Рассказ жителя Севера»).
Работая над драмой «Каменный хозяин», Леся снова обращается к Крымскому за консультацией: «Как нужно говорить по-испански: Дол`орес или Долор`ес? Называют ли донна (то есть «донья») девушек или только замужних? Вот вы, наверное, все это знаете, а я «необразованная»! В конце концов, это и не удивительно, я самоучка, а Вы профессор, и я убеждаю себя, что мне не стыдно».
Можно было бы привести еще множество фактов, подтверждающих тесное творческое содружество Леси Украинки и Агатангела Крымского.
Самая младшая Лесина сестра Дора, которую все любили за ее мягкий характер, за красоту, оптимизм, трудолюбие и непритязательность, закончила гимназию и захотела стать агрономом.
Вообще-то у сестер были разные наклонности. Старшая — служительница музы. Лиля окончила Женский медицинский институт в Петербурге. Оксана продолжает образование в Бельгии на инженерном факультете Льежского политехнического института. А Дора изъявила желание послужить одной из древнейших профессий — земледелию. Но реализовать этот замысел в то время в России было не так-то просто — в университеты и политехникумы женщин не принимали. На всю огромную империю существовала одна высшая школа, где можно было приобрести необходимые знания: Женские сельскохозяйственные курсы имени Стебута в Петербурге. И семнадцатилетняя девушка отправилась туда. Поселилась она в доме Марии Карташевской, с которой Косачи были в приятельских отношениях еще с Волыни.
Но с наступлением осени начались студенческие выступления. Во всех высших школах, вспоминает Исидора Петровна, ежедневно происходили митинги, демонстрации. Правительство распорядилось прекратить занятия в университете, Горном, Технологическом, Лесном и других институтах. «Стебутовка» пока функционировала. «Обычно я с утра убегала на курсы — до 3-х часов дня, а затем уже с курсов — на различные сходки, митинги или демонстрации. Интересно это было, просто захватывающе, однако я страшно уставала, да к тому же эта влажность петербургской осени. А еще где-то напилась сырой невской воды, вот и заболела брюшным тифом».
Телеграмма Карташевской о болезни Доры застала в Киеве одну Лесю. Отец был в Колодяжном, весь в хозяйственных заботах; мать, как всегда, в отъезде — на сей раз в Полтаве, по делам журнала «Ридный край». Пришлось Лесе срочно отправляться в Петербург. Выехала она последним поездом и едва добралась туда, как началась всеобщая железнодорожная забастовка. Прекратили работу почта, телеграф — все средства связи. В семье Косачей встревожились: неизвестно, доехала ли Леся, жива ли Дора. Десять дней продолжалась стачка, и десять дней родители ничего не знали о Доре и Лесе.
Красные знамена, «Марсельеза», нескончаемые потоки демонстрантов… Каждый день площади и улицы переполнены бурлящими толпами: митинги продолжались до позднего вечера. Петербург требовал свободы, кричал: «Долой самодержавие!»
Такого Леся еще никогда не видела.
Помню, что она рассказывала о большой демонстрации на Невском. В тот день она долго отсутствовала и возвратилась значительно позже обычного. Выглядела усталой, но была довольна и счастлива.
В тесной колонне демонстрантов прошла Леся по Невскому проспекту до Казанского собора. Отсюда, со ступенек собора, говорила Леся, открывалось величественное, импозантное зрелище: массы народа шли организованно, под красными знаменами, с пением революционных песен. Не скрылась от ее внимания и странная группа анархистов, выкрикивающих какой-то свой гимн и усердно размахивающих черным полотнищем…»
Приказ петербургского градоначальника Трепова: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть!» — не в состоянии был остановить нарастающее движение революционных масс. Мощная октябрьская забастовка, охватившая всю Россию, вырвала у царя манифест 17 октября, по которому провозглашались всевозможные «свободы», учреждалась законодательная дума и т. п…Правда, после этого уже на второй день войска нападали на демонстрантов, а черносотенные банды под покровительством полиции готовили погром. Но как бы там ни было, а монархия уже никогда не смогла оправиться от сокрушительного удара, нанесенного ей революцией 1905 года. Ее благоденствию приходил конец.
Все здесь, в Петербурге, на улицах и площадях, напоминало Лесе о непрекращающейся борьбе с ненавистным самодержавием. «Нет, недолго продержится монархия», — Думала она.
Твердыня самодержавия — Петербург, построенный на костях народа, станет его могилой. Потомки жертв царизма уже выросли. Они стоят у станков и прислушиваются к подземным стонам своих предков. Они могущественны, их невозможно, как когда-то, приковать к тачке, их не запугать — их миллионы. А когда они выходят на улицу
Именно эти рабочие, которые идут по Невскому
Живя в Петербурге, Леся решила воспользоваться отменой цензуры, которая также была провозглашена манифестом 17 октября, и написала статью на актуальную политическую тему. Однако редакции столичных газет не дали ходу статье.
Время шло, Дора выздоравливала. Пора уже обеим собираться домой:
— Поедешь, Гуся Моя, со мною в Киев. Отныне женщинам открыт доступ в высшие школы, будешь там учиться, — сказала старшая сестра.
— Но ведь в Киеве нет такого института.
— Есть агрономическое отделение в Политехническом, и довольно известное.
— Нет, туда страшно! Я не выдержу вступительных экзаменов.
— Выдержишь. Зима и лето в твоем распоряжении для подготовки к конкурсу.
— А что скажут дома? Ты ведь знаешь, мама…
— Ну что ж, давай сейчас напишем домой, а ответ пусть она телеграфирует. На это уйдет всего три дня.
Ответ был положительным.
Накануне отъезда проститься с Дорой пришли ее сокурсницы. Одна из них — дочь Менделеева. Вторая — из семьи духовного екатеринославского сановника, она приехала учиться самовольно, вопреки желанию родителей. В Петербурге ее поддерживает либерально настроенная богатая тетка. Отец третьей — известный петербургский инженер Воронков. Четвертая, тоже местная, живет на Васильевском острове, родственница архитектора Андрея Штакеншнейдера.
Вскоре возвратилась домой Леся. Приятно, хотя и странно, было смотреть ей на этих совсем еще «зеленых» девиц, слушать их увлеченные разговоры о суровых уличных событиях. В отношении своего будущего они особенных надежд не питали. Но и не страшились его, несмотря на то, что понимали: избранный ими путь агронома нелегок и не обещает ни блестящей карьеры, ни больших материальных благ. Молодость не помешала им увидеть недостатки современного общества, и, что очень важно, они чувствовали отвращение к паразитическому существованию, как к постыднейшему, по их мнению, злу.
Нельзя сказать, что подобные разговоры были для Леси чем-то новым. Она знала, что передовые идеи уже давно проникают в определенные слои интеллигенции, но, чтобы они проникли так глубоко и даже в такие сферы, из которых вышли эти девушки, никак не предполагала. Тем отраднее было в этом убедиться.
В конце октября сестры выехали из Петербурга. Позже Леся вспоминала, что в столице «переждала все железнодорожные забастовки, видела рождение российской «конституции» и многое другое. Налюбовалась красными знаменами, наслушалась песен и громких речей, а потом вернулась в разбитый «черной сотней» Киев…».
Леся тяжело переживала неудачи восстаний. Все вокруг было тревожно: выходила на обрыв над Пселом и смотрела, как на юге и севере, востоке и западе полыхало зарево пожаров. В ответ на смертные приговоры, на кровавую расправу крестьяне жгли господские поместья.
Пристально вглядывалась в охваченные пламенем горизонты, шептала страстные строки:
Мечта, не предай! По тебе я так долго тужила,
Столько безрадостных дней, столько бессонных ночей…
А теперь на тебя всю надежду свою возложила,
О, не угасни ты, светоч бессонных очей!
Упорная борьба пролетариев и крестьян против угнетателей продолжалась. Однако после поражения Московского декабрьского восстания 1905 года началось медленное угасание революции. Реакция подняла голову.
Леся не разочаровалась в освободительном движении. Напротив, проявила в это время необычайную силу духа и разума. Пусть, говорила себе, в этот раз поражение. В следующий будет победа. Революция осветила путь грядущей — в этом суть.
Словно подытоживая первый год больших событий, она писала Кобылянской 26 февраля 1906 года:
«Кто-то не знает почему, но вынужден плакать в эту минуту… Нет-нет, не надо так, пускай кто-то милый не печалится о ком-то, это просто так что-то к сердцу подкатило. Мы же теперь все изнервничались тут, у всех, как говорится, «душа не на месте». Это был такой трудный, и грозный, и величавый год, год ужасных контрастов, «вершин и низин» — буйных надежд и трагических разочарований, больших побед и неизлечимых ран… Да и лично для меня этот год (начиная с прошлой зимы) был таким, — он испытал силу духа моего, я знаю теперь, что я могу, а чего не могу. И хотя я только что плакала, — это так, «нервы», а все же знаю, что я еще сильна и что не люди одолеют меня».
1905 год принес некоторое облегчение украинскому слову. Драконовские указы не отменяли, но и не вспоминали о них. Разрешили издавать, правда с суровыми предостережениями, журналы и газеты. Возобновилась деятельность культурно-просветительного общества «Просвита».
Леся с головой ушла в общественную работу. Ей очень хотелось издавать рабоче-крестьянский журнал. «Тут у нас проектируются целых три украинские газеты, — писала она А. Крымскому, — и я, может быть, впрягусь в какую-нибудь из них, тогда прощай свобода!.. Возьму на свою долю самую черную работу в мужицко-пролетарской украинской газете… Такую газету, к которой я хочу присоединиться, давно уже настойчиво требуют «голоса из народа»…»
Не повезло Лесе и в этот раз. Разрешения на издание газет правительство давало, но не успевали они появиться на свет божий, как те же государственные органы прикрывали их другой рукой. Лишь в конце 1906 года была, наконец, основана газета («Рада»), просуществовавшая несколько лет. Однако она не привлекала Лесю ни своим либерально-оппортунистическим направлением, ни редакторским составом.
Леся сосредоточила свои усилия на работе в киевской «Просвите» — легальном украинском обществе. «Наша «Просвита», — писала Леся в Черновцы, — видит свои задачи шире, нежели галицийская, и, помимо издания книг для народа, хочет иметь свою библиотеку, книжный магазин, музей и всякую всячину, — вот только посчастливится ли?.. Тем временем больше всего занимаемся издательством и библиотекой. А с библиотекой все хлопоты — на мне, как на ответственной за это дело. Хочется ведь, чтобы было не хуже, чем у людей».
Общественные дела и творческая работа над новыми драматическими произведениями поглотили писательницу настолько, что она совсем позабыла о сколько-нибудь упорядоченном режиме, отказалась от профилактического лечения, позабыла советы врачей. Две зимы кряду (1905–1906) никуда не выезжала. Это были ее последние годы, прожитые в Киеве.
Окончились рождественские праздники. В январе 1907 года семья Косачей разъехалась: Петр Антонович — в Колодяжное (его снова перевели на работу в Ковель); Ольга Петровна — в Полтаву, редактировать журнал «Ридный край» и готовить новое издание для детей — «Зирку», в Киеве оставалась сестра Ольга со своим мужем Михаилом Кривинюком — они оба только что возвратились из Праги.
Тревожно и неприветливо было в городе. После демонстрации протеста против разгона социал-демократической фракции в I Думе начались массовые аресты. Они не обошли стороной и Лесю Украинку. Жандармы ворвались в дом ночью. С 12 ночи до 6 утра продолжался обыск. Но тщетные старания! Ничего не нашли. Все Лесины рукописи — в Колодяжном и Гадяче, а «писем не было, так как я вообще не вижу смысла собирать архив — без него гораздо приятнее жить».
Какая отвратительная нынешняя зима! Прочла сегодня в газетах, что и «Ридный край» подвергся нападению/ Вот еще напасть! Здесь, говорят, разгромлены и «Рада» и «Виснык».
Вот так сводились на нет мизерные приобретения, завоеванные народом. Вновь была закрыта «Просвита», запрещено книжно-издательское дело. На неопределенное время откладывалось создание украинской школы в Киеве.
Волнения, переживания не могли не отразиться на Лесиной здоровье. Медлить было нельзя, и весной она вместе с Квиткой выехала в Ялту. Квитка в то время чувствовал себя ненамного лучше: болезненный от рождения, он хлебнул немало горя, пока учился. Теперь же он добивался перевода из Иванкова Киевской губернии в Симферопольский суд. Надо было прослужить пять лет, чтобы затем получить право на место присяжного поверенного. Эта должность обеспечит ему прожиточный минимум и позволит заниматься делом, которому он решил посвятить жизнь, — музыкой и фольклором.
Наверное, в Крыму и была достигнута окончательная договоренность о браке Леси с Квиткой — собственно, о формально-обрядовой стороне, так как фактически этот вопрос был решен гораздо раньше.
Леся была решительно против венчания. В свое время она активно поддержала сестру Лилю, когда та, выходя замуж за Кривинюка, отказалась идти под венец, ограничившись гражданским браком. Однако у Леси с Квиткой ситуация посложней. Его родственники — люди консервативные и верующие — ни за что на свете не соглашались на брак без церкви. И другое, еще более серьезное препятствие — служба. Отказаться от венчания — значит рисковать местом и наверняка потерять возможность зарабатывать себе на хлеб. Ведь они оба хорошо знали, что чиновник суда находится на особом положении.
Ничего не поделаешь — придется венчаться. Лучше уступить в малом, чем потерять нечто большее. Летом они возвратились в Киев и без малейшей огласки повенчались. В тот же день, 25 июля, Леся сообщила матери:
«Милая мамочка! Дело завершено — мы повенчались сегодня, в первом часу дня. Отыскали такого попа, который сам посоветовал кратчайший способ ритуала. С какой стороны ни посмотри на этот обряд, все равно скажешь: «grase a Dieu c'est fini»,[77] — если уж без него никак не обойтись. Мы не приглашали никого, кроме обязательных свидетелей… Из церкви я не звала никого к нам, потому что видела, что Кленя устал от всех предыдущих хлопот… Больше не пишу, так как тоже устала и должна чем-нибудь заняться, хотя бы корректурой, чтобы возвратить себе душевное равновесие».
И в то же время Леся не переставала думать о том, что скажет Лиля. Как воспримет она «капитуляцию» старшей сестры? Не станет ли упрекать?
Спустя несколько дней Лиля, узнав о бракосочетании, прислала поздравление, в котором одобрила пусть и нежелательный, но необходимый акт.
Спустя месяц Леся вместе с мужем уехала в Крым, где они жили до конца 1908 года. С тех пор она лишь трижды, и то непродолжительное время, была на Украине.
Леся покинула родную землю, но никогда, до последнего вздоха, не переставала думать об Украине, жить для нее. Сейчас, находясь в Крыму, она вместе с Климентом Квиткой приступила к осуществлению грандиозного замысла. И раньше Леся Украинка собирала произведения музыкального фольклора, но теперь пришло время заняться этим по-настоящему: на собственные, весьма ограниченные средства она организует этнографическую экспедицию на Полтавщину. Цель — запись на фонограф мелодий украинских народных дум. Чтобы избежать всяческих разговоров и похвал в свой адрес, она спряталась за придуманной особой «одного господина» и от его имени вместе с Квиткою вела дело от начала до конца. К участию в экспедиции были привлечены специалисты, лучшие знатоки народной музыки: Ф. Колесса, О. Сластион, А. Бородай. В печати появились интересные статьи о народных думах, о том, как их записывать. Свыше сорока кобзарей с большим желанием вызвались помогать в этом близком им деле.
В 1910 году Научное общество имени Т. Шевченко во Львове выпустило в свет первый том «Мелодии украинских народных дум», куда вошли рецитации шести певцов Полтавщины, самым талантливым среди которых был Михаил Кравченко. Яркой индивидуальностью и красотой исполнения отличались Платон Кравченко и лирник Антон Скоба.
Леся Украинка и Климент Квитка не только организовывали, но и сами делали записи кобзарских рецитации, посылая во Львов все новые и новые материалы. Пожалуй, самым ценным их приобретением был сборник фонографических валиков с пением и игрой на бандуре знаменитого Гната Гончаренко — представителя харьковской «школы» кобзарей. Жил он постоянно под Харьковом, но иногда приезжал в Севастополь навестить своего сына, железнодорожного рабочего. Был он там и в то время, когда Леся находилась на лечении в Ялте. Она пригласила его в гости. А накануне сама раздобыла фонограф, валики к нему, научилась им пользоваться и, таким образом, смогла записать песни в исполнении Гната Гончаренко.
Благодаря усилиям Леси Украинки материалы накапливались, и тогда возник вопрос об издании второго тома мелодий (вышел в сентябре 1913 года, она его так и не увидела). А с какой радостью встретила Леся первую книгу, присланную ей Филаретом Колессой: «Необыкновенно приятно было мне видеть этот большой труд законченным, упорядоченным благодаря Вашим высокообразованным стараниям. Теперь уже и впрямь можно сказать:
Наша дума, наша песня
Не умрет, не сгинет…
Вот в чем, люди, наша слава,
Слава Украины!»
Так старания Леси помогли сохранить для потомков народные думы: они поистине стали бессмертными и будут храниться вечно. Кроме того, эти материалы стали предметом научного исследования народного музыкального творчества. Уже в 1909 году музыковед Колесса выступал с сообщением о результатах экспедиции на Полтавщину на III конгрессе международного музыкального общества в Вене — «О мелодическом и ритмическом строении украинских речитативных напевов». Здесь, перед учеными-музыковедами всего мира, впервые прозвучали в фонографической записи голоса Михаила Кравченко и других полтавских кобзарей. В сборнике конгресса был напечатан реферат Ф. Колессы.
Когда издатели собирали географический (и биографический) материал о кобзарях, Леся помогала и в этом. Будучи тяжело больной, она прислала из Египта характеристику Гната Гончаренко и его творчества: «Помню, что Гончаренко происходит из крепостной семьи, что он ослеп двенадцати лет от роду после длительной болезни глаз… Когда я — в 1908 году — видела Гончаренко, он говорил, что ему 72 года… Научился играть на бандуре уже слепым… Прежде, по его словам, он немало зарабатывал на ярмарках, но потом полиция запретила, и он под старость, овдовев, пошел жить к своему сыну, железнодорожнику в Севастополе, откуда приезжал и к нам, в Ялту… В нем, правда, ничего нищенского нет, начиная от одежды, вполне пристойной чумарки, которую носят пригородные крестьяне на Харьковщине, и смушковой шапки и кончая поведением, преисполненным достоинства, без заискивания, но и без заносчивости (которая порой замечается у знаменитостей «из народа»), все в нем исполнено благородной простоты, особенно бросается в глаза его рука с тонкими артистическими пальцами и величавая поза высокой, стройной, совсем не сгорбившейся фигуры. Не только денег, но даже и мельчайшей услуги он не считает возможным принимать даром… Он знает и любит только старинный репертуар, а на новые и «модные» теперь напевы смотрит скептически и холодно. К этнографам относится с уважением и без предубеждения, как к людям, которые делают какое-то нужное и серьезное дело. Меня поражало, как он, терпеливо приспосабливаясь к несносным порой капризам нашего фонографа, готов был часами петь, по нескольку раз повторять слова, стараясь при этом выразительным медленным речитативом облегчить мне труд записи».
Много времени прошло с тех пор, но и ныне наши музыковеды-исследователи народных дум находят прочную основу в фонографических записях мелодий и с признательностью и благодарностью вспоминают большие заслуги Леси Украинки в сохранении бесценных сокровищ украинского музыкального фольклора.
В начале XX века Леся все реже и реже обращается к жанру стихотворения, а с 1908 года почти совсем их не пишет. На смену пришла стихотворная драма или драматизированная поэма. Одна за другой выходят из-под ее пера «Осенняя сказка», «В катакомбах», «В дому труда, в краю неволи», «Айша и Мухаммед», «Руфин и Присцилла», «На поле крови», «В пуще», «Иоанна, жена Хусы», «Лесная песня», «Адвокат Мартиан», «Каменный хозяин», «Оргия».
Бросаются в глаза необычные названия этих произведений, а имена действующих лиц напоминают о чем-то далеком, легендарном и чужестранном. С точки зрения формальной поэмы построены на сюжетах из сказок, древней истории, античной мифологии и на библейских мотивах. По существу же, в каждой из них заложены идеи и мысли отнюдь не нейтральные: общество, для которого они были написаны, никак не могло отнестись к ним равнодушно. А многие произведения Леси Украинки не утратили своей актуальности и сегодня.
Леся Украинка от природы была щедро наделена воображением и склонностью к фантазии. В ее произведениях — больших и малых форм — мы нередко встречаем картины, созданные мечтой, воображением, не потерявшие при этом реальных очертаний. Вот как она сама говорит об этом:
Во тьме таинственной, в средине ночи
Ко мне нередко странный гость летит,
Он взорами и манит и страшит, —
Как Марс кровавый, пламенеют очи.
В другой раз Леся пишет, что когда она размышляет о будущем, то оно состоит для нее не из понятий или терминологических определений, а из видовой картины, реально возникающей перед пею:
He хутко те буде… Чи й буде, чи нi?
Не знаю. Та видиться все те менi,
Так ясно — виразно стає перед очі,
Як часом в яскравії, місячні ночі
Малюються тiнi на білій стіні…
Выразительно и четко рисует воображение и картины прошлого, ведь не кто иной, как ее собственный дух, сотни и тысячи лет назад ходил по белу свету, стонал под кнутом, мечом пробивал грудь тирану, рыдал в плену, пророчествовал в Вавилоне, вырастал и падал ниц вместе с Карфагеном и Римом:
…на міліон часток він поділився
I все ж він нi на йоту не змінився.
Коли стрічав гурти paбiв німих,
Свій голос гучно подавав за них,
I в їх гіркій, давно минулій долі
Все бачив образ piднoї неволi.
Итак, Леся Украинка обращается в своем творчестве к мировой сокровищнице духовной культуры с тем, чтобы на ярчайших образцах жизни и искусства воссоздать впечатляющие, сильные картины славы и доблести народной или ничтожества и позора, чтобы показать дух великий и благородный или нищенский и подлый. «Кто-то любит библейские темы, — говорила она Кобылянской, — так как в них всегда много беспокойного, страстного элемента, а кто-то именно это любит в поэзии и, видимо, никогда не будет эпическим поэтом».
Как бы ни назывались поэмы: «Кассандра» или «Руфин и Присцилла», «Осенняя сказка» или «Вавилонский плен», о чем бы в них ни шла речь — о римском рабе-неофите, закабалении иудеев или полесском парне Лукаше и мифической Мавке, — повсюду бурлит вековая борьба правды с несправедливостью, света с тьмою, добра со злом. Лесе Украинке удавалось «обновить» тысячелетнюю древность таким образом, что она воспринималась как непосредственный отклик на современные ей события.
Предания глубокой старины донесли до нас сказку о царевне (принцессе), живущей в хрустальной светлице на высокой горе из стекла: она и умна, и пригожа, как весенний цветок. Со всех концов света — по морю и суше — спешат королевичи, принцы, рыцари, чтобы завоевать принцессу. Но не так-то легко открывается дверь хрустальной светлицы — гора скользка и обрывиста. Но вот мчит конь, а на нем всадник красоты неописуемой. Мгновением раньше он был простаком-неудачником, но помогло волшебное слово: явился чудо-конь, неудачник влез в его правое ухо и вылез из левого красавцем царевичем. Взлетел на гору из стекла, завоевал руку прекрасной принцессы.
Эту сказку поэтесса интерпретировала по-своему. Она воспользовалась ее сюжетом и написала драму о революции 1905 года, или, вернее, на тему о революционном восстании вообще, и назвала ее «Осенней сказкой».
Излишним было бы да и, пожалуй, наивным искать в этих драмах правдивого отображения во всех деталях и подробностях темы, которая вынесена в название произведения, Тот, кто этого не понимал, попадал в смешное положение.
На «Кассандру», вышедшую в свет в 1908 году, например, тогда же украинская газета «Рада» напечатала отвыв, в котором отмечалось, что Леся Украинка «хорошо знает быт троянцев». По этому поводу она писала матери: «Ах, до чего смешно мне было читать рецензии на мою «Кассандру»! Люди, очевидно, приняли ее за бытовую пьесу «из троянской жизни»!»
Критика не сразу разобралась, что к чему в этих произведениях. Тогда писалось немало несусветной чепухи, и авторы, что называется, попадали впросак, как это было в журнале «Литературно-науковый виснык» (1909), где страстные герои Лесиных драм названы «аскетическими образами излюбленных писательницей жидов, египтян и всякой прочей допотопности». Доходило и до курьезов. Один одесский критик, упрекая Лесю в чрезмерном увлечении еврейскими мотивами, заподозрил ее в сионизме.
Однако чаще всего Лесю Украинку обвиняли в отрыве «от родной почвы», «от своего народа», «от украинских тем». Писали о том, что она не знает жизни украинского народа и поэтому «бросилась в экзотику».
Сегодня даже неловко всерьез возражать против всего этого: в «экзотике» поэтессы отражена жизнь и судьба Украины глубже и ярче, нежели в произведениях других писателей — современников Леси Украинки. Ни у кого мы не найдем такого напряженного, бурлящего выражения идеи борьбы за социальное и национальное освобождение, как в произведениях «на экзотические темы», в которых Леся поднимается до высот убедительнейшей критики господствующего строя, его идеологии и развенчания украинского панства.
Провидица Кассандра широко известна в мировой литературе со времен Гомера, ее имя упоминается в связи с Троянской войной. Кассандра — дочь троянского царя Приама. Влюбленный в нее Аполлон одарил ее талантом предвидения, но она, уступив злой Мойре — богине людской судьбы, — отказалась от любви. Тогда Аполлон отомстил Кассандре, сделав так, чтобы ее предсказаниям, даже самым правдивым, никто не верил.
Итак, Троя в осаде. Кассандра говорит о вероломстве врагов, а ее осыпают градом насмешек. Она предупреждает о том, что в деревянном коне ахейцев таится смертельная опасность, а ослепленные своей традиционной беспечностью троянцы не хотят и слушать, называют ее безумной. Когда Троя пала, Кассандра досталась аргосскому царю Агамемнону и вместе с ним погибла в Микенах. В древнегреческих драмах Кассандра предстает перед читателем как трагическая вещунья, гордая и непокорная «Фебова дева».
Такие же черты присущи ей и в драматической поэме Леси Украинки. Только здесь она не эпизодический персонаж, а центральный образ — с начала и до конца.
В украинской литературе тема Кассандры не нова, так же как и тема Трои. И Котляревский, и Шевченко, и Франко проводили параллели между судьбами Трои и Украины. Скорее всего в Лесиной драме, хотя здесь и нет на йто прямых указаний, в образе древней Трои также подразумевается Украина, а в трагической фигуре Кассандры, в ее разоблачительные пророчеетва вложены моменты автобиографического характера. Претерпевая мучения из-за того, что ее словам не верят, Кассандра в отчаянии: страшную кару придумали ей боги — наделили слабую Женщину даром провидения. Если бы умела она владеть оружием, заставила бы уважать свое слово.
А вот что говорит о себе Леся в одном из писем: «Я не Могу давать советы, а лишь понимать и сочувствовать, нет, даже предчувствовать, — только мои предчувствие мне никогда ни в чем не помогают…»
На страницах «Кассандры» — целые россыпи не толь ко мыслей, но даже выражений, текстуально тождественных с отдельными местами из писем и публицистических произведений Леси.
В драме фигурируют те же персонажи, что и в классических трагедиях, изображены те же исторические события и ситуации. Она лишь форсирует, усиливает социально-психологические факторы, характерные, типичные в поведении господствующей верхушки Трои (и, догадывается читатель, Украины). Относится это в равной мере к мужчинам и женщинам.
Андромаха, Елена, Поликсена… Что общего у них с народом? Способны ли они сделать хоть в малом доброе. спасительное для Трои? Нет! Для них любовь к родине — далекое и неведомое чувство.
А мужи троянские, кто они?
Героем, достойным троянской славы, выступает в драме Гектор. Он символизирует силы, вставшие на защиту родного города. Частично сюда можно отнести и молодого троянца Долона — бывшего жениха Кассандры. Не колеблясь, без страха он идет за Трою на смертный подвиг. Но это самопожертвование напрасно — он не боец, не для него тяжелый меч:
Молоденький и нежный, не для битвы,
Для лиры, для кифары он родился
И для весенних песен… Что им делать,
Таким рукам с тяжелыми мечами,
Которые вздымаются над ним…
Брат Кассандры Парис — безвольное существо, избалованное, изнеженное. Как только увидит свою жену Елену, ничто для него не существует:
Нет ни отца, ни матери, ни дома,
Ни края отчего… Троянки, плачьте!
Погиб бесславно молодой Парис!
Кассандра говорит, что он только и жил тогда, когда играл на свирели среди отар. Теперь Парис молчит в совете и «оружье надевает, словно цепи, и боги с ним в беседу не вступают». Он для них — ничто.
А вот старший брат Кассандры — Деифоб. По своему положению он властелин и стратег. На самом же деле лишен здравого смысла, не способен видеть дальше собственного носа. Он не в состоянии постичь спасительные пророчества сестры и воспользоваться ими в борьбе с врагами. Деифоб советует Кассандре:
Взяла ты прялку, это и прекрасно.
Сказать по правде, девушке приличней
Все это, чем пророческие речи.
Пряди и не предсказывай.
Он энергичен, деятелен, берется за все, но все это без толку, Деифоб плывет по течению событий, недоступных его пониманию.
Четвертый брат, Гелен, также значительная особа — он жрец и всеми признанный предсказатель. В счастливые и пасмурные дни общество обращается к нему за советом, ведь он посредник между ним и богами, мудрый и справедливый, видящий то, что другим неподвластно. Таким Гелен представляется народу, Деифобу и всей правящей верхушке. На самом же деле он мошенник. На вопрос Кассандры, что показывают его предсказания с помощью приношения жертв богам, Гелен с откровенностью циника говорит: «И кровь, и дым от жертвы — это только покров и украшенье голой правды для глаз людских». И продолжает далее, что правды вообще не существует, что «эту ложь, что сбудется, — все правдою зовут… Чертою тонкой от правды ложь когда-то отделялась, а в настоящем нет уж и черты».
Приспособленчеству, предательству этого «предсказателя» Леся противопоставляет мудрость и правду Кассандры, ту правду, которую она видела своими глазами: суровую, грозную, страшную. Гелен рассказывает толпе собственную выдумку, ложь, но приятную, успокаивающую. Кассандра будоражит душу, а Гелен убаюкивает ее. Он хорошо уяснил для себя, что ум человека слаб, что ему труднее воспринять истину, поверить в нее.
…Утратив веру в победу, ахейцы пустились на хитрость: сняли осаду — одного лишь деревянного коня оставили на месте лагеря. Троянцы обрадовались. Гелен в праздничной белой одежде провозглашает, что конь тот — дар богам троянским от ахейцев в знак уважения и согласия. Честь ахейцам!
Народ в восторге: «Ахейцам честь!»
«За что им честь, — слышен голос Кассандры. — За кровь, за смерть, за слезы?»
Когда Гелен приказал перевезти подарок ахейцев в царский двор, Кассандра борется. Ее охватил страх, она ведь знает, что в том коне притаилась погибель Трои. Но Кассандре никто не верит, ее высмеивают, считают сумасшедшей.
Это была последняя ночь Трои. Все разошлись по домам. Стража, изрядно захмелев, уснула. Вражеские воины выскакивают из коня, открывают ворота, и ахейское войско врывается в город. Кассандру, которая была единственной, кто не уснул в ту ночь, связывают ремнями. Напрасно она изо всех сил кричит: «Проснись же, Троя, смерть к тебе идет!»
Разгромленная, разрушенная Троя гибнет в огне. Пленных троянцев победители угоняют в рабство.
Леся Украинка своей «Кассандрой» заглянула в тайны прошлого, сумела раскрыть их в назидание современникам. Пророчица Кассандра только видела недоступное другим, но не в состоянии была ни объяснить те картины, ни установить причинную связь между ними и действительностью.
Леся же видела и понимала. Она постигла то, что не по плечу Кассандре. Однако обе они были бессильны сделать так, чтобы правда, которую они знали, господствовала в мире и прежде всего в родной стране. Но это уже не их вина.
На исходе 1908 года Квитке сообщили, что он может занять место помощника мирового судьи в грузинском городе Телави. Супруги начали готовиться к далекой зимней дороге: с их слабым здоровьем это нелегкое предприятие. Особенно для Климента. Из-за него Леся отказалась от запроектированной ранее поездки в Египет на лечение — боялась оставить одного. Поехать с нею Квитка не мог — это равносильно уходу в отставку, а потом попробуй устроиться на службу!
Для Лесиного здоровья Телави не очень подходил. Но что поделаешь? Служба есть служба. Утешали себя, что там будет неплохо. Город расположен значительно выше над уровнем моря, чем Тбилиси, но, в конце концов, семьсот метров — не бог весть какая высота. В сравнении с окружающими его горами он словно в долине: слишком высоко, чтобы быть доступным малярии, и слишком низко, чтобы быть подвластным холодным ветрам. Зима там более сухая, чем в Ялте, и не очень холодная. Да и вообще, нигде в России зимой нет для нее благоприятного климата, как говорил ей когда-то врач Израэли. Выбирай не выбирай, а если нет возможности поехать в Египет, пусть будет Телави.
Так размышляла Леся, собираясь на Кавказ.
Где-то в январе прибыли в Телави. Сняли квартиру в небольшом домике на улице, которая носит сегодня имя Камо. Комнаты были мало приспособлены для зимних условий. Бытовые неурядицы, трудности с питанием приносили Лесе немало хлопот и неприятностей.
Хотя зимой Телави и не так привлекателен, однако кавказский колорит чувствуется во всем, особенно весной, когда природа пробуждается от зимней спячки.
«Живем мы здесь чуть больше двух месяцев. «Проза жизни» добывается тяжкой ценой, зато поэзию и добывать не надо — сама окружает тебя со всех сторон. Из моего дома виден весь Дагестан, величественный белоголовый кряж. Он далеко, верст за сорок, но в ясные дни и лунные ночи сдается, что он движется, приближается так стремительно, что прямо оторопь берет. Тогда он, словно привидение вновь сотворенного мира, кажется легче облака, прозрачнее льда…
Посреди города — замок с башнями и зубчатыми стенами. Он напоминает мне Луцк и мое «отрочество». И в каждом уголке города есть «своя руина» — древняя часовня или сторожевая церковь. Люди — грузины-кахетинцы — приветливы и уважительны, правда, редко с ними случается разговаривать, так как большинство из них знает только свой родной язык. Мы мало с кем знакомы, живем сами по себе да со своей бедой в придачу. Мучит то, что так далеко живем от своего края и семьи…»
Еще до отъезда на Кавказ Леся почувствовала какие-то незнакомые признаки болезни: частенько голова болит, поташнивает и «температура временами капризничает». Ялтинские врачи заверили, что ничего особенного — явление нервного порядка, результат анемии, общей слабости.
А спустя несколько месяцев Леся писала матери, что жар, боли, кровотечения очень изматывают ее, приводят в состояние апатии, когда трудно заставить себя взяться за какую-либо работу. Если что и делала в это время Леся, то лишь из крайней необходимости, а не по доброй воле.
Вскоре выяснилось, что болезнь — в который раз — перебросилась на другие органы — почки. Значит, война продолжается. В этом было что-то фатальное — туберкулез ни за что не хотел покидать свою жертву. Выгонят его из одного места, а он проникает в другое: нога, рука, снова нога; заблокировали в легких — он избрал самое уязвимое место — почки. А это его последняя, неприступная для врачей крепость.
Леся попыталась погасить новую напасть в зародыше и весной 1908 года поехала в Берлин с готовностью согласиться на операцию. Но после исследований врач Израэли сказал, что это невозможно: обе почки поражены. Врачи предсказывали, что больше двух лет Леся не протянет.
Прошло лето 1909 года, наступила осень, а здоровье все ухудшалось. Кавказ не помогал. Врачи настаивали: единственное спасение — сухой, теплый климат зимой, и настойчиво советовали Египет. Итак, выбора уже не было. Только ехать.
Хотя Лесе и не привыкать к путешествиям, но в этот раз оно было особенным: с больными почками в дороге очень трудно; к тому же далекий, чужой край. Надо добираться железной дорогой, затем морем и снова ягелез ной дорогой.
«Мне, видимо, на роду написано, — говорила Леся своей подруге, — быть такой princesse lointaine,[78] пожила в Азии, поживу еще и в Африке, а там… буду подвигаться все дальше и дальше — пока не исчезну, не превращусь в легенду… Разве ж это плохо?..»
Ощущая неотвратимость трагического исхода, безвыходность своего положения, Леся не может скрыть в письмах к родным и друзьям горькие нотки печали; она осознает, что «теперь, если сказать правду, она инвалид, только не хочет формально этот титул носить».
Но о своем будущем Леся думала спокойно, рассудительно, как человек, обладающий сильной волей и четкой, определенной целью жизни. Еще летом, когда она уже знала «по объективным признакам, что дело ее не из лучших», писала сестре Лиле:
«Надо воспользоваться тем, что имею остатки своих денег, и попытаться обмануть бациллы еще раз — если не поздно. Ну, а если окажется, что уже поздно, то, конечно, ни на кого пенять не буду и на судьбу — также, потому что, собственно говоря, наступит консеквентный финал той судьбы, которую я сама себе выковала. А если бы вдруг возвратилось время того кования, то я, скорее всего, делала бы все так же и исход был бы точно такой же. Логично рассуждая, я, возможно, не имею права спасаться, но здесь решает уже не логика, а инстинкт и некоторые «посторонние соображения».
Между прочим, у меня именно теперь много всяких грандиозных литературных замыслов и хотелось бы отсрочить время полного инвалидства, пока еще не такие годы, что «ум кончал…». Так или иначе собираюсь в Египет».
5 ноября выехали из Телави в Тбилиси получать бумаги для заграничного путешествия. Здоровье Климента Квитки за последний год значительно улучшилось, и теперь, получив двухмесячный отпуск в окружном суде, он сопровождал жену к месту лечения.
Через несколько дней в Трапезунде сели на пароход и вышли в море. Несмотря на все усиливающуюся слабость, Леся мужественно переносила качку, даже помогала другим женщинам, страдающим морской болезнью. Благополучно добрались до Александрии, а оттуда железной дорогой через Каир в Гелуан.
Поезд мчал по песчаной пустынной равнине. На какое-то время Леся забыла об усталости, о боли, изнуряющей до безумия. Она прильнула к окошку. По голубоватому небосводу медленно поднималось солнце, поначалу желтое, затем ослепительно яркое. По вечно залитой солнцем пустыне, которой неведомы дожди и туманы, снега и морозы и которая никогда не слышала грома и не видела молнии, где испокон веков сухой, словно законсервированный, воздух, катит свои мутные воды «всемогущий батюшка Нил», орошает пустыню и поит жизненной влагой буйную пшеницу.
Леся открывала для себя новую страну с ее диковинными сооружениями, стройными минаретами, шумными, переполненными разноплеменным людом городами. Словно посланцы какого-то иного, потустороннего мира, взмывали ввысь руины храмов, гробниц, колонны дворцов и пирамиды — царские гробницы. Сто тысяч рабов на протяжении многих лет изнемогали от каторжного труда, сооружая только одну из них. И все на этом грандиознейшем в мире кладбище испещрено иероглифами — загадочными знаками, рисунками, геометрическими фигурами, символическими изображениями людей, зверей, невиданных и непонятных существ, растений, плодов, орудий труда. Так везде: на дереве, камне, многочисленных папирусах, на стенах храмов и гробниц, на саркофагах, статуях богов, шкатулках и посуде…
Гелуан расположен в двадцати километрах южнее Каира. В те времена это небольшой городок среди песков, вблизи подножия невысокой гряды известняковых гор под названием Маккатам. Коренное население — арабы — занималось земледелием, мелким ремеслом, торговлей. Жили они в убожестве и нищете. Многие гелуанцы, в особенности дети, как свидетельствует Николай Охрименко (он находился здесь на лечении в одно время с Лесей Украинкой и брал у нее уроки французского языка), болели трахомой. Лишь незначительная часть жителей имела хорошие дома, которые по внешнему виду можно было отнести к смешанному арабско-европейскому стилю. В таких домах часть окон перекрыта узорчатыми деревянными решетками — за этими окнами жили женщины гарема.
Один из домов богатого бея был снят врачом, выходцем из России, под пансион «Континенталь». Здесь Леся и остановилась.
Спустя месяц Климент Квитка возвратился в Телави — отпуск подошел к концу.
Довольно быстро привыкла Леся к новым условиям, и здоровье ее потихоньку восстанавливалось. Через несколько дней ей здесь понравилось все: долгие годы беспрерывных странствий по различным странам выработали способность к быстрой адаптации.
Египет привлекал Лесю Украинку не одним только климатом, но и своей многовековой историей и культурой. Лесе давно хотелось увидеть древние памятники некогда могущественного, может быть, сильнейшего в мире государства, подняться на курганы, под которыми захоронены величие и слава Египта, радость и горе многих народов мира.
Немало приходилось Лесе Украинке писать раньше о жизни на берегах Нила. Не однажды она садилась за стол, закрывала глаза и представляла эти своеобразные, неповторимые пейзажи, солнечные просторы, по которым пролетают боевые колесницы с отважными воинами, Свистят в воздухе смертоносные стрелы. А вдоль мутного Нила, по пыльной дороге плетутся обессиленные, голодные толпы. Как скот, гонят пленных, теперь уже рабов, «в дом труда, в страну неволи»…
И вот сейчас поэтесса в Египте. Перед ее глазами живой Нил, настоящие пирамиды и фантастические сфинксы.
Непреодолимое желание как можно быстрее познакомиться с Египтом осуществлялось нелегко и не сразу. Болезнь почек не позволяла много ходить, а тем более предпринимать дальние экскурсии. Обращаться за помощью она стеснялась, так как вообще не любила быть кому-либо в тягость. Правда, пока здесь находился Квитка, они посетили знаменитый Каирский музей, ездили в район Гизе, известный пирамидами Хеопса, Хефрена, Менкуара.
Булакский музей в Каире — явление исключительное. Это был второй (после Неаполя) музей, переносивший посетителей в древний мир — за две, три, четыре, даже пять тысяч лет назад — и показывающий жизнь такой, какой она была тогда. В Каире из вечных гробниц вынесены цари, их жены, дети, жрецы — мумии с покрывалами и дорогими украшениями, папирусами, одеждой, ожерельями, цветами. Более того, пшеничные зерна, пролежавшие в могилах четыре тысячелетия, были посеяны — и взошли, созрели, дали урожай. Выходит, из пшеницы, заготовленной для фараона Рамзеса или Тутмоса, можно выпекать полтавские бублики.
Во второй раз Леся посетила этот музей вместе с жильцами «Континенталя», Как рассказывает Николай Охрименко, они с Лесей приехали заранее, осмотрели нижний этаж музея, отдохнули, а затем вместе со всеми поднялись на второй этаж. Здесь она хотела отыскать священного жука-скарабея, вылепленного из глины или выточенного из камня — в различных вариантах. Дело в том, что в «Континенталь» нередко захаживали разные продавцы, фокусники, ворожеи. Один старый настырный араб предлагал купить у него «неподдельную старину», в частности жука-скарабея. Однако все убеждали ее, что это только подделка под старину, и Лесе любопытно было самой удостовериться в этом.
Экскурсия к пирамидам проходила поздно вечером. И не случайно: тысячелетние памятники хорошо смотрятся в лунную ночь, тогда они кажутся особенно величавыми и загадочными. К тому же при слабом освещении не так заметны повреждения, полученные ими на протяжении их долгой жизни. Когда подходили к пирамидам, кто-то вспомнил, что свыше ста лет назад здесь побывал Наполеон со своей армией. Указывая рукой на пирамиду, он обратился к своим воинам: «Солдаты, с высоты этих пирамид на вас смотрят сорок веков!»
Экскурсанты обогнули песчаный холм, спустились в неглубокую лощину и оттуда любовались тремя пирамидами-великанами, выделявшимися на фоне неба своими монументальными силуэтами.
Леся вместе со всеми не спеша обошла вокруг Хеопсовой пирамиды, не переставая поражаться ее колоссальным размерам. Построена была она почти три тысячи лет назад и до появления Эйфелевой башни (1889) в Париже была самым высоким сооружением в мире — 146,5 метра. Пирамида состоит из тщательно вытесанных и плотно уложенных известняковых блоков весом около 2,5 тонны каждый. На строительство ушло два миллиона триста тысяч таких блоков. И это практически без какой-либо техники, вручную! Рядом пирамида Хефрена, чуть поменьше Хеопсовой.
Странное чувство овладело всеми, когда проходили между этими созданными человеческими руками скалами. Несмотря на то, что расстояние между ними довольно велико, казалось, словно что-то нависло над головой, и гнетет, и давит, прижимает к земле. Шли молча, стараясь ступать бесшумно. На лицах — то ли плохо скрываемый страх, то ли просто растерянность, необъяснимое чувство тревоги, понимание всей бесполезности огромного труда, по прихоти деспота вложенного в никому не нужную геометрическую фигуру. Ощущение трагедии древнего народа…
Приблизились к статуе Большого сфинкса: на них смотрел каменный получеловек-полузверь с остатками львиной гривы, с пробоинами на лице. Говорят, что в свое время голова сфинкса послужила мишенью для наполеоновских солдат.
«Видели мы громадные пирамиды и Большого сфинкса, — писала Леся, — и впрямь это единственное в своем роде зрелище во всем мире! Никакие картины, фотографии и т. п. не могут составить истинного представления о душе этих каменных существ. В особенности сфинкса с его тысячелетней душой и живыми глазами — он видит вечность. А какой пейзаж раскинулся перед ним!.. Не разочаровал меня Египет, а еще больше очаровал, но его гениальный дар я до конца поняла только тогда, когда побывала в Каирском музее».
В гробнице ассирийского царя Ассаргадона — завоевателя Сирии, Финикии, Египта и многих других древних стран — обнаружен камень с горделивой надписью: «Я — царь царей, я солнца сын могучий…»
Леся Украинка на эту тему написала стихотворение «Надпись в руине», в котором Ассаргадон — не рыцарь, не герой, не вождь, а кровавый завоеватель. Поэтесса клеймит разбой царя, его издевательства над рабами, порабощение народов. Когда он пирует — колесница мчит по морю людской крови:
Полями едет по телам убитых,
И веселится по своим гаремам,
И подданных на битву посылает,
И мучит он работой свой народ,
Той страшною египетской работой,
Что имя царское должна прославить.
Прошло время — и царь скончался. Бесследно исчезла его ненавистная «слава», а гробница, сооруженная руками рабов, осталась. Но она — памятник тому, кто ее воздвиг:
Давно в могиле царь с лицом тирана,
И от него осталась только надпись,
Певцы, ученые, мечтая, не старайтесь
Найти царя исчезнувшее имя:
Судьбою создан из его могилы
Народу памятник — да сгинет царь!
«Да сгинет царь!» — таков девиз этих памятников. Все в мире преходяще. Только народ несокрушим и вечен, только он достоин славы.
Интерес к Древнему Египту был подогрет еще больше после ее знакомства с Дмитрием Яворницким — известным ученым, знатоком старины, исследователем истории Запорожской Сечи. И, надо заметить, еще и очаровательным человеком, страстно влюбленным в археологию и этнографию. Почти всю свою жизнь он провел в экспедициях.
Лесю приятно удивили жизнерадостность и энергия Яворницкого, его универсальная эрудиция.
Страстный, профессиональный рассказ Яворницкого о памятниках старины помог Лесе увидеть, открыть для Себя немало нового. В тот день, когда оба снова побывали в Гизе, Яворницкий обратился к Лесе с вопросом:
— Лариса Петровна, думали вы о том, по какой земле мы сейчас ходим?
— Да. Я уже была здесь при лунном свете — тогда ночные впечатления угнетали мысль, рождали чувство страха. А вот сейчас я ощущаю, что иду по следам сказочной древности и, кажется, вот-вот увижу отпечаток фараонской сандалии Хафра или самого Хеопса, а скорее всего — следы босоногих пленных из нубийских степей…
— Подобные мысли возникали и у меня…
На память о встрече в стране пирамид Леся Украинка подарила Яворницкому фотографию с дружеской надписью.
Так протекала жизнь в Египте. Исподволь восстанавливались силы, а с ними возвращалось желание работать. Поэтесса заканчивала большую драму «Руфин и Присцилла», написала новую драму «Боярыня». А чтобы заработать какие-то деньги на жизнь, согласилась давать уроки: несколько человек обучались у нее французскому языку. Разумеется, гонорар был мизерным, но в ее затруднительном положении и эти гроши не были лишними.
На запад от Гелуана, где кончались пески да известняковые холмы, раскинулась благословенная долина Нила. Несколько раз выбиралась сюда Леся на прогулку вместе с кем-нибудь из соседей по пансиону. Останавливались в городке Сан-Джиованни, а оттуда пешком — в пальмовую рощу, на берег Нила. Находили красивое местечко под высокими деревьями, создававшими своими переплетшимися верхушками сплошной навес. Садились в тени. Отсюда видны желтоватые воды реки, крохотные поля феллахов. Кое-где виднелись одинокие фигурки пахарей. Верблюды или буйволы тащили примитивные плуги. Вокруг царила неподвижная тишина. Все замерло. Только неотступно роились мысли: о давно минувшем, о настоящем, о будущем…
Однажды, когда Леся возвращалась из пальмовой рощи и уже подъезжала к Гелуану, кто-то закричал:
— Посмотрите на небо! Оно все полыхает!..
И правда: небо вспыхнуло удивительными огнями: то пурпурным, кроваво-красным, то красновато-фиолетовым, оранжевым, золотистым.
— Ах, как красиво! Я еще никогда не видела подобного сочетания красок и не представляла, что такое вообще возможно, — в восхищении молвила Леся.
Был полдень — в это время такое зрелище особенно прекрасно. Все остановились и забыли обо всем: любовались небесной иллюминацией. Вдруг послышались крики — это приближался запыхавшийся негр Али — служащий «Континенталя».
— Хамсин, хамсин! — взволнованно повторял он одно и то же слово. — Кач, кач… — жестами предлагая немедленно возвращаться домой.
Из рассказов местного населения Леся уже знала, что хамсин, или хамсун, — это ветер из пустыни, поднимающий высоко в небо и несущий за собой мелкую песчаную пыль. Микроскопические кристаллы песка, преломляясь в солнечных лучах, создают световые эффекты.
Едва успели к ближайшей веранде «Континенталя», как хамсин со всею силой обрушился на городок. Прислуга поспешно закрывала все окна и двери, занавешивала их мокрыми покрывалами и одеялами, чтобы преградить путь хамсину в помещение. Но, несмотря на все старания, вечером, за ужином, у всех на зубах поскрипывал песок. Пыль проникла всюду. У одного из жильцов даже остановились карманные часы.
О хамсине у египтян существует немало легенд и преданий. Хамсин — на арабском языке «пять». По-разному истолковывают арабы связь песчаной бури с этим числом. Самое распространенное объяснение: хамсин дует беспрерывно пять суток или же такое количество дней, которое делится на пять. В целом хамсин свирепствует пятьдесят дней в году. Катастрофические ураганы, разрушающие строения и уничтожающие посевы, случаются один раз в пятьдесят лет. В дни бури температура повышается до 50 градусов. Кроме правдоподобных объяснений, существует множество фантастических. В некоторых из них хамсин изображен злым богом Сетом, убившим своего брата Озириса — бога солнца.
В цикле египетских стихотворений, написанных Лесею в ту весну в Гелуане, первым стоит «Хамсин». Это образное видение грозной песчаной бури, настигшей поэтессу в тот день, когда она возвращалась из пальмовой рощи в Сан-Джиованни:
Хамсин в пустыне рыжей разгулялся.
Томимый страстью, в воздухе он мчится,
Песка своим сухим крылом касаясь,
И обжигает пламенным дыханьем…
Былое вспомнив, весел стал хамсин,
И сдвинулась тогда пустыня с места
И в небо ринулась. И в желтом небе
Померкло солнце — око Озириса, —
И показалось мне — весь мир ослеп…
В другой раз Леся Украинка поехала в Каир вместе с братьями Охрименко — Николаем и Дмитрием. В тот день отмечался какой-то религиозный праздник. В арабских кварталах — необычайное возбуждение, веселье. Долго ходила Леся по улицам и площадям, присматривалась к быту, обычаям местного населения. В оживлении, царившем среди египтян, она видела проявление чувства национального достоинства и самосознания. Не случайно же английские колониальные войска с утра до ночи непрерывно маршировали по городу.
Тишь и безмолвие. Кажется воздух водою стоячей…
Откуда же грохот и свист?
Слышите дробь барабана, трубы раздается звучанье!
Эй, замолчите!
Кому эта песня нужна?
Им все равно! Маршируют, гремят англичане,
Грозно вдоль Нила идут, чтобы вся
трепетала страна».
Наступала весна, пора возвращения домой. Надо готовиться в дальний путь, а состояние здоровья не ахти какое. К болезни почек присоединилось другое — снова «отозвалась нога». В письме к матери Леся говорит: «Вероятно, там осталась от Бергмана какая-нибудь недорезанная бацилла и так мне целый месяц упорно надоедала, что временами и до плача доходило… Сейчас она уже привыкла к туберкулину, или, может быть, ее одолели хамсин и серные ванны, но уже одумалась и не мешает ни спать, ни ходить, хотя временами дает себя знать… Пробовали было «солнечную ванну», но это неожиданно обернулось неприятностью: температура подскочила до 38°, пульс — до 115… Уж не рассердился ли на меня мой бог Ра за то, что я, кроме его небесной силы, обращаюсь к нечестивым земным лекарствам…»
Как ни избегала Леся жалоб на свои несчастья, а все же вынуждена была сознаться, что ей плохо, что, пока сидит, еще ничего, а как походит, то уже и больная: «Правду сказать, порой чувствую, что сама себе так надоела, как может, казалось бы, только посторонний человек надоесть. Стараюсь лишь, чтобы другим это мое чувство не передалось… Надеюсь, что со стороны это незаметно, так как вид у меня — здорового человека».
В таких условиях писание продвигалось слишком медленно. К недовольству собой прибавлялись еще и постоянные заботы о средствах для лечения и удовлетворения обычных повседневных потребностей. В одном из писем к матери она сетует на то, что гонораров ей не высылают, а ее заработки в Гелуане уменьшились, так как осталось только два ученика, а все остальные убежали от хамсина. Так же поступили и миллионеры, которые давали ей переводить различные торговые контракты. Все это «подсекло» бюджет Леси так, что ей даже не на что было купить летнее платье.
Да еще и редакторы приносят уйму неприятностей своим произволом по отношению к рукописям. Отвечая писательнице Надежде Кибальчич, которая также жаловалась на самоуправство редакторов «Украинськой хаты»,[79] Леся говорит: «…Вы меня подобными specimens[80] не удивите: j' en ai vu de toutes les couleurs.[81] Вот, например, «Вестник» все еще «исправляет» форму моих стихотворных произведений, хотя достаточно определенно просила «оставить мои грехи на моей совести»; исправляют старательно, вплоть до полного разрушения стихотворного размера… Что поделаешь? Ведь нам
Уезжаю я отсюда с сомнительными приобретениями во всем, что касается здоровья… Литературные мои приобретения невелики: написала маленький цикл стихов «Египетская весна» (послала в «Ридный край») и вот заканчиваю (собственно, «выглаживаю») написанную в прошлом году драму из первых веков христианства «Руфин и Присцилла». Сначала выправляю я, а потом уж будут выправлять редакторы — «ни аминь, ни господи помилуй», как тот поп, что «рассвячивал» мирянину хату…»
Опустел «Континенталь» — разъезжались Лесины соседи. Начала собираться и она. 29 апреля ее друзья по пансиону Охрименко устроили нечто вроде прощального вечера. Сидели в одной из свободных комнат, вели тихий, мирный разговор, вспоминали прожитые полгода. Леся занималась шитьем и беседовала с матерью своих учеников, старший сын ее — Дмитрий — потихоньку играл на мандолине, младший сидел за столом — что-то рисовал. Так просидели часов до десяти. Потом вышли на террасу, любовались звездным небом, отыскивая знакомые созвездия и звезды. В направлении Полярной — Россия, Украина…
В мае Леся отплыла из Александрии и через неделю была в Одессе. Отсюда через Тбилиси предстоит добираться в Телави. Долгий и трудный путь для женщины с таким здоровьем. Но как только она ступила на украинскую землю, вдруг ощутила смертельную тоску по родным местам и семье. Решила непременно посетить Киев.
Родные, друзья искренне, с радостью встретили поэтессу. Но не было, к сожалению, среди них дорогого и любимого человека, который, может быть, больше всех любил ее, — не было отца. Он умер в прошлом году.
В Киеве много нового. Активизировалась общественная жизнь, улучшились дела с изданиями произведений украинской литературы. Начали выходить журналы: переведенный из Львова «Литературно-науковый виснык», вновь созданный ежемесячник «Украинська хата», «Ридный край» — еженедельный экономический, политический и литературно-научный журнал, прежде издававшийся в Полтаве; и даже небольшой детской журнальчик — «Молода Украина». Приятной неожиданностью для Леси был спектакль в музыкально-драматической школе Миколы Лысенко по ее произведениям «Ифигения в Тавриде» и «Саул».
Безрадостная жизнь ждала Лесю в Телави. Кому-то, более оборотливому, чем Климент Квитка, пришлось по вкусу место помощника судьи в Телави, и не успела измученная тяжелой дорогой Леся переступить порог дома, как снова надо было сниматься с места. В этот раз Квитку переводили в Кутаиси.
«Теперь я уже буду, — писала Леся матери, — в самой что ни есть Колхиде жить, так как, по преданиям, именно здесь аргонавты добывали золотое руно. Рион в древности также называли золотым — тогда в нем водился золотой песок (теперь его почти не осталось, разве что в самом устье). Там, говорят, и сейчас люди очень любят греческие имена, особенно Язон (это имя в Грузии широко распространено, только произносится оно Ясон, что, кажется, правильно). В Кутаиси, должно быть, очень тепло… только сыровато, но что делать!.. Хорошо, что оттуда ехать легко — 4 часа железной дорогой до Батуми, а потом морем куда угодно».
Где-то в середине осени переехали в Кутаиси. Домашние заботы не обременяли Лесю, так как теперь вместе с ними жили родители Климента, которые и занимались хозяйственными делами.
Поездку в Египет в этом году Леся отодвинула на глубокую зиму: надо было набраться сил перед дальней дорогой, да и со средствами туговато. Зато кутаисская осень выдалась на удивление благоприятной: сухой, тихой и по-египетски жаркой. Это радовало Лесю: такая погода сокращала продолжительность египетского климатологического лечения, а значит, уменьшала и расходы. А о том, что с деньгами приходилось нелегко, свидетельствует ее письмо сестре Ольге:
«Теперь еще напишу о деньгах. Мама недавно сама предложила, что даст мне 500 р. на лечение, независимо от других расчетов; я поблагодарила и не отказалась. Если мама не передумает и действительно будет в состоянии прислать мне те деньги, то мне их почти хватит на то, чтобы прожить в Египте месяца три — я же там не пробуду так долго, как в прошлую зиму: выезд в декабре, а к апрелю хочу уже быть в Киеве. Говорю «почти», так как сама дорога заберет около 200 р. с паспортом и т. п., а в Египте месяц жизни лечебной свыше 100 рублей стоит. Если буду в состоянии зарабатывать, как в прошлом году, то наверняка смогу получить деньги на «дополнительные расходы». Но если я и впредь буду так «киснуть», как теперь, то вряд ли что-то заработаю. А надо добавить 150–200 p. minimum. Минувшая зима стоила мне 700 р., не считая заработков (около 300 р.)…
Кленя получает неполных 150 р. в месяц… и на эти деньги четыре человека (из них два — хронические больные) на Кавказе не могут прожить без голода и холода. Вот я и не решаюсь ехать куда-либо или предпринимать какое-нибудь длительное лечение, пока не получу денег от мамы или от тебя и Доры. Я рассудила, что когда буду в Египте — не стану так экономить, как в прошлом году…»
В конце января Лесе стало совсем плохо: две недели температура держалась на уровне 38°. Болезнь приобретала все более опасную форму. Квитка растерялся и в отчаянии разослал телеграммы Лесиным родственникам — просил совета, как ему поступать.
Под Новый год немного отпустило. Начали готовиться в путь — снова в Египет. Только ехать с Лесей некому: ни Квитке, ни сестре Лиле не удалось получить отпуск. Закончилось тем, что где-то через неделю Леся отправилась одна.
Села на маленький, по-летнему оборудованный итальянский пароход. В это время сильно штормило. Разъяренное море подхватило кораблик и кружило, швыряло его как щепку. Обледеневший и заснеженный, как привидение, гонимый штормом по волнам, он несколько дней плыл неведомо куда. Вспоминая ту поездку, Леся говорила:
— Это было что-то невообразимое, я от всей души желала, чтобы корабль разбился и тотчас пошел на дно. Когда я вспоминаю ту мою «одиссею» и бесконечную гонку в скорлупе итальянской, готова поверить в чудеса… собственно, легче было бы не доехать совсем, чем так «доехать благополучно». Вдобавок к шторму свирепствовал холод — терпеть можно было только под тремя одеялами, и то натянув на себя все, что только возможно.
Миновав труднейшую часть пути, Леся пересела в Стамбуле на новенький румынский пароход и через три дня была в Александрийском порту. Как и в прошлом году, остановилась в Гелуане, только в другом пансионе — он назывался вилла «Тевфик». Через некоторое время, придя в себя после ужасного плавания, Леся говорила, что оно все же пошло на пользу, «так как от нечего делать хоть пять стихотворений написала окоченевшей от холода рукой». А затем, сама себе удивляясь, добавила: «Смотрите, какая несуразная, бессмысленная человеческая натура: пока жила буквально как собака — в холоде, в голоде (не очень-то будешь есть во время бури), — писала, можно сказать par force;[83] сейчас же — в тепле и в добре — хоть повесьте меня, ничего не хочется делать, а если и делаю — то из побуждений «патриотического долга»…»
Вынеся губительную и для здоровых людей дорогу, поэтесса гордилась своею выдержкой, силой своего духа. И в самом деле, трудно было одной тяжелобольной женщине пережить, как она говорила, такую «одиссею». Леся Украинка с полным правом могла обратиться к критикам своего творчества:
Кто вам сказал, что я хрупка,
Что с долей не боролась?
Дрожит ли у меня рука?
И разве слаб мой голос?
Весной 1911 года Леся Украинка возвратилась из Египта. Немного отдохнув у своих одесских друзей, заехала в Киев. Устроила дела, повидала родных и друзей и двинулась на Кавказ, к мужу. Снова Кутаиси, и снова целая «эпопея» переездов по местам службы Климента Квитки. Беспокойное лето прошло в постоянных изнурительных хлопотах. Жизнь на Кавказе становилась для Леси все труднее, здоровье все хуже.
Но странное дело: чем более жестокой была к ней судьба, чем глубже и сильнее поражала ее болезнь, тем большее сопротивление оказывала Леся. Именно в эти самые трудные два года она создала свои лучшие произведения.
1911 год:
Лето — драма-феерия в трех действиях «Лесная песня».
Осень — драматическая поэма «Адвокат Мартиан».
1912 год — большая драма «Каменный хозяин», или «Дон-Жуан».
1913 год, весна — последняя драматическая поэма «Оргия».
Как нередко бывает у больших поэтов, ярчайшее произведение о жизни и природе родного края было написано на чужбине.
«Лесная песня» родилась в Кутаиси.
Кутаиси раскинулся по обе стороны легендарного Риона, поднимаясь от самых берегов. С каждым уступом долина становится уже, а затем и вовсе преграждается высокими горами. Несмотря на свое губернское звание, город небольшой — около двадцати тысяч жителей. Запущенный, неблагоустроенный, с грязными улицами и дворами, давно не знавшими ремонта строениями и плохими дорогами, — таков Кутаиси в те времена.
Жили Квитки почти что в центре, на Козаковской улице (ныне Михи Цхакая, 9). В солнечные дни Леся выходила на веранду или устраивалась в уютном закоулке двора, который утопал в зарослях кустарника. Здесь она проходила курс «солнечного лечения».
В погожие летние дни выезжала на окраину города. Оттуда открывались чудесные пейзажи далеких, отливающих густой синевой гор. Выберет, бывало, укромное местечко под скалой, сядет на камень, покрытый сухим седым мхом, и слушает тишину. Взгляд теряется в далеких просторах, задерживаясь то на обрывистых, островерхих утесах, то на ущельях с могучими вековыми деревьями. А где-то в фиалковой дали, на фоне едва заметной кручи, устремившейся своей верхушкой в небеса, угадывается распятая фигура прикованного к скале Прометея и кровавого хищника — орла, который вон из той тучки черной тенью падает на свою жертву…
Замечталась Леся, и уже иные образы, иные чувства владеют ею. То чудится, что она — крохотная жалкая песчинка, занесенная в горы дуновением зефира. Вот она совсем растаяла, испарилась. И нет ни капельки страха… А то вдруг вырастает выше поднебесного пика Эльбруса. Тогда она ощущает себя титаном вселенной. И все, что раньше окружало ее непреодолимой стеной, приносило боли и радости, что составляло смысл жизни и без чего, казалось, остановится земля, — все это несущественно, мелко, даже смешно…
Почему-то в такие мгновения, когда терялось ощущение реальности, в памяти возникали картины Полесья, Волыни. Перед глазами — молчаливые и таинственные леса, приветливые, залитые солнцем левады, лесные тропинки и опушки, зовущие к себе запахами трав и веселыми яркими цветами.
Так когда-то и Шевченко в киргизских пустынных степях мечтал о родной Украине, о сини надднепрянских полей:
И на гору высокую
Взойти тороплюся.
Вспоминаю Украину
И вспомнить боюся.
И там степи, и тут степи,
Да тут не такие —
Все рыжие, багряные,
А там голубые,
Зеленые, расшитые…
Воспоминания о родном крае переносили Лесю в те далекие времена, когда она вместе с матерью и братом бывала в волынских селах — Жаборице, Чекне, Колодяжном, Скулине. Чаще всего в памяти возникал дядька Лев и его фантастические рассказы об урочище Нечимле. Летом он выбирался в это урочище, славившееся своим глубоким, бездонным, как говорили местные жители, озером.
Берега озера позарастали непроходимыми камышами и осокой, а там, где остались открытыми, не подступишься — под изумрудно-зеленым покровом дерна таилась страшная трясина. Вокруг озера старый, густой, девственный лес, только в одном месте отступавший от берега. Здесь, у озера, на опушке, стояла хата, в которую на лето переселялся дядька Лев со своими племянниками — Ярмилом, Самсоном и Нестером…
«У дядьки Льва в Нечимле, — рассказывает Ольга Косач, — была хатка и сарай для сена с тремя стенками и крышей — с четвертой стороны, к озеру, он был открыт. В том сарае на сене мы ночевали, тогда как раз были лунные ночи, и даже ночью видели озеро, лес, заросли камыша. Мы пробыли там три дня и две ночи, много ходили по лесу. Дядька Лев не топил в хате, а разводил огонь на воздухе: здесь он готовил, грелся у костра по ночам, когда становилось прохладно. Прогулки по лесу и у озера, а особенно рассказы дядьки Льва у костра, помогли нам узнать много доселе неизвестного: о лесе и озере, о всякой нечистой силе — лесной, водяной, полевой, об их обычаях и отношениях между собой и с людьми…»
Припоминалась Лесе одна смешная сценка. В первый вечер, как они приехали в Нечимле, племянники дядьки Льва взобрались на старую развесистую липу, росшую вблизи сарая, — один со скрипкой, второй с бубном — да как откололи такую плясовую, что и на ногах не устоишь. А дядька снизу кричит:
— Залезайте повыше, пускай в Доротищах девчата пляшут!..
Давно это было, а как живая картина те прекрасные лунные ночи, когда она, плененная полесскими легендами, украдкой убегала в лес в надежде встретить там настоящую Мавку.
В середине лета волынские мотивы полностью завладевают поэтессой. Невидимые крылья памяти все чаще уносят Лесю в сказочный мир детства: что бы ни делала, о чем бы ни думала, а образы народных преданий и легенд неотступно преследовали ее. Как только останется наедине со своими мыслями, они выползают из лесной чащи, из глубины прозрачной воды, из луговых туманов: тихонько приближаются, окружают и смотрят в глаза, то ли жалея, то ли упрекая ее…
Теперь Леся понимала, что ей нигде не спрятаться от этой толпы образов. Дядька Лев умер, и вся «лесная, водяная, полевая сила», с которой он когда-то познакомил Лесю, теперь нахлынула к ней. Она должна увековечить, дать ей бессмертие. Эти «гости» не отступятся, не оставят в покое до тех пор, пока она не пожертвует им частицу своего сердца, своей крови.
Итак, надо писать. Забыть о недуге, лекарствах, режиме. Забыть обо всем.
И она писала. Писала, начисто утратив ощущение реального мира. Не писала, а горела и сгорала в экстазе творчества. Так родилось бессмертное творение — «Лесная песня», которая вызвала изумление и восхищение современников. «Без боязни преувеличения можно уверенно сказать, — отмечалось в рецензии журнала «Литературно-науковый вистнык», — что произведения, равного «Лесной песне» по красоте, не только в украинской и русской, но и в европейской литературе сегодня нет. В форму чудесной сказки Леся Украинка воплотила вечную, неувядающую идею: трагедию возвышенной души. Душа возвышенная, душа вдохновенная желает счастья, а счастье льнет к земле! И бедная Мавка полюбила крестьянского парня Лукаша, потому что его свирель пела так, как не пела и весна… Ради своей любви Мавка позабыла все. Бросила родной лес, волю, красоту, превратилась в служанку и… не заслужила ласки Лукаша, потому что грубая проза жизни победила вдохновенную душу Мавки. Мавка увяла… Сгорела Мавка от любви и от горя, однако не упрекает своего любимого Лукаша: он погубил ее и вместе с тем дал ей жизнь:
Да ты ж мне душу дал, как острый нож
Дает отростку вербы тихий голос.
Эту вечную идею, этот неразрешенный конфликт вплела Леся Украинка в венок народной поэзии, славянской мифологии».
Вряд ли в каком другом произведении поэтесса достигла такого мастерства, совершенства и красоты, как в «Лесной песне». Стих здесь — как звездный узор, сотканный на серебряной основе. Удивительно богатый, разнообразный, меняющийся, как в сказке, но в полной гармонии с характерами действующих лиц и их настроением. Белый стих вдруг незаметно переливается в рифмованный; один размер переходит в другой…
«Лесная песня» поражает не только своим глубоким философским содержанием, но и тем, как она была создана. Большая стихотворная драма — в трех действиях — написана за десять дней! За десять дней мировая литература получила бесценное сокровище. Леся говорила, что в это время «не могла ночью спать, а днем есть… Писала я ее очень быстро и не писать никак не могла, потому что таков уж был несокрушимый настрой. Но после нее я заболела и довольно долго «приходила в себя». Была t° 38° и упадок сил».
В семье Косачей «Лесную песню» встретили с восторгом, решили немедленно печатать и готовить спектакль «Неожиданным для меня, — писала Леся, — был успех фантастики среди аудитории старших — людей, воспитанных на традициях реализма, — но тем лучше. Разумеется, я ничего не имею против того, что было это чтение. Любой пророк больше всего добивается «славы в отчизне своей и среди семьи своей», может, именно потому, что этого труднее всего достичь».
Еще произведение не вышло в свет, а уже слышались голоса о влияниях, заимствованиях из Гауптмана, Гоголя и т. п. Не верилось людям, что такой шедевр мог появиться на Украине без «посторонней помощи». На все эти домыслы поэтесса сама дает исчерпывающий ответ в письме к матери:
«А и сама я «неравнодушна» к этой пьесе, так как она мне подарила больше дорогих минут экстаза, чем какая-либо другая. Относительно импульса от Гоголя, то, насколько могу уловить сознанием, его не было. Мне кажется, я просто вспомнила наши леса и затосковала по ним, И кроме того, я давно уже эту Мавку «в уме держала», еще с той поры, как ты в Жаборице мне что-то о мавках рассказывала, когда мы шли каким-то лесом с маленькими, но очень частыми деревьями. Потом я в Колодяжном в лунную ночь убегала одна в лес (об этом никто из вас не знал) и там ждала появления Мавки. И под Нечимным[84] она мне грезилась, когда мы ночевали — помнишь? — у дядьки Льва Скулинского… Видно, нужно было мне о ней когда-то написать, а теперь почему-то пришло «благоприятное время» — я и сама не знаю почему. Зачаровал меня этот образ на всю жизнь. Теперь это очарование передалось и Клене — он относится к этой поэме, как к живому человеку, — мне даже странно…»
В «Лесной песне» переплелись фантазия и действительность, будничность, проза жизни и светлые поэтические мечты. Основной конфликт — противостояние двух миров: один темный, жестокий, в нем господствуют корысть и насилие; другой романтический, идеализированный, преисполненный человечности, любви и красоты. Реальные действующие лица вступают в отношения с фантастическими, сказочными персонажами.
Почти все «человеческие» герои драмы взяты из жизни: с их прототипами писательница была хорошо знакома. Дядька Лев так и вошел в поэму со своим именем. Лукаш напоминает одного из трех племянников дядьки Льва — Ярмилу. Это же он, Ярмило, катал Лесю на лодке по озеру, показывал, как делаются свирели, насвистывал прекрасные мелодии…
Сказочное царство изображено таким, каким его придумала человеческая фантазия и как оно выкристаллизовалось в народных представлениях за многие века. В фантастическом мире частично господствуют человеческие обычаи, характеры и быт. Лесные существа хоть и властвуют над явлениями природы, однако подчиняются определенным правилам поведения, законам. И здесь противоборствуют правда и кривда, добро и зло. Мавка, русалка, потерчата,[85] как и люди, переживают, радуются, горюют. Среди сказочных существ есть добрые и злые — они враждуют между собой. Водяной не любит и побаивается Лешего. Страшный Призрак («Тот, кто в скале сидит») стремится всех поработить, и т. п.
Особенность фантастических действующих лиц драмы состоит в том, что в воссоздании образов фольклора Леся Украинка отвергла традиции, имевшие место тогда в славянском искусстве, в частности в русском. Она решительно отказалась изображать их карикатурно-уродливыми, чудовищными.
— Зачем искажать и высмеивать образы, созданные человеческим воображением? Каков в этом смысл? — спрашивала она.
«Лесная песня» построена так, что каждому действию отвечает определенное время года: прологу — ранняя весна; первому действию — весна в расцвете; второму — позднее лето; третьему — глубокая осень. Место действия одно и то же: густой девственный лес на Волыни. Среди леса просторная поляна с плакучей березой и огромным столетним дубом. Здесь же — тиховодное, глубокое озеро, покрытое ряской и водорослями, но с чистым плесом посреди.
Пролог вводит нас в необыкновенный мир жизни «водяной и лесной силы». В первом действии выступают главные герои: Мавка, Лукаш, дядька Лев, Леший, Перелесник. Мелодии Лукашовой свирели разбудили от зимнего сна Мавку — лесную русалку. Сладкие звуки пленяют и волнуют ее. Она думает: тот, кто может так играть, наверное, красивый… Дедушка Мавки, степенный и добрый Леший, предупреждает, чтоб не засматривалась на «хлопцев людской породы», — это «лесным дивчатам — ох, не безопасно…».
…не ступай ты на людские тропы:
По ним не воля ходит, а тоска
Свой груз проносит.
Обходи их, дочка!
Раз только ступишь — и пропала воля!
Мавка смеется, не верит, чтобы воля да вдруг могла пропасть. Она забывает предупреждения Лешего и, когда Лукаш хочет надрезать ножом березу, бросается к нему и хватает его за руку:
Мавка
Не тронь! Не тронь! Не режь! Не убивай!
Лукаш
Да что ты, девушка? Я — не разбойник.
Я лишь хотел березового соку
попробовать.
Мавка
Но это кровь ее!
Не пей же кровь моей родной сестрицы!
Лукаш
Березу ты сестрицей называешь?
Кто ж ты сама?
Мавка
А я — лесная Мавка.
Лукаш
(не столько удивленно, сколько внимательно смотрит на нее)
А, вот ты кто! От пожилых людей
Про мавок я слыхал, но сам ни разу
Не видел.
Мавка
А видеть бы хотел?
Лукаш
Хотел бы, да… Что ж, ты совсем такая,
Как девушка… Нет, лучше — словно панна:
И руки белы, и стройна ты станом,
И как-то не по-нашему одета…
Вот только — не зеленые глаза.
(Присматривается)
Да нет, теперь — зеленые… А были,
Как небо, синие… Вот потемнели,
Как эта тучка… черными вдруг стали…
Нет, карими… Диковинная ты!
Лукаш — искренний, чистый, незлобивый как дитя, познакомился с Мавкой — воплощением пытливости, красоты и доброты природы. Понравилась она ему. А Мавка полюбила его навсегда. Встретятся, бывало, где-нибудь у озера под белой березой, играет Лукаш на свирели, а Мавка слушает. И любо им. Смог понять это добрый и справедливый дядька Лев и не стал препятствовать их любви.
Во втором действии назревают большие перемены. Зловещие тучи нависли над счастьем Лукаша и Мавки. На поляне у озера уже построена хата, засажен огород. На одной полоске — пшеница, на другой — рожь. По озеру плавают гуси. На плакучей березе сушится белье. Трава на поляне чисто выкошена и сложена в стог. По лесу разносится звон колокольчиков — там пасется скотина.
Итак, на лоно природы ворвались люди со своими извечными хлопотами и суетой. Вместе с ними пришли нужда, корыстолюбие, ссоры. Во имя любви Мавка покинула лесное царство, добровольно отреклась от друзей, от близких ей по духу и пошла к людям. Очень быстро постигла она премудрости их жизни, усердно занялась хозяйством: пасла коров, деревья таскала, когда строили хату, ниву засеяла, огород засадила, под окнами развела цветы. Все хорошо росло, богатый урожай собрали.; Но на каждом шагу возникали трудности, — ас ними приходило разочарование. Как ни старалась Мавка, а мать Лукаша была недовольна. Сварливая, изуродованная нуждою} скупая и жестокая женщина не могла понять Мавку.
Мавке тяжело было мириться с несправедливостью, с повседневными распрями. Люди поражают ее своим корыстолюбием и убогостью духа. Низменность, нищета такой жизни угнетали, гасили ее идеальные порывы. Но она терпела, ибо видела, что не все подобны матери Лукаша. Кроме ее веселого, доброго, любимого Лукаша, есть еще дядька Лев — ласковый, рассудительный, справедливый. Он не раз защищал Мавку от нападок своей сварливой сестры.
Но мать Лукаша не унималась. Отыскала в селе молодую вдову — проворную и работящую — и решила женить на ней Лукаша. Он поддается уговорам матери и обольстительным, бесцеремонным заигрываниям Килиный Он уже колеблется, не знает, любит ли Мавку. Она видит это и горько страдает. Только дядька Лев не изменяет ей:
Лев
(выходит из-за хаты)
О чем ты так, бедняжка, загрустила?
Мавка
(тихо, грустно)
Проходит лето, дядя…
Лев
Для тебя
Все это горько… Я уж было думал,
Что вербы на зиму тебе не нужно.
Мавка
А где б я зимовала?
Лев
Да по мне,
С тобой и в хате не было бы тесно…
Да вот сестру никак не уломаешь.
И так и этак говорил я с нею,
А толку нет… Я сам к зиме
Уйду в село, в свое жилье родное…
Когда бы там могла ты поселиться,
Я б взял тебя.
Мавка
В селе я не могу…
А то пошла б. Вы добрый и хороший.
Лев
Хорош и добр не человек, а хлеб.
Но это правда; очень мне по нраву
Лесное племя ваше. Умирать
Я в этот лес приду, подобно зверю, —
Вот тут под дубом пусть и похоронят…
Уходит лето. Мавка сидит у озера одна. Роняет голову на руки и тихо плачет. Начинает накрапывать мелкий дождик, густою сеткой заволакивая поляну, хату и лес. Затем от сильного порыва ветра дождевые тучи расходятся, и становится виден лес. Он весь в искрящемся осеннем убранстве на фоне темно-синего предзакатного неба.
Наступает осень, а вместе с нею и конец Мавкиному счастью. Нерешительный Лукаш быстро и легко привыкает к принуждению и неволе. Забывает свирель, пренебрегает несней. Наконец мать выгоняет Мавку, а Лукаша женит на Килине. Без Мавки, без любви к ней Лукаш погубил свой талант, полностью погряз в грубых бытовых заботах. Нежная, чувствительная Мавка не в силах вынести разлуку. Она бросается в смертельные объятия Призрака — «Того, кто в скале сидит», — чтобы обрести забытье.
Третье действие начинается на грозном фоне хмурой и ветреной осенней ночи. Последний желтый отблеск месяца гаснет в хаосе лесных вершин. Стонут филины, хохочут совы. Вдруг все это перекрывается тоскливым волчьим воем. Потом наступает тишина. Начинается тусклый болезненный рассвет поздней осени. На поляне заметен большой пень на том месте, где когда-то стоял столетний дуб, возле него — свеженасыпанная, еще не поросшая травой могила дядьки Льва. У одной стены Лукашовой хаты чернеет фигура, в которой с трудом угадывается Мавка — так она изменилась. Она вырвалась из темной пещеры Призрака, как услышала волчий вой, узнав в нем голос Лукаша, превращенного Лешим в дикого вурдалака. Она отыскала в сердце своем «волшебное живительное слово, что зверя превращает в человека», и спасла Лукаша, возвратив ему человеческое подобие. Но теперь он словно не в своем уме — нигде не находит себе места.
Итак, Мавка сторожит у хаты, чтобы увидеть любимого. Однако утром выходит Килина и, увидев Мавку, проклинает ее:
А чтоб ты засохла, как верба в болоте!
И Мавка мгновенно превращается в вербу с сухой листвой и плакучими ветвями. Выбежал из хаты мальчик, срезал с вербы ветку, чтобы сделать свирель.
Наконец возвращается спасенный Мавкой Лукаш, берет из рук мальчика свирель и играет веснянку — ту, что когда-то играл Мавке. Свирель вдруг заговорила человечьим голосом:
Сладко он играет,
Глубоко вздыхает,
Белу грудь мне разрывает,
Сердце вынимает…
Тогда Килина замахивается топором на вербу, но в это мгновение с неба огненным змеем-метеором слетает Перелесник и обнимает вербу. Она вспыхивает огнем — от него сгорела хата и все вокруг. Семья, собрав пожитки, отправилась в село. В лесу остается один Лукаш. Находит свирель, хочет играть, но тут появляется легкая белая фигура, напоминающая Мавку. Она склоняется над Лукашом, который смотрит на нее с невыразимой тоской: он сам погубил ее. Но Мавка думает по-другому:
О, не жалей мое тело!
Ясным огнем засветилось оно,
Чистым, сверкающим, словно вино,
Вольными искрами ввысь улетело.
Примет родная земля
Пепел мой легкий и вместе с водою
Вербу взрастит материнской рукою, —
Станет началом кончина моя.
Тихими стежками люди
Станут весною ко мне приходить,
Радость и горе свое приносить,
И отвечать им душа моя будет,
Встречу я всех, как родных…
Мавка просит, умоляет Лукаша играть. Вначале мотив грустный, как шум зимнего ветра, как печаль о чем-то погибшем, но незабываемом. Постепенно победная мелодия любви покрывает тоскливый напев. Появляется Мавка в весеннем наряде — такая же, как вначале.
Лукаш бросается к ней с возгласом счастья. Ветер сбивает белый цвет с деревьев. Этот цвет летит, летит, закрывая влюбленную пару, и затем переходит в сильный снегопад. Когда снегопад немного утихает, перед глазами снова зимняя природа. Деревья засыпаны снегом. Лукаш сидит одиноко со свирелью в руках, прислонившись к березе. Он сидит без движения. Снег шапкой лег ему на голову, запорошил всю фигуру и падает, падает без конца…
Погибла Мавка, погиб и Лукаш. Так закончилась бессмертная песня о короткой, но большой, прекрасной любви. Лукаш познал счастье, но не смог удержать его — оно, как дикая птица, вырвалось из рук. Не хватило сил у него. Да только ли сил? Не было у него ясного стремления, осознания своих желаний. А сила без этого — слепая стихия. Лукаш не смог освободиться от тяжести вековой темноты убогой жизни.
«Лесная песня» содержит немало моментов автобиографического характера. Прежде всего Мавка — образ глубоко драматический, но не трагический, несмотря на муки и даже гибель. Она видит, что люди жестоки и слепы. Но знает и другое: по природе своей они добры и умны. Потому-то она и приходит, чтобы пробудить их лучшие чувства. Ради этого Мавка жертвует собой. Она не добилась счастья — ни для себя, ни для людей. Но и не утратила веру в лучшее будущее — напротив, закалила ее. Просто рассеялась розовая дымка представлений о человеческой жизни. И это к лучшему, ведь эта дымка мешала ей глубже познать человека.
Не то же самое происходило и с Лесей?
Жизнь, преисполненная страданий и мук. Чудовище Призрак в облике туберкулезной бациллы тридцать лет подряд угрожает смертью. А Леся делает свое: прокладывает людям путь к прозрению, к пробуждению общественного, социального сознания; клеймит позором рабские души, беспощадно обличает эксплуататоров.
Вокруг — глушь, сон, равнодушие:
Как тяжело идти мне той дорогой.
Широкой, битой, пылью сплошь покрытой,
Где люди мне напоминают стадо,
Где нет цветов, где не растет бурьян!
Однако именно туда, где не растут ни цветы, ни бурьян, Лесю, как и Мавку, зовет ее совесть; ее влечет горячее желание:
Там, на высотах, непреодолимо
Я жажду знамя красное поставить,
Где сам орел гнезда не смеет свить!
Леся, как и Мавка, самоотверженно боролась, исходя из самой природы своего естества, своей души. И не могла иначе. Сцену Мавки с «Тем, кто в скале сидит» можно с полным правом отнести к самой поэтессе:
Призрак
Приют твой там: ты от огня бледнеешь,
И млеешь, цепенеешь от движенья;
Тень — счастье для тебя. Ты умерла.
Мавка
(поднимается)
Нет, я жива! И буду жить я вечно!
Есть в сердце то, что умереть не может.
Призрак
А почему ты это знаешь?
Мавка
Муку
Свою люблю и не хочу забыть.
Когда б забыть ее я захотела.
Я б за тобой пошла куда угодно,
Но никакая сила в целом свете
Желанного не даст мне забытья.
Леся, как и ее Мавка, видела смысл своей жизни не в личном счастье, а в чем-то высшем, большем — в том, что достигается самопожертвованием. «Не все обладают тем, что имеет кто-то, — писала она Кобылянской, — кто-то имеет искру в сердце, огонь в душе. Это не может дать счастья, но нечто большее и высшее, чем счастье, что-то такое, чему нет названия в человеческом языке».
Осень 1911 года в Грузии выдалась довольно сухая и теплая. Солнечные дни редко уступали облачным и дождливым. В декабре дневная температура держалась на уровне 15–18 градусов. Поэтому Леся решила, что эту зиму можно провести на Кавказе. Но в конце декабря болезнь неожиданно свалила Лесю и не давала ей подняться до мая. Зимние месяцы прошли в нестерпимых мучениях. Собственно, нельзя сказать, что это было так уж неожиданно: перед этим Леся написала большую драматическую поэму «Адвокат Мартиаи», от которой, как она выразилась, «заболела уже по-настоящему острым воспалением почек». Страшно похудела, ослабла.
Весна и целебное солнце принесли облегчение. Выздоравливала медленно и неуверенно, так как воспаление перешло во вторую стадию. Однако Леся не прекращала работать, у нее рождались новые творческие замыслы. Только немного поправилась — сразу же принялась за написание новой драмы.
Об испанском рыцаре Дон-Жуане писали выдающиеся художники мира. Свыше трехсот лет бродил по страницам книг испанский идальго со своим чудаковатым, но всегда находчивым слугой Сганарелем. Был Дон-Жуан смелым и сильным. И непутевым, забиякой. Не раз приходилось ему убегать от королевской стражи, прятаться на кладбищах и в пещерах. Не зная ни в чем меры, Дон-Жуан без устали гоняется за приключениями, оставляя на своем пути жертвы. В конце концов и сам гибнет. Легенда рассказывает, что в одном из поединков в Мадриде он сразил насмерть придворного рыцаря (командора), а сам начал приударять за его женой. Не устояв перед натиском Дон-Жуана, вдова пригласила его на ужин. Обрадовавшись, что наконец-то будет принят женщиной, к которой он воспылал столь сильным чувством, Дон-Жуан в шутку обращается к статуе командора с просьбой составить им компанию. Статуя и в самом деле пришла «в гости», а вместе с нею пришел и смертный час Дон-Жуана.
Этот традиционный сюжет использовала Леся Украинка, вложив, однако, в него новую идею. Не много нашлось критиков, которые поняли ее после выхода в свет драмы «Каменный хозяин» (1912). А вот что говорила сама поэтесса:
Леся Украинка в полной мере понимала огромную ответственность перед темой, которую после испанского драматурга. Тирсо де Молины разрабатывали Мольер, Байрон, Пушкин и многие другие. «Как видно по списку действующих лиц, — писала она, — это ни больше, ни меньше, как украинская версия всемирной темы о Дон-Жуане. До чего «дерзость хохлацкая доходит», — скажет господин Струве… Что это и правда дерзость с моей стороны, я и сама понимаю, но уже, наверно, «то в высшем суждено совете», чтобы я mit Todesverachtung[86] бросалась в дебри всемирных тем, как, например, со своею Кассандрой…»
Некоторое время Леся не решалась ни признаваться своим знакомым об этой драме, ни посылать издателям. Она колебалась. А что, если эта вещь не годится для публикации? Ждала мнения Олены Пчилки и Людмилы Старицкой. А они ничего не писали. «Может быть, эта вещь вышла неудачной, и они промолчали, не желая «огорчать» меня, но лучше услышать осуждение рукописи и воздержаться от напечатания, чем напечатать неудачную вещь, да еще на такую ответственную тему! — думала Леся. — Ведь это позор не столько для меня, но для нашей литературы вообще. Скажут: «Ну уж, разогнались хохлы с Дон-Жуаном, за триста лет впервые, да и то неудачно…»
Потому-то, хоть эта драма и была написана быстро (как и все произведения последних лет), однако времени она поглотила немало. Придя в себя после лихорадочных дней и ночей, отданных этой драме, поэтесса долго и придирчиво работала над нею снова и снова.
— А знаете зачем? — спрашивала она Ольгу Кобылянскую и тотчас же отвечала: — Чтобы сделать ее короткой. Она была чуть ли не вдвое длиннее. Надо было сконденсировать ее стиль, точно какую-то крепкую эссенцию, сделать его лаконичным, как надписи на базальте, освободить его от лирической вялости и растянутости (Лесе все время казалось, что она этим очень страдает!); уложить сюжет в короткие энергичные формы, придать ему нечто «каменное».
На деликатное замечание Ольги Кобылянской о том, что, мол, хорошо бы расширить драму, Леся отвечала:
— Принимаю это скорей за похвалу, нежели за укор. Если читатель
Не соглашалась Леся и с пожеланием Кобылянской лиричнее, красочнее писать картины жизни героев:
— Я не люблю обилия украшений и узоров на статуях, не люблю развешивать повсюду словесные гирлянды и «красоты». Эта драма должна напоминать скульптурную группу — таков был мой замысел, а об исполнении судить не могу.
В название драмы вынесена одна немаловажная деталь, определяющая между тем основную идею. Лесины предшественники следовали традиционному девизу: «каменный гость», так было у Тирсо де Молины («Севильский соблазнитель, или Каменный гость»), у Мольера («Дон-Жуан, или Каменный гость»), наконец, у Пушкина («Каменный гость»). Леся Украинка же увидела драму иначе: «каменный хозяин». И в этом таится глубокий смысл. Если во времена феодализма власть была непосредственным орудием грубой силы и угнетала отдельные классы и слои общества, то позже она становится всеохватывающей и опирается не только на меч, но и на все факторы духовной жизни. Господствующий класс контролирует всю экономику и идеологию, культуру и искусство; внедряет свои понятия морали, совести, правды, справедливости, патриотизма и т. п. В обществе на всем лежит омертвляющая печать идеологии монополистической буржуазии: везде господствуют «каменный, консервативный принцип».
В «Каменном хозяине» главный герой — «рыцарь свободы» Дон-Жуан — выступает поборником независимости и протеста против окаменевших традиций морали. Он не принимает лицемерной, чванливой жизни вельмож, высмеивает их господские порядки и привычки, попирает их «достоинство». Дон-Жуан презирает деспотическую власть «каменных хозяев», их религию и законы, ибо они уродуют человека, превращают его в раба. Ни преследования, ни задабривания не могут сломить его волю. Так было до тех пор, пока вдова всесильного командора донна Анна не пробудила в нем честолюбие. Властолюбивая женщина хочет, чтобы Дон-Жуан помог ей восстановить утраченную славу и в будущем завладел троном:
Добьюсь — и сделаю вас командором.
Избранник мой, должны вы стать высоко
В глазах двора и света. Всем известно,
Что рыцарем бесстрашным были вы
И в горестные времена изгнанья,
А уж теперь вы станете примером
Всех рыцарских достоинств. Вам легко!
Дон-Жуан спорит, не соглашается:
По-вашему, легко мне захлебнуться
В бездонном океане лицемерья,
Каким давно привык я называть
Суровый кодекс рыцарских достоинств?
Он понимает, что, женившись на Анне, получит в наследство «хозяина твердыню» и должен навсегда изменить своим идеалам и привычкам «рыцаря свободы». Но Дон-Жуан не постиг другого: с командорским плащом он принимает и его каменную душу. И… теряет человеческое естество, умирает как человек. Когда же он осознал трагизм своего положения, все пути для отступления были отрезаны. Финал драматичен и поучителен.
Анна
(протягивает плащ, Дон-Жуан надевает его. Анна снимает со — стены и дает ему меч, командорский жезл и шлем с белыми перьями)
Взгляните, как величественны вы!
(Дон-Жуан подходит к зеркалу, вглядывается и вдруг вскрикивает)
Анна
Что с вами?
Д о н — Ж у а н
Он!., его черты!
(Бросает меч и жезл и закрывает лицо руками)
Анна
Не стыдно ль?!
Что вам привиделось? Взгляните снова.
Да вы ли это, смелый Дон-Жуан?
Дон-Жуан
(Со страхом открывает лицо. Смотрит. Сдавленным от сверхъестественного ужаса голосом)
Не я!.. Он… каменный… Меня не стало…
(Шатаясь, отскакивает от зеркала в сторону и прижимается к стене, дрожа всем телом. В это время в зеркале появляется фигура командора, такая же, как на памятнике, только без меча и жезла, выступает из рамы, идет тяжелой каменной походкой прямо на Дон-Жуана. Анна бросается между командором и Дон-Жуаном. Командор левой рукой ставит ее на колени, а правую кладет на грудь Дон-Жуана. Дон-Жуан застывает, пораженный смертельным оцепенением…)
Трагедия Дон-Жуана — личная трагедия, ее последствия не угрожали обществу. В эпоху капитализма «рыцари свободы», предавая интересы народа, становясь преданными слугами «каменной консервативной идеи», уже не испытывали угрызений совести. Из трагедии Дон-Жуана не следует делать выводы, что «каменный хозяин» располагает неограниченной властью, что все перед ним падают ниц. Дон-Жуан стал его жертвой потому, что никогда не имел ни глубоких убеждений, ни высоких духовных идеалов, ни непоколебимой веры в человечество.
В июле Леся написала поэму «Изольда Белорукая», в основу которой положен средневековый сюжет о фатальной любви Изольды и Тристана, издавна распространенный среди европейских народов.
Наступала осень 1912 года. Состояние здоровья Леси Украинки ухудшалось. Даже в благоприятную погоду она редко выходила на улицу.
— Моя жизнь и вовсе тюремной стала, — говорила она. — Из дому — на балкон, из балкона — в дом, — вот и все выходы, или, точнее, «вылазки»… но я уже как будто привыкла к этому.
Теперь уже редко садилась за письменный стол — не было сил ни думать, ни писать. А ведь совсем недавно: «Все же пишу, а «пишу — значит существую». Если же перестану писать, тогда, наверное, и конец…»
Снова возник вопрос о Египте. В этот раз она не имела ни малейшего желания отправляться в дальнюю дорогу. И только настойчивые уговоры мужа, матери и сестер, которые без устали твердили ей об этом в своих письмах, помогли. Начала готовиться к поездке. Как всегда, вечная, с огромным трудом разрешаемая проблема — средства. Немногим выручили собственные гонорары, остальные деньги прислали мать и сестры — Ольга и Исидора.
Едва закончили сборы, как возникло новое серьезное препятствие: на Балканах вспыхнула война, а вместе с нею опасность, что Турция может закрыть Дарданелльский пролив и тогда из Черного моря не выбраться.
Таким образом, война захватила район, по которому проходил морской путь из Одессы к Египту.
Первые бои встревожили Лесину мать. Она просила дочь ехать железной дорогой до итальянского города Триеста, а оттуда морем к Египту. Мать боялась, что в турецких водах пароход может наскочить на мину, и тогда — смерть. Но такая перспектива не очень пугала Лесю.
Вскоре Леся прибыла в Одесский порт, где ее ждала большая радость — встреча с сестрами Ольгой и Дорой. Тепло приняли поэтессу и давние друзья Комаровы.
25 октября пароход покинул родные берега. Леся заняла свое место в каюте второго класса. Неприятности начались с первых дней плавания. В Стамбуле на пароход набилось много народу — преимущественно греков, которые, опасаясь кровавой резни, убегали из Турции. В Лесиной каюте оказалось семеро пассажиров. Теснота, спертый воздух. Попыталась подняться на палубу, но это оказалось невозможным: не только каюты, но и все проходы и закоулки заняты людьми, их скарбом. Галдеж стоит невероятный. А тут еще и море разыгралось не на шутку. На пароходе поднялась паника. Продолжительные стоянки в портах по настоянию военных патрулей, обход минных полей, курсирование боевых кораблей — все это усиливало тревогу пассажиров. У Измира Леся видела собственными глазами, как утонул подорвавшийся на мине пароход.
Неприветливы были и приморские города — хмурые, молчаливые. «На берег я нигде не сходила — трудно, да и не было охоты, — как-то уныло выглядели турецкие города, без привычной веселой суеты, заполненные серо-зеленой формой солдат… А те, кто выходил в Константинополе, говорили, что там жутко ходить под взглядами турок…»
В субботу, 3 ноября, в два часа дня пароход дважды протяжно загудел и начал сбавлять скорость. Леся поднялась с постели, взглянула в окно каюты и увидела знакомую картину: в солнечном сиянии повисла панорама древней Александрии. Позади осталось Кипрское море — последний перегон долгого и трудного морского пути. Впереди — различные санитарные и таможенные хлопоты, но теперь, по крайней мере, виден конец пути.
На следующий день, в воскресенье, в восемь утра Леся была уже в Гелуане, на вилле «Тевфик», где ее приветливо встретила знакомая хозяйка.
В этот раз Лесе досталась хорошая, просторная комната с юго-восточной стороны — солнечная и теплая. Здесь стояла широкая (на французский лад) кровать под тюлевым балдахином, кушетка, шкаф-трюмо, мраморный умывальник, электрическая лампа. Пол покрыт линолеумом, это очень важно, иначе здесь бывает зимними вечерами холодно ногам. Питание отличное: утром — кофе с молоком; в 11 часов — молоко; в первом — завтрак, как обед, только без супа; в четыре — снова молоко и чай; в семь — обед. К завтраку и обеду дают фрукты: мандарины, финики, гранаты, бананы и еще какие-то сладкие, пахучие цитрусовые.
За все это Леся платила не 110 рублей, как в прошлые разы, а только восемьдесят. Приятно было и то, что пансион маленький — всего на десять человек.
После дождей, туманов и морозов очень обрадовала погода: теплая, солнечная и ветра нет. Климатические и погодные условия складывались, в общем-то, благоприятно. Однако Леся выздоравливала медленно и неуверенно. Понадобилось два месяца для того, чтобы она смогла сесть за какую-нибудь работу. Но и тогда нечем было похвалиться в смысле здоровья: о своем самочувствии она говорила весьма сдержанно.
После Нового года Леся поднялась и, как она сама говорила, начала «что-то там возиться»: изучала испанский язык, давала уроки французского, готовила две части триптиха, чтобы вместе с апокрифом «Что дает нам силу?», написанным десять лет назад, послать во Львов для сборника, посвященного сорокалетию писательской деятельности Ивана Франко. В начале февраля 1913 года она закончила триптих: написала «Чудо Орфея» и сказку «Про великана», которая стала ее последним законченным стихотворением. В этой сказке-легенде Леся Украинка с особой силой снова и снова утверждает непоколебимую веру в победу угнетенного народа. Веками народ-великан спит тяжелым неспокойным сном. Господа-богатеи измываются над ним. Но скоро, скоро он пробудится:
И встанет великан тогда,
Расправит плечи снова
И разорвет в единый миг
Железные оковы.
Наряду с этим писала большую драматическую поэму «Оргия». Преодолевая на своем пути одно препятствие за другим, Леся Украинка оставляла украинской литературе бессмертные творения. Они как маяки освещали скалистую дорогу, осилить которую могут лишь смелые, мужественные бойцы. Как башни замка, устремляясь ввысь, они выстроились одно за другим: «На крыльях песен», «Думы и мечты», «Одержимая», «В катакомбах», «Осенняя сказка», «Кассандра», «Лесная песня», «Каменный хозяин». А теперь «Оргия»! Леся Украинка, как Строитель из «Осенней сказки», как Каменяр Ивана Франко, знала, что надо, не останавливаясь, двигаться вперед, рубить скалу, «ровнять правде путь».
Думала ли она о том, что пишет последнее произведение, что возводит последнюю башню на своем творческом пути? Конечно, нет. Ведь ее поэтический гений был в полном расцвете. Хоть и очень высоко поднялась в своих последних произведениях, вершина, к которой она стремилась, чтобы там поставить победное знамя, скорее всего была еще впереди. Последние драмы не оставляют сомнений в том, что поэтесса приближалась к новым творческим открытиям.
Весной Леся снова прощалась с Египтом. Снова пароход и прекрасные моря под высоким голубым небом, берега на далеком горизонте, опоясанные желтой каймой.
Домой возвращалась в худшем достоянии, чем после двух предыдущих поездок. Недуг активизировался, его не могли приостановить ни южное солнце, ни лекарства. Первого мая Леся Украинка покинула Египет с чувством неопределенности, неуверенности. На пароходе, державшем курс из Александрии в Одессу, ею овладели невеселые мысли и воспоминания. Она уже понимала, что спасения нет, что ее жизнь неуклонно и катастрофически быстро стремится к неизбежному финишу.
Кто знает, удастся ли еще побывать в Египте? Чужая и далекая страна, а вот стоит перед глазами — вся золотая, веселая, приветливая. Хотелось бы увидеть эту страну, пожить здесь, но не так, как в этот раз. Эту зиму Леся пролежала да просидела в пансионе, как арабская дама в гареме. Даже не нанесла визит Большому сфинксу и пирамидам, не была и в музее, где прекрасные чернобровые женщины с золотыми лицами развлекаются в обществе загадочно-радостных розовых сфинксов.
А как хорошо было бы взять дагабию (большую парусную барку) да подняться по Нилу к великим разрушенным святыням Луксора, Карнака, Эсне, Элефантины… Но… это всего лишь сладкие мечты человека, который может только лежать, а если сидит, то уже счастье. Ну что ж, ведь и лежачим светит солнце, и на них смотрят звезды, и драгоценный пурпур египетского заката им виден, и золотая пустыня навевает жаркие полуденные грезы, и они проходят перед их глазами. Так что не все еще потеряно, и нечего на очень уж минорный лад настраиваться.
6 мая пароход причалил к берегу в Одесском порту. В тот же день она писала сестре Лиле в Екатеринослав:
«Милая Лилеенька! Итак, в Одессе. Пробуду, наверное, до субботы, чтобы отдохнуть, побыть с приятелями и, может, новых вестей дождаться, а в субботу все же двинусь в Киев… Здоровье ничего, только очень устала…»
Нелегко было Лесе переносить трудности дороги, но отказаться от поездки в Киев она не в силах. Там ждали родные, друзья и все то, что с детства близко и дорого. Там — душа любимой Украины.
Весна. Кажется, никогда еще так не зеленели нивы, плывущие за окном вагона, не наряжались в такое пышное убранство сады. Украинская весна встретила теплом.
Солнце поднялось высоко над горизонтом и ласкало своими прозрачными лучами. А она тихо, едва заметно улыбалась. Совсем недавно поезд мчал ее в другом краю. Тогда на горизонте сверкали бескрайние золотые пески, а рядом с железной дорогой, у самой воды, словно золотое море, волновалась пшеница. В Египте уже начинается жатва, а здесь нивы еще только покрываются всходами. Может быть, эта цветущая природа вдохнет в нее хоть капельку жизни…
Едва промелькнуло за окном Городище, как навстречу — прославленная красавица Рось. Смотрит Леся на прозрачные, тихие воды, замечтавшиеся кудрявые вербы над водой — и вспоминаются персонажи из романа Нечуя-Левицкого — Микола Джеря, несчастная Нимидора…
Остановилась Леся в доме матери, на Мариино-Благо-вещенской улице, где находилась и редакция журнала «Ридный край». Известие о приезде Леси Украинки быстро распространилось по городу. Много друзей, знакомых и незнакомых почитателей ее таланта жаждали увидеть автора пламенных стихотворений и драм, выдающуюся украинскую писательницу.
Однако плохое состояние здоровья не позволяло ей ни выходить из дому, ни принимать многих гостей и вести с ними беседы, так как это было бы слишком утомительно.
В первый день Лесю навестила ее давнишняя подруга — Людмила Старицкая. Она застала поэтессу за просмотром журнала «Ридный край», где были напечатаны ее произведения. На диване лежала подшивка киевской газеты «Рада», на столе — комплект «Литературно-наукового висныка». Старицкую поразило то, как выглядела Леся: бледная, худая, а глаза смотрели внимательно-внимательно, в глубине темных зрачков словно проглядывало что-то значительное и мудрое. Сдерживая слезы, Старицкая обняла ее. Леся почувствовала ее состояние:
— Не смотрите на меня так испуганно, я ведь с дороги: она так меня измучила, что с трудом прихожу в себя.
— Так зачем же вы утомляете и сейчас себя?
— Меня теперь все и всегда утомляет, даже ничегонеделание. Так уж лучше чем-нибудь заниматься.
— Ничего, все утрясется…
— Надежды мало…
— В Киеве хорошие врачи.
— Что медицина там, где и высший судия бессилен. Врач, который постоянно лечил меня в Египте, как-то сказал в шутку: «Madam, vous devenez tout esprit».[87]
Невеселым был этот разговор. Старицкая пыталась найти какие-то слова утешения. А Леся спокойно, без заметной печали в голосе, говорила о том, что и без нее земля будет вертеться, а на земле расцветать жизнь…
— Знаете, когда я в последний раз собиралась в Берлин на тяжелую операцию, страшно переживала о своей неоконченной драме «Руфин и Присцшша». Боялась, что помру и не скажу людям то слово, которое так хотела сказать… А потом я увидела, что, как у нас говорят: «Прийшов Прокiп — кипить oкрiп. Пiшов Прокiп — кипить окрiп». Так что и без Прокопа кипяток будет кипеть…
Больше к этой теме Леся не возвращалась. Друзья, посещавшие ее в Киеве, чаще всего видели ее в постели, но никогда не слышали ни единого слова о болезни, ни одной жалобы. Она все время жадно интересовалась общественной жизнью и литературными делами.
Перед отъездом на Кавказ состоялось торжественное собрание во вновь открытом украинском клубе «Родина» на Владимирской, 42. Леся сидела на почетном месте, смотрела вокруг, и сердце сжималось от боли. Среди присутствующих уже не было многих лучших друзей, побратимов, учителей, которые были близки ей с детства и которых она привыкла видеть рядом с собой. Ушли из жизни Лысенко, Старицкий, Кропивницкий, Коцюбинский, Гринченко…
«Чествование прошло как-то наспех, — вспоминала Людмила Старицкая, — и потому не приобрело соответствующей импозантности. Однако было в нем что-то непередаваемо тоскливое, потрясавшее и терзавшее душу».
Бледная, какая-то светящаяся Леся с огромными букетами цветов в руках, со словами, полными энергии, любви и веры, и со смертью в глазах…
Когда Леся закончила свою небольшую речь и друзья помогли ей идти из зала, все присутствующие встали и печальным взглядом провожали измученную фигуру поэтессы. Леся старалась держаться бодро и уверенно, но это не получалось. Всех угнетала горькая боль, а в голову приходила мысль отчаяния: она переступает этот порог, наверное, в последний раз…»
В тот солнечный майский день, когда поезд должен был увезти Лесю на Кавказ, она незаметно вышла из дому, наняла извозчика до Владимирской горки. Был десятый час утра. От Трехсвятительской улицы широкая аллея вела к круглому деревянному помещению, напоминавшему огромный шатер степных кочевников. То была известная в те времена Киевская художественная панорама «Голгофа». Леся всегда приходила сюда, когда бывала в Киеве.
Медленно поднималась по широким ступенькам. Вокруг ни души. Тишина. Со смотровой площадки, огороженной невысоким деревянным парапетом, открывался легендарный мир. Давно знакомые сцены из жизни Христа, причудливо освещенные электричеством, потихоньку оживали. Опираясь на поручни, незаметно для самой себя Леся передвигалась по этому волшебному кругу, пока перед ее глазами не вынырнул из-за горизонта беломраморный древний Иерусалим, покрытый легкой, голубоватой дымкой. Но взор Леси приковывала не столица Иудейского царства, а дорога на переднем плане, по которой толпа устремилась к Голгофе. Впереди преторианская стража подгоняет осужденных на смерть. Каждый из них несет свой крест. Самый тяжелый достался изможденному, бледному бедняге…
Эта печальная фигура всегда чем-то влекла к себе Лесю. Может быть, своими мучениями, за которыми не чувствовалось ни страха, ни отчаяния, а только тоска, глубокая невысказанная тоска во взгляде.
Так было и десять лет назад, и тоже летом. И почудилось ей тогда, что тот, бледный, пошатнулся под непосильной тяжестью и в изнеможении упал среди дороги: «страдальца бледный лик еще белее и по нему сбегают капли крови».
«Эй, подымайся! Долго ль спать ты будешь?» — кричат преторианцы, и бичи обвиваются вокруг него, точно змеи.
«Не могу… Крест тяжел… Нет силы…» — несчастный простонал и лег лицом в дорожную пыль.
Легионер взмахнул бичом… Леся закрыла глаза и слышит, что он не ударил — кто-то остановил его:
«Стой!»
«Что нужно? Кто ты?» — заорал солдат.
«Я плотник. Этот крест был сделан мною, так я и понесу его. Давайте. За свой труд я не возьму с вас платы…»
Он поднял крест. Никто не помешал.
И плотничья спина вдруг распрямилась,
И руки ослабевшие окрепли,
И взгляд погасший загорелся снова
Великим, сильным и глубоким чувством,
И твердою, тяжелою походкой
Пошел с крестом работник на Голгофу…
Потом еще долго этот мираж не давал покоя.
На зиму поехала в Тбилиси, но и там ей виделась Голгофа при взгляде на синие Кавказские горы. Наконец не выдержала — взялась за перо. Так был написан апокриф «Что дает нам силу?», ставший началом триптиха в честь Ивана Франко…
Спустя несколько минут, оставив панораму, Леся шла по аллее парка. На самой горе присела на скамейке и задумалась.
Тихо. Воздух свежий, прозрачный. Небо торжественное, высокое. Днепр широко разлился и замер в своей вечной красоте. Казалось, вся вселенная вдруг остановилась, поразившись своему величию и очарованию.
Долго сидела Леся. Воспоминания незаметно сменяли друг друга, как тихие воды там вдали, на горизонте.
Наконец протяжно загудел на Подоле завод, возвещая о времени обеденного перерыва — двенадцать часов. Леся поднялась — пора возвращаться домой. Надо готовиться в путь. Бледные уста прошептали:
— Прощай, Днепр, широкий, могучий! Ты не раз успокаивал мою мятежную душу, даже на чужбине рассеивал туман моей печали. Поклон тебе…
Перед тем как выйти на главную аллею, остановилась. Еще раз повернулась лицом к Днепру, взглянула влево, на Щекавицу, Вышгород:
— И вы прощайте, мои милые горы… вечный памятник моей Украине…
У Михайловского монастыря Леся попросила извозчика проехать мимо Софийского собора, повернуть к Золотым воротам, а там по Владимирской, мимо университета.
Вечером в сопровождении родных и друзей Леся поднималась на вокзальный виадук. Красное солнце, как и тогда, в детстве, когда впервые приехала в Киев, прощалось с городом, лаская его золотыми лучами.
В двадцатых числах мая 1913 года Леся была в Кутаиси. Она жестоко страдала не только от приступов, вызванных смертельной болезнью. Был еще один источник мучений, который вместе с туберкулезом почек приближал трагический исход, — материальные недостатки.
Жалованье Квитки, по тем временам не такое уж и маленькое, не покрывало и половины всех расходов: ведь на его содержании были еще и родители. К тому же все жили в разных местах и почти все лечились. Какое-то время выручали деньги, оставленные Лесе отцом в наследство, но вскоре они были истрачены. Леся постоянно зарабатывала тяжким трудом, и это помогало как-то сводить концы с концами.
Родные Леси знали о таком тяжелом положении, пытались облегчить ее жизнь. Однако она отказывалась от помощи, так как считала несправедливым отрывать от заработка матери и сестер на содержание чужой семьи. Другое дело, если бы она сама заработала деньги!
Особенно обострилась ситуация в этом году. Во всех смыслах. Сегодня, 29 мая, температура с третьего дня не падает ниже 39°, голова раскалывается от боли. На столе гора рецептов, выписанных врачом еще пять дней назад. Но где взять деньги, чтобы выкупить лекарства? В доме ни гроша. Неделю назад Климент принес жалованье — 115 рублей. Не успели сесть за обеденный стол, как на пороге появилась долговязая фигура ростовщика — пришлось отдать 100 рублей долга. На второй день отдали и остальные — за квартиру. А на какие деньги жить? Леся собрала какие-то вещи, платья и продала за бесценок. Не деньги — слезы…
Вот и сейчас погоревала Леся и вновь к шкафу, чтобы какую-нибудь одежду продать, а то и обеда не будет. В это время стучит другой ростовщик. Долга того с наперсток, а шум поднял на весь двор. Потом нахально уселся за стол, вытащил из кармана засаленный блокнот и начал что-то записывать. Быстрые глазки барышника так и шарят по комнате — видимо, хорошо тренированы. Едва выпроводила непрошеного гостя.
О, как противно смотреть на все это и как тяжело переносить!
Немного успокоившись, Леся села за письменный стол:
«Милая мамочка! Ты пишешь, что уже выслала мне деньги, но их до сих пор нет… наверное, ты или тот, кто отправлял, что-то перепутали в адресе и деньги застряли на почте. А тем временем надо платить за квартиру, надо есть и пить да еще покупать хоть немного лекарств, потому что я болею… Вещи продолжаем продавать, но не всегда на них находятся покупатели…
Начала писать новый рассказ, — пишу, правда, понемногу, в интервалах между повышением температуры, значит, по утрам, и тогда, когда Клени нет дома, так как я скрываю от него, что работаю. Он считает, что это мне вредно, но спокойное писание прозы, я думаю, не приведет к беде. За стихотворения я пока не осмеливаюсь садиться, так как помню прежний опыт… Вот и обещанный этюд еще не начат… Я все же при всем этом не чувствую себя несчастной, и если бы Кленя не имел тенденции обращаться к ростовщикам, то я бы еще и не такую нужду вынесла…»
И в таких тяжелых условиях Леся не могла жить без творчества, без работы. Она безмерно завидовала людям, которые способны бороться, работать не покладая рук:
Как я завистью горела…
День и ночь они на вахте, —
Долог труд, а смена кратка,
День и ночь они в работе
Силы тратят без остатка.
Поэтические произведения Леся писала почти всегда в состоянии экзальтации, что требовало максимума энергии и нервного напряжения. Потому-то поэтесса взялась за прозу. Правда, она и раньше время от времени писала рассказы, новеллы и очерки. Сейчас она начала повесть «Экбаль-ганем».
Пробыв в Египте три зимы, Леся вынесла массу любопытнейших впечатлений об арабской жизни. Больше всего хотелось воссоздать существенные стороны быта: положение женщины в семье, воспитание детей. Эти мысли родились, еще когда она была в Гелуане.
Повесть из жизни арабских женщин Леся Украинка не успела закончить, а детский рассказ — даже начать.
Тяжелое духовное и физическое состояние писательницы, грустное настроение явственно ощущаются в раскрытии, казалось бы, совсем «далекой» темы. Вот и в этом коротком символическом зачине звучат нотки автобиографического характера: «Итак, начинался египетский закат. Там солнце умеет сохранить вид победителя в последнее мгновение перед неминуемым поражением и так гордо и весело, без малейшей тени вечерней грусти, красочными дарами осыпает небо, пустыню, огромную реку и каждую мелкую песчинку своей любимой страны, так что даже за миг перед наступлением темноты как-то не верится в ее неизбежность».
В эту весну и лето Леся как никогда порывалась к писанию. Лето в разгаре, а здоровье все хуже и хуже… А что же будет осенью и зимой? Снова Египет? Но ведь в последний раз он не очень-то помог.
Потому и решили переезжать куда-нибудь в более благоприятную местность — скажем, в Среднюю Азию. Правда, там все незнакомое, и очень уж далеко. Зато повышенная зарплата для Климента, выделяются деньги на проезд. А главное — оба надеялись, что тот климат в какой-то мере заменит Египет — ведь там зима мягкая и короткая. И вообще, необыкновенно тепло и сухо: менее 200 миллиметров осадков в год, тогда как в Кутаиси примерно 1000.
— Может, проведя два-три года без перерыва в сухом краю, поправлюсь так, чтобы не быть инвалидом. Наверное, поездки в Египет в таком состоянии, как сейчас, мне противопоказаны, — говорила Леся.
Она думала о завтрашнем дне. Верила в него и надеялась, что будет жить. А тем временем положение становилось угрожающим. В письме Кривинюку Леся сообщала: «Дорогой Михаил! Посылку и деньги я получила, большое спасибо. Сразу не ответила, потому что совсем худо со здоровьем, да и сейчас едва пишу. Практически не поднимаюсь с постели… Ко всем болячкам добавилась еще и рвота, целыми днями тошнило меня, как на море в штормовую погоду… Это очень печально… К тому же все требует больших средств, и поездки, и лекарства, а где мне взять такие деньги? А лечиться должна, иначе и погибнуть можно…»
По всей вероятности, это было последнее письмо Леси. К вечеру того же дня стало совсем плохо. Тогда Квитка послал Лесиной сестре Ольге телеграмму: «Леся уже не может сидеть и вставать с постели. Обычная выдержка изменила ей, и она стала довольно капризной. Если посчастливится раздобыть денег, попытаюсь найти другую, более опытную прислугу. Нянек и фельдшериц здесь совсем нет…»
Узнав о катастрофическом состоянии дочери, Олена Пчилка бросила редакторские и издательские дела и вместе с младшей дочерью Исидорой приехала в Кутаиси. Лесю трудно было узнать — так измучила ее болезнь.
«Когда мы приехали, — вспоминает Исидора Петровна в письме автору этой книги, — Леся очень обрадовалась и, странное дело, даже как-то лучше стала себя чувствовать: начала спать ночью, а перед этим ее замордовала бессонница. Но улучшение было временным — всего несколько дней. Невыносимой для Леси была жара — она стояла тогда адская, ее даже здоровые с трудом переносили. Врач, приходивший ежедневно, считал состояние Леси безнадежным, однако для того, чтобы облегчить ее страдания, следует перевезти из Кутаиси куда-нибудь в горы, где было бы не так жарко…»
В минуты просветления Леся держалась бодро, даже выходила на балкон, разговаривала, шутила. И тогда казалось, что еще не все потеряно. Но о том, что она смертельно больна, говорил ее взгляд, поражавший своей остротой и необычайной настороженностью. Однажды в беседе с матерью Леся вспомнила о том, что хотела написать для альманаха «Арго» драматическую поэму о жизни древних египтян. И поэтесса диктует матери свой последний творческий замысел:
«В предместье Александрии живет семья греческая в то время, когда уже победила новая вера и, в свою очередь, стала притеснять и изгонять тех людей, которые веровали по-старому и любили древнюю науку…»
Здесь Леся, немного подумав, сказала:
— Может, лучше вместо «греческая» поставить «эллинская»? Допиши в скобках — «эллинская»…
Так был записан краткий конспект поэмы, в которой Лесе хотелось показать борьбу двух идеологий: новейшей христианской, которая опиралась на догматический метод и отражала стремления господствующей верхушки поработить народ, и старой эллинской, культивировавшей ум и красоту человека, предоставлявшей ему больше свободы.
По ходу рассказа она продолжала обдумывать его. Финал будущей поэмы, в котором дети греческого философа Теокрита прячут в песчаной пустыне отцовские папирусы, вначале звучало как проклятие. Но она изменила концовку:
— Нет, пусть «последним аккордом» будет молитва Гелиосу. Молитва, а не проклятие.
Теперь конспект заканчивался так: «Солнце встает. Оба встают на колени, обращаются с мольбой к Гелиосу — сохранить их сокровища. Возможно, настанут лучшие времена. Возможно, кто-нибудь когда-то разыщет эти сокровища и приобщится к мудрости великой:
— Гелиос! Спаси ваши сокровища! Тебе и золотой пустыне вручаем их!»
— Вот так будет лучше! Как только смогу писать, сразу же напишу и отошлю в журнал…
Лесины силы таяли на глазах. Во вторник, 9 июля, Лесю наконец повезли автомобилем в Сурами.
Но и это не помогло. Через четыре дня мать в отчаянии пишет дочери Ольге: «Как и прежде, Лесе очень худо. Иногда кажется, немного легче, например, прекращаются рвоты, падает температура. Но все равно я теперь вижу, что хорошего в этом мало — наверное, от крайней слабости так получается. К тому же Лесин организм обманывает всех, даже врачей, тем, что благодаря полной ясности сознания Леся при малейшей возможности способна быть бодрой — даже веселой. Но все-таки ей очень плохо… Я теряю всякие надежды… Если бы не так ужасно далеко, может быть, следовало тебе приехать…»
В Сурами — небольшом горном курорте — поселились в красивом домике с балконом. И снова Лесе стало немного лучше:
— Она выходила, опираясь на мою руку, на балкон, — вспоминает Дора. — Там устраивалась в шезлонге и долго лежала, всматриваясь в открывающуюся перед ней панораму: горы, покрытые лесом, долину, собиравшую отовсюду горные потоки…
А еще через три дня Леся уже не могла есть и едва заставляла себя что-нибудь выпить. Единственное, что не вызывало отвращения, — мороженое из ежевики. К счастью, вокруг, в горах было много ежевики. Дора собирала ее и готовила мороженое.
— Все время у мамы, да и у меня, — рассказывала Дора, — надежда чередовалась с отчаянием. И снова где-то в глубине души теплилась мысль о чуде. Изводило чувство нашей беспомощности. Леся не теряла сознания, только по ночам иногда бредила. Узнав, что мама вызвала телеграммой сестру Ольгу, Леся страшно обрадовалась и с нетерпением ждала ее. Ночью спросила, когда именно приезжает ее любимая Лиля?…
Дора пошла на вокзал встречать сестру, а с больной остались мать и Квитка. Несколько раз Леся просыпалась и напоминала, чтобы не забыли покормить сестру:
— Дорога дальняя, и Лиля, наверное, проголодалась…
Наступал рассвет 19 июля (по новому стилю 1 августа) 1913 года и вместе с ним неумолимый конец. Рождался новый день, а Леся тихо угасала…
С вокзала навстречу первым лучам солнца спешили Лиля и Дора. Но уже было поздно.
Смерть Леси Украинки всколыхнула не только Украину. Вся страна провожала в последний путь певца свободы, человека, который неутомимо сеял в народе разумное, доброе, вечное. Слова скорби о том, кто призывал: «Вставайте, живые, в ком душа восстала!» — приносила нескончаемая телеграфная лента: из Петербурга, Тбилиси, Харькова, Одессы, Чернигова, Воронежа, Риги, Варшавы, Парижа, Женевы, Вены, Александрии, из многих других городов и сел. Свои соболезнования прислали общества, организации, учебные заведения, редакции, частные лица.
Тело поэтессы было перевезено в Киев. В похоронах «участвовали» и полицейские власти: они начали с того, что приказали срезать красные ленточки и отдельные «неблагонадежного содержания» надписи на венках, принесенных различными делегациями. Кроме того, запрещено было нести гроб на руках, это уже считалось демонстрацией. Нельзя было петь и произносить речи.
Такие меры полиции еще сильнее привлекли внимание киевлян: похоронная процессия росла, заполняя всю улицу.
Не полагаясь на своих помощников, конвой возглавил сам полицмейстер генерал Скалой. Вход на кладбище был оцеплен полицейскими, пропускали только родственников и близких. Тогда толпы народа прорвали полицейский кордон, превратив похороны в настоящую демонстрацию против темных сил самодержавия.
Речей над могилой Леси Украинки и в самом деле не произносилось, но похороны сами по себе были достаточно красноречивы. Народ увидел, что даже после смерти поэтессы — верного друга рабочих — ее имя внушает страх царскому правительству.
Похоронили Лесю на Байковом кладбище, рядом с отцом и братом Михаилом.
С тех пор прошло более чем полвека — не так уж и много времени, — а имя Леси Украинки стало легендарным. Ее поэзия не только не угасла, а, напротив, все ярче разгорается новым и новым огнем. Леся непоколебимо верила в то, что «мир идет к лучшему», — и не ошиблась. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла миру путь к светлому будущему.
В этом новом, лучшем мире поэзия Леси Украинки нашла широкую дорогу к народным массам. Осуществилось ее гениальное предвидение:
Когда умру, на свете запылают
Слова, согретые моим огнем,
И пламень, в них сокрытый, засияет,
Зажженный в ночь, гореть он будет днем.
Максим Горький как-то заметил: «На примерах замечательной жизни мы должны учить людей героизму». Биография Леси Украинки, гениальной украинской поэтессы, поражающая мужеством, подвижничеством, революционным горением, давала и дает богатейший материал для воспитания в людях душевной красоты, благородства, высокого служения светлым идеалам человечества.
Документально-художественная книга Анатолия Костенко «Леся Украинка», предлагаемая ныне читателю, на основании большого мемуарного, эпистолярного и архивного материала раскрывает обаятельный образ поэтессы, рассказывает о многострадальной и славной жизни великой дочери украинского народа.
Вдумаемся только в основные факты биографии Леси Украинки, постараемся осмыслить их. Уже в раннем детстве Леся проявляет поэтическую одаренность, феноменальную память и способности к изучению языков. Свое первое стихотворение она написала в 9 лет, печататься начала с тринадцати. В детстве Леся заболела туберкулезом. Тяжелая болезнь на многие годы приковала поэтессу к постели, причиняла невероятные страдания. Но ничто не могло сломить ее духа. Семнадцатилетняя Леся пишет:
А может быть, все-таки я своей песней
Утешу того, кто безвестных безвестней,
От сердца пропетою песней моей
Зажгу утомленные души людей.
В глухие 80-е годы XIX века, в гнетущих условиях черносотенной вакханалии, на фоне идейного разброда и ренегатства националистической украинской интеллигенции, смело и мужественно выступила хрупкая, но полная внутреннего огня и страсти Леся Украинка. Уже тогда в устах молодой поэтессы явственно прозвучала идея преданности революционному долгу, ненависть ко всякому предательству, соглашательству, к националистической обособленности, к стремлению замкнуться в «своей» скорлупе.
На трудном творческом пути Леси Украинки возникли, казалось бы, непреодолимые преграды. Гнет царизма, упорная и жестокая политика угнетения украинского народа со стороны «своих» и чужих эксплуататоров создавали удушливую атмосферу, давили и топтали молодые побеги прогрессивной культуры, терроризировали лучших ее представителей. Но это не останавливает молодую поэтессу:
О, если б звон оков мог поразить, могучий,
Те заспанные, вялые сердца,
Покрыть стыдом чело, не ведавшее тучи,
Напомнить всем, что ждет оружие бойца.
Бойца, подлинного патриота, подлинного друга угнетенного народа ждет только оружие. Прочь всякие компромиссы, услужничество, пресмыкательство перед власть имущими! Нужна борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. «Нужно дорогу искать для идущих в тяжелом ярме», — говорит Леся Украинка в своих «Полночных думах» (1895). Поэтесса решительно отвергает старые, либерально-народнические пути, «бунт на коленях». Она ищет дорогу, ищет упорно, подвижнически. Все более уверенно утверждается Леся Украинка на революционных позициях. «Наше движение, — писал В.И. Ленин, — располагает теперь целой армией, армией рабочих, затронутых борьбой за социализм и за свободу, — армией интеллигентов, принимавших и принимающих участие в движении и разбросанных уже в настоящее время по всем концам России, — армией сочувствующих, с верой и надеждой взирающих на рабочее движение и готовых оказать ему тысячи услуг».[88] К этой армии и примкнула Леся Украинка, отдав все свои силы, свой могучий талант служению делу социализма, делу пролетариата. Поэтесса убеждается, что подлинным руководителем и организатором всенародной борьбы может быть только пролетариат и что борьба за социальное и национальное освобождение народа немыслима вне революционного социал-демократического движения, «Это мировое универсальное движение; без него украинская нация обойтись не может», — убежденно заявляет поэтесса в 1899 году.
В одном из писем начала 900-х годов, говоря о своем отношении к революционному социал-демократическому движению, Леся Украинка называет себя «связной». Это было, конечно, проявлением большой скромности поэтессы. Леся Украинка упорно работает над переводами произведений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, читает и распространяет ленинскую «Искру», всячески способствует переброске через границу нелегальной марксистской литературы. Уже в конце 90-х годов поэтесса хорошо освоила методы конспирации, практиковавшиеся в революционном подполье; ее квартира в Киеве становится местом тайных сходок революционеров.
Творчество Леси Украинки служит революционному делу в прямом смысле этого слова. Ее призывные стихи органически включались в текст прокламаций, зовущих на бой с царизмом, с помещичье-капиталистическим строем. За поэтессой устанавливается негласный жандармский надзор; ее квартира неоднократно подвергается обыскам; произведения Леси Украинки преследуются цензурой, конфискуются.
Мужественный гражданский талант Леси Украинки одним из первых заметил и по достоинству оценил выдающийся украинский поэт-революционер Иван Франко.
Есть у Леси Украинки замечательное стихотворение, посвященное скромному кустарнику Saxifraga, обладающему, однако, чудодейственной жизненной силой:
Камень пробил он собой, тот камень, что все победил,
Что задушил и дубы,
И терновник упрямый.
Этот цветок по-ученому люди зовут Saxifraga,
Нам, поэтам, назвать бы его «ломикамень»
И уваженье воздать ему больше, чем пышному лавру!
Таково и творчество Леси Украинки: оно пробивало (и пробило) чугунные плиты самодержавия, твердыни царизма. «Промчалась непогода-буря грозой надо мною, но все ж не сломила меня и к земле не пригнула. Я гордо чело подняла», — писала поэтесса. И это не была декларация. Это составляло сущность ее жизни, ее творчества.
Кто же дал неистребимую силу духа этой физически слабой, хрупкой и нежной девушке? Сама поэтесса не раз думает об этом:
Кто гордость мне вложил вот в это сердце?
Кто даровал отваги меч разящий?
Кто приказал мне: не бросай оружья,
Не отступай, не падай, не томись!
Эту силу дал поэтессе народ, органическая близость к нему, самоотверженная любовь и уважение к народу, к его борьбе.
Литература, искусство, по убеждению поэтессы, должны поднимать людей на борьбу, вселять веру, чувство собственного достоинства. Гуманист тот, кто борется, кто зовет на борьбу. Гуманизм — не в жалости к «бедной жертве», не в заклинаниях против грабителей. Гуманизм — это борьба за искоренение грабительского строя, за полное уничтожение угнетателей.
Чувство ненависти к врагам народа, врагам отчизны, по убеждению Леси Украинки, такое же законное, священное человеческое чувство, как и любовь к людям. Больше того, любовь к народу — пустая фраза без активной ненависти к его врагам, без стремления поразить врага. «Любовь меня учила ненавидеть», — заявляет поэтесса устами одной из своих героинь. В стихотворении «Другу на память» (1896) Леся Украинка заявляет:
…Ненавидеть только тот боится,
Кто никогда глубоко не любил!..
Прислушайтесь, о чем поет, к чему призывает в «Старой сказке» (1893) любимец народа — его поэт и трибун:
Мужика сыра землянка.
Барский замок — на помосте…
Что ж, недаром говорится: —
У господ белее кости…
Любопытствуют крестьяне:
Всюду ль эти кости белы?..
Кровь прольется ль голубая,
Если нож вонзить им в тело?..
Художник, связавший свою жизнь с передовыми идеями века, не может быть в стороне от схватки, где решаются судьбы человечества. Идеи революции окрыляют, вдохновляют талант, придают ему силу и размах. Для такого поэта, как Леся Украинка, отказ от борьбы равносилен смерти:
Если бы хоть на минуту
Сбросил я железный панцирь,
Кровь бы хлынула потоком,
Жизнь моя оборвалась бы.
«Рабство особенно мерзко, если оно добровольно», — утверждает поэтесса. Покорное «несение креста» — это отрицание самой сущности человеческого достоинства, надругательство над высоким призванием человека.
Никогда еще стремление уйти от людей, стать в сторону от решающих битв не порождало великого искусства, — заявляет поэтесса. — Участие в борьбе за освобождение человечества является также и борьбой за исконные права поэзии. Разговоры об «общечеловечности» искусства без участия в борьбе за победу человечности — пустая и вредная болтовня. От бездействия к предательству — один шаг, — неоднократно напоминает Леся Украинка.
Смысл поэзии — быть с человеком, выражать все сокровенно человеческое. Поэзия, отделяющаяся от людей, от освободительной борьбы народов, перестанет быть поэзией. Подлинная поэзия должна тревожить душу, поднимать человека на уровень исторических задач эпохи.
Леся Украинка утверждает воинствующее человеколюбие как добрую наступательную силу. Сочетая в своем характере дар художника с темпераментом борца, Леся Украинка и в своем творчестве органически сочетала широту исторического кругозора с острым чувством современности.
Любовь к народу делает поэта бесстрашным; это не удальствог не поза, это сущность жизни. «Коль страшно вам — идите прочь с дороги!» — заявляет эта хрупкая девушка, горящая пламенем борьбы:
Я честь воздам титану Прометею,
Своих сынов не делал он рабами.
Он просветил не словом, а огнем,
Боролся не покорно, а мятежно…
Предвозвещая всем богам погибель.
Творчество Леси Украинки органически совмещало в себе личное и общественное, интимное и гражданственное. Революционная борьба для нее — это веление сердца, святая святых ее духовного облика. И эта пламенная гражданственность сочетается с глубочайшей нежностью, чарующей женственностью, неизбывной жаждой любви.
В поэзии Леси Украинки много трагической печали, хватающей за сердце скорби, иногда перерастающей в отчаяние:
Хотела бы выйти я в чистое поле,
К земле припадая, прижаться бы к ней
И так зарыдать, чтоб услышали звезды,
Чтоб мир ужаснулся печали моей.
Но печаль эта отнюдь не от разочарования поэтессы. Это печаль, идущая из глубин народа, закованного, порабощенного, веками угнетаемого и истязаемого. Такая печаль еще более усиливает стремление к борьбе, к самоотверженности и героизму.
Идеал свободы в концепции Леси Украинки исключал всякую систему угнетения, социального неравенства, господства меньшинства над большинством. Поэтесса ближе, чем кто-либо из украинских революционных мыслителей и писателей конца XIX — начала XX века, подошла к правильному, марксистскому пониманию значения интернациональной солидарности рабочих разных наций.
Где люди труда, где угнетенные, там для Леси Украинки братья, соратники, там свои, независимо от их национальной принадлежности. Любовь к родине и дружба народов — это одно могучее жизнеутверждающее чувство. Художественные произведения поэтессы, написанные на эту тему, насыщены таким горячим чувством дружбы, взаимопонимания, что и поныне не утратили своей жизненной правдивости, своей волнующей силы.
Леся Украинка выступила борцом за революционное единение и дружбу русского, украинского и других народов, страстным обличителем буржуазного национализма. Либералы и националисты — не что иное, как «рыцари телячьего ордена», «бараний хлев». Их отличает тупой эгоизм, подозрительность и вражда к трудящимся всех наций и народностей. Душевная гнилость, своекорыстие, двоедушие — вот, по мнению поэтессы, их подлинные качества. Ренегатство, измена, предательство особенно ненавистны Лесе Украинке. Какими бы «мотивами» ни оправдывался изменник, ему нет пощады:
…Иль теплый гад,
Распаренный на солнце, иль холодный,
Все мерзок он!..
Поэтесса никогда не призывала к «малым делам», к примирению с правящими классами и пресмыкательству перед ними. Идейные силы Леси Украинки — в ее могучей, неистощимой любви к отчизне, к народу, к родному языку, в страстной жажде счастья народным массам. Поэтесса с возмущением говорит о приземленности в литературе, о беспомощном копании в «мусоре жизни». Она резко критикует украинского писателя-националиста Винниченко за натурализм. Не ныть, не «смрадно чадить», не смаковать гнилье, а идти вперед, вдохновлять на подвиг. Сила литературы — в прозрении будущего, в утверждении будущего:
Там, на высотах непреодолимо
Я жажду знамя красное поставить,
Где сам орел гнезда не смеет свить!
И это не в отрыве от народа, от его борьбы, а именно вместе с народом, с его лучшими сынами:
…Я страну в просторе дальнем вижу,
Горящую, как светоч идеала,
Как светоч вечной правды…
…Я будущее вижу, век грядущий!
Силу прозрения будущего Леся Украинка, как и ее замечательные соратники — Иван Франко, Павел Грабовский, Михаил Коцюбинский, — черпала в великом учении марксизма, В своей политической и идеологической борьбе против царизма и капитализма, в разоблачении великодержавного шовинизма и буржуазного национализма, в пропаганде интернационального единения трудящихся Леся Украинка выступила как прямой союзник революционной социал-демократии.
В художественных произведениях Леси Украинки, в ее публицистике, теоретических и литературно-критических выступлениях, в ее незавершенных творческих замыслах проявилась кровная заинтересованность поэтессы в победе нового мира, нового человека, беззаветная преданность Родине. В борьбе с одряхлевшим, старым миром ее оружием было слово, ставшее могучей, сокрушающей и созидающей силой. «Наши слова, — писала Леся Украинка накануне революции 1905 года, — становятся нашими делами, и судят нас люди по делам нашим». У Леси Украинки неотделимы гражданственность от поэтического мастерства, этика от эстетики, гуманизм борца от гуманизма художника.
Творчество Леси Украинки представляет собой высшее достижение украинской демократической культуры XIX века и вместе с тем включает в себя элементы культуры социалистической, выражающей интересы и точку зрения пролетариата. Мечты героев Леси Украинки устремлены вперед, к революционному обновлению мира. Поэтесса различает социалистические перспективы будущего, призывает не только познать мир, но и перестроить его. Это были зачатки новой литературы, не укладывающейся в рамки критического реализма. Это было зарождение реализма социалистического.
Одно из своих замечательных произведений — «Надпись на руине» — Леся Украинка заканчивает словами:
Народу памятник — да сгинет царь!
И это было девизом ее творчества на протяжении всей ее многострадальной, но героической жизни.
Смерть Леси Украинки была тяжелой утратой для украинского народа, для всего прогрессивного человечества. Большевистская газета «Рабочая правда» поместила некролог, в котором говорилось, что Леся Украинка, «стоя близко к освободительному общественному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. Нам надо сказать ей спасибо и читать ее произведения…». Некролог заканчивался такими взволнованными строками: «Леся Украинка умерла, но ее бодрые произведения долго будут будить нас к работе — борьбе. Добрая вечная память писательнице — другу рабочих!» Четырех лет не дожила поэтесса до Великой Октябрьской социалистической революции, до тех заветных дней, когда под стягом партии великого Ленина свершилась всемирно-историческая победа народа. Рано закатилась звезда Леси Украинки. Но, не успев закатиться, она вспыхнула ярким светом в сердцах народов, чтобы уже никогда не погаснуть. Ее огромный талант неотделим от исторической судьбы ее народа:
Не отторгнут меня от тебя никакие кошмары,
Мне ни мука, ни самая смерть не страшна!..
Подобно горьковскому Данко, вырвавшему из своей груди пылающее сердце, чтобы осветить путь людям, поэтесса ради счастья людей готова
…ринуться в трущобу
И пробивать дорогу в диких дебрях
С тяжелым топором и с тонкою пилою…
Подвиг Леси Украинки вдохновлял на борьбу с самодержавием не только украинцев, но и русских, и всех, к кому доходили ее пламенные слова на просторах России и за ее пределами.
Социалистический Октябрь, партия великого Ленина проложили солнечный путь поэзии Леси Украинки к сердцам миллионов трудящихся, ко всем народам Советского Союза, ко всему прогрессивному человечеству.
С творчеством Леси Украинки связаны лучшие традиции украинской литературы, животворные и для нашей социалистической действительности. Культура поэтического творчества Леси Украинки влияет на наше искусство и духовное развитие не только непосредственной силой своего художественного совершенства. Она оказывает воздействие и через посредство замечательных продолжателей Леси Украинки — Павла Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Андрея Малышко и других, чье творчество ныне определяет роль украинской литературы в мировом духовном развитии.
Поэтесса большого сердца и могучего таланта, Леся Украинка вошла в историю мировой культуры не только как художественный гений Украины, но и как борец-гуманист. Наследие Леси Украинки приобретает исключительную этическую ценность. Ее страстная проповедь справедливости и человеческого достоинства позволяет с благоговением назвать ее поэзию бессмертным сокровищем и гордостью человечества.
Великий поэт — всегда чудо, до конца не разгаданное. Каждое новое поколение открывает новые аспекты, новые глубины его творчества. Говорить о Лесе Украинке — значит говорить не только о прошлом, но и о современном и завтрашнем дне советской литературы, о ее национальном своеобразии, о ее могучем интернациональном звучании. Творчество Леси Украинки стало живой, действенной силой, важным фактором развития советского искусства и литературы.
В поэтическом наследии Леси Украинки мы открываем все новые стороны, изумительно близкие нам, нашей жизни, на знамени которого начертаны великие слова: «Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всех народов». Как перекликаются эти призывы с сокровенными чаяниями Леси Украинки!
Свободу, Равенство и Братство золотое
Я в темных тучах разглядеть стараюсь —
Те три звезды, которые народ
Все радостней, нетерпеливей ждет.
Творчество Леси Украинки, воплотившее светлые и гуманные идеалы человечества, будучи плодом великого подвига во имя своего народа и всего человечества, входит как неотъемлемая часть в сокровищницу культуры нового, коммунистического мира. Тщетны потуги буржуазных националистов из эмигрантского охвостья «приписать» поэтессу к своему лагерю. Их фальсификаторские упражнения не могут устоять против всенародной правды, страстной поборницей которой была наша Леся. Силой своего художественного таланта, красотой души Леся Украинка поднялась на такую высоту, что народы всего мира чествуют ее как своего поэта. Могучий талант Леси Украинки принадлежит человечеству. Слово ее вдохновляет передовые шеренги строителей новой жизни; оно — вместе с пролетариями и крестьянами капиталистических стран на баррикадах классовых битв. Голос поэтессы и ныне звучит призывно и вдохновляюще:
Кто воле предан до конца,
Идет пусть смело в бой!
Кто помнит родину и честь,
К оружию! Кто за мной?!
Знаменательно, что в дни юбилея 1971 года Леся побывала — пусть символически! — у берегов Нила: ее «Лесная песня» в постановке балета Киевского театра имени Т.Г. Шевченко пленила сердца зрителей в Каире и Александрии.
Не умирает слово правды, слово, окрыляющее на подвиг, слово, зовущее к свободе, равенству, братству, к миру и дружбе между народами. Поэтические шедевры Леси Украинки, сама ее жизнь, исполненная сурового мужества и благородного горения, являются вечно живым источником духовного обогащения, светлой радости. Творчество Леси Украинки, озаренное неугасимой любовью к украинскому народу, согрето любовью и ко всем другим народам. Свои замечательные произведения поэтесса создавала с мыслью о будущем, стремясь служить человечеству. Вот почему имя ее навсегда сохранится в признательной памяти народов Советского Союза, всего человечества. Вот почему мы с полным правом говорим о Лесе Украинке как о нашей современнице, сподвижнице в борьбе за светлое будущее.
В нашей стране, в странах социалистического содружества поэзия Леси Украинки звучит в полный голос, ее произведения переведены на многие и многие языки народов мира. Юбилейные торжества в честь Леси Украинки стали подлинным праздником многонациональной советской культуры, блестящим подтверждением правильности ленинской национальной политики Коммунистической партии. Юбилей великой дочери украинского народа прозвучал на весь мир как триумф дружбы народов, их светлого творческого единения.
1895,
• К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М., 1952. Письмо К. Маркса И. Вейдемейеру.
• В.И. Ленин, Наша программа. Полн. собр. соч., т. 4.
• В.И. Ленин, Проект программы нашей партии. Полн. собр. соч., т. 4.
• В.И. Ленин, О национальной гордости великороссов. Полн. собр. соч., т. 26.
• В.И. Ленин, О праве наций на самоопределение. Полн. собр. соч., т. 25.
• «Рабочая правда», 30 июля 1913 г. «Памяти Леси Украинки».
• «Деятели революционного движения в России». М., 1934.
• Леся Украинка, Собр. соч. в четырех томах. Перевод с украинского. М., ГИХЛ, 1956–1957.
• Леся Украинка, Избранное. Перевод с украинского. М., изд-во «Художественная литература», 1971.
• Леся Украинка, Собр. соч. в трех томах. М., 1950.
• Леся Українка, Твори в 5 томах. Київ, 1951–1956.
• Леся Укрaїнка, Твори в десяти томах, т. 8. Київ, 1965.
• П. Антокольский, Поэты и время. М., изд-во «Советский писатель», 1957.
• «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе». М., Гослитиздат, 1937.
• А. Дейч, Леся Украинка. Вступительная статья к кн. «Леся Украинка. Избранное». М., 1971.
• А. Белецкий, Леся Украинка. В кн.: «Избранное». М., Детиздат, 1954.
• М. Рыльский, Лирика Леси Украинки. В кн.: «Леся Украинка». Собр. соч. в 4-х томах. Т. I. M., 1956.
• А. Дейч, Леся Украинка. Критико-биографический очерк. Изд. 2-е, дополн. М., Гослитиздат, 1954.
• О.К. Бабышкин, Леся Украинка в Крыму. Симферополь, Крымиздат, 1956.
• Р.С. Балакирева, Некоторые вопросы эстетики Леси Украинки. «Ученые записки Харьковского университета». Харьков, 1957.
• А.В. Музычка, Борьба Леси Украинки против натурализма и декадентства. «Ученые записки Семипалатинского пединститута», 1959. Вып. 3-й.
• А.В. Музычка, Революция 1905 года в творчестве Леси Украинки. «Ученые записки Семипалатинского пединститута», 1955. Вып. 1-й.
• Л. Головаха, Леся Украинка — пламенный поборник дружбы украинского народа с русским. В кн.: «Украинские революционные демократы о дружбе украинского народа с русским». Киев, Изд-во АН УССР, 1955.
• К. Кухалашвiлi, Леся Українка — публіцист. Київ, вид-во «Дніпро», 1965.
• Євген Кирилюк, Мужнє слово поетеси. Київ, «Знания», 1971.
• Н. Шалуташвили, Леся Украинка и Грузия. Страницы великой дружбы. Киев, изд-во «Мистецтво», 1966.
• И.Е. Журавская, Леся Украинка и зарубежные литературы. М., изд-во «Наука», 1968.
• Іван Франко, Леся Українка. Твори, т. 17, Київ, 1955.
• Михайло Драгоманов, Літературно-публіцистичні праці, т. 2. Київ, вид-во «Наукова думка», 1970.
• О. Ставицький, Леся Українка. Київ, вид-во «Дніпро», 1970.
• Олег Бабишкiн, У мандрівку століть, слово про Лесю Українку. Київ, вид-во «Радянський письменник», 1971.
• ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
• ПРЕДКИ, ОТ ГЕРЦОГА ДО КАЗАЦКОГО СОТНИКА. ДРАГОМАНЫ. ДВА БРАТА: ПОЭТ И ДЕКАБРИСТ
• НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ. ПОЕЗДКА В КИЕВ
• ВО ДВОРЕ ЖИТЕЦКИХ. НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА
• «ГРОМАДА». ОТЪЕЗД ДРАГОМАНОВА ЗА ГРАНИЦУ
• КИЕВСКИЕ СТРАНСТВИЯ: ВЛАДИМИРСКАЯ ГОРКА, ПЕРУН, УНИВЕРСИТЕТ
• ПЕРЕЕЗД В ЛУЦК. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНГРЕСС И УКРАИНА. ВСТРЕЧА С ДРАГОМАНОВЫМ
• МАЛЕНЬКАЯ ЖАННА Д'АРК НА РУИНАХ ЗАМКА ЛЮБАРТА
• ПЕРВЫЕ ШАГИ В УЧЕБЕ
• ПОД МЕСТЕЧКОМ БЕРЕСТЕЧКОМ. ИСТОРИК ИЛЛОВАЙСКИЙ У КОСАЧЕЙ
• ДВЕ ТЕТКИ. ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
• НАЧАЛО ТРАГИЧЕСКОЙ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
• КИЕВ. ЛИТЕРАТУРА ИЛИ МУЗЫКА. У СТАРИЦКИХ
• КАМЕННЫЕ БАБЫ
• КОЛОДЯЖНОЕ
• ОПЕРАЦИЯ. ПРОЩАЙ, МУЗЫКА
• ПУТЕШЕСТВИЕ К МОРЮ
• ХУТОР КОСОВЩИНА. САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ ПАРАСКИ БОГУШ
• ЛЕСЯ УКРАИНКА. «ЗОРЯ». СЕМЕЙНАЯ МУЗА
• ИСТИННЫЕ ПОЭТЫ — ПРОРОНИ
• НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ. «ПЛЕЯДА», ЗАМЫСЛЫ И ПРОЕКТЫ
• КОЛОДЯЖЕНСКАЯ «РЕСПУБЛИКА»
• ГЁТЕ ИЛИ ШИЛЛЕР? ЯКУТСКАЯ ТРАГЕДИЯ
• CONTRA SPEM SPERO
• ЛЬВОВ. ВСТРЕЧА С ИВАНОМ ФРАНКО И МИХАИЛОМ ПАВЛЫКОМ
• ВЕНА: НОВЫЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ
• ЛЕСИН БЕЛЫЙ ДОМИК
• «В СЛЕЗАХ Я СТОЮ ПРЕД ТОБОЙ, УКРАИНА…»
• «НА КРЫЛЬЯХ ПЕСЕН»
• В БОЛГАРИИ. В ГОСТЯХ У ДЯДИ
• КОНЧИНА ДРАГОМАНОВА
• АРЕСТЫ В КИЕВЕ. ПОЗОР ЛИЦЕМЕРНОЙ ЛИРЕ!
• ПЕРЕЕЗД В КИЕВ. ГРУЗИНСКАЯ КОЛОНИЯ. ПОДАРОК НЕСТОРА ГАМБАРАШВИЛИ
• «ГОЛУБАЯ РОЗА»
• NUR EIN KRANKEN MENSCH IST MENSCH
• ТРИУМВИРАТ
• СТОЛЕТИЕ НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
• БЕРЛИНСКАЯ ЭПОПЕЯ. БЕЗ ПОЛИТИКИ НЕ ОБОЙТИСЬ
• ОЛЬГА КОБЫЛЯНСКАЯ В ГОСТЯХ У ЛЕСИ
• ДУМЫ И МЕЧТЫ НА РУБЕЖЕ ДВУХ ВЕКОВ
• В ПУТЕШЕСТВИЯХ: МИНСК, ПЕТЕРБУРГ, ТАРТУ, РИГА
• «ЗА НЕРАЗРЫВНОСТЬ ПРАВДЫ И КРАСОТЫ»
• «В СОЦИАЛИЗМЕ И ДЕМОКРАТИЗМЕ ИСКАЛА СПАСЕНИЕ»
• «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ПУБЛИЦИСТОМ…»
• МИНСКАЯ ДРАМА
• ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• В ГОСТЯХ У КОБЫЛЯНСКИХ. «КОНСТИТУЦИЯ СВЯТОЙ АННЫ»
• КТО-ТО И КТО-ТО. КАРПАТЫ
• «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ» ЗАШИФРОВАН
• КАК ПЕЧАТАЛИСЬ «ОТЗВУКИ»
• ИТАЛИЯ. САН-РЕМО
• «ОЙ, Я ПОСТРЕЛЯНА, ПОРУБАНА СЛОВАМИ…»
• STA, VIATOR! НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ. ПОМПЕИ
• В ПОИСКАХ ЗАРАБОТКА. ПЕРЕВОДЫ ДЛЯ ФИРМЫ МАЛЫХ
• ДЫМ ГЕНУИ
• ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ИТАЛИИ. РАЗГОВОР С МИХАИЛОМ ПАВЛЫКОМ
• «СВЕРНУТЫЕ ГОЛОВЫ». СПОР С ТРУШЕМ И ГАННЕВИЧЕМ
• КОТЛЯРЕВСКИЙ СОЗЫВАЕТ КОНГРЕСС
• КЛИМЕНТ КВИТКА. КАВКАЗ. СМЕРТЬ БРАТА
• ВТОРАЯ ПОЕЗДКА В ГРУЗИЮ
• КРОВЬ НА ТРОТУАРАХ ТБИЛИСИ. «КРАСНЫЙ ШУМ»
• НЕОФИТ ПОКИДАЕТ КАТАКОМБЫ
• ТВОРЧЕСКАЯ ДРУЖБА
• МАНИФЕСТАЦИЯ НА НЕВСКОМ. КОНСТИТУЦИЯ
• МЕЧТА, НЕ ПРЕДАЙ! «ПРОСВИТА». АРЕСТ
• «КАПИТУЛЯЦИЯ» СТАРШЕЙ СЕСТРЫ
• НАРОДНЫЕ ДУМЫ. ПОЛТАВСКИЕ КОБЗАРИ НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ
• «В ГIРКIЙ, ДАВНО МИНУЛIЙ ДОЛI — ОБРАЗ РIДНОЇ НЕВОЛІ
• КАССАНДРА — ПРОРОЧИЦА НЕПРИЗНАННОЙ ПРАВДЫ
• ТЕЛАВИ. «КРОМЕ ЕГИПТА, МНЕ НЕТ ЛЕКАРСТВ»
• ТРАПЕЗУНД. АЛЕКСАНДРИЯ. ГЕЛУАН
• ПИРАМИДЫ, СФИНКСЫ, ФАРАОНЫ И НАПОЛЕОН
• РЫЖИЙ ХАМСИН. БОГ РА СЕРДИТСЯ. ОТЪЕЗД ИЗ ЕГИПТА
• КОЛХИДА БЕЗ ЗОЛОТОГО РУНА. ПРОЗА ЖИЗНИ
• ВОЛЫНСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ. ТОЛПА ОБРАЗОВ. «ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ»
• «ДОН-ЖУАН» И «ДЕРЗОСТЬ ХОХЛАЦКАЯ»
• «ПИШУ — ЗНАЧИТ СУЩЕСТВУЮ». ПРОЩАЙ, ЗОЛОТОЙ ЕГИПЕТ!
• ЗДРАВСТВУЙ, РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!
• ПРОЩАЙ, ДНЕПР, ПРОЩАЙ, УКРАИНА!
• ГЕЛИОС, СПАСАЙ ТВОИ СОКРОВИЩА!
• СУРАМИ. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
• ВЕЛИКАЯ ДОЧЬ УКРАИНСКОГО НАРОДА
• ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕСИ УКРАИНКИ
• КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ