Александр Королев
Святослав
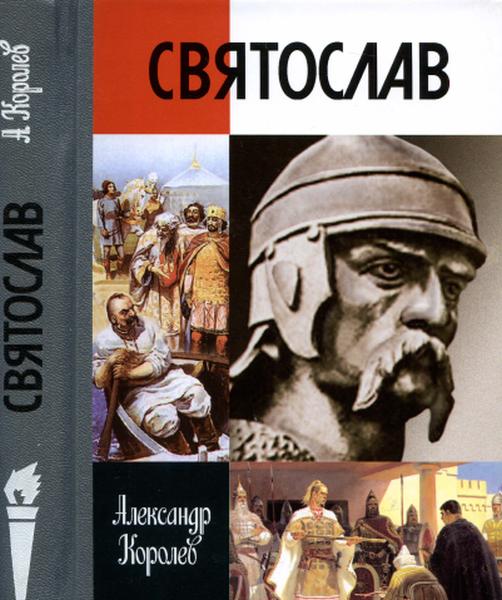
Взяв в руки это издание из серии «ЖЗЛ», читатель, возможно, скажет: «Ну, вот кто-то и про Святослава умудрился написать толстую книжку. О чем тут можно рассказывать на нескольких сотнях страниц?!» Действительно, в летописях повествование о подвигах князя, жившего в середине X века, умещается на десятке листов. Известно, что Святослав был сыном киевского князя Игоря, которого зверски убили восставшие древляне, потому и воспитывала мальчика мать – княгиня Ольга. Оставив Киев, подросший Святослав во главе дружины начал крушить соседние страны, бросаясь то на хазар, то на дунайских болгар, то на византийцев. Еще известно, что он не поддался на уговоры матери принять крещение, и это, по мнению летописцев, предопределило несчастную судьбу удалого князя – он попал в засаду к печенегам, те убили героя и сделали из его головы чашу Есть, правда, и византийские источники, но их информация относится только к заключительному этапу биографии русского князя – к истории его войны и поражения на Балканах… Но русские летописи не сообщают ни о каком поражении! В их представлении Святослав победил всех своих врагов, пошел в Киев за подкреплением, вот тут-то его подкараулили кочевники и… ну а дальше вы знаете.
К летописной биографии Святослава возникает много вопросов. Сколько лет было князю, когда погиб его отец? Если он был ребенком, то почему Ольге не удалось привить сыну интерес к христианству? Зачем Святослав оставил Киев и начал воевать с соседями? Чего добивался? Как далеко зашел во время своего восточного похода на хазар? И почему все бросил и ушел на Дунай? На что рассчитывал, ввязываясь в болгаровизантийский конфликт? В книге я постарался разобрать все, в том числе наиболее запутанные, обстоятельства жизни Святослава, так что, прочитав ее, заинтересованный читатель получит по возможности полное представление о нашем герое. Остается лишь сделать некоторые необходимые пояснения.
Первое – летописный рассказ о Святославе при всей своей яркости содержит мало деталей для характеристики князя как «живого» человека. Как известно, герои русской истории X века описаны летописцами на основе преданий и по заданному шаблону. Заранее ясно, как поступит тот или иной персонаж в зависимости от ситуации. Поэтому язычники Ольга и Владимир, приняв христианство, или преображаются до неузнаваемости (как Ольга), или попросту исчезают со страниц летописи (как Владимир): информации об изменении героем образа жизни оказывается у книжника недостаточно, а вести себя христианин должен иначе, чем язычник. Неясно, чем в реальности были мотивированы их поступки, какие эмоции они переживали на самом деле. В равной степени это относится и к зарубежным источникам, тем же византийским хроникам, авторы которых видят в поступках Святослава лишь проявление «варварских» спеси, жадности и жестокости. Указанный недостаток материала не может не отражаться на занимательности повествования.
Второе пояснение касается объема имеющейся у нас информации. Факты биографии Святослава, содержащиеся в источниках, трудно собрать в единую картину. Иногда не вполне понятно даже, что в том или ином случае имел в виду древнерусский монах-летописец или, скажем, византийский ученый император Константин Багрянородный. В результате приходится углубляться в анализ, «взвешивать» каждый факт. Поэтому повествование строится вокруг известных нам событий из жизни князя и напоминает, скорее, серию очерков.
И, наконец, третье. Нехватку информации, напрямую касающейся Святослава, приходится восполнять рассказом о событиях, прямо или косвенно повлиявших на те или иные поступки нашего героя. Поэтому не всегда в центре повествования оказывается Святослав, а иногда и сам рассказ приходится вести, глядя на русского князя глазами его недоброжелателей. Но все эти ухищрения необходимы для того, чтобы понять время, в которое жил наш герой, и лучше рассмотреть его самого, что в конечном счете и составляет главную задачу пишущих и читающих о Святославе.
Император ромеев Константин VII, приближаясь к пятидесятилетию, все еще оставался красивым мужчиной. Высокий, широкоплечий, с длинной шеей, он был, как и в юности, прям, словно кипарис. Унаследованную от предков телесную красоту не смогли окончательно испортить ни пристрастие к обильной и вкусной пище, ни увлечение науками, предполагающее малоподвижное времяпрепровождение в обществе книг. Стандартам красоты того времени соответствовало и лицо – широкое, с орлиным носом и здоровым румянцем на щеках на фоне молочно-белой кожи. Розовые щеки царя придавали ему вид человека добродушного и приветливого, каким и должен был быть этот любитель не только поесть, но и хорошо выпить – слабость, которую ставили ему в вину некоторые болтливые подданные. Но особенно красивы были у Константина глаза, унаследованные от матери – красавицы Зои Карбонопсины, то есть «Черноокой», или «Огнеокой».
Отец Константина, император Лев VI, сойдясь с этой яркой женщиной, совсем потерял голову. К тому времени он правил Византийской империей уже много лет, но трудно было найти в Константинополе человека более несчастного в личной жизни. Еще совсем молодым родители женили его на скучной и болезненной Феофано, проводившей в молитвах дни и ночи. Такое благочестие было отмечено церковью, и после смерти набожную императрицу причислили к лику святых. Но самого Льва к святой жизни не тянуло. Кончины жены ему пришлось ждать более десяти лет, и он проводил время в обществе любовницы – женщины живой и умевшей утешить. Ее, как и последнюю любовь василевса, звали Зоя. Феофано пожаловалась свекру на неверного супруга, и император Василий I, грубый солдафон, Наказал своего сына, как умел, – он схватил Льва за волосы, свалил с ног и долго бил кулаками и ногами. Зою вскоре выдали замуж. Однако это не охладило наследника престола, он стал осторожнее, но их связь продолжалась. Наконец Василий I умер, власть перешла ко Льву и… еще три года Зоя оставалась его любовницей. Оба были несвободны. Эти запутанные отношения могли тянуться бесконечно долго, но почти одновременно из жизни ушли императрица Феофано и супруг Зои. Злые языки говорили, что Зоя их и отравила.
Это не помешало Льву VI вскоре на ней жениться. Его семейная идиллия длилась недолго – спустя один год и восемь месяцев Зоя также скончалась. Царь не терял надежды устроить свою жизнь и женился на красавице Евдокии. Юная жена умерла через год во время родов, а следом за ней Бог прибрал и сына Льва – младенца Василия. Вместе со смертью сына, казалось, рухнули надежды императора иметь мужское потомство (от первого брака у него были дочери). Церковь ограничивала число возможных вступлений в брак, даже третий брак царя был разрешен патриархом как исключение, а уж о четвертом и говорить не приходилось. Оставалось доживать. Кое-кто начал проявлять нетерпение: во время посещения церкви неизвестный подскочил к царю и ударил его палицей по голове. Смерть была неминуема, если бы конец орудия убийства не зацепился за поликандило (подвесной светильник). Кровь хлынула из головы, царь упал, началась паника, кто-то бросился бежать вон, кто-то – крутить руки убийце-неудачнику. Но даже когда, после долгих пыток, эти руки отрубили, убийца не назвал сообщников. Пришлось отрубить еще и ноги, а затем сжечь его самого. Злые языки обвиняли в организации покушения младшего брата Льва Александра, который, являясь императором-соправителем, никакой реальной политической роли не играл и в день покушения, сказавшись больным, остался дома. Однако прямых доказательств не было. Всевозможные провидцы начали сулить уцелевшему царю долголетие, а один из них даже с точностью до дня определил, что Лев VI будет царствовать еще десять лет.
Но Лев не хотел пассивно дожидаться окончания отведенного ему предсказателями срока. Вскоре после смерти третьей жены в его жизни появилась последняя любовь – Зоя Карбонопсина. Девушка из знатной семьи несколько лет довольствовалась ролью сожительницы, но когда она родила сына, подобное положение дел перестало устраивать самого императора. Лев VI начал добиваться разрешения на четвертый брак. Патриарх Николай Мистик занял принципиальную позицию. Он даже отказывался крестить «незаконного» ребенка. Такого от патриарха Лев VI не ожидал, ведь Николай Мистик был его другом детства. Лишь спустя почти восемь месяцев младенца (будущего императора Константина VII) крестили. Но сделано это было с условием, что блудница Зоя будет удалена из дворца. Влюбленный Лев VI обманул патриарха. Их обвенчал с Зоей простой священник, которого за это лишили сана. Взбешенный Николай Мистик отрешил императора-обманщика от церкви. Впрочем, вскоре стало ясно, что патриарх зарвался – и его отправили в ссылку. Новый патриарх Евфимий оказался более сговорчивым и согласился признать четвертый брак императора. Отныне все разговоры о незаконности Константина прекратились; наоборот, стали особо подчеркивать, что он сын правящего василевса ромеев, родившийся в «Порфире» – особом покое императорского дворца, традиционном месте рождения царских детей. Отсюда и прозвище, закрепившееся за наследником, – «Порфирогенит», или «Багрянородный».
Сами обстоятельства его рождения казались столь необычайными, что с раннего детства будущий император Константин VII привык думать о себе как о человеке, которому суждено совершить что-то выдающееся. Да и мог ли иначе думать о себе сын владыки Мира? Это ощущение только усилилось от рассказов очевидцев, сообщавших, что во время появления Константина на свет на небе явилась комета, сиявшая 40 дней и ночей.
Между тем истекли десять лет, отведенные Льву VI предсказателями, и царь умер (можно сказать, вовремя). Семилетний Константин стал василевсом ромеев. Возраст, конечно, не вполне подходящий для начала великих дел. Кроме того, он был вторым императором, первым – его дядя Александр, ненавидевший племянника. Патриархом вновь стал Николай Мистик. Из дворца исчезли люди, близкие Льву VI. Зоя Карбонопсина оказалась в монастыре. Исчезнуть мог и маленький Константин VII. Поговаривали, что Александр хотел оскопить мальчика – кастрат не может быть императором, – но нашлись добрые люди, пожалели сына Льва VI, убедили дядю, что ребенок слаб здоровьем и не выдержит болезненной процедуры. Александр согласился подождать. Впрочем, он быстро устал заниматься государственными делами. Когда Византией управлял Лев, Александр в основном развлекался охотой и предавался разврату. Выйдя после смерти брата на первый план, он не изменил образ жизни. Немолодой человек уже страдал от дурной болезни, которая, согласно византийским хроникам, выражалась в «гниении срамных частей». В один из жарких дней, плотно закусив за завтраком и хорошенько нагрузившись вином, император пошел поиграть в мяч – невинная, в общем, забава. Под палящим солнцем его хватил удар, во дворец Александр вернулся весь в крови, текшей из носа и детородного органа. Умер он через два дня, процарствовав всего 13 месяцев.
Константин VII Багрянородный стал единоличным императором ромеев. Во дворец была возвращена его мать. Однако против маленького государя начали один за другим возникать мятежи, на империю напали болгары, болгарский царь Симеон неоднократно осаждал Константинополь. Константину был нужен сильный помощник, желательно из военных. Выбор воспитателей царя пал на друнгария флота (командующего морскими силами империи) Романа Лакапина. Этот безграмотный сын армянского крестьянина, сделавший при Льве VI головокружительную карьеру, казалось, идеально подходил на эту роль. Но интеллектуалы, окружавшие юного государя, жестоко просчитались. Казавшийся им тупым и лояльным, Роман Лакапин совершил переворот, были арестованы и исчезли все близкие к Константину люди. Зоя опять оказалась в монастыре, и на этот раз окончательно. Императора, которому не исполнилось и четырнадцати лет, женили на дочери Романа Елене. И вновь судьба улыбнулась Константину – он не только уцелел в этой заварухе, но и приобрел красавицу жену, умную настолько, чтобы стать верным другом своему мужу. Брак оказался счастливым.
Роман Лакапин был провозглашен императором-соправителем зятя. Вскоре он объявил императрицей свою жену, затем императором – старшего сына Христофора. Через несколько лет императорами-соправителями Романа стали и еще два его сына, Стефан и Константин. Императрицами провозгласили и их жен. Младшего своего сына Феофилакта Роман Лакапин прочил в патриархи, и когда юноше исполнилось 15 лет, его возвели на патриарший трон. Положение законного императора Константина VII Багрянородного пошатнулось, он стал сначала вторым человеком в империи, затем третьим, а затем его влияние вообще сошло на нет. Ему остались частные радости в кругу семьи, алкоголь и конечно же книги, до которых сын Льва VI оказался большим охотником. Законный наследник престола пробыл в подчинении у тестя, вызывавшего у него своей грубостью массу отрицательных эмоций, более четверти века. Все эти долгие годы Константин VII был вынужден притворяться то ученым чудаком, далеким от реальной жизни, то не способным ни на что алкоголиком. Но в душе он никогда не забывал о своем высоком предназначении и ждал своего часа. И дождался – к сорока годам. Неблагодарные сыновья Романа Лакапина свергли старого и больного отца с престола и отправили в ссылку на остров Прот (один из Принцевых островов близ столицы). Однако они не учли, что ромеи помнят, кто является их законным государем. По Константинополю распространились слухи, что жизни Константина VII угрожает опасность. Перед дворцом собралась огромная толпа народа, которая гудела до тех пор, пока пред ней не появился сын Льва VI. Напуганные сыновья Романа Лакапина были сломлены, а вскоре они сами лишились власти и оказались в ссылке.
Началось самостоятельное правление императора-интеллектуала. Конечно, он хотел, чтобы при нем простым ромеям жилось легче, поэтому и уменьшил налоговые поборы, издал ряд указов, которые должны были поддержать мелких землевладельцев, кому-то из них даже вернули отобранные владения. Но не в этом видел Константин VII свое предназначение. Заботы о просвещении народном, о сохранении культурных памятников занимали государя постоянно. В Константинополе теперь появилась возможность получить приличное светское образование, в созданном императором учебном заведении преподавались философия, риторика, геометрия, астрономия. Царь почти ежедневно лично посещал «университет», расспрашивал учеников о их жизни, делил с ними стол, давал деньги. Выпускники назначались судьями, секретарями, даже митрополитами. Император и сам любил вместе с судьями решать споры, разбирать жалобы и тяжбы людей. Со всех концов империи шли к нему письма, и каждое он успевал просмотреть и принять по нему то или иное решение. В столице развернулись большие работы – реставрировались старые здания, строились новые дворцы и храмы. При этом василевс лично наставлял и художников, и каменотесов, и плотников, и позолотчиков, и кузнецов – и всегда и во всем оказывался лучшим. Ничто не ускользало от его внимания, все он старался решить сам.
Впрочем, все это были пустяки в сравнении с главным замыслом Константина Багрянородного, реализация которого должна была принести империи колоссальную пользу и увековечить имя императора. Василевс мечтал подготовить энциклопедии по всем отраслям знаний: агрономии, зоологии, медицине, воинской тактике, юриспруденции, дипломатии и т. д. Лучшие ученые империи были объединены в авторский коллектив, который составил более пятидесяти справочников по тематике, намеченной василевсом. Сам государь принимал в написании и редактировании собранных томов непосредственное участие. Читателем этой сокровищницы премудростей должен был стать его единственный сын Роман, провозглашенный по традиции с раннего детства соправителем отца – императором Романом II.
Кроме Романа у Константина VII было пять дочерей – ласковые, любящие девочки. Но все внимание отца поглощал сын, развивавшийся не так, как хотелось родителям. Константин всегда старался сделать из Романа настоящего василевса, а потому обучал его и правильной речи, и походке, и смеху, и умению одеваться, сидеть и стоять по-царски. Он напоминал сыну, что тот – также багрянородный (родившийся в семье правящего императора), предупреждал, что только если соблюдать всё, что говорит отец, можно долго и счастливо царствовать над ромеями. Всё без толку – с каждым днем наследник императора-философа все более и более превращался в развращенного подростка, рано познавшего радости женского общества и алкоголя.
Еще когда империей правил его дед Роман Лакапин, маленького Романа решили женить. Сначала дед хотел таким образом наградить хорошо проявившего себя в войне с арабами полководца Иоанна Куркуаса (Старшего), выдав его дочь замуж за своего нелюбимого внука. Затем он нашел для шестилетнего Романа более выгодную партию – Берту, незаконную дочь Гуго Прованского, короля Италии. Красивую девочку привезли в Константинополь и при венчании дали ей более подходящее для византийской принцессы имя – Евдокия. Дети прожили в браке пять лет, а потом Берта-Евдокия умерла. Так Роман II остался вдовцом в 11 лет. Когда его отец стал полноправным императором, ему исполнилось 14, но и теперь кроме охоты, попоек и девиц юношу ничего не интересовало. Отец строил для сына дворец, даже больше собственного, – но что делать, если того интересовали не дворцы, а притоны?!
Уже несколько лет Константин готовил для сына монументальный труд – поучение о том, как править империей. К написанию этого трактата были привлечены лучшие интеллектуальные силы империи, был собран и сведен воедино колоссальный по объему материал из истории и географии соседних стран. От Романа требовалось только в случае необходимости открыть книгу и найти ответ на вопрос, как вести себя с тем или иным соседом в той или иной ситуации. Константин VII не только выступил редактором текста, но и написал некоторые разделы. Труд был, наконец, завершен, и император-соавтор с волнением перебирал дорогие пергаменные листы, переписанные лучшими каллиграфами императорской канцелярии. Скоро их переплетут в книгу, прикрепят к переплету золотые пластины, украшенные драгоценными камнями и покрытые великолепной чеканкой.
Не без удовольствия царь начал читать предисловие, написанное им самим и обращенное к сыну: «Мудрый сын радует отца, и нежно любящий отец восхищается разумом сына, ибо Господь дарует ум, когда настает пора говорить, и добавляет слух, чтобы слышать. От него сокровище мудрости, и от него обретается всякий дар совершенный. Он возводит на трон василевсов и вручает им власть над всем. Ныне посему послушай меня, сын, и, восприняв наставление, станешь мудрым среди разумных и разумным будешь почитаться среди мудрых. Благословят тебя народы и восславит тебя сонм иноплеменников. Восприми, что тебе должно узнать в первую очередь, и умно возьмись за кормило царства. Поразмысли о настоящем и вразумись на будущее, дабы соединить опыт с благоразумием и стать удачливым в делах. Учти, для тебя я пишу поучение, чтобы в нем соединились опыт и знание для выбора лучших решений и чтобы ты не погрешил против общего блага»{1}.
Хорошо получилось, очень лично, должно пронять даже такого бессердечного эгоиста и лентяя, как Роман. Впрочем, к делу: «Сначала – о том, какой иноплеменный народ и в чем может быть полезен ромеям, а в чем вреден: каким образом каждый из них и с каким иноплеменным народом может успешно воевать и может быть подчинен. Затем – о хищном и ненасытном их нраве и что они в своем безумии домогаются получить, потом – также и о различиях меж иными народами, о их происхождении, обычаях и образе жизни, о расположении и климате населенной ими земли, о внешнем виде ее и протяженности, а к сему и о том, что случилось когда-либо меж ромеями и разными иноплеменниками. После всего этого – о том, какие в нашем государстве, а также во всем царстве ромеев в разные времена появлялись новшества»{2}.
Император задумался. Механически перебирая листы исписанного пергамена, он наткнулся на главу о росах, о том, как они приплывают на своих кораблях в Константинополь. Вот он – пример народа, обладающего хищным и ненасытным нравом, опасного во всех отношениях, появление которого близ границ империи может привести к неисчислимым бедствиям, а возможно – к Концу.
Тут нужно дать некоторые пояснения. Ромеи считали себя центром Вселенной (ведь империя может быть только одна), а свою историю – историей Мира. Как и все средневековые люди, они ждали Конца света и были уверены, что именно с них он и начнется. Поэтому среди интеллектуалов были весьма популярны различные комментарии к библейским книгам пророков и «Апокалипсису». И вот что удивительно – в греческом переводе книги пророка Иезекииля встречается название «Рос»: «И бысть слово Господне ко мне, глаголя, сыне человечь, утверди лице твое на Гога и на землю Магога, князя Рос», а в «Апокалипсисе» указывается, что перед Концом света народы Гога и Магога, находящиеся на четырех углах земли, обольщенные Сатаной, подойдут к «священному граду». И будет число их, как песок морской. Оставалось сделать вывод: нужно ждать появления страшного народа «Рос» как верный признак начинающегося Конца света. При этом большинство комментаторов помещали страну Гога и Магога на севере, называя их гиперборейскими народностями (народами Севера) и скифами. Когда на севере появились русы, созвучие названий «Русь» с библейским «Рос» не осталось незамеченным. У ромеев не могла не появиться мысль, что это и есть тот самый народ «Рос», ужасный уже одним своим именем. Поэтому русов называли в Константинополе исключительно «росами»{3}.
Из трактата Роман мог узнать про этот страшный народ много важного. Например, то, что главный город росов называется «Киов», что от них зависят многие славянские племена с диковинными названиями – вервиане, другувиты, кривичи, северии, лендзанины и прочие, жившие от страны ромеев так далеко, что информаторы императора, с трудом выговаривавшие все вышеперечисленное, их имен просто не знали. У росов много князей, и многими городами владеют они, но когда наступает ноябрь месяц, все собираются в Киеве и с войском чуть ли не из всех росов отправляются собирать дань с подчиненных им славян. Объезд племен продолжается всю зиму; наконец в апреле, когда растает лед на реке Днепр, росы возвращаются в Клев.
Зимой данники-славяне в своих непроходимых лесах валили огромные деревья и, обстругав, выдалбливали в стволах углубления, а с наступлением весны спускали их на воду. По целой системе речушек, впадающих в Днепр, они доставляли эти примитивные лодки-однодеревки в Киев и продавали там росам. Те обшивали грубо обработанные долбленки бортами, оснащали веслами, уключинами, мачтами, и после всех этих доработок колода, которая годилась лишь на то, чтобы плавать по реке, не удаляясь далеко от берега, превращалась в ладью – судно, на котором можно было рискнуть выйти и в открытое море. На эти суда грузили всё то, что было добыто в течение зимнего сбора дани. Как правило, каждый русский князь снаряжал в торговую экспедицию две-три (или даже четыре) ладьи, с которыми он отправлял в плавание, кроме охраны и экипажа, лиц, ответственных за товар и торговлю, – одного-двух купцов и посла, утрясавшего все дипломатические формальности{4}.
В июне заканчивались приготовления к плаванию, и флот росов, двигаясь по течению Днепра, спускался к городу Витичеву, в крепости которого в продолжение двух-трех дней росы поджидали отставших и после этого всем караваном пускались в далекое путешествие. В плавании их подстерегало множество опасностей, особенно когда они достигали днепровских порогов, имена которых, и по-славянски, и по-росски, звучали странно для уха ромеев. Течение здесь было очень быстрым, проход между берегами – узким, а реку поперек пересекала цепь скал, из которых одни были скрыты под водой, другие стояли на ее уровне, иные же значительно выступали над ней. Скалы располагались так близко друг от друга, что, подобно плотине, сдерживали течение реки, которая потом низвергалась водопадами. Росы не осмеливались проходить между скалами, но, причалив поблизости и высадив людей на сушу, оставив прочие вещи в ладьях, нагие, ощупывая ногами дно, волокли их (одни у носа, другие посередине, третьи у кормы), толкая шестами, чтобы не натолкнуться на какой-либо камень. В некоторых местах им приходилось, вытащив груз на берег, волочить судно посуху. Рабов, предназначенных для продажи, закованных в цепи, гнали по берегу. Обойдя опасное место и перенеся груз, росы, погрузившись на корабли, продолжали путь. Во все время путешествия им постоянно приходилось выделять часть людей для охраны каравана, так как кочевники-печенеги, подкарауливая купцов у порогов, грабили и убивали тех, кто не успевал вовремя приготовиться к обороне.
Наконец тяжелый путь через пороги оставался позади – росы достигали острова Святого Григория. На этом острове, где стоял громадный дуб, они совершали жертвоприношения: приносили в жертву живых петухов, укрепляли вокруг дуба кто стрелы, кто кусочки хлеба, мяса или еще что-нибудь, что велел обычай их предков. Отдохнув, отправлялись в дальнейший путь. Еще немного усилий – и впереди показывался остров Святого Эферия (Березань). Тут в устье Днепра росы отдыхали два-три дня и готовили свои ладьи для морского путешествия. Отсюда при ветре можно было двигаться под парусом (в безветрие же по-прежнему на веслах) вдоль северного побережья Понта Эвксинского (Черного моря), не удаляясь далеко от берега, делая остановки в устьях рек. Все это время по берегу их продолжали преследовать печенеги, выжидавшие удобного момента для нападения и осыпавшие путешественников стрелами. Наконец караван достигал устья Дуная, откуда начинались земли болгар; здесь опасность от печенегов прекращалась, и путь становился легче. Двигаясь все так же, вдоль морского побережья, росы достигали входа в пролив Босфор, а отсюда уже недалеко было до Константинополя – конечной цели всего этого мучительного пути.
Вообще, росы – хорошие мореходы и воины. Они нападают на все соседние народы, а ввязавшись в бой, проявляют отчаянную храбрость, даже безрассудство. Про этих варваров рассказывают, что они никогда не сдаются врагам и, если нет надежды на спасение, пронзают себя мечами. И Лев VI, и Роман Лакапин нанимали их для участия в морских походах империи. Служат они и в императорской гвардии. Князья росов всегда с готовностью отправляют в Византию столько воинов, сколько угодно василевсам ромеев. Сам Константин Багрянородный нанимал для похода на Крит девять русских судов с экипажем более шестисот человек. При воспоминании об этом походе сердце василевса не могло не сжаться – арабы тогда отбили нападение ромеев…
Прибывавшие в Константинополь росы поначалу предъявляли печати: послы – золотые, купцы – серебряные, но затем правивший в Киеве князь Игорь согласился с ромеями, что лучше, если послы будут предъявлять еще и грамоты от своего князя: такой-то послал столько-то кораблей. Это позволяло вовремя отделить мирных купцов от разбойников, которых среди росов полным-полно. Если же кто являлся без такой грамоты, то ромеи сажали этих подозрительных под арест и выясняли, кто они такие, затеяв переписку с киевским князем. В случае если задержанные пытались сопротивляться, византийская сторона оставляла за собой право убить их. После улаживания необходимых формальностей приезжих размещали в квартале близ монастыря Святого Маманда – в пригороде, вне стен Константинополя, недалеко от ближайшего участка северной стены города, на европейском берегу Босфора, близ входа из пролива в Пропонтиду (Мраморное море) и в залив Золотой Рог (который росы называли «Суд»). Прибывших росов переписывали и ставили на довольствие. Впрочем, разница между росами, явившимися с грамотой, или без грамоты, невелика. От любого можно было ожидать какого-то бесчинства или в самом Константинополе, или по дороге к нему, где от этих варваров могли пострадать прибрежные поселения ромеев.
Самой настоящей бедой для корабля купца-ромея могла обернуться встреча с таким же купцом-росом. И это притом что князья росов во главе с Игорем обещали пресекать пиратство, но толку было мало. Особенно печальной была участь корабля, выброшенного в бурную погоду на берег и замеченного проплывавшими мимо росами. Высадившись, они могли перебить несчастных, спасшихся от бури, или обратить их в рабство, расхитив уцелевшее имущество. Прекратить подобную практику князья никак не могли, хотя и обещали, что будут наказывать виновных, а росы – впредь помогать потерпевшим кораблекрушение собрать свои товары и продолжить путь{5}. Наконец, росы могли, встретив в устье Днепра отправлявшихся сюда на ловлю рыбы жителей Херсона, отобрать у них весь улов и самих превратить в корм для рыб. Конечно, лучшие сорта рыбы, бывшей одним из главных продуктов питания ромеев, добывались в Меотиде (Азовском море) и у северных берегов Понта Эвксинского – на Боспоре Киммерийском (в Керченском проливе). Но и устье Днепра херсониты считали своим местом рыбного промысла. Согласно византийскому законодательству рыбаки были обязаны объединяться в общины с жесткой корпоративной этикой, определенной особым уставом. Прибрежная полоса разделялась между общинниками на равные по прибыли паи, со строго установленным расстоянием между этими паями. Границы раздела считались неприкосновенными, срыв промысла не допускался, а срок переделов между частными общинниками определялся в 10-20 лет (между монастырскими рыболовами – в 40 лет){6}. Таким образом, поменять место вылова рыбы было практически невозможно, и херсониты выходили в море, каждый раз опасаясь появления ладей росов.
Некоторые купцы росов предпочитали даже не доплывать до Константинополя или, отплыв из столицы ромеев, не возвращаться домой, а зимовать на острове Святого Эферия или где-нибудь поблизости (росы называли эту местность Белобережьем), и грабить проплывающие через устье Днепра корабли, плотно перекрыв таким образом движение по реке. По весне они отправлялись в Константинополь реализовывать всё приобретенное за зиму.
Зная нравы опасных варваров, ромеи установили правило – росы, жившие в Константинополе, могли покидать предместье Святого Маманда группой не более пятидесяти человек и в сопровождении специально приставленного к ним чиновника. Последний должен был разрешать конфликты, которые возникали между гостями и местными жителями в ходе торговли или просто на улице. Чтобы у росов не возникло желания самим разрешить «все проблемы», им запрещалось покидать отведенный для проживания квартал, имея при себе оружие. А чтобы они не пронесли его с собой тайно, группа росов входила в город через одни ворота. Это позволяло их внимательно осмотреть.
В квартале Святого Маманда византийцы селили только росов, но поскольку кроме купцов и послов здесь же постоянно жили и те из них, кто служил в Византии в качестве наемников, разместить можно было лишь ограниченное количество купцов с их людьми. Поэтому в течение лета-осени Константинополь посещало два каравана росов{7}. Как раз когда начинался мореходный сезон на Черном море, наемники-росы уходили в очередной военный поход либо отправлялись в летние лагеря на учения. Это было не только разумно с той точки зрения, что одни и те же «казармы» попеременно занимали зимой наемники, а летом купцы, но и позволяло избежать здесь столпотворения: ведь в Константинополь прибывало не менее полусотни ладей с росами. И всю эту массу людей бесплатно кормили, все они имели право сколько угодно мыться в банях – таковы были договоренности. И хотя росы получали довольствие не деньгами, а натурой (хлеб, вино, мясо, рыба, овощи) и эти продукты не выдавались им на руки, а предоставлялись в виде готовой пищи, все равно содержание одного такого путешественника обходилось византийской стороне в три золотых за три месяца (срок, на который, согласно византийским законам, иностранцам позволялось посещать Константинополь){8}. А ведь бывали времена, когда росы жили в столице ромеев в течение шести месяцев, также находясь на полном содержании принимающей стороны{9}.
И все-таки, несмотря на столь льготные условия и меры предосторожности, которые предпринимали ромеи, конфликты на улицах случались. Нередко между ромеями и росами происходили драки, и тогда стороны пускали в ход все, что оказывалось под рукой, прежде всего оружие, конечно. И неизменно выяснялось, что, несмотря на существующий запрет и тщательный досмотр, в руках у задетого или кого-то задевшего роса оказывался тайно пронесенный в город меч или даже копье. В этом случае рос, затеявший драку, должен был уплатить значительный штраф, но такой же, какой он уплатил бы, совершив подобное деяние дома. И хотя ничего необычного, в общем, не происходило, забияка частенько пытался увильнуть от уплаты штрафа, сославшись на свою бедность. Ему не особенно верили. (Кто же приезжает в Константинополь без денег?!) Византийская сторона могла продать все его имущество, включая одежду, которая была на нем, чтобы собрать нужную сумму. Если этого все равно не хватало, виновный должен был поклясться, что больше у него ничего нет и помочь ему некому, и только тогда его оставляли в покое. Тут ромеи делали уступку обычаям росов: ведь по византийским законам ранивший другого мечом, если раненный им человек не умер, присуждался к отсечению руки за то, что вообще осмелился нанести удар оружием{10}. Но не всякая стычка заканчивалась так. Бывало, ромеи убивали росов, а росы – ромеев. Чаще всего подоспевшие родственники или товарищи жертвы тут же расправлялись с убийцей. А если тому удавалось спастись и скрыться, родственники убитого брали себе его имущество. Окажись он неимущим, его бы искали до тех пор, пока не нашли и не лишили жизни.
Бывало, что росы пытались что-то украсть у ромеев и, наоборот, ромеи совершали кражу у росов. Если вор оказывал сопротивление, его можно было убить, если же он сдавался добровольно, то он возвращал украденное и платил в качестве штрафа его цену. Росы вообще очень трепетно относились к имуществу, правда, если оно принадлежало им. Заключая договоры с ромеями, они всегда оговаривали судьбу имущества, оставшегося после внезапной смерти купца или наемника в Константинополе. И неизменно ромеи обещали отправить это имущество в «Росию» (страну росов) родственникам умершего с первым же возвращающимся туда караваном. Неменьшую скрупулезность росы проявляли и в случае, если некий должник пытался скрыться в земле ромеев, избегнув тем самым расплаты с кредиторами в Киеве. Византийская сторона была обязана схватить злодея и водворить его домой. Впрочем, то же самое обещали сделать и росы с должником-ромеем.
Особенно внимательно росы следили за судьбой убежавших от них рабов, привезенных в Византию для продажи. Украденный у росов раб, равно как и убежавший от них, должен был быть возвращен владельцу. Если вернуть его не представлялось возможным, византийская сторона обязывалась погасить его стоимость за государственный счет (отдать росам два куска шелка). В свою очередь, если местный раб убегал к росам, прихватив что-либо из имущества своего хозяина, росы должны были возвратить его со всем похищенным и заплатить штраф – два золотых{11}.
Рабы не были самым ценным товаром, который росы привозили в Константинополь. Большая нагруженная ладья вмещала не более сорока человек. Обслуживать ее должно было не менее двадцати человек. Можно было, конечно, обойтись и десятью, но это был риск – ладью нужно тащить волоком, разгружать и загружать, охранять, наконец. На рабов взваливать труд гребцов и грузчиков было неразумно – испортишь товар. К тому же на рынке ценились не только крепкие мужчины, но и женщины (лучше – девушки) и дети. Чаще всего росы торговали славянами, которых они захватывали в землях своих данников. Стоил раб 20 золотых, на которые купец-рос мог купить четыре куска нужного ему шелка{12}. Бойко торговали росы и пленными ромеями, которых гарантированно выкупали в Константинополе свои. Впрочем, своих росы также выкупали у ромеев. И все же выгоднее было возить меха – они стоили дорого, их не надо кормить, и они занимали немного места. За шкурку черной лисицы можно было получить до 100 золотых (стоимость пяти рабов!). Но добывать меха было труднее, чем рабов. Ценились ромеями также ввозимые росами льняная пряжа и ткани из льна (они стоили дороже шерстяных). А еще росы везли мед (товар хотя и тяжелый, но не портящийся и удобный для перевозки) и воск. У них можно было купить и дорогое оружие – мечи франкской работы, поступавшие из Европы. И наконец, – икру осетровых и соленую рыбу. Росы закупали этот товар по пути, в устье Днепра, где его заготавливали весной (осетры здесь мечут икру в мае){13}.
В отличие от торговли с арабским Востоком, откуда росы в основном везли серебряные монеты, в Византии их интересовали прежде всего товары – ювелирные изделия, дорогая посуда, ковры, парча и другие предметы роскоши, но главное – шелковые ткани{14}. Благодаря своим замечательным качествам – прочности в сочетании с необыкновенной тонкостью, мягкостью и способностью легко окрашиваться, они считались ценнейшим товаром. Производство шелковых тканей было широко развито не только в Византийской империи, но и в Испании, Сирии, Иране, Египте, а также в окрестностях Бухары, однако восточноевропейская торговля шелком осуществлялась главным образом через Константинополь. Сюда ввозились и отсюда вывозились, уже по значительно более высоким ценам, шелк-сырец, шелковая пряжа, разнообразные сорта шелковых тканей, золотые нити на шелковой или льняной основе. При этом наиболее роскошными и дорогими были ткани не византийского, а восточного происхождения, на перепродаже которых ромеи зарабатывали огромные деньги{15}. Но надо было всегда поддерживать высокие цены на шелк, не давая иностранцам вывозить его из Византии слишком много, поэтому порядок вывоза был строго регламентирован: перед отъездом купленные на вывоз ткани демонстрировались специальному византийскому чиновнику, который, определив их количество и качество (некоторые виды шелковых тканей вообще было запрещено вывозить из империи), конфисковывал лишние или особо ценные, выдав за них торговую цену. На разрешенные к вывозу он накладывал специальные печати. При этом особо не церемонился с купцами, объясняя изъятие тканей тем, что ромеи, которые якобы превосходят все прочие народы по богатству и мудрости, должны также превосходить их и в одежде{16}. Это обижало, но знатные росы, в свою очередь, стремились носить одежду из шелка потому, что она хотя бы внешне уподобляла их знати Византийской империи. Это подчеркивало их господствующее положение в сравнении со знатью подчиненных Киеву славянских племен{17}. Жаль только, что ромеи запрещали купцам росов покупать ткани дороже, чем по 50 золотых. Нарушить установленные правила было сложно, торговля шелком должна была вестись только в пределах города и на площади, где ее можно было проконтролировать. Любая попытка продавать шелк тайком, а уж тем более тем, кто не имел право его покупать, наказывалась большим штрафом. Игры с властями могли закончиться для нарушителя и наказанием плетьми, и острижением волос с последующим позорным исключением из торговой корпорации{18}. А там недалеко было и до высылки из Константинополя.
Поздней осенью последний караван возвращался домой, и росы начинали готовиться к новому объезду зависимых племен. Ромеи были обязаны снабдить их пищей на обратную дорогу и дать всё необходимое снаряжение для починки судов. Зимовать в предместье Святого Маманда купцам запрещалось.
Условия, в которых росы жили в Константинополе, были для них весьма удобными (бесплатное проживание, питание, баня). Но несмотря на это их дурные наклонности иногда брали верх, и тогда происходило то, чему сам Константин Багрянородный был свидетелем незадолго до того, как Роман Лакапин лишился престола. Тогда Роман еще был полновластным хозяином Константинополя и все силы державы ромеев он направил на борьбу с арабами. На это и рассчитывали Игорь и другие князья росов. Несколько лет они тайно собирали суда для того, чтобы огромным флотом двинуться по привычному маршруту на византийскую столицу, правда, на этот раз не с торговыми целями. И хотя незаметно подойти к Константинополю им не удалось (о их приближении одновременно сообщили и болгары, и жители Херсона, рыболовные артели которых, как обычно, ловили рыбу в устье Днепра), эффект все равно получился ошеломляющий. Росов (и, разумеется, зависимых от них славян) было так много, что их ладьи, казалось, как мгла, надвигались на столицу ромеев. Кому-то из жителей Константинополя показалось, что в море вышло 10 тысяч вражеских судов, кому-то – 15 тысяч{19}. На самом деле Игорь повел на Константинополь тысячу ладей, но и это – огромная цифра (не менее 40 тысяч бойцов). Флот ромеев был занят войной с арабами, выставить против росов оказалось некого. Конечно, росы вряд ли смогли бы захватить Константинополь, но они и не ставили перед собой такой цели – появившись на Босфоре в июне, росы начали стремительно опустошать окрестности византийской столицы. Роман Лакапин несколько ночей провел без сна, стараясь подготовиться к отражению нечаянной опасности. Ему удалось собрать флот из пятнадцати полуразвалившихся, но больших кораблей (хеландий), которые давно не использовались ввиду их ветхости. 11 июня 941 года император выставил их против росов. Главное, на что рассчитывал царь ромеев, – это устройства для метания «жидкого огня» (его еще называли «греческим»), которые поставили не только на носу, но и на корме и по обоим бортам кораблей. Это секретное оружие византийцев представляло собой зажигательную смесь, состоявшую из серы, смолы, нефти и селитры. Состав этот выбрасывался для поджигания кораблей противника через специальные трубы (сифоны). Для полноты эффекта трубы были сделаны в виде чудищ с разинутыми пастями; их можно было поворачивать в разные стороны. Потушить выбрасываемую жидкость практически не представлялось возможным, она самовоспламенялась и горела даже на воде. Производили «греческий огонь» только в Константинополе. За разглашение технологии его производства грозила мучительная казнь{20}. Размещая на кораблях такое количество огнеметных труб, Роман шел на большой риск – суда ромеев могли сгореть и сами. Рассчитывать можно было только на талант опытнейших мастеров огнеметания, лучших из лучших, которых посадили в эти наспех отремонтированные «калоши». Но ромеям повезло с погодой. Море было спокойно, без ветра – а ведь будь на море даже небольшое волнение, затея Романа провалилась бы. Командовал храбрецами патрикий Феофан. Зная соотношение сил, понимая опасность своего положения, он уповал лишь на Бога и укреплял себя постом и слезной молитвой.
Противники встретились у маяка, напротив высокого берега у квартала Святого Маманда. За время своих визитов в Константинополь росы хорошо изучили здесь не только побережье и порт, но и течение, и лоцию пролива{21}. Выстроив свой небольшой флот в боевой порядок, Феофан подал росам сигнал, возвещающий о начале сражения. Те вызов приняли и выстроили ладьи в одну линию. Испуганные жители города с высокого холма на берегу наблюдали все происходящее. Определив количество византийских кораблей, Игорь решил захватить вышедших против него смельчаков в плен. Вдохновляемые своими князьями росы смело поплыли навстречу врагу. Первым в строй кораблей росов врезался на своем дромоне патрикий Феофан. Пиками росы принялись пробивать борта у корабля, а в ответ в них летели камни и копья. Оказавшись среди окруживших его вражеских судов, Феофан применил «жидкий огонь», с которым росы, похоже, столкнулись впервые. Результат превзошел все ожидания. При виде льющегося из пастей диковинных чудовищ огня среди росов началась паника. Кому-то даже показалось, что ромеи поджигали суда противника с помощью молнии. Метавшиеся в сплошном окружении огня люди совершенно обезумели от ужаса. Желая спастись, некоторые из воинов бросались в воду. Наиболее знатные, отягощенные кольчугами и шлемами, тут же уходили на дно. Другие, экипированные победнее, пытались выплыть, но также погибали, сгорая в пламени, так как вокруг горела вода, покрытая зажигательной смесью. Вслед за кораблем командующего в бой вступили другие суда. Много ладей потопили они вместе с командой, многих росов убили, а еще больше взяли в плен.
Росы начали поспешно и беспорядочно отступать. Во время всего этого кошмара их флот оказался разделенным на две части, которые в дальнейшем потеряли всякую связь между собой и действовали совершенно самостоятельно. Одна, меньшая, отошла к Стенону (западному, европейскому берегу Босфора) и, разграбив его, скоро убралась восвояси. Другая часть, включавшая основные силы, покинув Босфор и уйдя в Черное море, спаслась на мелководье близ берегов Малой Азии. Византийские тяжелые военные суда с большой осадкой, вмещавшие от ста до трехсот человек, рисковали сесть здесь на мель и не смогли преследовать легкие ладьи. Немного оправившись от поражения и чувствуя в себе силы и желание сражаться вновь, росы высадили на берег десант и начали боевые действия в малоазийских провинциях Византии. Целых три летних месяца продолжалось разорение Вифинии (области на крайнем северо-западе Малой Азии, близ Босфора). Отдельные отряды росов добирались и до Пафлагонии, лежавшей восточнее. Лишь к осени ромеи смогли собрать силы, необходимые для очищения своих земель от неприятеля. Против росов были брошены опытные византийские полководцы Варда Фока (он подошел из Фракии) и Иоанн Куркуас (во главе восточных войск), которые начали по частям разбивать отряды противника, рассеявшиеся к тому времени по Малой Азии. Достаточно быстро росы были вытеснены на их корабли. Добывать продовольствие им с каждым днем становилось все труднее. Наступила осень, и пора было подумать о возвращении домой.
В сентябре росы решили отплыть восвояси. Стараясь уйти незаметно, они направились к берегам Фракии, однако были перехвачены по пути флотом вышеупомянутого патрикия Феофана. Теперь росы были научены горьким опытом и старались избежать сближения с кораблями византийцев. Это не удалось. Как и в июне, Феофан начал жечь их флот «жидким огнем». Победа далась ромеям легко, так как впавшие в панику росы при одном только приближении к ним вражеского судна сразу же бросались в воду, надеясь уйти вплавь или предпочитая утонуть, но не быть сожженными заживо. Много их погибло в тот день, многие попали в плен. Большинство их ладей было потоплено, но часть все же уцелела, как и в первый раз прижавшись к берегу. С наступлением ночи росы убрались из византийских владений. По слухам, доходившим до ромеев, многие из спасшихся от «жидкого огня» и морской пучины умерли в пути от какой-то желудочной эпидемии. Сам князь Игорь явился в Киев во главе отряда из десятка ладей.
Но страшными были и последствия их набега. Стенон, Вифиния и другие области Малой Азии были опустошены. Долго ходили рассказы о зверствах росов, учиненных в отношении местного населения: о том, как одних своих пленников они распинали на крестах, других пригвождали к земле, третьих, поставив, как цель, расстреливали из луков. А если попадал им в плен кто-либо из священного сана, то, связав руки назад, ему вбивали в голову железные гвозди. Много сел, церквей и монастырей разграбили росы и предали огню. И долго на берегу ромеи натыкались на трупы, выброшенные морем; мертвецов были тысячи. Немало росов, попав в плен, оказалось в рабстве. Еще меньше повезло тем, кого в качестве трофея доставили в Константинополь и провели по улицам города. Роман Лакапин как раз в это время принимал посла короля Гуго. Гордый своей победой император решил показать итальянцам эту диковинку – росов, предвестников апокалипсиса. Константин Багрянородный также видел их и остался в недоумении – толпа пленных состояла из очень разных по внешнему виду людей, среди которых имелись и славяне, и выходцы с севера (послы Гуго так и называли их: «северные люди», «нордманны»), и какие-то восточные люди. Но несмотря на эти различия, они все называли себя «русами». После осмотра пленников Роман приказал их казнить в присутствии иноземных послов. Росам отрубили головы.
Столь же неприятное впечатление осталось у Константина и от встречи с послами росов, явившимися в столицу ромеев через несколько лет после похода{22}. Возглавлял делегацию Ивор, посол князя Игоря. Внимание ромеев не мог не привлечь и Вуефаст, посол Святослава, сына Игоря. Про Святослава Константину было известно, что он княжит в городе со странным названием «Немогард». Кроме них в делегацию входили: посол от Ольги, жены Игоря, послы от двух его племянников, еще одного Игоря и Акуна, а также от двадцати князей росов со столь же сложными именами. При каждом из послов, как принято, состоял купец. И по своему виду, и по своим именам послы и купцы представляли собой столь же пеструю в племенном отношении массу людей, что и пленные росы, которых ранее видел Константин VII, но все они, определяя свое происхождение, заявляли, что они посланы от князя русского Игоря, «и от всякого княжья, и от всех людей Русской земли», как позднее было написано в русской летописи – «Повести временных лет» [1].
Посланники Русской земли заявляли, что они прибыли заключить с царями ромеев союз любви «на все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит. А кто от русской стороны замыслит разрушить эту любовь, то пусть те, кто принял крещение, получат возмездие от Бога Вседержителя, осуждение на погибель в загробной жизни, а те из них, кто не крещен, да не имеют помощи от Бога, и от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во весь век будущий». Для многих ромеев было неожиданностью, что среди росов есть христиане и в их земле стоят церкви. И все они, и язычники, и христиане, весьма убедительно клялись соблюдать перечисленные в договоре условия мира, не нарушать ничего, добавляя, что «если нарушит это кто-либо из нашей страны – князь ли, или иной кто, крещеный или некрещеный, – да не получит он помощи от Бога, да будет он рабом в загробной жизни своей и да будет заколот собственным оружием». Ромеи им верили и не верили. Впрочем, вели себя послы росов довольно осторожно – все-таки сказывалось поражение, понесенное от войск империи. Это позволило византийской стороне продиктовать максимально выгодные для себя условия мира. Тогда-то и договорились, что послы и купцы росов, прибывавшие в Константинополь, должны предъявлять грамоты от князя. Кроме того, если раньше ромеи выкупали у русов своих пленников за 20 золотых, то ныне условия изменились. За юношу или девушку ромеи должны были теперь платить 10 золотых, за мужчину или женщину среднего возраста – 8 золотых, а за старика или ребенка – 5 золотых. Если рос оказывался в рабстве у ромея, правила были иные: если он пленник, то его выкупали за 10 золотых, если же его успели продать частному лицу, то за него должны были платить рыночную цену. Росы клялись, что они не только не будут нападать на владения Херсона, но даже более того – будут защищать их от нападений черных болгар, живших недалеко от поселений ромеев. И вновь росы обещали не мешать жителям Херсона ловить рыбу в устье Днепра, а также не зимовать в Белобережье и на острове Святого Эферия…{23}
Константин VII давно уже не читал трактат, подготовленный им для сына. Он размышлял о том, что далеко не всё из того, что ему было известно о росах, вошло в текст. Если быть более точным – совсем немногое. Но нельзя же писать только о росах! Есть еще и арабы, болгары, венгры, пачинакиты (печенеги). Да мало ли народов окружает империю ромеев и угрожает ей?! Обо всех в трактате и написано понемногу. Василевс вновь погрузился в чтение: «Все это я продумал наедине с собой и решил сделать известным тебе, любимому сыну моему, чтобы ты знал особенности каждого из народов; как вести с ними дела и приручать их или как воевать и противостоять им, ибо тогда они будут страшиться тебя как одаренного; будут бегать от тебя как от огня; замкнутся уста их, и будто стрелами будут поражать их твои речи. Ты будешь казаться страшным для них, и от лика твоего дрожь объяст их. И Вседержитель укроет тебя своим щитом, и вразумит тебя твой Создатель. Он направит стопы твои и утвердит тебя на пьедестале неколебимом. Престол твой, как солнце, – пред Ним, и очи Его будут взирать на тебя, ни одна из тягот не коснется тебя, поскольку Он избрал тебя, и исторг из утробы матери, и даровал тебе царство свое как лучшему из всех, и поставил тебя, словно убежище на горе, словно статую золотую на высоте, вознес словно город на горе, чтобы несли тебе дань иноплеменники и поклонялись тебе населяющие землю»{24}.
Роману нужны четкие рекомендации, а не длинные ученые рассуждения. Иначе он устанет читать. Да и не все произошедшее в прошлом и происходящее в настоящем – забота василевса. О росах и так написано много. Вот и практические рекомендации о том, как манипулировать ими, – император открыл главу о печенегах и росах: «Знай, что пачинакиты стали соседними и сопредельными также росам, и частенько, когда у них нет мира друг с другом, они грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб.
Знай, что и росы озабочены тем, чтобы иметь мир с пачинакитами. Ведь они покупают у них коров, коней, овец и от этого живут легче и сытнее, поскольку ни одного из упомянутых выше животных в Росии не водилось. Но и против удаленных от их пределов врагов росы вообще отправляться не могут, если не находятся в мире с пачинакитами, так как пачинакиты имеют возможность – в то время когда росы удалятся от своих семей, – напав, все у них уничтожить и разорить. Поэтому росы всегда питают особую заботу, чтобы не понести от них вреда, ибо силен этот народ, привлекать их к союзу и получать от них помощь, так чтобы от их вражды избавляться и помощью пользоваться.
Знай, что и у царственного сего града ромеев, если росы не находятся в мире с пачинакитами, они появиться не могут, ни ради войны, ни ради торговли, ибо, когда росы с ладьями приходят к речным порогам и не могут миновать их иначе, чем вытащив свои ладьи из реки и переправив, неся на плечах, нападают тогда на них люди этого народа пачинакитов и легко – не могут же росы двум трудам противостоять – побеждают и устраивают резню»{25}.
В глубине души Константин знал, что образ жизни, который стремится вести его сын, вряд ли сделает его правление успешным и долгим. Оставалось уповать на чудо. Поэтому заключительную часть введения император адресовал не Роману, а Другому: «Но ты, о Господи, Боже мой, коего царство вечно и несокрушимо, да пребудешь указующим путь рожденному мною благодаря тебе, и да блюстительство лика Твоего на нем, а слух Твой да будет склонен к его молитвам. Пусть охраняет его рука Твоя, и пусть он царствует ради истины, и пусть ведет его десница Твоя. Пусть направляются пути его пред Тобою, дабы сохранить заповеди Твои. Неприятели да падут перед лицом его, и да будут лизать прах враги его. Да будет осенен корень рода его кроной плодородия, и тень плода его пусть покроет царские горы, так как благодаря Тебе царствуют василевсы, славя Тебя в веках»{26}.
Поменяем стиль нашего повествования. Итак, на основе разнообразных источников мы, в общем, обрисовали то, какими могли представлять себе русов византийцы в середине X века{27}. При этом в двух источниках упоминается и герой нашей книги - русский князь Святослав. Информации в них содержится немного, но упоминания эти ценны тем, что их составители – современники Святослава. Источники, о которых идет речь, – русско-византийский договор 944 года, заключенный после вышеописанного набега на Византию русов под предводительством князя Игоря в 941 году (его текст был включен в «Повесть временных лет»), и трактат «Об управлении империей», составленный «под редакцией» василевса ромеев Константина Багрянородного в 948-952 годах.
Каким же предстает перед нами Святослав? Конечно, внимание исследователей всегда привлекало сообщение Константина Багрянородного о княжении Святослава в неком «Немогарде». Отрывок этот настолько уникален и важен для нас, что имеет смысл привести его почти целиком. Говоря о ладьях русов, являющихся в Константинополь, император замечает, что они «являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Кмоава…»{28}. «Сфендослав» здесь – Святослав, «Ингор» – Игорь, «архонт» – князь. С городами разобраться сложнее. Считается, что под «Милиниски» подразумевается Смоленск или его предшественник, располагавшийся на месте Гнездова на Днепре, в 12 километрах ниже современного города; «Телиуцы» – вероятно, Любеч; «Чернигоги» – Чернигов; «Вусеград» – Вышгород{29}. «Немогард» ученые чаще всего отождествляют с Новгородом Великим и видят в сообщении византийского источника отражение позднейшей практики киевских князей сажать старшего сына на княжение в Новгороде в качестве своего подручника. Если это так, то княжение Святослава в Новгороде приходится на время становления самого этого города. Дело в том, что раскопки, проводившиеся в разных районах города, не обнаружили культурных напластований IX века. Даже в первой половине X века на месте Новгорода – не один город, а «три поселка родовой аристократии, разделенные пустопорожними пространствами». Лишь в середине века произошло преобразование, как выразился академик В. Л. Янин, «рыхлой догородской структуры в город»{30}. Именно в это время и княжит в «Немогарде» Святослав. Не в его ли правление происходили процессы становления Новгорода как города? А учитывая, что еще к середине IX века относится формирование в трех километрах выше Новгорода по Волхову так называемого Городища (именуемого также «Рюриковым»), где вплоть до конца XV века находилась резиденция новгородских князей, можно предположить, что уже администрации Святослава, располагавшейся, конечно, там же, на Городище, пришлось столкнуться с вольнолюбивым нравом формирующегося поблизости города, с его бурными вечевыми собраниями{31}. В связи с этим нельзя не вспомнить летописное предание о приходе позднее, в 969 году, в Киев к Святославу новгородцев, просивших дать им князя и угрожавших в противном случае подыскать его себе самостоятельно. Святослав тогда вроде бы заявил им в сердцах: «А кто бы пошел к вам?!» В этих словах слышатся и знание новгородцев, и раздражение по поводу их беспокойного нрава. Впрочем, в этом летописном сообщении могло отразиться отношение к новгородцам не столько Святослава, сколько позднейшего киевского летописца.
Отождествление «Немогарда» с Новгородом является наиболее распространенным, но не единственным. Высказывалось предположение о том, что это Ладога (ведь в первой части имени «Немогарда» («Невогарда»), возможно, запечатлено тогдашнее наименование озера Ладоги – Нево){32}. Да и само Рюриково Городище чем не «Немогард»? В IX-X веках – это крупное торговое, ремесленное и административное поселение, центр не только внутренней, но и международной торговли, с пестрым в этническом отношении населением{33}. Наконец, не исключено, что речь идет вообще о более южном городе: «В эпоху Киевской Руси в бассейне Днепра существовало несколько Новых городов, более близких Киеву и Византии, чем город на Волхове. Это Новгород-Северский на реке Десне, Новгород-Волынский на реке Случи и Новгород Малый (Новгородок) на самом Днепре. Не исключено, что Константин Багрянородный имел в виду один из этих городов. У северного Новгорода, в отличие от перечисленных, не было прямого водного сообщения с Киевом, их разделяли волоки. Кроме того, в середине X века он не был столь большим, чтобы его название затмило все иные центры с подобными наименованиями и каждое его упоминание не вызывало бы сомнений у современников, что речь идет именно о данном городе»{34}. Некоторые исследователи помещали и помещают «Немогард» даже южнее Киева – в Тмутаракань{35}. Остается признать, что отождествление «Немогарда» с Новгородом не является бесспорным.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что к моменту написания трактата «Об управлении империей» «Сфендослав, сын Ингора, архонта России», в «Немогарде» «сидел» (в прошедшем времени). Трактат писался в 948-952 годах, но, как предполагал еще С. А. Гедеонов, при его составлении были использованы материалы значительно более раннего времени, успевшие даже несколько устареть: «После 945 года, то есть после смерти Игоря, не было повода рассказывать о том, что сын Игоря Святослав когда-то сидел на княжении в Новгороде. Ясно, что в устаревшей и еще при жизни Игоря составленной записке, глагол… сидеть был поставлен, как и все прочие, в настоящем времени. Трудно также допустить, чтобы в 948-952 годах Константин не упомянул о счастливой войне греков с Русью в 941-м…»{36} Действительно, в трактате императора об этом русско-византийском конфликте не сказано ни слова. Говорится о возможных набегах русов на владения империи вообще. Если Святослав оказался на княжении в «Немогарде» до 941 года, значит, к моменту нападения на Константинополь он был уже вполне взрослым человеком. В какой-то степени это подтверждает и русско-византийский мирный договор 944 года, в котором Святослав представлен собственным послом, так же как своими послами представлены его отец Игорь и мать Ольга, а также все прочие русские князья. Это говорит о том, что у сына Игоря были свои люди, своя дружина. Скорее всего, Святослав даже участвовал в походе на Константинополь.
Впрочем, делать поспешных выводов не стоит. При всей полноте сведений сочинение «Об управлении империей» иногда поражает имеющимися в нем лакунами. Например, в трактате нет специальной главы о болгарах, отношения с которыми были столь важны для империи ромеев. Подробный рассказ о русско-византийской войне 941 года мог показаться просто ненужным – важнее было рассказать Роману II, как предотвращать нападения русов.
Обратимся к русским летописям, содержащим информацию, пусть и записанную значительно позднее, но не менее важную для нашего исследования.
В большинстве летописных сводов русская история до начала XII века включительно излагается по тексту «Повести временных лет». Но и сама «Повесть временных лет» включает в себя еще более ранние летописные своды. Специалисты спорят о числе этих сводов, о месте и времени их составления, их авторстве, о времени начала летописания на Руси вообще (одни относят его к первой половине XI века, другие – к концу X века). Несомненно, что каждый из авторов сводов, предшествующих «Повести», кроме летописей, использовал какие-то другие материалы – литературные произведения, воспоминания участников событий, народные сказания, документы из княжеских и городских архивов, сведения, заимствованные у византийских авторов. Историк XIX века К. Н. Бестужев-Рюмин справедливо отмечал, что итоговый труд – «Повесть временных лет» – «является архивом, в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной нашей литературы»{37}.
«Повесть временных лет» была написана около 1110 года. Одни исследователи считают ее автором монаха Нестора, другие доказывают, что Нестору эта честь не принадлежит. В 1116 и 1118 годах первоначальный текст «Повести» был отредактирован. Между этими двумя редакциями есть некоторые расхождения. С редакцией 1116 года можно ознакомиться по Лаврентьевской летописи (доведена до 1305 года, дошла в списке 1377 года) и по Радзивиловской летописи (конец XV века), в которые «Повесть временных лет» была введена в качестве начальной части. Редакция же 1118 года представлена в Ипатьевской летописи (XV век). Радзивиловская летопись, доведенная до 1206 года, украшена большим количеством миниатюр (617 рисунков). Эти миниатюры были перерисованы сводчиками XV века с образцов XIII века. А. В. Арциховский писал более шестидесяти лет тому назад: «Летописные миниатюры при первом впечатлении кажутся своеобразными окнами, сквозь которые можно смотреть на исчезнувший мир древней Руси, стоит только усвоить тогдашнее восприятие формы и пространства. В окнах этих перед нами мелькают изображения, преломленные и искаженные классовой идеологией. Но это не уменьшает, а увеличивает интерес миниатюр. Идеологий, собственно говоря, две. Одна из них принадлежит заказчикам, другая – мастерам»{38}. Замечание справедливое, и о нем стоит помнить, не только просматривая миниатюры, но и читая сам летописный текст. Ведь не только художники, но и составители «Повести временных лет» были людьми крайне тенденциозными и выполняли волю заказчиков (в редакциях 1116 и 1118 годов – волю киевского князя Владимира Мономаха). Сводчик, опираясь на комплекс своих политических, религиозных и житейских представлений, вносил в летопись не все известные ему события, а только подходившие к его убеждениям и требованиям заказчика, остальные же безжалостно отбрасывал. И то, что во всех дошедших до нас летописях повествование о Руси IX-XII веков ведется на основе составленной в Киевской земле «Повести временных лет», отнюдь не случайно. Как будто в других землях не было своего летописания! Нет, в XI-XII веках существовало много летописных центров.
«Промономаховская» «Повесть временных лет» и ее продолжения были распространены лишь там, где правили потомки Владимира Мономаха. Наверное, существовали летописи, отражавшие интересы не только князей и монахов, но и разных городских слоев. Но произведения этих летописных традиций не дожили до наших дней. Осталась «Повесть временных лет», которая отражает тенденциозную концепцию русской истории до XII века лишь одного города, одной княжеской семьи, концепцию, позднее устроившую и московских князей. Поэтому иногда для исследователя ценнее не то, о чем «Повесть» говорит прямо, а то, о чем она как бы «проговаривается». И уж совсем драгоценностью кажутся документы – русско-византийские договоры 907, 911, 944 и 971 годов, найденные, вероятно, в каком-то княжеском архиве, переведенные и при переписывании внесенные в уже готовый летописный текст. Эти договоры – на фоне преданий о русских князьях IX-X веков, преданий, существовавших долгое время в устной форме и записанных значительно позднее описанных в них событий (еще раз подчеркну – до конца X века летописание на Руси точно не велось), – тоже своеобразные окна в давно ушедшую эпоху.
Сухой юридический текст договора сравним с твердой почвой, на которую может встать исследователь и осмотреться. Кругом – туман преданий. Вечно на одном месте не устоишь, надо двигаться дальше, и, оттолкнувшись от надежного берега, мы вновь отправляемся в плавание по неверной воде – заканчивается изложение текста договора 944 года, и нам предстоит, продолжая читать летопись, пробираться среди смутных полулегендарных образов, пытаясь в их неясных очертаниях рассмотреть реальных людей и их деяния. Нескоро мы опять ступим на твердь – договор 971 года – итог нашего путешествия…
«Повесть временных лет» в составе Лаврентьевской летописи сообщает, что, навоевавшись с греками (так русы называли византийцев – ромеев), заключив с ними соглашение, Игорь мирно княжил в Киеве. Но тут приспела осень, время сбора дани, и князь задумал пойти на древлян, чьи поселения начинались в 25 километрах от Клева. Князь решил «взять с них еще большую дань» – поясняет летописец. Остается неясным: «большую» в сравнении с чем? С той, которую князь брал в предыдущие годы? Или он, уже посетив в этом году несчастных соседей, решил повторить поход, с большей для себя пользой?
Далее летописный рассказ начинается как бы заново: «В тот год сказала дружина Игорю: „Отроки Свенельда разоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами заданью, да и ты добудешь, и мы“». Нам неясно пока, кто такой этот Свенельд – в предшествующем летописном изложении о нем нет ни слова – и почему его дружинники одеты лучше дружинников Игоря. Но продолжаем далее, по тексту: «И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью, и прибавил к прежней дани новую (какую по счету? – А. К.), и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Возвращаясь же назад, поразмыслив, сказал он своей дружине: „Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще“. И отпустил дружину свою домой, а сам с малою частью дружины вернулся, желая большего богатства. (Куда больше?! Мы уже со счета сбились. – А. К.) Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: „Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит“. И послали к нему, говоря: „Зачем снова идешь? Забрал уже всю дань“. И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Деревской земле и до сего дня. Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его был Асмуд, а воевода Свенельд – отец Мстиши».
Ну вот, наконец, мы кое-что узнали о Свенельде. Правда, его присутствие здесь как бы «лишнее». Есть Ольга, ее сын «ребенок» Святослав, его кормилец Асмуд. При чем тут воевода Свенельд, который не имеет к Святославу никакого отношения, и тем более его сын Мстиша? Летописец пытается пояснить читателям, кем был упоминаемый выше Свенельд, и искусственно вставляет его имя в текст. Литературный прием!
В «Истории» византийского автора второй половины X века Льва Диакона, младшего современника событий, обстоятельства гибели Игоря описаны отлично от русской летописи. По версии Льва, Игорь, «отправившись в поход на германцев, был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое»{39}. Упоминание о германцах загадочно. Исследователи считают вероятным, что Лев Диакон или писец, из произведений которого хронист взял этот рассказ, «со слухов приняли форму Βερβιανοι (так называет древлян Константин Багрянородный) за Γερμανοι, – но возможно, историк хотел здесь средствами традиционной книжности подчеркнуть, что это племя живет на западе Руси… Лев Диакон счел нужным как-то маркировать эту обособленность древлян и связал ее с их местоположением на западе русской земли»{40}. Наша летопись не знает жутких подробностей смерти Игоря. Но не являются ли косвенным намеком на них слова, которые летописец приписывает древлянским послам, брошенным в яму по приказанию мстившей за мужа Ольги, где их и засыпали живьем: «Пуще нам Игоревой смерти»? Здесь как будто подразумевается какая-то особо жестокая смерть. На этом основании историки делают вывод, что летописцу было знакомо предание, которое изложил Лев Диакон, возможно, действительно перепутавший древлян с германцами{41}. Выходит, что рассказ «Истории» не только не противоречит, но даже подтверждает повествование летописи{42}. Еще в XX веке хуторяне Игоревки, расположенной в семи-восьми километрах от города Коростеня (Искоростеня), рассказывали, что Игоря с дружиной «гнали ночью. Те в Киев ускакать хотели, да их в болото загнали. Кони в трясине увязли. Тут их в плен и взяли». А затем показывали «то самое место – его из рода в род все знают»{43}. Деталь интересная, если, конечно, здесь не возникла путаница с событиями августа 1146 года, когда киевский князь Игорь Ольгович потерпел поражение в сражении с переяславским князем Изяславом Мстиславичем и был пойман в болоте…
В летописном рассказе есть много странного и даже запутанного. Например, после убийства Игоря древляне решили: «Вот убили мы князя русского; возьмем жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим». Отсюда, кажется, следует, что сын Игоря ребенок, которому древляне могут сделать всё, «что захотят». Сколько же лет было Святославу в момент гибели отца? «Повесть временных лет» в составе Ипатьевской летописи помещает под 942 годом следующее сообщение: «Симеон ходил на хорватов, и победили его хорваты, и умер, оставив Петра, своего сына, княжить. В этом же году у Игоря родился Святослав»{44}. Симеон – царь Болгарии, Петр – его сын и наследник, Игорь – киевский князь, а Святослав – его сын, биографию которого мы пытаемся по крупинкам собрать в этой книге. Летописный текст дает нам, кажется, важнейшую информацию – год рождения нашего героя, то, с чего во все времена начинается любая анкета. Правда, во всех списках «Повести временных лет» сообщается и о том, что брак родителей Святослава – Игоря и Ольги – состоялся в 903 году, когда полулегендарный Олег, по летописям родственник и предшественник Игоря на киевском княжении, привел ему в жены Ольгу. Ни в одном списке «Повести» не сообщается о наличии у киевской княжеской четы других детей, кроме Святослава, из чего должно следовать, что в течение тридцати девяти лет у них не было детей.
Летописи считают Игоря сыном совсем уж легендарного Рюрика, который, умирая в 879 году – и, кстати, тоже явно не молодым, – оставил малолетнего отрока. Выходит, Игорь погиб спустя еще 66 лет, озаботившись, как и его отец, потомством в возрасте, когда уже пора иметь внуков, а то и правнуков. В этом сообщении заметна, пользуясь выражением Н. И. Костомарова, «странность и уродливость хронологии, под которую летописный книжник подводил события, слышанные им из преданий и сказаний»{45}. Конечно, можно предположить, что Игорь, как и все русские князья X века, имел много жен, а летописец, стремясь поднять престиж святой Ольги, умолчал о наличии у князя гарема и множества детей, превратив жизнь Игоря в трогательную историю любви к одной женщине и ребенку от нее{46}. Но сама-то Ольга в эти годы не могла иметь других мужей и детей от них! Почему она столь долгое время оставалась бездетной?! Может быть, брак Игоря и Ольги состоялся по каким-то политическим расчетам (недаром ее к Игорю «привели»)? Может, Ольга была не слишком привлекательна, и поэтому Игорь не уделял ей достаточно внимания, предпочитая других жен? Но, судя по рассказу летописей, княгиня как раз относилась к тем женщинам, которые неизменно привлекают мужчин. Если Ольга стала женой Игоря в 903 году, то к моменту гибели мужа ей должно было быть около шестидесяти лет. И, несмотря на это, древляне собираются выдать престарелую вдову (по меркам X века, совсем древнюю старушку) замуж за своего князя Мала! И это не всё! Летописцы припишут еще лет через десять семидесятилетней княгине новый успех – во время посещения Константинополя она покорит сердце византийского императора. Конечно, во все времена бывают уникальные женщины. Но X век не знал стольких способов сохранения и даже омоложения дам, сколько известно в наши дни. Византийский историограф XI века Михаил Пселл сообщает, например, что императрица Зоя (правнучка вышеупомянутого императора Константина Багрянородного), достигнув семидесяти лет, «сохранила лицо без единой морщинки и цвела юной красотой». При этом смелая женщина не стеснялась откровенных нарядов – она «пренебрегала всякого рода украшениями, не носила ни золотошитых платьев, ни ожерелий, но не надевала и грубых одежд, а прикрывала тело легким одеянием». Но годы обмануть было нельзя – царица «не могла унять дрожи в руках, и ее спина согнулась». С издевкой тот же Михаил Пселл отмечает, что если «кто-нибудь при ее неожиданном появлении бросался на землю, притворяясь будто, как ударом молнии, поражен ее видом (такую комедию перед ней разыгрывали многие), то она сразу одаривала его золотой повязкой, но если он при этом начинал пространно выражать свою благодарность, тут же приказывала заковать его в железные цепи»{47}. Между Зоей и нашей Ольгой есть громадная разница. Первую не занимало ничего, кроме страсти к «ароматическим растениям» и другим средствам, поставляемым в Константинополь из Индии и Египта и позволявшим продлить молодость. Ольга была человеком совсем другого склада.
Но нельзя же принимать всерьез довод нашего историографа начала XIX века Н. М. Карамзина, что император прельстился мудростью старушки! Предшественник Карамзина, историограф XVIII века М. М. Щербатов, все же допускал, что она «могла еще остатки прежней своей красоты сохранять», которые лишь «приумножались ее великой премудростью». Однако ему виделось, что «более всего воспламенялось сердце императора тем, что, взяв ее себе в жены, мнил посредством и всю пространную Россию иметь, или по крайней мере таковым супружеством, таким себе сделать союзником Святослава, что не токмо сам не будет нападать на Греков, но и от других врагов сию уже ослабевшую империю защитит»{48}. Этот план василевса выглядит слишком изощренным. Все-таки не следует забывать о том, что император Константин Багрянородный, якобы предлагавший киевской княгине руку и сердце, был женат и даже имел женатого сына. Поэтому можно вполне согласиться с еще одним старшим современником Карамзина, A. Л. Шлецером, поместившим это известие летописи в разряд «сказок», причем «глупых до чрезвычайности»{49}. Становится понятным, что, описывая Ольгу в момент посещения Царьграда, летописец представлял ее себе женщиной молодой и энергичной. Увидим, что не меньше энергии Ольга проявила и во время подавления восстания древлян. Кроме того, летописец явно не мог считать женщину шестидесяти лет матерью малолетнего ребенка. Налицо явное противоречие в летописном тексте.
Понимая всю странность хронологии жизни Игоря и Ольги, книжники в ряде поздних летописных сводов уменьшали возраст Ольги в момент ее выхода замуж за Игоря, насколько это возможно. Например, Устюжская летопись (первая четверть XVI века) сообщает, что Ольгу в возрасте десяти лет выдали замуж за взрослого Игоря{50}. Но за этим возрастом невесты не стоит ничего, кроме стремления как-то примирить непримиримые противоречия, имеющиеся в «Повести временных лет»{51}. Историки, принимавшие на вооружение данное свидетельство поздних летописцев, объясняли столь ранний возраст невесты либо какими-то политическими мотивами{52}, либо нравами древних русов. Иногда это выглядело курьезно. Так, С. А. Гедеонов пришел к выводу, что в момент свадьбы Ольге было два (!) года, и не видел в этом ничего странного, считая, что «браки по приличию, между малолетними, были в обычае у всех народов того времени». Это позволило ему предположить, что Ольге в 942 году исполнился 41 год. Вероятно, по мнению исследователя, в этом возрасте княгиня еще сохраняла привлекательность и могла прельстить древлянского князя{53}. Другие стандарты оказались у современного ученого В. В. Каргалова, который в работе о Святославе подробно описал, как немолодой уже Игорь, у которого «в лохматой бороде серебряными нитями проросла седина», брал в жены десятилетнюю Ольгу{54}. При чтении книги так и осталось непонятным, зачем малолетняя Ольга, происходившая, по мнению Каргалова, из незнатной семьи, была нужна Игорю, если в течение нескольких десятилетий брака между ними ничего не происходило. И только после поражения войска киевского князя от флота византийцев Ольга как бы пожалела старика, в результате чего оказалась беременна и родила Святослава{55}.
Если же говорить серьезно, то не только Ольгу, но и ее мужа Игоря в момент смерти сложно представить старым – уж больно он активен, слишком легко пускается в авантюры, вроде походов на греков и древлян. Непохоже, что ему под семьдесят{56}. Все противоречия можно разрешить, если признать, что и Игорь, и Ольга к 40-м годам X века были людьми нестарыми, а их свадьба состоялась гораздо позднее 903 года. Но летописцы не могли допустить этого, так как тогда была бы разрушена связь Игоря с Рюриком, связь, которой на самом деле не имелось. Были предания о неком варяжском князе Рюрике, к которому в сыновья определили Игоря, то ли из желания польстить Игоревым потомкам, удлинив их родословную, то ли пытаясь объяснить, откуда взялся Игорь. То, что получилось в результате, и вошло в летописи – при этом достаточно поздно, в начале XII века{57}. Некоторые исследователи даже считают возможным не только омолодить Игоря и Ольгу, но и указать значительно более позднее, в сравнении с летописным 912 годом, время вступления этого князя на престол, ограничивая период его правления в Киеве всего несколькими годами{58}. Предположение о более позднем времени заключения брака Игоря и Ольги и их относительной молодости на момент гибели князя снимает все противоречия и, как может показаться, делает рождение Святослава в 942 году вполне вероятным. Академик Б. А. Рыбаков считал, что к этому же времени относится и брак Игоря с Ольгой. Дату рождения Ольги он определял следующим образом: «Замуж в древней Руси выходили обычно в 16-18 лет. Ольга по этим расчетам родилась в 924-927 годах. В момент бесед с Константином (Багрянородным. – А. К.) ей должно было быть 28-32 года»{59}. Это предположение действительно позволяет объяснить, почему Ольга в середине 940-х годов имела трехлетнего сына, а в 50-х годах X века все еще оставалась молодой и привлекательной.
Считать 942 год датой рождения Святослава согласны многие историки, как признающие, так и не признающие 903 год датой женитьбы Игоря на Ольге{60}. И все бы сложилось в четкую картину, если бы не свидетельства русско-византийского договора 944 года и трактата Константина Багрянородного. Ведь там Святослав – взрослый человек, князь «Немогарда». Конечно, на княжеский стол его могли посадить и в малолетнем возрасте, как сына могущественного киевского князя, но в момент гибели отца он оказывается в Киеве с матерью. У некоторых исследователей даже возникло ощущение, что речь идет о каких-то двух разных Святославах{61}.
Однако и в «Повести временных лет» сообщается, что в 970 году у Святослава, родившегося якобы в 942 году, было по меньшей мере три взрослых сына, посаженных им на княжения. Сыновья эти были к тому времени настолько развитыми, что Святослав, самое позднее в 969 году, подарил старшему из них Ярополку в жены (или наложницы) некую «грекиню», которая позднее родила знаменитого Святополка Окаянного{62}. Не менее зрелым оказывается и другой Святославич – Владимир, получивший в управление Новгород. Согласно сообщению саксонского хрониста XI века Титмара, епископа Мерзебургского, Владимир умер «глубоким стариком»{63}. В связи с этим нельзя не вспомнить сообщение Летописца Переяславля Суздальского (первая четверть XIII века) о том, что Владимир скончался в возрасте семидесяти трех лет{64}. Чем в данном случае руководствовался летописец, неизвестно. Интересно, что в скандинавских сагах об Олаве Трюггвасоне, который побывал в Новгороде в начале или, самое позднее, в середине 70-х годов X века, сообщается, что Владимир тогда уже был женат. К тому же саги дают ему прозвище «Старый», что само по себе уже говорит о многом{65}. Чтобы соответствовать всем этим характеристикам, Владимир должен был родиться ближе к 40-м годам X века. А значит, его отец появился на свет лет на двадцать раньше – в 920-х годах. На этой датировке – как видим, очень приблизительной – можно и остановиться{66}. Ну а как быть с сообщением «Повести временных лет» о том, что при Святославе находился кормилец Асмуд? Не следует видеть в «кормильце» «дядьку». Кормильцы были не только наставниками, но и руководителями, советчиками, воеводами князей, оставаясь таковыми при них в течение всей их жизни. Нередко княжеские кормильцы по своему влиянию соперничали даже с отцами своих воспитанников{67}.
Поведение Игоря в истории с древлянской данью выглядит нелогичным. Почему его дружина вдруг почувствовала себя «нагой»? И с какой стати Игорь увеличил по ее желанию дань с древлян и попытался собрать ее дважды или трижды? Вышеупомянутый Константин Багрянородный подчеркивает, что славяне, платившие русам дань, – «вервианы» (древляне), «другувиты» (дреговичи), «кривитеины» (кривичи), «северии» (северяне) и прочие – были «пактиотами» русов. Следовательно, зависимость здесь не была односторонней: термин «пактиоты» предполагал выплату дани по договору-«пакту». Игорь же своим решением этот «пакт» нарушил, о чем и сообщили ему древляне: «Зачем снова идешь? Забрал уже всю дань».
Конечно, отправляясь из Киева собирать дань со славян, русы с последними особо не церемонились. И восточные, и византийские, и латиноязычные источники сообщают о торговле русов рабами. Арабский автор Ибн Фадлан, например, описывая свое путешествие на берега Итиля (Волги) около 922 года, рассказывает о русах, доставлявших сюда рабов для продажи, и приводит молитву такого купца: «„О, мой господь, я приехал из отдаленной страны, и со мною девушек столько-то и столько-то голов и соболей столько-то и столько-то шкур“, – пока не назовет всего, что прибыло с ним из его товаров»{68}. Взимая таможенную пошлину с русов, царь волжских болгар, наряду с прочим товаром, получал и рабов: «Если прибудут русы или же какие-нибудь другие (люди) из прочих племен с рабами, то царь, право же, выбирает для себя из каждого десятка голов одну голову»{69}. О том, как русы поставляли «живой товар» в Константинополь, уже было сказано в предыдущей главе. Любопытно, что русско-византийский договор 944 года, обращая особое внимание на процесс поиска и возвращения раба, убежавшего от русов в Византии, чуть ниже подробно определяет условия выкупа русами своих соотечественников, попавших в рабство к грекам. При этом выкуп русских рабов представляется обязанностью русской стороны, такой же, как выкуп Византией греков-христиан у варваров. Получается, что, с одной стороны, русы активно торгуют рабами, а с другой – стремятся выкупить из рабства у иноземцев своих соотечественников. Выйти из этого противоречия можно, лишь вспомнив сообщение арабского географа начала X века Ибн Русте о том, что русы «нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар (Хазарию и Волжскую Болгарию. – А. К.) и там продают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян»{70}. Таким образом, рабами, которыми торговали русы, были в большинстве своем славяне из подчиненных им племен{71}.
Господствующее положение, которое русы занимали среди прочих славянских племен, старательно подчеркивается и «Повестью временных лет», отражающей мировоззрение киевлянина XI века – потомка древних русов. Рассказывая о полулегендарном походе на Царьград столь же полулегендарного Олега, летопись отмечает: победив греков, русский князь велел им сшить шелковые паруса для руси, а «словеном кропинные». Под «словенами» здесь подразумеваются не словене ильменские – одно из восточнославянских племен, а славянские племена вообще, подчиненные Вещему Олегу и ходившие с ним в поход. Для нас важна даже не сказочность этой детали, а отношение киевского летописца к славянам. Оно прослеживается и в рассказе «Повести» о нравах славянских племен: «Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и каждые – свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий, стыдливы перед снохами своими и сестрами, матерями и родителями; перед свекровями и деверями великую стыдливость имеют; имеют и брачный обычай: не идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день приносят за нее – что дают. А древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг друга, ели всё нечистое, и браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как и все звери, ели всё нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены. И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам, как делают и теперь еще вятичи. Этого же обычая держались и кривичи, и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон». Через несколько страниц летописец сообщает, что «стыдливые» поляне «теперь зовутся русь». Возможно, прав академик Б. А. Рыбаков, и фраза летописца означает, что когда русь «стала во главе племенного союза, сложившегося в Среднем Поднепровье, ее имя постепенно вытеснило имена других племен»{72}. О полянах, превратившихся в русов и переставших быть исторической реальностью, к середине X века сохранились одни предания. Кроме летописца-киевлянина ни один источник не упоминает полян, да и для него они, как верно подметил тот же Рыбаков, – «этнографическая достопримечательность»: «Юридические памятники – договоры с греками (911 года и последующие) совершенно не знают полян; они имеют дело с государством Русью, с городами, но племенных названий не дают. Константин Багрянородный, знавший Русь внутреннюю и внешнюю, называет волынян, древлян, кривичей, дреговичей и „ленсанинов“, не знает именно полян… Среди летописных записей XII-XIII веков бытового, описательного характера часто проскальзывают упоминания древних племен, урочищ; в качестве географических ориентиров упоминаются кривичи, древляне, вятичи, радимичи, север, но полян и в этих записях нет. Столь же неуловимы поляне и территориально. Каковы достоверные пределы земли летописных полян? Попытки привлечения археологических материалов IX-XI веков оказались безрезультатны; племенные признаки полян к этому времени давно уже исчезли»{73}.
Действительно, в археологическом отношении поляне-русь являются самым загадочным племенем. В их земле не наблюдается преобладания какой-либо одной археологической культуры, что неудивительно, ведь их область представляла собой место соединения нескольких таких культур, а само расположение древнего Киева на оживленной водной магистрали с развитой системой притоков способствовало приливу на территорию Киевщины населения из разных восточнославянских областей. Анализ местных захоронений позволяет выявить присутствие не только представителей разных славянских племен, но и норманнов, финно-угров, хазар, торков. Это территория смешения этносов и культур – своеобразная «маргинальная зона»{74}. Пестрота местного населения бросалась в глаза даже в конце X – начале XI века. Вышеупомянутый хронист Титмар Мерзебургский, описывая Киев своего времени, отмечал, что людей здесь – «неведомое количество; они, как и вся та провинция, состоят из сильных, беглых рабов, отовсюду прибывших сюда, и особенно из быстрых данов»{75}. «Даны» – варяги, морские бродяги-разбойники. Называя население Киевщины «сильными, беглыми рабами», хронист, вероятно, демонстрирует пренебрежительное отношение к этому скопищу бродяг, грубо говоря отребью, стекавшемуся сюда из разных земель. Иначе и не мог смотреть на вещи человек, происходивший из знатного рода графов фон Вальбек.
Сам Киев времен Игоря, Ольги и Святослава представлял собой несколько поселений, разбросанных по киевским «горам», возникших в разное время и слившихся в одно целое лишь к концу столетия, во времена Владимира{76}. Возможным следствием смешанного в этническом отношении состава населения Киева и земель вокруг него является разноэтничность имен князей в русско-византийском договоре 944 года. В тексте соглашения русская сторона обращается к грекам со словами: «Мы – от рода русского послы и купцы», а затем приведен список послов: «Ивор, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы: Вуефаст от Святослава, сына Игоря; Искусеви от княгини Ольги; Слуды от Игоря, племянника Игоря; Улеб от Володислава; Каницар от Предславы; Шихберн от Сфандры, жены Улеба; Прастен Тудоров; Либиар Фастов; Грим Сфирьков; Прастен от Акуна, племянника Игоря; Кары Тудков; Каршев Тудоров; Егри Евлисков; Воист Войков; Истр Аминодов; Прастен Бернов; Явтяг Гунарев; Шибрид от Алдана; Кол Клеков; Стегги Етонов; Сфирка (пропущено имя того, чьим послом был этот Сфирка. – А. К.); Алвад Гудов; Фудри Туадов; Мутур Утин». Далее следуют имена двадцати шести купцов, подписавших договор, и сообщается, что эти послы и купцы посланы «от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья и от всех людей Русской земли». Двадцать пять из сорока девяти имен, перечисленных в договоре впереди купцов, принадлежат послам, ездившим в Византию, а двадцать четыре – лицам, от имени которых эти послы выступали. Большинство имен имеет неславянское происхождение. Согласно наиболее распространенной точке зрения, в основном это имена скандинавского происхождения. Более взвешенной, однако, представляется позиция исследователей, утверждающих, что имена договора невозможно вывести из одного этноса: они принадлежат германскому, славянскому, угро-финскому, иранскому именослову{77}. Впрочем, имя не всегда непосредственно указывает на этническую принадлежность человека. У варварских племен, тем более живущих на перекрестках торговых путей и контактирующих с другими народами, многие имена оказываются заимствованными{78}. Вероятно, и в договоре 944 года часть имен заимствована, а часть принадлежит иноземцам, осевшим среди славян. В любом случае форма написания этих имен является сильно славянизированной. Не стоит забывать о том, что сами послы князей заявляют грекам, что они от «рода русского» и их послала «Русская земля», имея в виду область Среднего Поднепровья, Киевщину{79}. В этой связи важно замечание крупного специалиста в области истории средневековой Скандинавии А. Я. Гуревича о том, что «скандинавы долго чувствовали себя не норвежцами, шведами, датчанами, но членами лишь своего племени, жителями той или иной области»{80}. Оказавшись вдали от дома, они всегда подчеркивали свое происхождение из какого-то определенного места. А князья, их послы и купцы договора 944 года носили славянизированные имена, клялись Перуном и чувствовали себя выходцами из «Русской земли», русами{81}. И это притом что среди упомянутых в договоре князей не было представителей славянских племен, плативших русам дань! Русь выступает в договоре не только как особая политическая общность со своей властью, своими «законами» и «поконами», но и как общность этническая. Подчеркну еще раз – общность, противостоящая своим «пактиотам». Любопытно, что, убив Игоря, древляне заявили: «Вот убили мы князя русского; возьмем жену его Ольгу за князя нашего Мала…» Из этих слов видно, что и древляне не причисляли себя к «Руси», хотя их земли начинались недалеко от Киева{82}. Для характеристики русов очень интересно сообщение о них константинопольского патриарха Фотия, относящееся к началу 867 года. Он, в частности, упоминает «так называемый народ Рос», «для многих многократно знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и кровопролитии», который, «поработив живших окрест них», оттого чрезмерно возгордился{83}.
В целом, русы являются весьма любопытным для исследователя образованием. Они занимали территорию с центром в Киеве (когда-то – территорию полян, «утонувших» в потоке переселенцев из соседних земель, далеких и близких, славянских и нет), признавали «своими» еще несколько городов по течению Днепра (таких как «Милиниски» или загадочный «Немогард» Святослава) и противопоставляли себя платившим им дань славянам-«пактиотам». Отмечу, что русы чувствовали свою связь с полянами. Не случайно «Повесть временных лет» сообщает, что был период, когда древляне обижали полян. А затем летописец с явным удовлетворением описывает, каким унижениям подвергались древляне позднее и как их положение все более и более ухудшалось.
Но даже «Полянский» летописец отмечает «незаконность» поведения Игоря в древлянской земле, сообщая, что князь отправился к древлянам под давлением дружины, без малейшего повода и появление его сопровождалось насилием по отношению к «пактиотам». Не случайно и то, что древляне применили к Игорю позорную казнь, которой у различных народов с древности наказывались разбойники и прелюбодеи{84}, а самого его позднее, во время переговоров с Ольгой, они именовали «волком» – так у славян традиционно именовался преступник, вор. Появление Игоря в их земле выглядело и в глазах древлян, и в глазах летописца авантюрой, грабежом, а не сбором дани. «Незаконность» поведения Игоря заметна и в том, что в земле древлян он появился лишь со своей дружиной, в то время как, согласно все тому же Константину Багрянородному, собирать дань со славян отправлялись все князья русов. Ни о каких иных промыслах этих князей царственный автор не упоминает{85}. Судя по русско-византийскому договору 944 года, Игорь был всего лишь предводителем княжеского союза и сильно зависел от князей. Для заключения этого договора было необходимо, чтобы в его составлении приняли участие все русские князья, следовательно, только это условие служило основанием для требования его исполнения всеми князьями, их городами и живущими в них русами. Фактически договор заключен не только между русскими князьями, с одной стороны, и греками – с другой, но и между самими русскими князьями. Именно для этого понадобилось участие в заключении договора послов от каждого из них. Ссориться с этими князьями Игорю было ни к чему. Да и по отношению к дружине он поступил нехорошо, так как, отослав основную ее часть восвояси, остался с наиболее близкими людьми, желая собрать еще больше богатств.
Рассказ о событиях в земле древлян долгое время существовал в форме устных преданий. Летописец, излагая эти предания и допуская в своем рассказе противоречия, как будто о чем-то недоговаривает, а в картине, которую он рисует, оказывается слишком много «белых пятен». Тем более удивительно, что, не проясняя некоторые моменты своего повествования, составитель «Повести временных лет» (или, скорее, предшествующего ей летописного свода) в то же время вносит в него как бы «лишние» детали, еще более запутывающие текст. Одна из таких деталей – упоминание о богато разодетых «отроках» воеводы Свенельда. В самом факте их существования ничего необычного нет. Воеводы в древней Руси имели своих дружинников, независимых от князя и даже, возможно, враждебных дружинникам последнего. Сформировать собственную дружину в тогдашнем обществе было несложно{86}. И любой дружинный вожак мог подняться по общественной лестнице на большую высоту. Тут можно вспомнить летописные истории о приглашении на княжение Рюрика с братьями, о захвате Олегом Киева и убийстве местных князей Аскольда и Дира. Примером приглашения постороннего вождя в правители, возможно, служит и история полоцкого князя конца X века Рогволда, пришедшего откуда-то «из-за моря». При этом никто не интересовался, кем были эти Олег, Рогволд или тот же Рюрик «за морем», тем более что знатную родословную можно было и выдумать. Весьма сложно определить правомерность употребления в отношении подобных безродных «бродяг» титула «князь». Для людей типа Рюрика, Олега или Рогволда, которых летописцы стремятся изобразить приходящими на Русь «с родом своим», главную ценность и основу их положения составляла не знатность, а поддержка «верной дружины».
В связи с этим стоит привести любопытный рассказ, содержащийся в исландской «Саге о Стурлауге Трудолюбивом Ингольвссоне», о гибели некоего Ингвара, конунга «на востоке в Гардах» (Руси), который примерно во второй половине IX – начале X века правил в Альдейгьюборге (Ладоге). К его дочери Ингибьерг сватался викинг Франмар, который на вопрос Ингвара о том, где находятся его «земли или подданные, большое богатство или слава», гордо ответил: «Я думаю все приобрести, если я породнюсь с тобой»{87}. Потерпев в этом своем предприятии неудачу, Франмар возвратился в Швецию, но через некоторое время вместе с конунгом Стурлаугом на трехстах кораблях вновь явился в Гардарику. «Когда они прибыли в страну, пошли они по земле, совершая грабежи, сжигая и паля везде, куда бы они ни шли по стране»{88}. Ингвар собрал войско, но в трехдневном сражении пал от руки Стурлауга. «Затем Стурлауг отдал в жены Франмару Ингибьерг, дочь конунга… Стурлауг отдал тогда во власть Франмара город Альдейгью и все то государство, которым владел конунг Ингвар, и дал ему титул конунга. Франмар теперь обосновался и правит своим государством, советуясь с лучшими людьми, что были в стране. От Франмара и Ингибьерг пошел большой род и много знатных людей»{89}. Рассказ этот не нуждается в комментариях – нищий авантюрист при поддержке приведенной им посторонней силы становится конунгом. Сходство с Рюриком, Олегом и Рогволдом замечательное{90}.
Предводителя бродячей дружины делало князем приглашение городской общины на роль своего правителя или завоевание города самим этим «бродягой». В IX – середине X века княжеское достоинство на Руси определялось не только знатностью происхождения человека, но и тем, обладал ли он этим статусом фактически. Отражением этого представления, возможно, являются былины об Илье Муромце, в которых он спасает город (Чернигов или какой-нибудь другой) от врага (татар или, реже, литовцев), после чего горожане предлагают ему власть над ними. Между прочим, эти былины в одной любопытной детали сходятся с летописью. В «Повести временных лет» варяжских князей приглашают, чтобы те «владели» и «судили по праву», а в былинах спасенный богатырем город зовет его быть правителем (воеводой, князем или даже королем) и «суды судить да ряды рядить» (или «суды судить все правильно»){91}. Воевода, в отличие от князя, не управлял городом, а был всего лишь предводителем бродячей дружины. Но в целом отличие князя X века от подобного вожака весьма условно. Не следует забывать и о том, что в те времена Русская земля еще не стала монопольным владением Рюриковичей. Князей, перечисленных в договоре 944 года, нельзя считать представителями одного рода. В договоре, правда, упомянуты степени родства некоторых из них по отношению к киевскому князю и друг к другу («сын Игоря», «племянник Игоря», «жена Улеба» и др.), но это как раз и свидетельствует о том, что не все в этом списке – родственники, иначе зачем было обозначать родство лишь некоторых из них. Пестрый этнический состав имен договора, пусть и при преобладающем скандинавском элементе, позволяет высказать предположение, что перечисленные в нем князья или их предки также явились когда-то в землю полян-руси во главе своих дружин. Такими же бродягами были, вероятно, и Свенельд с его «отроками».
«Повесть временных лет» вроде бы намекает на причастность Свенельда к трагедии, разыгравшейся в древлянской земле, однако ни разу до этого его не упоминает и его роль в произошедших событиях не проясняет. Но стоит только почитать Новгородскую Первую летопись младшего извода (доведенную до 1446-1447 годов), в основе начальной части которой лежал летописный свод более древний, чем «Повесть временных лет», и все как будто проясняется. В этой летописи сообщается о передаче Игорем Свенельду права сбора дани с уличей и древлян и говорится о недовольстве дружинников Игоря тем, что князь «много дал одному мужу». А далее следует рассказ о походе Игоря в землю древлян, аналогичный тому, что содержится в «Повести временных лет»{92}. Это указание на источник обогащения Свенельда на первый взгляд может быть признано удовлетворительным, но вопросы о роли воеводы в событиях середины 40-х годов X века, о его отношении к тому, что Игорь неожиданно решил отобрать у него право сбора дани с древлян, остаются без ответов. В начале XX века А. А. Шахматов сопоставил летописные данные с «Историей Польши» Яна Длугоша (XV век), который использовал русские источники, не дошедшие до нас и содержавшие известия, несколько отличные от «Повести временных лет». Шахматов обратил внимание на то, как в летописном рассказе поясняется, кто такой воевода Свенельд – «отец Мстиши» (Мистиши). Исследователь обратил внимание на сходство имен Нискини-Мискини (так Длугош называет князя древлян Мала) с Мистишей и пришел к выводу, что это одно и то же лицо, прибавив к тому же известия Новгородской Первой летописи младшего извода о передаче Свенельду дани с древлян и свои собственные сомнения по поводу достоверности известий «Повести временных лет»{93}. Этот комплекс сомнений и сопоставлений он положил в основание целой цепи умозаключений, общим итогом которой стала следующая мысль: «Итак, первоначальный рассказ об убиении Игоря и вызванной им войне Киевлян с Древлянами представляется в таком виде: Игорь, побуждаемый дружиной, идет походом на Деревскую землю, но Свенельд не отказывается от данных ему прав, происходит столкновение Игоревой дружины со Свенельдовой и с Древлянами (подданными Свенельда)». В этом столкновении Игорь убит Мстиславом (Мистишей), сыном Свенельда{94}.
У построения Шахматова нашлось немало сторонников, однако еще больше – противников. Главным и убийственным аргументом против его концепции, остающимся таковым по сей день, была мысль о том, что убийца Игоря не мог оставаться воеводой его вдовы Ольги и сына Святослава. Если же Ольга после убийства Игоря приблизила к себе убийцу, то отсюда может следовать, что она сама являлась участницей преступления. Но тогда зачем ей мстить древлянам? Или же Свенельд был настолько могуществен, что Ольга не посмела его тронуть? Но тогда почему, убив Игоря, он оставил у власти его вдову? Почему другие русские князья (упомянутые в договоре 944 года) не помогли Ольге наказать распоясавшегося воеводу? К тому же в оригинале Длугоша читается не «Мискиня», а «Нискиня» (Niszkina, то есть «низкий»), что, вероятнее всего, является найденным Длугошем смысловым эквивалентом русскому имени «Мал», которое Длугош посчитал прозвищем «малый», «небольшой». Это, конечно, разрушает построения Шахматова{95}. Да и с Мистишей Свенельдичем не все просто. Из текста летописи можно сделать вывод, что летописец поясняет ссылкой на родство Мстиши и Свенельда, кто такой Свенельд, как будто во времена написания летописи сын был еще жив и даже более известен, чем отец. Однако польский исследователь А. В. Поппэ, проанализировав упоминание в летописи о «Мстише», пришел к обоснованному выводу, что строчка «тъ же отець Мьстишинъ» является неправильным переосмыслением авторской записи «…тъ же отець мьсти сыи» (или «бывъ»), то есть «отец этой (сыи) мести» (мести древлянам){96}. Выходит, никакого «Мистиши» не существовало вовсе.
Что же из всего этого следует? Согласиться с мнением Б. А. Рыбакова о «необоснованности данного раздела труда Шахматова»?{97} Но ведь и версия А. А. Шахматова возникла не на пустом месте. Конфликт Игоря и Свенельда на самом деле имел место – это следует из летописных слов княжеской дружины, – а действия самого князя говорят в пользу того, что он был согласен со своими дружинниками. Нужно только определить причину конфликта и роль Свенельда во всех этих событиях. И прежде всего стоит обратить внимание на то, что недовольство Игоря Свенельдом вызвано не тем, что последний собирал дань с древлян. Княжеская дружина зашумела после появления у Свенельда богатства, в сравнении с которым сам Игорь казался нищим. Откуда оно у воеводы?
Как мы уже говорили, Новгородская Первая летопись младшего извода объясняет появление богатств у Свенельда рассказами о передаче ему дани с уличей и древлян{98}. Любопытно, что летопись повторяет рассказ об этом два раза, под 922 и 940-942 годами{99}. Следом за первым рассказом (под 922 годом) о покорении уличей и древлян и передаче даней с них Свенельду следует замечание о недовольстве дружины Игоря таким щедрым даром. Логичным завершением известия должен был стать рассказ о походе Игоря на древлян и о его гибели. Но далее следует череда незаполненных событиями («пустых») лет, повторное сообщение под 940 годом о покорении уличей и передаче дани с них Свенельду, 941-й «пустой» год, сообщение под 942 годом о передаче Свенельду дани и с древлян (опять повтор), еще несколько «пустых» лет и, наконец, под 945 годом повтор сообщения о недовольстве дружинников богатством Свенельда, а затем – рассказ о гибели Игоря. Учитывая, что первоначально летописный рассказ шел без дат (они были проставлены одним из сводчиков уже в готовый текст), можно предположить, что, выстраивая хронологию событий, летописец растянул их на 20 лет{100}.
Но когда же Свенельд получил дани с древлян и уличей? В 20-х или 40-х годах X века? 922 год как дату передачи дани с древлян Свенельду мы принять не можем, так как тогда необходимо было бы передвинуть к этому же времени и гибель Игоря, что разрушило бы не только русскую, но и европейскую хронологию событий, относящую деятельность Игоря к 40-м, а его жены Ольги и сына Святослава к 50-60-м годам X века. Приходится выбирать второй вариант. Но в таком случае Свенельд мог собирать дань с этих областей не более пяти лет.
Уличи не могли принести Свенельду большого богатства. Их завоевание русами, продолжавшееся, согласно летописи, целых три года, только что завершилось, их земли были разорены, а вскоре началось их переселение на запад, в междуречье Буга и Днестра, в соседство к тиверцам, после чего об уличах уже ничего не известно. Что же касается древлян, то хотя изображение их летописью как примитивного и бедного племени представляется излишне тенденциозным, Свенельд мог эксплуатировать эту землю только в течение двух-трех лет, с 942 года. Этого срока явно недостаточно для того, чтобы собрать и продать то огромное количество мехов, меда и рабов, необходимое для получения богатства, способного затмить по своему размеру богатство самого Игоря. Напомню, что греки старательно ограничивали вывоз шелка из империи. Значит, нажить богатство, приписываемое Свенельду, «ненароком» было нереально. Между тем из рассказа летописи можно сделать вывод о том, что дружинники Игоря заметили богатое (шелковое?) одеяние «отроков» Свенельда неожиданно, это богатство поразило их{101}.
Отметим еще одну деталь. В рассказе о заключении мира русов с греками и в самом тексте мирного договора 944 года Свенельд не упоминается. Вероятно, он просто не участвовал в заключении договора и получении даров. Может быть, он два года бессовестно грабил землю древлян, соревнуясь в богатстве с князем Игорем? Но тогда древлянские послы никак не могли позднее заявить вдове Игоря Ольге, что их князья «привели к процветанию Деревскую землю» и они жили совершенно счастливо вплоть до появления в их земле ее мужа, князя-«волка». Да и самому Игорю, желавшему обогатить себя и дружину, не имело смысла ехать для этого в разоренную древлянскую землю. Любопытно, что богатство Свенельда бросилось в глаза воинам Игоря осенью, перед полюдьем, следовательно, воевода добыл его не сбором дани с уличей и древлян.
Похоже, что и с выступлением древлян Свенельд никак не связан. Если бы Игорь решил отобрать сбор дани у «заворовавшегося» воеводы и собрать ее сам, а воевода не подчинился бы воле князя и поднял против него восстание, то тогда Игорь должен был бы прежде всего наказать мятежника. Он же его будто и не замечает. В летописном рассказе о восстании древлян и гибели киевского князя не чувствуется присутствие никакой посторонней силы вроде Свенельда. У Свенельда и древлян совершенно разные причины для недовольства Игорем.
Откуда же взялось у Свенельда невиданное на Руси богатство? Логично предположить, что люди Свенельда добыли его в каком-нибудь военном походе. В историографии подобное предположение делалось неоднократно. Историками даже указывается возможное место, которое Свенельд мог разграбить, – город Бердаа в Азербайджане{102}. В произведениях многих восточных авторов сообщается, что в 332 году хиджры по мусульманскому летосчислению (по христианскому счету это период с 4 сентября 943 года по 23 августа 944 года) отряды русов появились в окрестностях Дербента на берегу Каспийского моря. По пути к этому городу к русам присоединились значительные силы аланов и лезгов (предков нынешних осетин и лезгин). Захватить Дербент, бывший тогда мощной крепостью, союзники не смогли и, овладев кораблями в гавани Дербента, двинулись по морю вдоль побережья Каспия на юг. Достигнув места впадения реки Куры в Каспийское море, русы поднялись по реке до крупнейшего торгового центра Азербайджана города Бердаа{103}. Им удалось захватить город и удерживать его какое-то время. До появления отрядов русов город процветал: Кура была богата рыбой, поля вокруг изобиловали хлебом, население варило соль, добывало нефть, а в окрестных горах – золото, серебро и медь. Кругом росло несметное число оливковых деревьев. Но особенно богаты были окрестности Бердаа тутовыми деревьями, на которых выращивали шелковичных червей и коконы. Это был крупный центр по производству шелка, до которого, как мы знаем, русы были весьма охочи. Незадолго до их нападения территория Азербайджана была завоевана отрядами дейлемитов (воинственных горцев южного Прикаспия) во главе с Марзбаном Ибн Мухаммедом, который и сделался правителем захваченных земель. Бердаа также попал в число его владений. Войска, собранные Марзбаном, беспрестанно осаждали город, но русы неутомимо отражали их нападения. Столь же успешно они подавляли выступления горожан. Проведя в городе год, полностью его опустошив, русы покинули Бердаа, истребив к тому времени большую часть его населения. После нанесенного русами удара город пришел в упадок.
Среди исследователей, так или иначе затрагивающих историю разорения Бердаа, принята точка зрения, что русы, напавшие на город, – это некий осколок русского флота, который под предводительством князя Игоря воевал с византийцами в 941 году. Считается, что часть князей, участников похода, после постигшей их на Черном море неудачи, решила попытать счастье в иных краях. Устремившись к Керченскому проливу, они вошли в Азовское море. Далее, достигнув устья Дона, их корабли поднялись по реке до того места, где Дон подходит на самое близкое расстояние к Волге. Тут русы переволокли свои суда по суше и спустились Волгой в Каспийское море. Вот среди них-то и мог находиться со своими дружинниками Свенельд. Потому он и не участвовал позднее в подписании русско-византийского договора 944 года – еще не вернулся в Киев. Но прибытие со Свенельдом на Русь остатков армии, воевавшей в Малой Азии и Бердаа, могло превратить его в серьезную силу и сделать реальным противостояние дружин Игоря и Свенельда, показанное в «Повести временных лет».
Ни один источник прямо не сообщает об участии Свенельда в походе на Бердаа. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но нельзя опровергнуть и то, что часть русов, участвовавших в походе 941 года, разграбив Бердаа, явилась в Киев. Встретились ли они с Игорем? Если да, как складывались их отношения? Анализируя текст «Повести временных лет», некоторые исследователи делают вывод, что поведение Игоря во время похода на греков было недостойно вождя. В отличие от византийских источников наша летопись сообщает только об одном, первом морском сражении русов с греками, произошедшем близ Константинополя. После этого Игорь возвращается в Киев. Разорение Вифинии, зверства русов в отношении местного населения летописцы относят к самому началу похода, до сражения в Босфорском проливе; о втором морском сражении на Черном море они не знают. Или не хотят знать? Не скрывают ли они чего-нибудь от своих читателей, спасая репутацию Игоря – князя, стоявшего у истоков династии киевских князей X-XIII веков? Уж не бежал ли Игорь в Киев с десятком кораблей, бросив оставшийся флот на произвол судьбы? А может быть, князь ничего не знал о их судьбе? Думал, что все погибли от страшного «жидкого огня»?{104} Действительно, паника, охватившая русское войско, как мы помним, была ужасной – русы обратились в беспорядочное бегство. Однако и Игорь, и его князья-союзники, заключавшие впоследствии мирный договор с греками в 944 году, не могли не знать, что после бегства киевского князя большинство русов продолжили сражаться. Тогда оправданием для Игоря служило бы то, что и эти храбрецы были позднее разгромлены греками и погибли. Вот и русы, потерявшие Игоря из виду в первом столкновении с греками, действительно могли думать, что он погиб. Каково же было, наверное, их удивление, когда они, вернувшись с Каспия, нагруженные награбленным добром, встретились с воскресшим киевским князем! И как бледно тот выглядел со своими уцелевшими, обгоревшими ладьями на фоне богатств, вывезенных его бывшими союзниками из Бердаа!
Впрочем, это только предположения. У нас нет прямых доказательств того, что Игорь бросил свою армию в самом начале похода. Пути русов, отправившихся во главе с Игорем и частью князей в Киев и после долгого тяжелого пути в разное время добравшихся восвояси, и тех, кто под руководством других предводителей отправился к Азовскому морю, могли разойтись и после финального столкновения с флотом патрикия Феофана. Однако в любом случае возвращение русов с Каспия (возможно, во главе со Свенельдом) должно было больно ударить по авторитету Игоря.
Но был ли Игорь жив к моменту возвращения его бывших соратников? Русы покинули Бердаа осенью 945 года. Согласно «Повести временных лет», Игорь погиб осенью 6453 года, что при переводе на наше летосчисление дает осень 944 года. Выходит, русы уже не застали Игоря в живых? Однако летописная хронология весьма условна и, как уже говорилось, имеет искусственное происхождение. Поэтому летописная дата смерти Игоря, вполне вероятно, всего лишь плод умозаключений летописца, воспроизведенная дата свержения византийского императора Романа Лакапина. Эти два правителя были современниками. Уход из жизни одного мог дать основание летописцу датировать тем же временем и уход из жизни другого{105}. В трактате Константина Багрянородного, составленном около 948-952 годов, сообщается, что «Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии», «сидел» в «Немогарде», то есть ко времени написания сочинения императора его княжение здесь закончилось. Возможно, эти изменения в жизни Святослава были связаны со смертью отца. Вроде бы это подтверждает летописную дату. Но с другой стороны, император не сообщает ни о смерти Игоря, ни о том, кто стал «архонтом Росии» после него. Игорь – действующий русский правитель. Предположить, что Константин VII не знал о смерти Игоря или пользовался устаревшими сведениями, нельзя: греки не могли не знать о смерти киевского князя, хотя бы потому, что киевские купцы, согласно договору 944 года, должны были предъявлять верительную грамоту с именем князя. Да и сами греки были весьма щепетильны в вопросе о престолонаследии. Скорее, правы историки, считающие, что Игорь умер позднее указанной в летописи даты{106}. В этом случае его встреча с воинами, вернувшимися из Бердаа, вполне вероятна. Как она повлияла на положение Игоря в Киеве? На его отношения с русскими князьями, подписывавшими вместе с ним договор 944 года?
Ясно, что к середине X века положение Игоря было весьма неустойчивым и князья могли задуматься о замене предводителя своего союза. Игорь терял поддержку и со стороны простых русов, родственники и друзья которых погибли во время похода на Царьград. В этой связи наш интерес вызывает речь древлян, с которой они обратились к вдове князя Ольге, заявив ей, что Игорь «как волк расхищал и грабил», а их князья – «добрые, привели к процветанию Деревской земли». Древляне противопоставляют своих князей Игорю не только в плане его грабительских наклонностей – для них он неудачник, не заслуживающий ни власти, ни жизни. Как уже отмечалось, они именуют Игоря «волком», то есть преступником, вором, изгоем. Можно думать, что для древлян Игорь – вор-одиночка, за которым больше не стоит союз князей Русской земли. Речь древлян любопытна и тем, что они противопоставляют обустроенность Древлянской земли, возникшую в результате совместной деятельности их князей, Русской земле. В их словах как бы содержится намек на сложные отношения, которые к тому времени сложились между князьями русов.
Игорь терял авторитет и в глазах своей дружины. Если вдуматься в символический смысл слов дружинников о том, что они «наги», то станет ясно, что воины обвиняют Игоря в плохой заботе о них, в недостаточном их содержании. А ведь для предводителя дружины щедрость по отношению к своим людям являлась одним из основных качеств. Само слово «дружина» образовано от слова «друг», первоначальное значение которого – спутник, товарищ на войне. Дружина – это боевые товарищи князя, а не слуги. С дружиной князь обычно советовался при решении тех или иных вопросов, касающихся не только военных действий, но и управления. Нередки были случаи, когда инициаторами того или иного действия князя являлись дружинники. С дружиной князь пировал, веселился; дружина разделяла судьбу князя, его успехи и неудачи. Уход дружины от недостойного князя означал его гибель как князя, а часто и физическую смерть.
Летописное обращение дружинников к Игорю можно понимать как выражение сомнения в том, что он может быть их вождем. И дело не только в богатстве отроков Свенельда. После возвращения русов из Бердаа дружина Игоря смогла оценить истинные боевые «заслуги» своего князя и начала роптать. Чтобы заручиться ее поддержкой, которая была для него особенно важна из-за кризиса в междукняжеских отношениях, Игорь отправился в поход за данью к древлянам. Конец этого предприятия известен. Становятся понятными странности в поведении Игоря, а также то, какую роль в событиях середины 40-х годов X века сыграли древляне, Свенельд и русские князья договора 944 года. По существу, историю убийства Игоря древлянами можно рассматривать как историю борьбы группировок вокруг киевского стола, завершившуюся трагической гибелью загнанного неудачами в угол и неугодного всем князя.
Странно только, что после гибели Игоря на киевский стол садится его вдова Ольга, правившая, согласно «Повести временных лет», именем малолетнего Святослава. Как это допустили Свенельд и прочие «оппозиционеры»? Почему с этим согласились остальные русские князья? Нам необходимо внимательнее присмотреться и к этой необыкновенной женщине, и к ходу событий, последовавших за смертью Игоря.
Одной из главных черт характера Ольги (разумеется, в представлении летописцев) можно считать весьма оригинальное чувство юмора, не подводившее ее ни при каких обстоятельствах. Вот древляне, убив Игоря, решают выдать его вдову за своего князя Мала и строят планы, как они поступят с сыном Игоря Святославом. Летописец-киевлянин, представляя, как вся эта лесная «деревенщина» размечталась о русской княгине, уже предвкушает потеху: «И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге. И пристали в ладье под Боричевым въездом, ибо вода тогда текла возле Киевской горы, а на Подоле не селились люди, но на горе. Город же Киев был там, где ныне двор Гордяты и Никифора, а княжеский двор был в городе, где ныне двор Воротислава и Чудина, а место для ловли птиц было вне города; был вне города и другой двор, где стоит сейчас двор деместика, позади церкви Святой Богородицы; над горою был теремной двор – был там каменный терем. И поведали Ольге, что пришли древляне. И призвала их Ольга к себе и сказала им: „Добрые гости пришли“. И ответили древляне: „Пришли, княгиня“. И сказала им Ольга: „Говорите, зачем пришли сюда?“ Ответили же древляне: „Послала нас Деревская земля с таким наказом: ‘Мужа твоего мы убили, ибо муж твой как волк расхищал и грабил, а наши князья добрые, привели к процветанию Деревской земли. Пойди замуж за князя нашего Мала’“. Было ведь имя ему, князю древлянскому, – Мал{107}. Сказала же им Ольга: „Любезна мне речь ваша. Мужа мне моего уже не воскресить, но хочу воздать вам завтра честь перед людьми моими. Ныне же идите к своей ладье и ложитесь в нее, величаясь. Утром я пошлю за вами, а вы говорите: ‘Не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье’, – и вознесут вас в ладье“. И отпустила их к ладье. Ольга же приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе, вне града. На следующее утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями. И пришли к ним, и сказали: „Зовет вас Ольга для чести великой“. Они же ответили: „Не едем ни на конях, ни на возах, ни пеши не идем, но понесите нас в ладье“. И ответили киевляне: „Нам неволя; князь наш убит, а княгиня наша хочет за вашего князя“. И понесли их в ладье. Они же уселись, величаясь, избоченившись в больших нагрудных застежках. И понесли их на двор к Ольге, и как несли, так и сбросили вместе с ладьей в яму. И, приникнув, спросила их Ольга: „Добра ли вам честь?“ Они же ответили: „Пуще нам Игоревой смерти“. И повелела Ольга закопать их живыми, и засыпали их…»
Зрелищно! Особенно если представить, как киевляне тащат по крутому подъему ладью, в которой сидят 20 солидных по возрасту и весу представителей древлянской элиты в праздничных одеждах! Теремной двор Ольги находился недалеко от места, где при Владимире Святом была построена знаменитая Десятинная церковь. Ныне это место может посетить любой турист, проходя по Андреевскому спуску, слегка уклонившись от лотков с сувенирами в сторону Национального музея истории Украины. А для удобства спуска к воде киевлян и гостей города еще в 1905 году в Киеве был открыт фуникулер, позволяющий всего за две с половиной – три минуты преодолеть часть расстояния, которое люди Ольги прошли, неся ладью с обреченными на смерть гостями. Далее придется слегка притомиться, идя вниз по лестнице к набережной по парку «Владимирская горка». Но киевлянам X века пришлось труднее. Тогда в Киеве фуникулера не было. И тащили древлян вверх, а не вниз. Вот какая была изощренная фантазия у киевской мстительницы! Впрочем, летописец поясняет, что в Киеве было два двора – теремной (где стоял каменный терем) над горою и вне города (соответственно, без башни-терема). Ольга встречала своих гостей на теремном дворе; сидя в тереме, она послала за ладьей с древлянами, сюда же их должны были и «вознести». Но наш летописец, прикинув эпические усилия, которые требовались киевлянам, посчитал, что это нереально (он слишком серьезно отнесся к этой сказке), и, зная о княжеском дворе за городом, решил упростить задачу, добавив к фразе «приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе» (!) два слова – «вне града». Получилось правдоподобнее, хотя древлян не могло не смутить, что их понесли куда-то не туда, а на дворе к яме склоняется Ольга, вроде бы только что отдававшая приказания, сидя в тереме{108}.
Топографическое пояснение летописи о незаселенности Подола и о течении Днепра возле самой горы тоже выглядит странно. Историк А. Г. Кузьмин высказал предположение, что летописец второй половины XI века сделал это замечание, столкнувшись с противоречием с современной ему топографией Киева, а «последовательная ориентация предания о „местях“ Ольги на топографию X века могла сохраняться только потому, что летописцы имели дело с ранее записанными вариантами их»{109}. Возможно, у летописца и был под рукой путеводитель по раннему Киеву, но вот какого века? Судя по археологическим данным, Подол был заселен не позднее IX века, а значит, в описании летописца все равно что-то не так. Может быть, древнерусский книжник (тот же или другой) решил таким образом сократить путь, по которому киевляне пронесли древлян к терему Ольги? Или он просто что-то напутал или придумал, ведь малороссиянам во все времена было свойственно изобретать небылицы про свою землю{110}. Высказывалось предположение, что таким образом летописец отметил первое из известных науке больших половодий Днепра, когда разлившаяся река покрыла территорию Подола, а люди перебрались на Гору{111}. Остается только согласиться с исследователями, признающими, что эти слова летописи о Киеве остаются для нас загадкой, равно как и Гордята, Никифор, Воротислав, Чудин, указаниями на дворы которых сыпет летописец{112}. Но вернемся к Ольге и древлянам.
Княгиня не останавливается на достигнутом. Она посылает к древлянам и заявляет им: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя. Иначе не пустят меня киевские люди». Кажется, древлян не могла не заинтересовать судьба их первого посольства, граница «Деревской» земли проходила недалеко от Киева, а от столицы русов до Искоростеня – столицы древлян – было расстояние, которое хороший всадник мог преодолеть за один день{113}. Но они не спорят с Ольгой и в очередной раз, выбрав лучших мужей, посылают за княгиней. Так и хочется воскликнуть вслед за М. В. Ломоносовым: «О, сельская простота!» А убитая горем, но по-прежнему блещущая остроумием вдова велит приготовить новым послам баню, говоря так: «Помывшись, придите ко мне». «И разожгли баню, и вошли в нее древляне, и стали мыться. И заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от двери, и сгорели все. И послала к древлянам со словами: „Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и устрою ему тризну“»{114}. Древляне, как загипнотизированные, везут в назначенное место «множество медов». И вот Ольга, «взяв с собою малую дружину, двигаясь налегке, прибыла к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела людям своим насыпать великую могилу и, когда насыпали, повелела начинать тризну. Затем сели древляне пить, и распорядилась Ольга, чтобы ее отроки прислуживали им». Тут вдруг древляне задумываются и спрашивают княгиню: «Где дружина наша, которую посылали за тобой?» Она же ответила: «Идут за мною с дружиной мужа моего». Ответ достойный и, главное, честный. Ведь дружинники-то Игоря перебиты самими древлянами! И древлянские послы «пошли» следом за ними! Но древляне, видимо, уже крепко напились и ответом княгини вполне удовлетворились. Пир шел горой, специально приставленные к дурням-древлянам люди Ольги пили за их честь. Когда же те окончательно опьянели, Ольга ушла, приказав дружинникам рубить древлян. Летописец сообщает, что убито их было пять тысяч… Страшная картина! Огромное поле близ кургана, насыпанного над телом Игоря, уставлено столами (иначе как там могла уместиться такая прорва пьющих древлян?) и завалено порубленными людьми. Для сравнения, во время знаменитой Варфоломеевской ночи в Париже было убито всего две тысячи гугенотов.
И сказочная глупость древлян, и сказочное же количество их трупов – все это говорит о том, что в этом летописном отрывке мы имеем дело с фольклором. Три «мести» Ольги символичны – каждая из них представляет собой скрытую загадку о смерти, которую Ольга загадывает древлянам. Те не только не смогли их отгадать, но даже не догадались, что речь идет о загадках, и потому были обречены на смерть. Ольга недаром убедила древлян лечь в ладье. Она, по существу, задала им загадку о их похоронах (ладья с лежащими мертвецами – это погребальный обряд русов, описанный арабским путешественником первой половины X века Ибн Фадланом). Но древляне не поняли и решили, что им хотят оказать великую честь, вернулись на ночь в ладью, легли там и сами подтвердили приговор, будто они мертвы. Оставалось их действительно похоронить, что наутро и было сделано, хотя ничего не подозревавшие послы гордо сидели в ладье, пока их не бросили в яму. Во второй и третьей местях также содержатся неразгаданные загадки – и «баня», и «пир» могут трактоваться как символы страдания и смерти. Академик Д. С. Лихачев писал в этой связи: «Несение в ладьях – первая загадка Ольги, она же и первый обрядовый момент похорон, баня для покойника – вторая загадка Ольги – второй момент похорон, тризна по покойнику – последняя загадка Ольги – последний момент похорон. Ольга задает сватам загадку, имитируя обычную свадебную обрядность, но сама свадьба оказывается метафорой мести. Метафоричность свадебной обрядности оказалась надстроенной еще одной метафоричностью похорон»{115}.
Послы не понимают смысла слов Ольги именно потому, что у них другие обычаи, они древляне, а не русы, но смысл сказанного княгиней вполне понятен и летописцу, и читателям (или слушателям), если они, конечно, киевляне, то есть потомки русов-полян. Напомню – в «Повести временных лет» сообщается, что был-де период, когда древляне «обижали» полян, теперь все иначе, и читатель может увидеть, как с каждым годом положение древлян становится все хуже и хуже. Как подметил тот же Д. С. Лихачев, в истории о непонятливых древлянах летопись проводит мысль «об общем умственном превосходстве русских»{116}. Ольга задает древлянам загадки, но ведь загадка «служит не только для тайны переговоров, но и для различного рода состязаний в мудрости с врагами, или же в свадебном обряде – со сватами, с женихом. И в этом случае она построена на знании обычных, общепринятых метафор»{117}.
Еще Н. И. Костомаров отмечал, что эпизод с древлянскими послами, сожженными в бане, несколько напоминает русскую сказку о царевне Змеевне, которая заманивает к себе молодцев и сжигает их в печи{118}. Сравнительно недавно М. Н. Виролайнен писала, что «загадки» княгини Ольги (ладья, баня и пир) вполне соответствуют определенному типу сказочного сюжета: «Обретение чудесной ладьи (корабля, лодки, часто движущейся по воздуху, летучей, летящей) здесь либо предшествует решению „трудной задачи“ – условия получения невесты, либо входит в их число. Другая задача – испытание раскаленной баней и преизобильным пиром. Иногда им сопутствует еще несколько испытаний. Герою помогают чудесные товарищи: в бане – Мороз-Студенец, на пиру – Объедайло и Опивайло и т. п.»{119}. Древлянские послы в предании стремятся посредством брака Мала с Ольгой овладеть Киевом (чужим для них «тридесятым» царством). Но на беду у них нет в этом предприятии волшебных помощников.
Обратим внимание на то, что в описании событий, последовавших за смертью Игоря, мы встречаемся на страницах летописи с Ольгой всего во второй раз. Но и предыдущее, первое, упоминание княгини связано со сватовством – историей о том, как «выросшему» Игорю, послушно выполнявшему волю Олега, привели в жены Ольгу (непобедимую невесту-губительницу). Такая сказочная царевна-невеста – персонаж сложный. Крупнейший советский фольклорист В. Я. Пропп писал о ней следующее: «Те, кто представляют себе царевну сказки только как „душу – красную девицу“, „неоцененную красу“, что „ни в сказке сказать, ни пером написать“, ошибаются. С одной стороны, она, правда, верная невеста, она ждет своего суженого, она отказывает всем, кто домогается ее руки в отсутствие жениха. С другой стороны, она существо коварное, мстительное и злое, она всегда готова убить, утопить, искалечить, обокрасть своего жениха, и главная задача героя, дошедшего или почти дошедшего до ее обладания, – это укротить ее… Иногда царевна изображена богатыркой, воительницей, она искусна в стрельбе и беге, ездит на коне, и вражда к жениху может принять формы открытого состязания с героем. Два вида царевны определяются не столько личными качествами царевны, сколько ходом действия. Одна освобождена героем от змея, он – ее спаситель. Это тип кроткой невесты. Другая взята насильно. Она похищена или взята против ее воли хитрецом, который разрешил ее задачи и загадки, не испугавшись того, что головы его неудачливых предшественников торчат на шестах вокруг ее дворца»{120}. Если для древлян сватовство заканчивается плачевно, то Игорю вроде бы сопутствует удача. Но и ему Ольга досталась непросто. В предании, вошедшем в состав «Книги Степенной царского родословия» (создана в 60-е годы XVI века), рассказывается, как Игорь преследовал зверя, который находился на другом берегу реки, а подъехав к воде, встретил Ольгу. Эта ситуация (брак – охота) встречается в фольклоре и воплощается в мотиве встречи героя с чудесным животным, в ходе которой животное (лебедь или лань) превращается в девушку-невесту. Не случайно князь сначала принимает Ольгу за удалого, сильного мужчину, в чем, вероятно, проявился еще один былинный сюжет – о поединке с суженой{121}. В конечном итоге Игорю не удается самому добыть Ольгу; в предании, помещенном в «Повести временных лет», ему ее приводит Олег, который и выполняет роль «волшебного помощника» героя. Однако женитьба на «коварной невесте-губительнице», «богатырке» Ольге не может принести Игорю счастья. Встреча Игоря и Ольги происходит на переправе, а переправа в фольклоре часто является символом смерти{122}. Девушка перевозит Игоря на другой берег, что предопределяет судьбу князя, делая его гибель неотвратимой. Впрочем, все можно трактовать и не столь мрачно – перевоз через реку имеет и другое символическое значение – «в свадебных песнях он знаменует переход в новый род, новую семью»{123}. Но, зная историю расправы Ольги со сватами-древлянами, этот оптимистичный вариант как-то не вызывает доверия.
Рассказав о расправе над древлянами у могилы Игоря, летописец переходит к описанию четвертой «мести» Ольги, пожалуй, самой изощренной. Ольга возвращается в Киев и собирает войско против «оставшихся древлян». Это занимает некоторое время, поскольку последовавшие за этим события помещены в летописи уже в следующем году, после заголовка «Начало княжения Святослава, сына Игорева»: «В лето 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска, Святослав бросил копье в сторону древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило в ноги, ибо был Святослав совсем ребенок. И сказали Свенельд и Асмуд: „Князь уже начал, последуем, дружина, за князем“. И победили древлян»{124}.
Здесь стоит немного задержаться. Летописец в очередной раз дарит нам встречу со Святославом, редкую для летописного текста, посвященного событиям 40-50-х годов X века. Вновь проводится та же мысль – князь малолетний и позаботиться о нем, кроме матери, некому. Не совсем понятно, зачем ребенка привезли на поле боя, подвергнув тем самым его жизнь опасности. Неужели присутствие мальчика было столь уж необходимо? Это совсем не в традициях Руси{125}. Сообщение об участии маленького Святослава в сражении с древлянами принято расценивать то как литературный вымысел, то как фальсификацию летописца. Суть в общем одна{126}. В предыдущей главе мы уже говорили о том, что реальный Святослав в момент гибели отца был значительно старше, чем он же в описании летописца. Что же касается летописного предания о броске копья, совершенном князем, то подобный обычай был известен у многих народов. Символ копья, употреблявшийся как знак объявления войны, принадлежит к числу древнейших и весьма распространенных{127}. Е. А. Рыдзевская писала: «В северных сагах хорошо известен древний обычай начинать бой с того, что вождь первый бросает копье в противника, тем самым посвящая этого последнего Одину и обеспечивая себе победу; такое объяснение в большинстве случаев дают нам саги. Обычай этот, несомненно, более древний, чем сам Один и его культ в том виде, в каком мы его знаем по сагам, „Эдде“ и т. д. Но известен он не только у скандинавов и вообще германцев. В Древнем Риме при объявлении войны жрец-фециал, стоя на границе вражеской территории, бросал туда окровавленное копье. По Аммиану Марцеллину, вождь хионитов, северных соседей Ирана, „по обычаю своего народа и наших фециалов“, начинает битву с того же самого действия. По Генриху Латвийскому, литовцы под Кукенойсом [Кокнесе] кидают копье в Двину в знак отказа от мира с немцами. Вероятно, о пережиточном обрядовом действии сообщается и в рассказе Ипатьевской летописи под 1245 г. о войне галицко-волынских князей с Польшей: дойдя до Вислы, Василько Романович „стрели… чересъ… Вислу, не могоша бо переехати си рекы понеже наводнилася бяше“. Невольно напрашивается сопоставление с легендами о Карле Великом в старофранцузских хрониках, где Карл, овладев Испанией, бросает копье в море, преграждающее ему путь к дальнейшим завоеваниям, а также с весьма близким рассказом об императоре Оттоне II в Дании в 975 г. в исландской саге об Олаве, сыне Трюггви»{128}. Перечень примеров можно расширить на русском материале – в январе 1150 года в ходе сражения князь Андрей Юрьевич (Боголюбский) «въехал раньше всех в ряды противника, а за ним его дружина, и сломал копье свое в них»{129}. Пережитком этого обычая являются, вероятно, слова князя Игоря Святославича в «Слове о полку Игореве»: «Хочу копье преломить на границе поля Половецкого».
Исходя из того, что метание копья в противника у разных народов, в том числе и у русов, имело ритуальное, символическое значение (с него обычно начинался бой), можно задаться вопросом: а не был ли рассказ о метании копья Святославом шаблоном, употреблявшимся в эпосе? Описанием не того, как было на самом деле, а того, как должно было быть? Что же касается малолетства Святослава в момент начала его военной карьеры, то и в эпосе героический путь богатыря обычно начинается с раннего детства (а Святослав, как увидим ниже, в летописном описании, составленном на основе устных преданий, несомненно – герой и богатырь). Можно провести многочисленные параллели в фольклоре, причем не только в русском – в «гиперболически раннем возрасте вступают на воинский путь герои-малолетки в различных эпосах: Михайло Игнатьевич и Саур в русских былинах, киргизский Манас, калмыцкий Джангар и его сын со своими сверстниками, узбекский Алпамыш, казахский Кобланди и его сын. Батыры-малолетки есть и в огузском, и в алтайском эпосах и в других»{130}. Вряд ли эпизод с метанием копья Святославом стоит вне подобной традиции.
Однако пойдем дальше. Итак, древлян победили и на поле боя. Летопись сообщает, что в панике они бежали и затворились в своих городах. И далее: «Ольга же устремилась с сыном к городу Искоростеню, так как именно те убили мужа ее, и стала с сыном своим около города, а древляне затворились в нем и крепко бились из города, ибо знали, что, убив князя, не на что им надеяться. И стояла Ольга все лето и не могла взять города. И замыслила так – послала к городу, говоря: „До чего хотите досидеться? Ведь ваши города все уже сдались мне и обязались выплачивать дань, и уже возделывают свои нивы и земли, а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода“. Древляне же ответили: „Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего“. Сказала же им Ольга: „Я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву в первый раз и во второй, а в третий раз мстила я, когда устроила тризну по своему мужу. Больше уже не хочу мстить, – хочу только взять с вас мало, заключив с вами мир, уйду прочь“. Древляне же спросили: „Что хочешь от нас? Мы готовы дать тебе мед и меха“. Она же сказала: „Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас мало: дайте мне от каждого двора по три голубя и по три воробья. Я не хочу возлагать на вас тяжкую дань, как муж мой, поэтому и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас мало“. Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: „Вот вы уже и покорились мне и моему дитяти. Идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город“. Древляне же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же, раздав воинам – кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать каждому голубю и воробью трут, завертывая его в платочки и привязывая ниткой к каждой птице. И когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи. И так загорелись где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не горело. И нельзя было гасить, так как загорелись сразу все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. И так взяла город и сожгла его, городских же старейшин взяла в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань. И возложила на них тяжкую дань».
В этом рассказе летописца древляне представлены несколько иначе. Они уже не лесные скоты, жрущие всякую гадость, живущие по соседству с цивилизованными полянами и обижающие их. У древлян, оказывается, есть крепкие города и возделанные нивы. По сей день внимание археологов привлекают десятки древних городищ – остатки древлянских городов, которые высятся по берегам Тетерева, Ужа, Случи и других рек бывшей Древлянской земли{131}. Среди них, конечно, выделяется Искоростень (его остатки ныне входят в черту города Коростень в Житомирской области Украины). Древний город возник путем слияния нескольких более ранних городищ{132}. Он располагался на высоких берегах реки Уж (высота над уровнем реки достигает 30 метров). В этом месте берега близко подходят один к другому, река прорезает высокую скалистую гряду, на которой и стоял город, состоявший из четырех укрепленных частей. Считается, что свое название город получил от слова «кар» – камень или гора. Со всех сторон поселения были защищены водой – рекой Уж, ее притоками и болотами{133}. Неудивительно, что Ольга так долго возилась с древлянским «Камнеградом» (точнее «Гранитоградом» – в советское время жители Коростеня очень гордились тем, что их гранитом облицован Мавзолей В. И. Ленина){134}.
Конечно, древляне кажутся примитивнее полян. Об этом свидетельствуют и результаты раскопок, проводившихся в конце XIX-XX веке в зоне расселения древлян. Археологов неизменно поражает бедность инвентаря их курганов{135}. Но все-таки, учитывая близость поселений древлян к Киеву (такую, что дружинники киевского князя во второй половине X века могли, отправившись на охоту, заехать в древлянские леса), не стоит слишком уж их принижать. Как правильно подметил еще в середине XIX века историк права И. Д. Беляев, древляне просто «развивались в своих формах, а не в тех, в которых развивались» поляне{136}. В летописном рассказе древляне выглядят даже симпатичнее, чем русы. Они честнее, их князья, в отличие от киевских князей, беспокоящих своими набегами сильных соседей и бессовестно обирающих слабых, стремятся к процветанию Древлянской земли, они верят в договоренности, что, по мнению киевлян, показатель глупости, и они как будто дружелюбнее (предлагают вдове Игоря выйти замуж за их князя){137}. В отличие от древлян русы во главе с Ольгой, как писал современник И. Д. Беляева Н. И. Костомаров, кажутся «зверской шайкой разбойников»: «Трупы и огонь, и опять огонь и трупы, и наконец, порабощение целого края! Для Ольги не существует ни великодушия, ни договора, ни обещания! Идеал самый дикий, самый варварский…»{138}
И вновь Ольга в рассказе о ее четвертой мести древлянам издевается над своими жертвами. Как мы видели, она заявляет древлянам, повторяя с необычной настойчивостью: «Больше уже не хочу мстить, – хочу только взять с вас мало… Прошу у вас мало…» и т. д. К чему этот повтор? Если вспомнить, что древлянского князя звали Мал, то можно понять игру слов Ольги: самую простую фразу она превратила в загадку. «Она снова не обманывала, добиваясь уже не мести, а гораздо большего. Ольга потребовала от древлян их князя – предводителя восстания, в данном контексте – всей их независимости, которую и искоренила полностью», – пишет А. С. Демин{139}. Поздние летописи проясняют судьбу Мала – после взятия столицы древлян он был убит по приказу Ольги{140}.
Упорство, с которым Ольга истребляет древлян, угнетает, многократность ее мщения кажется даже подозрительной. Возникает ощущение, что летописцу и самому не вполне понятны ни странное поведение древлян, ни противоречивость поступков Ольги.
Все крупные специалисты по начальному русскому летописанию справедливо признают, что четвертая «месть» Ольги была искусственно вставлена в летописный текст позднее появления там повествования о первых трех «местях» княгини. История с поджогом древлянского города грубо разорвала более ранний текст. В первоначальном варианте уже после страшной тризны по мужу Ольга возложила на древлян «тяжкую дань»{141}. История последней «мести» Ольги перед занесением в «Повесть временных лет» долго жила в качестве отдельного сюжета, причем сюжета «бродячего», широко известного в мировом фольклоре. Примеров тут можно привести много – от ветхозаветного Самсона, привязавшего горящие факелы к хвостам трехсот лисиц и выжегшего угодья филистимлян, до чешского предания о взятии Киева Батыем с помощью пылавших голубей{142}. Но в летописном повествовании этот сюжет встраивается в перечень «местей» древлянам. Как ладья, баня и тризна, дань птицами, полученная Ольгой с Искоростеня, является загадкой о смерти. Птица символизирует душу умершего – представление, возникшее из веры в то, что при сжигании трупа душа уходит в дым. Древляне, обрадовавшиеся легкой дани, которую на них возложила киевская княгиня, не поняли, что, требуя птиц с каждого двора, Ольга хочет получить жизни горожан{143}. Как известно, поджечь что-либо посредством птиц невозможно. Живший в XVIII веке историк И. П. Елагин отмечал, что «огненосные сии птицы далеко лететь не могли; ибо, или в длинных путаясь светильнях, или от воспаления перьев и ощущения жару исступления, низпадать долженствовали». Ему довелось быть свидетелем такого «опыта», произведенного, правда, над воронами: «Привязанный к ногам их огнь понуждает птицу, крутясь, вознестись на высоту, и упадать, почти на том же месте, откуда пущена была»{144}. Но Н. И. Костомаров отмечал существование и в его время рассказов о поджигателях, которые «ловят голубей и воробьев, привязывают к их ножкам трут, птицы летят в свои гнезда и производят пожар». Он сам слышал эти рассказы «от лиц, которых никак невозможно заподозрить в каком-нибудь знакомстве с русскими летописями»{145}.
Не только четвертая «месть» долго бытовала в народной среде, прежде чем быть занесенной в летопись. Каждая из трех предшествующих ей «местей» представляет собой законченный рассказ, не зависящий от других и существовавший когда-то в устном виде. Летописец собрал предания о столкновении Ольги с древлянами и внес их в свое повествование, постаравшись превратить взаимоисключающие предания в последовательное развитие одной истории. В «устных» рассказах Ольга мстила за Игоря «меньше», чем в письменном изложении. Но что из этого следует? А следует то, о чем писал еще Н. М. Карамзин: «Истинное происшествие, отделенное от баснословных обстоятельств, состоит, кажется, единственно в том, что Ольга умертвила в Киеве Послов Древлянских, которые думали, может быть, оправдаться в убиении Игоря; оружием снова покорила сей народ, наказала виновных граждан Коростена, и там воинскими играми, по обряду язычества, торжествовала память сына Рюрикова»{146}.
Рассказ летописей о событиях, произошедших после гибели Игоря в Русской и Древлянской землях, кажется, полностью противоречит той картине, которую нам рисует договор 944 года. Из летописей следует, что за Игоря мстит Ольга, поскольку Святослав, сын Игоря, якобы мал. Но где же другие упомянутые в договоре князья? Неужели нельзя было выбрать в это сложное время на роль вождя и мстителя более взрослого и более уважаемого князя? Согласно договору, выбор был богат – те же племянники убитого Игоря Игорь или Акун. Да и не в традициях русов было доверять дело кровной мести женщине! Как тут не вспомнить установления о мести князя Ярослава Мудрого: за убитого мстят брат за брата, сын за отца, или отец за сына, или сын брата, или сын сестры{147}. При чем здесь жена? Акун и младший Игорь после смерти дяди должны были выйти на первый план, если, следуя летописному преданию, признать Святослава неспособным к отмщению за смерть отца. Но ни об Акуне, ни о младшем Игоре в летописи более нет ни слова. Главным игроком на русском политическом поле в ближайшие десятилетия становится Ольга. Что нам известно об этой женщине до замужества с Игорем?
А известно о ней ничтожно мало. «Повесть временных лет» сообщает под 903 годом, что к Игорю привели «жену из Пскова, именем Ольга». Упоминавшаяся уже «Степенная книга» (напомню – поздний источник XVI века) называет родиной Ольги весь (село) Выбутскую под Псковом{148}. В. Н. Татищев, ссылаясь на загадочные Раскольничью и Иоакимовскую летописи, указывает как на родной город Ольги на Изборск{149}. Автор XIX века И. И. Малышевский предположил, что основанием для перенесения родины Ольги из Пскова на близлежащее от него село Выбутино послужила мысль, высказанная в Житии Ольги, содержащемся в Великих Четьях минеях митрополита Макария (составлены в 30-50-е годы XVI века), что во время женитьбы Игоря на Ольге города Пскова еще не существовало. «Степенная книга» развила эту мысль, сообщив, что Псков и был основан Ольгой, когда она уже стала христианкой{150}. Кроме того, в Никоновской летописи (тоже XVI век) сохранилось известие о Будутине – селе Ольги, в которое она сослала мать Владимира Малушу и которое, «умирая», завещала «Святой Богородице», то есть какой-то Богородичной церкви{151}. Поскольку ко времени появления Ольги на свет Пскова вроде бы еще не существовало, но зато в середине X века существовало Ольгино село Выбутино-Будутино, то она, следовательно, в нем и родилась{152}. Аналогично возникло и предложение об изборском происхождении Ольги (В. Н. Татищев считал, что «изборская» версия более правильная, так как «тогда Пскова еще не было»).
Между тем «псковская» версия как будто подкрепляется археологическими данными, согласно которым город Псков сложился к VIII веку – раньше Изборска{153}. Впрочем, и версия об Изборске (расположен в 30 километрах от Пскова), и версия о Выбутской веси помещают родину княгини в Псковской области. «Повесть временных лет» сообщает, что сани Ольги стоят в Пскове и поныне. Речь, вероятно, идет о сохранении псковичами этих саней как реликвии, в память о своей знаменитой землячке. В позднейшее время в окрестностях Пскова показывали и «Ольгин городок» (как называли в писцовых книгах село Перино близ Снетогорского монастыря), «Ольгин дворец» (другая деревня, там же), «Ольгины ворота», «Ольгины слуды» (рукав реки Великой с каменистым дном, слуда – подводный камень), «Ольгину гору», «Ольгин крест» и т. д.{154} А в одном из псковских синодиков (в списке XVI века) сообщалось даже о погребении Ольги в псковском Ивановском женском монастыре{155}. Я убедился, что и по сей день память об Ольге жива на Псковщине. Речь не идет о крестах и часовнях, установленных и построенных местными властями в память о княгине. Народ тоже помнит своих героев! В одном псковском ресторане мне довелось обнаружить в меню мясные рулетики «Древляне». Если вдуматься в соотношение названия и содержания блюда, то невольно приходит в голову мысль, что мрачный юмор в духе Ольги присущ и владельцам ресторана. Кстати, относительно качества продукта ничего не скажешь – рулетики были весьма вкусными. Мое одобрение заслужили еще салат «Арина Родионовна» и котлетки «Александр Невский».
Замечу, что, по версии «Степенной книги», происходившая из Выбутской веси Ольга была простой поселянкой, которую Игорь встретил на перевозе во время охоты{156}. Однако и это сомнительно. Тот же Малышевский писал, что вывод о низком социальном статусе Ольги был сделан летописцами из предположения о ее сельском происхождении: «Если Ольга происходила из села, то она и была поселянка, простая сельская девушка. Такой вывод поощрялся и тем, отмечаемым в житиях обстоятельством, что об именах отца и матери Ольги „нигде же писания изъяви“. Следовательно, это были люди безвестные, простые»{157}. Предания о «крестьянском» происхождении Ольги, о том, как она работала перевозчицей, и позднее существовали на Псковщине. Здесь мы, скорее всего, имеем дело с известным стремлением сказителей приблизить героя к слушателям, сделать его представителем их сословия. Большинство же летописных сводов сообщает о знатном происхождении Ольги или ограничивается простым упоминанием о ее браке с Игорем. «Степенная книга», представляя Ольгу бедной поселянкой, оказывается почти в полном одиночестве. Например, Ермолинская летопись (вторая половина XV века) называет Ольгу «княгиней от Пскова»{158}. Типографская летопись (первая половина XVI века) сообщает, что «некоторые» рассказывали, будто Ольга была дочерью Вещего Олега{159}. Известие о том, что Ольга была дочерью Олега, сохранилось и в Пискаревском летописце (первая четверть XVII века) и Холмогорской летописи (вторая половина XVII века){160}. А В. Н. Татищев со ссылкой на Иоакимовскую летопись (которую, кроме него, никто не видел) сообщает, что «егда Игорь возмужа, ожени его Олег, поят за него жену от Изборска, рода Гостомыслова, иже Прекраса нарицашеся, а Олег преименоваю и нарече во свое имя Ольга»{161}. В другом месте своей «Истории» Татищев добавляет, что Ольга была «внука Гостомыслова»{162}. Напомню, что Гостомысл – легендарный славянский старейшина, которому в ряде поздних летописей приписывалась идея приглашения Рюрика и его братьев на княжение. В Мазуринском летописце (80-е годы XVII века) сообщается, что Ольга была «правнукою» Гостомысла{163}.
Версия о псковском происхождении Ольги, которая на сегодняшний день практически общепринята в науке, не бесспорна. Трудно не согласиться с замечанием такого крупного советского историка, как Н. Н. Воронин, считавшего, что, несмотря на древность Пскова, «вряд ли нога Ольги ступала по его улицам»: «Еще в начале XI века Псков был для Киева своего рода Сибирью – местом прочной и далекой ссылки. Сюда еще в 1036 году Ярослав (Мудрый. – А. К.) заточил своего младшего брата Судислава»{164}. К тому же сама «Повесть временных лет» намекает на другую версию происхождения киевской княгини, сообщая, что после разгрома Древлянской земли Ольга возложила на древлян тяжкую дань: «две части дани шли в Киев, а третья в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом Ольгиным».
Что хотел сказать этим летописец? Ясно, что к моменту смерти Игоря и похода Ольги на древлян Вышгород принадлежал княгине, но почему? Он был ее родовым владением? Отметим, что значение Вышгорода в жизни Киевской Руси во все времена было велико. Город возник всего в 12-15 километрах от Киева и с самого начала представлял собой мощную крепость, которая позднее служила для защиты столицы Руси с севера. Подобное расположение Вышгорода по отношению к Киеву позволило ряду историков рассматривать его как некий «придаток», пригород «матери городов русских», «замок» киевских князей{165}. Вряд ли это справедливо, по крайней мере по отношению к X веку. По данным археологов, в это время территория Вышгорода была равна территории тогдашнего Киева. Город располагал детинцем (кремлем){166}. Вышгород являлся центром ремесла и торговли. О значении и силе этого города свидетельствует и упоминание «Вусеграда» в сочинении Константина Багрянородного наряду с другими крупнейшими городами – Смоленском, Любечем, Черниговом. Скорее правы те историки, которые склонны рассматривать Вышгород как независимый от Киева и, более того, какое-то время конкурирующий с ним центр{167}. И позднее, в XI веке, при князьях Владимире Святославиче и Ярославе Владимировиче, Вышгород оставался княжеской резиденцией. Здесь же по инициативе князя Изяслава Ярославича в 1072 году было осуществлено торжественное перенесение останков святых князей Бориса и Глеба{168}. Нередко во время военной угрозы князья укрывались в Вышгороде, крепость которого считалась, вероятно, более мощной, чем киевская{169}. Если признать Вышгород родиной Ольги, то ее брак с Игорем – князем киевским – будет выглядеть союзом двух княжеских семей Русской земли, союзом, укрепившим положение этой супружеской пары среди остальных князей русов.
Можно предположить, конечно, что Вышгород был передан Игорем Ольге. Но это сложнее – слишком богатым подарком выглядит город по меркам первой половины X века. Да и с чего вдруг делать такие подарки Игорю, который, судя по летописным сообщениям, был, мягко говоря, жадноват? А если город и был передан Ольге, то, учитывая, что княгиня владела Вышгородом и не жила в Киеве с Игорем, возникает явная параллель со знаменитой Рогнедой, одной из жен князя Владимира Святого. Охладев к этой полоцкой княжне, Владимир посадил ее с детьми сначала на Лыбеди, «где ныне стоит село Предславино», а после ее известного покушения на жизнь князя, по совету бояр, передал ей с сыном город Изяславль. Вероятно, существовал обычай наделения отвергнутых жен особыми владениями. Речь идет, разумеется, о женщинах из знатных семей, брак с которыми был важен для князя с политической точки зрения.
Обычай обеспечивать брошенных жен существовал у многих народов. Вот, например, в исландских сагах сообщается вроде бы о событиях конца X века: «В то время, когда Норегом правил ярл Хакон, Эйрик был конунгом в Свитьод… Конунг Эйрик взял в жены Сигрид Суровую и был их сыном Олав Свенский. Так говорят люди, что этот конунг хотел расстаться с королевой Сигрид и не хотел выносить ее вспыльчивость и высокомерие, и стала она королевой над Гаутландом. А конунг потом взял в жены дочь ярла Хакона. Ему наследовал его сын Олав»{170}. Что же выходит? Факт получения Ольгой от Игоря в управление Вышгорода свидетельствует о их разводе?! Тогда почему в момент гибели Игоря Ольга оказывается не в Вышгороде, а в Киеве, причем со своим сыном Святославом, местом княжения которого византийские источники называют загадочный «Немогард»?
Наше внимание не могут не привлечь устные предания об Ольге, собранные фольклористом Н. И. Коробкой в ходе поездок в Овручский уезд (где в древности жили древляне) в 1894-1895 и 1898 годах{171}. Этими преданиями было особенно богато местечко Искорость, и повествовалось в них, как это ни странно, об убийстве Ольгой своего мужа (!), которого рассказчики то называли Игорем, то оставляли безымянным. (Незадолго до появления в этих местах Н. И. Коробки через Искорость была проведена железная дорога, появилась станция «Коростень», давшая прежнее название позднее разросшемуся вокруг городу.) В одном из преданий говорилось о том, что Игорь купался в реке, а Ольга шла мимо с войском. Вид голого Игоря показался ей неприятным, и она велела убить купальщика. Князь пытался бежать, но люди Ольги настигли его и все-таки убили. На месте его могилы Ольга велела насыпать огромный курган. По другой легенде, Ольга убивает мужа, не узнав его в чужой одежде (он и переоделся-то, чтобы она его не узнала), потом труп был опознан княгиней по перстню на руке. В северной части уезда Н. И. Коробка записал предание, повествующее о споре супругов, в ходе которого Ольга убила мужа. Другое предание представляло собой рассказ о семилетней осаде Ольгой города, в котором укрывался ее муж (причем Н. И. Коробка записал неподалеку от села, где услышал это предание, другое, сходное, которое называло этот город Искоростенем). Супруг решил вырваться из осажденного города с помощью подземного хода, который прокопали аж до Киева, однако Ольга догадалась об этом, и когда беглец вышел из подкопа, его убили. Н. И. Коробка отмечал, что предания о войне Игоря и Ольги и убийстве ею мужа очень распространены в Овручском уезде. Бывает, супруги выступают во главе двух огромных враждебных армий. Иногда их называют «граф» и «графиня», а в ряде случаев коварную жену, которая «отрубила голову мужу» и «воевала с князьями», зовут Катериной{172}.
Крестьяне охотно показывали и Н. И. Коробке, и приезжавшим до него в эти места Н. И. Мамаеву (в 1871 году) и Н. Вербицкому (в 1854 году), а также побывавшим у них еще раньше, в конце 1830-х годов, чиновникам Губернского статистического комитета колодцы, из которых Ольга якобы пила, продвигаясь с войском по земле древлян, или которые выкопали по ее приказу, водоемы, в которых княгиня купалась после захвата Искоростеня, и, самое главное, огромные холмы, каждый из которых крестьяне ближайшего села выдавали за курган, насыпанный Ольгой над могилой Игоря. А еще путешественники и чиновники видели «Ольгину ванну» (другое название – «Ольгина купальня»), «Ольгину долину», «Игорев брод», «Ольгину гору», «Ольгин колодец» и т. д.{173} Н. И. Коробка решительно отметал предположение о книжном влиянии на эти крестьянские истории. «Овручские сказания об Ольге сводятся к поискам и убийству ею мужа, – писал он. – Книжный источник, который дал бы основания такой версии, неизвестен, между тем, для того, чтобы оказать влияние на целый ряд топографических сказаний, разбросанных на расстоянии почти 150 верст, этот источник должен был бы быть весьма распространенным»{174}. О существовании овручских легенд задолго до прихода в эти места учебников по ранней русской истории свидетельствует то, что еще в 1710 году, когда В. Н. Татищев шел «из Киева с командой», при городе Коростене местные жители показывали ему «холм весьма великий на ровном месте близ речки», который назывался «Игоревой могилой»{175}. Следовательно, предания об «Игоревой могиле» существовали в этой местности, самое позднее, в начале XVIII века, а сложились, наверное, гораздо раньше.
Можно, конечно, относиться к подобного рода преданиям скептически{176}. При разбросанности преданий об убийстве Ольгой мужа на расстоянии почти 150 верст судить о их, если так можно выразиться, «достоверности» сложно. Но нельзя не сказать и о другом. Часто исследователи проверяют достоверность сообщений фольклорных источников, сравнивая их с дошедшими до нас письменными источниками. Путь этот не самый удачный. Как мы уже убедились, в основе самих летописных сообщений, в частности рассказа об убийстве Игоря древлянами и мести за него Ольги, также лежат устные народные предания. Некоторые из них известны в эпосе многих народов и представляют собой «бродячие» эпические сюжеты. В целом же большинство преданий, попавших в нашу начальную летопись, первоначально существовали при каком-нибудь материальном памятнике (могиле, кургане, рве, развалинах, церкви и др.), сохранившемся, как пишет летописец, «до сего дня». Материальный памятник служил своеобразным подтверждением «достоверности» предания. Например, рассказ о сохранении саней Ольги в Пскове служил доказательством факта поездки княгини на север. Летописец настолько доверял собранным им «краеведческим» материалам, что вносил в летопись даже те легенды, которые возникли в результате пояснения местного топонима{177}. Наряду с преданиями об Ольге, занесенными в летописи, известны такие же, но устные предания о княгине, дожившие до XIX века. Это разбросанные по различным местностям легенды о городах, основанных Ольгой, о местах, где она останавливалась, о ее селах, о воздвигнутых ею крестах, построенных часовнях, церквях и т. д. Летописные сюжеты о сожжении города птицами, о санях Ольги и другие сохранялись в устных вариантах также до XIX века. Все они, как и летописные предания, приурочены к какому-либо материальному памятнику. К такому типу преданий примыкают и те, что рассказали Н. И. Коробке жители Овручского уезда. Выходит, что оснований, для того чтобы считаться достоверными, у преданий Н. И. Коробки не меньше, чем у летописных. Мне могут возразить, что летописные предания были записаны достаточно рано и поэтому они более «качественные», чем устные. Однако прежде чем войти в состав летописей, эти предания долго существовали в устном виде. Летописцы вносили их в своды постепенно, по мере собирания. Так, у летописцев появилось несколько версий о месте, где был похоронен легендарный Вещий Олег. С устными преданиями полемизирует летописец, рассказывая о княжеском происхождении еще более легендарного Кия и т. д. Летописцы продолжали доверять устным преданиям об Ольге и позднее, в XIV, XV и XVI веках. Эти предания вошли в «Степенную книгу» и житийную литературу, в позднее летописание и часто используются историками в качестве источника, несмотря на многовековое существование в устном варианте.
Справедливости ради замечу, что ни Н. И. Мамаев, ни Н. Вербицкий, проезжавшие по Овручскому уезду за несколько десятилетий до Н. И. Коробки, ни тем более В. Н. Татищев не знали преданий об убийстве Ольгой Игоря. И это притом что, как пишет сам Н. И. Коробка, «народные предания, известные г. Вербицкому, переданы им не целиком, а в пересказе, и притом так переплетены с собственными учеными домыслами и сведениями, почерпнутыми из книжных источников, что не всегда можно решить, где кончается народное сказание и где начинается домысел автора»{178}. Надо думать, что если бы Н. Вербицкому довелось услышать что-нибудь из записанного Н. И. Коробкой, он не преминул бы вставить это в свои заметки. Так же поступил бы и В. Н. Татищев, известный своей тягой к эксклюзивной информации по древнерусской истории. Выходит, или что-то изменилось в этих преданиях во время между поездками Н. Вербицкого и Н. И. Коробки, или первый из них не «услышал» того, на что обратил внимание второй. Возможно, прав М. К. Халанский, который был согласен видеть в преданиях об Ольге Овручского уезда «важный для истории древнерусского эпоса факт устойчивости древней эпической традиции среди малорусского населения, а не результат позднейшего внесения в народную безграмотную массу преданий об Ольге и Игоре» и в то же время считал, что в этих преданиях «образ Ольги представляется понизившимся, огрубевшим: на месте верной и любящей супруги Игоря летописей овручские предания ставят враждующую с мужем жену, неумолимую преследовательницу мужа – результат продолжительной жизни поэтических сказаний об Ольге и Игоре в народной среде и влияния других поэтических мотивов и образов, примыкавших к старым эпическим мотивам и представлениям»{179}. Но не стоит исключать и того, что крестьяне могли «подыграть» Н. И. Коробке, заметив его интерес к предмету. Тем более что он был далеко не первый, кто расспрашивал их об Игоре, Ольге, Мале и т. д. По описанию Н. И. Мамаева, Овручский уезд – «самый бедный, самый неплодородный во всей губернии. Большая часть его покрыта лесами и болотами, из которых извлекают железную руду»{180}. Местные рассказчики могли что-то выдумать, желая подогреть интерес слушателя к своему рассказу, надеясь на вознаграждение. Наконец, рассказывая Н. И. Коробке предания об Игоре и Ольге, крестьяне могли просто перепутать Игоря и Мала, сватавшегося к Ольге. Правда, Мал не был мужем Ольги, но мотив поисков Ольгой мужа, охоты за ним с целью убийства также показателен. Задача скрыться – одно из классических испытаний жениха в эпосе. То, как может измениться предание с течением времени, долго оставаясь в народной среде, видно и из другого примера: в 1859 году путешествовавшего по Псковской губернии П. И. Якушкина поражал своими оригинальными сведениями из русской истории псковский мещанин А. Ф. Поляков. Рассказав сначала о неудачном сватовстве к Ольге какого-то князя Всеволода, рассказчик заявил, что потом все-таки Ольга «пошла за князя замуж, только не за Всеволода, а за неизвестного какого», ведь в те времена «много князей было, и всякий своим царством правил, а все между собой родня были, и все промеж себя воевали: хотелось всякому у другого царство его отнять». Так же авторитетно Поляков сообщил своему слушателю, что мужа Ольги убил его двоюродный брат{181}. Думается, не стоит выискивать в путаном рассказе псковского мещанина зерна исторической правды, не нашедшей отражения в летописи. Сходная путаница могла возникнуть и у крестьян Овручского уезда, с которыми общался Н. И. Коробка. Так что искусственно накалять отношения Ольги и Игоря, превращая княгиню в мужеубийцу, ни к чему. Что же касается вопроса о способе приобретения Ольгой Вышгорода, то окончательный вывод сделать вряд ли удастся – мало информации. Мы можем только утверждать, что Ольга, происходившая из знатного рода (северного или южного), была не только вдовой Игоря, но и самостоятельной правительницей этого города, что, несомненно, усиливало ее позиции среди других русских князей{182}.
И князьям, родственникам Игоря (Акуну и Игорю-младшему), и другим русским князьям, недовольным результатами войны с Византией, и воеводам-вожакам, вроде Свенельда, и древлянам во главе с Малом пришлось иметь дело не с младенцем, которому можно сделать «все что захотим», и не с простушкой, встреченной Игорем где-то «на перевозе». Нет, этим двум литературным персонажам Киев в тех условиях было не удержать. Другое дело – реальные Ольга и Святослав – княгиня, происходившая из знатного русского рода, владевшая мощным Вышгородом в непосредственной близости от Киева, и ее взрослый сын – князь «Немогарда». Вот они-то и закрепились в Киеве, поставив на место оппозицию (кого-то силой, а кого-то переговорами). С именем Ольги летописцы связывали и устроительную деятельность на благо Руси.
Разграбив землю древлян, уничтожив сопротивлявшихся, отдав в рабство покорных, Ольга решила заставить платить дань тех, кто не попал в эти две категории, и пошла, как сообщает летопись, «с сыном своим и с дружиною по Деревской земле, устанавливая распорядок сборов и повинностей. И сохранились становища ее и места для охоты до сих пор. И пришла в город свой Киев с сыном своим Святославом и побыла здесь год». В летописной заметке, посвященной событиям следующего года (в лето 6455, то есть 947-е), говорится: «Отправилась Ольга к Новгороду и установила погосты и дани по Мете и оброки и дани по Луге. Ловища ее сохраняются по всей земле, следы и места ее пребывания, и погосты, а сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру есть места для ловли птиц, и по Десне, и есть село ее Ольжичи и до сих пор. И так, установив все, возвратилась к сыну своему в Киев и там пребывала с ним в любви».
Ольга провела очень полезные мероприятия. Судя по тому, как действовал в земле древлян Игорь, можно подумать, что русские князья до Ольги брали, сколько им вздумается, приходили за данью, когда вздумается, и это могло им сойти с рук, если с ними было достаточно дружинников. Как отметил Н. И. Костомаров, «у Ольги разбойный наезд стал заменяться подобием закона»{183}. Золотые слова! И рассказ замечательный! Ольга знает не только «кнут», но и «пряник». Дескать, вы погорячились (убили Игоря), и мы погорячились (закопали, сожгли, перерезали, распродали в рабство, вчистую разорили), но теперь Киев переходит в отношениях с данниками на цивилизованную основу – конкретные размеры поборов, определенные места стоянок, укрепленные острожки с постоянным гарнизоном, четко намеченные места для охоты и ловли птиц, всякие другие «следы» и «места»{184}. Невольно на ум приходит императрица Екатерина II с ее губернской реформой, также начатой после «бунта бессмысленного и беспощадного» – пугачевщины.
В этих мероприятиях матери принимал участие – пусть и пассивное – Святослав. Летописец продолжает считать его младенцем, поэтому Ольга, реформировав Древлянскую землю, отвозит мальчика в Киев и только через год приступает к новому этапу преобразований. Значит, источником информации о преобразованиях княгини вновь служит фольклор. Или летописец пытается придумать для Святослава хоть какую-то роль во всех этих событиях? Вот его и возят туда-сюда.
Кстати, о поездках «туда-сюда». Ольга, по существу, производит два года подряд одни и те же действия – отличие только в месте, где происходят события. Сначала это только земля древлян. Потом Ольга уходит в Киев. В следующем году она сначала едет к Новгороду, оттуда отправляется на Мету (река на восточных окраинах Новгородской земли), потом перебирается на Лугу (крайний северо-запад Новгородчины, река впадает в Финский залив). Можно подумать, что ее распоряжения относились только к этим двум окраинам, а не ко всей Новгородской земле. Или все-таки княгиня охватила своими преобразованиями весь регион? И сани свои она оставила в Пскове, но что делала в этом городе, неясно. И при чем здесь Псков? Новгород – это район расселения словен ильменских, а Псков – кривичей. В X веке они слабо связаны между собой{185}. Неясно и почему по Мете княгиней основаны «погосты и дани», а по Луге «оброки и дани»? А далее следы ее деятельности в изложении летописи приобретают совсем хаотический характер. Бросив сани в Пскове, она затем устанавливает места для ловли птиц «на Днепре» (где конкретно?) и «на Десне» (?). В рассказе всплывает еще какое-то село «Ольжичи». Наконец княгиня возвращается в Киев, чтобы «пребывать в любви» с сыном.
Сообщение летописи о путешествии Ольги к Новгороду весьма интересно. Дело в том, что «Повесть временных лет», кроме этого случая, более не сообщает ни о каких контактах Киева с Новгородом до 70-х годов X века. Как уже говорилось в первой главе, само существование этого города до середины века подвергается специалистами сомнению. (Можно, конечно, сослаться на сообщение Константина Багрянородного о княжении Святослава в «Немогарде», но в первой главе мы уже определяли идентификацию этого города в качестве Новгорода как спорную.) Впрочем, ничего окончательно утверждать нельзя{186}. Считаю уместным привести здесь некоторые соображения А. А. Шахматова, высказанные еще 100 лет тому назад. Он обратил внимание на знание летописцем пограничных рек Новгородской земли, равно как и знание северных достопримечательностей вообще (тот же рассказ о санях Ольги в Пскове). Исследователь сделал вывод: сообщение о деятельности княгини на Мете и Луге появилось не в Киеве. По мнению Шахматова, в основе «Начального свода» (составленного около 1095 года в Киеве и предшествующего «Повести временных лет») лежал некий «Древний Новгородский свод» 1050 года, но новгородец, составлявший этот свод, имел в своем распоряжении более раннюю киевскую летопись (Шахматов называл ее «Древнейшим Киевским сводом» 1039 года). И вот новгородский летописец, прочитав в своем киевском источнике об устройстве Ольгой «Деревской земли», «предположил, что дело идет о посещении Ольгой той части Новгородской области, которая носила название Деревской земли, или просто Дерев, а позже Деревской пятины. Это его предположение имело следствием вставку о погостах, данях и оброках по Мете и по Луге, то есть по тем двум водным путям, которые, сходясь около Новгорода, служили средством сообщения центра (Новгорода) с его областью»{187}. В подтверждение высказанного положения Шахматов привел фразу из Жития Ольги в составе упоминавшейся уже неоднократно «Степенной книги»: «И пошла Ольга с сыном своим и воинством по Деревской земле, определяя повинности, порядок сбора и места для охоты. Некоторые же говорят, будто Деревская земля была в области Великого Новгорода, именуемая ныне Деревской пятиной; другие же считают, что это Северская земля, где Чернигов град». Отсюда следовало: «Так гадали в XVI веке на северо-востоке, а в XI веке Новгороду было естественно принять Деревскую землю Приднепровья за свою Деревскую землю. На отождествление это наводило и то обстоятельство, что Новый Торжок, находившийся на южной оконечности Деревской земли, в глубокой древности… назывался Коростенем». А. А. Шахматов отметил и то, что «в расстоянии 40 верст от Новгорода на юго-западном берегу озера Ильменя, по дороге из Новгорода в Старую Руссу, имеется село Коростынь», и это обстоятельство также привело к появлению в некоторых поздних летописях сообщения: «И убили Игоря вне града Коростеня, близ Старой Руссы, тут же и погребен был»{188}. Выходит, что фразу «отправилась Ольга к Новгороду» следует считать «пояснением, сделанным уже составителем Начального свода», который, в свою очередь, использовал «Древний Новгородский свод». «Так это и вошло в „Повесть временных лет“, которая, в отличие от своих летописных сводов-предшественников, дошла до нас. В „Древнем Новгородском своде“, лишенном дат, непосредственно за сообщением об обходе Ольгой Деревской земли читалось „и установила погосты и дани по Мете…“» и т. д.{189} Так как же звучал первоначальный вариант текста? В нем ничего о походе к Новгороду сказано не было{190}. От фразы о том, что княгиня, «установив все, возвратилась к сыну своему в Киев», также следует отказаться – Ольга, получается, никуда и не отправлялась.
Вернемся к поставленному выше вопросу. Отчего по Мете княгиней основаны «погосты и дани», а по Луге «оброки и дани»? Известный историк права середины XIX века И. Д. Беляев попытался с опорой на Русскую Правду и другие памятники права Киевской Руси разрешить этот запутанный и в какой-то степени юридический вопрос. Получилось, что «оброк» – это определенные, «назначенные в известные сроки, платежи за пользование пахотной землей, рыбными ловлями, лугами, бортными урожаями и другими угодьями. А по сему ежели Ольга учреждала по Луге оброки, то значит, что в этом крае новгородцами ей были уступлены разные земли и угодья, которые она, не находя удобным, а может быть и не имея права содержать своими людьми, отдавала в оброчное содержание тамошним жителям за известную плату или оброк… По свидетельству писцовых Новгородских книг, погостами в Новгородском крае называли определенные административные единицы деления Новгородских земель, состоящие из нескольких сел, деревень, слобод и рядков, имевших одну центральную управу, относительно раскладки и сбора общественных податей; т. е. погостами в Новгороде называлось именно то, что в других краях Руси носило название волостей или станов. Это значение Новгородских погостов показывает, что учреждать, назначать погосты, то есть делить землю на определенные известные единицы для удобнейшей и правильной раскладки податей, с назначением центров для управы, имел право только тот, у кого область была в непосредственном распоряжении, кто держал ее своими людьми, то есть управлял ею через своих поверенных, но не населял своими поселенцами. А посему теперь понятно свидетельство летописи, что Ольга по Мете учредила погосты, но не назначала оброков. Этот край новгородцы отдали в непосредственное управление Ольге, через ее мужей, они поступились Ольге держать Мету своими мужами, а не новгородскими, но не дали ей в том краю земель, которые бы она могла отдавать в обратное содержание»{191}.
Ну что же, все вполне логично, хотя так и осталось неясным, почему «Ольга в 947 году получила от новгородцев земли по Мете и Луге с различными правами на владение»{192}. Кроме того, сомнительно, чтобы эти нюансы отразились в каких-то юридических памятниках X века. Скорее всего, новгородец X века перенес реалии своего века на события столетней давности. Он знал о походе войск Ольги в «Деревскую землю», спутал ее с Новгородской землей и, зная о том, что Ольга что-то реформировала, приписал ей учреждение существовавших при нем «оброков» и «погостов», которые реально складывались в течение длительного времени. Далее он или позднее киевский летописец дополнил это сообщение устными краеведческими материалами о следах деятельности Ольги «по всей земле», по Днепру и Десне, о ее санях в Пскове, о ее селе Ольжичи, добавив вполне в духе традиции, что все это сохранилось «до сих пор». Текст, внесенный в летопись под 947 годом, оказывается сводкой сведений и историй об Ольге, подобных записанным Н. И. Коробкой рассказам о ее «ваннах» и «колодцах». Только истории о «санях» и «погостах» Ольги были собраны значительно раньше и успели в XI веке войти в летописание. Удивительно, что в тексте «Повести временных лет» перечислено так мало мест, где сохранились «следы» пребывания и деятельности княгини. В позднем летописании, например, встречается предание о ее пребывании в Полоцкой земли и даже об основании ею Витебска{193}. А по свидетельству Т. Каменевича-Рвовского, еще в XVII веке в Ярославской области один большой камень на берегу Волги, в версте от устья Мологи, именовался «Ольгиным»{194}.
Вполне в духе устного предания вся деятельность Ольги по обустройству земли сведена к одной поездке и отнесена к одному году{195}. Здесь проявилось стремление летописца упростить историю организации на Руси погостов, приписав всю реформу одному человеку – Ольге. Любопытно, что примерно так же летописец ранее попытался изобразить процесс подчинения славянских племен Киеву как результат деятельности одного Вещего Олега, хотя этот процесс растянулся на несколько столетий. Так было проще{196}. Итак, великая податная, административная, хозяйственная и т. д. реформа Ольги перестает существовать. Остались все те же устроительные мероприятия, произведенные княгиней в опустошенной Древлянской земле. И это обидно. Вместе с историей реформы Ольги исчезли те крохи информации, которые были в летописи о Святославе в 940-х годах. Мы вновь о нем ничего не знаем. Вернее, «Повесть временных лет» ничего не знает о нем в этот период времени. Для летописца он – младенец, и писать о нем нечего. Мы, в отличие от летописца, знаем, что он взрослый, но и нам также писать нечего. Нет фактов. Кто же все-таки стал править в Киеве после Игоря? Его сын Святослав? Или его вдова Ольга? Принимать всерьез заголовок, сделанный летописцем перед историей похода Ольги в Древлянскую землю («Начало княжения Святослава, сына Игоря»), не стоит. Мы опять здесь имеем дело с поздней искусственной вставкой{197}. Именно Ольга подавляет восстание древлян и наводит порядок в их земле. Но можно понимать и так, что она это делает, поскольку Святослав еще мал. Такова логика летописного повествования. Исследователи часто эту логику принимают, потому и существует в научной литературе устойчивое представление о том, что Ольга была регентшей при малолетнем сыне до его совершеннолетия{198}. Но так ли это? Напомню, что древляне, убив Игоря, рассуждали следующим образом: «Вот убили мы князя русского, возьмем жену его за князя нашего Мала, и Святослава возьмем и сделаем с ним, что захотим». Что могли захотеть сделать древляне с сыном ненавистного им Игоря? Вероятно, убить. Если бы Ольга держалась в Киеве только именем Святослава, то зачем древлянам, которые хотели выдать Ольгу замуж за своего князя, выбивать опору у нее из-под ног? С другой стороны, если бы она была не регентшей, а киевской княгиней, то уничтожение Святослава в случае женитьбы Мала на Ольге было бы логичным. Зачем было оставлять в живых сына ее прежнего мужа? Судя по летописному рассказу, древлян интересовала именно Ольга, а не ее сын. Сообщение летописи о малолетстве Святослава порождено стремлением древнерусских книжников построить «четкую» историю княжения «Рюриковичей» на Руси: Рюрик, Игорь, Святослав, Владимир и т. д. Между тем у нас есть все основания считать, что Ольга изначально заняла киевский стол как княгиня. Посмотрим, что летописи сообщают о ней и Святославе в 950-х годах.
До середины XI века в летописном повествовании часто встречаются записи типа: «Знамение змиево явилось на небе, и видно его было отовсюду». И это относительно целого года (1028-го)! Или под следующим годом: «Мирно было». Неужели ничего более на Руси в эти годы не случилось? Или летописец не знал больше? Или не хотел писать о чем-нибудь? О X веке и говорить не приходится. Ольга в 947 году «пребывает в любви с сыном» в Киеве, а о последующих семи годах вообще нет ни слова. Проставлены пустые даты, без обозначения событий. Только под 955 годом сообщается, что Ольга отправилась «в Греческую землю и пришла к Царьграду». Впрочем, все это объяснимо. Как уже говорилось выше, в первоначальном летописном тексте дат не было, шел единый рассказ, разбитый по годам позднее, при переписывании в очередной свод. Летописец знал о подавлении восстания древлян, о поездке Ольги в Константинополь и описывал эти события одно за другим{199}. Тот, кто позднее проставил в летописи даты, знал, что Ольга посетила Константинополь в середине 950-х годов. Исходя из этого, он и поставил дату. Так между известными событиями и получился разрыв в семь лет. Интересно другое – главным действующим лицом вновь оказывается Ольга, а не Святослав.
Летопись сообщает: «Направилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И царствовал тогда царь…» Тут в разных вариантах «Повести временных лет» расхождения – в Лаврентьевской летописи этот царь – Иоанн Цимисхий (вступивший на престол в 969 году, но хорошо известный русским летописцам по русско-византийскому договору 971 года), а в Радзивиловской и ряде других – Константин Багрянородный (который в это время действительно занимал византийский престол). Скорее всего, мы имеем дело с очередной вставкой. В народном предании, записанном позднее в летописи, действовал какой-то безымянный царь. К этому-то царю и явилась Ольга. «…И увидел царь, что она прекрасна лицом и разумна, удивился, беседуя с ней, ее разуму, и сказал ей: „Достойна ты царствовать с нами в столице нашей“. Она же, уразумев смысл сказанного, ответила царю: „Я – язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам. Иначе не крещусь“. И крестил ее царь с патриархом…»{200}
В столице Византии встречаются два мудрейших человека своего времени – царь ромеев Константин VII Багрянородный и русская княгиня Ольга. Кажется, им было о чем поговорить, но, по мнению летописца, Ольга интересует ученого императора исключительно как женщина. Выше уже говорилось о надуманности всего этого эпизода{201}. Летописец считал, что иными отношения княгини и императора и быть не могли. Это дань известному стереотипу в описании Ольги, которая как будто только и попадала в своей жизни в ситуации сексуального домогательства то со стороны древлянского князя, то византийского императора. Можно сопоставить этот эпизод и с упоминавшимся уже сказанием «Степенной книги» о первой встрече Игоря с Ольгой во время охоты, когда князь также попытался овладеть приглянувшейся ему перевозчицей, однако встретил отчаянное сопротивление{202}.
Ольга в этом сказании покоряет Игоря своей премудростью, нравственной чистотой и силой. Вообще, премудрость – еще одна из черт ее летописного образа (наряду с сексуальной привлекательностью, мстительностью и своеобразным чувством юмора). И это не случайно. Ведь Ольга – будущая христианка, а христианин, в представлении летописцев, всегда должен быть мудрее язычника. Ольга как будто с рождения готовилась к тому, чтобы креститься, а позднее стать святой. Вот и столкнувшись с домогательствами царя греков, будущая святая поучает разошедшегося василевса. После того как произошло крещение и киевская княгиня получила имя Елены (по мысли летописца – в честь святой Елены, матери римского императора Константина Великого), действующий император ромеев Константин Багрянородный призвал ее к себе и заявил: «Хочу взять тебя в жены себе». Она же ответила: «Как же ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А христианский закон этого не допускает – ты сам знаешь». И сказал царь: «Переклюкала (перехитрила. – А. К.) ты меня, Ольга». «И дал ей многочисленные дары, золото и серебро, и паволоки, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своей дочерью». Ольга здесь вновь – неукротимая невеста, а император – очередной неудачливый жених, не сумевший разгадать ее задачки. При этом Константину VII, оказывается, мало было быть единожды обманутым киевской княгиней, он не терял надежды что-нибудь добиться от новой христианки и прислал к ней в Киев послов со словами: «Много даров дал я тебе. Ты же обещала: когда возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе: рабов, воск и меха и воинов на помощь». «И отвечала Ольга, обратившись к послам: „Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда тебе дам“. И, сказав это, отпустила послов»{203}.
Опять очень смешно! Конечно, для читателя, способного сопоставить гавани в заливе Золотого Рога (по-русски «Суд») в Константинополе и на Почайне у киевского Подола и представить, как блестящий василевс ромеев, относившийся ко всем соседям империи с величайшим презрением, а к русам еще и с ненавистью, ожидает приема близ киевской пристани. Подобная фантазия не могла не развлечь киевлянина, жившего на окраине тогдашнего обитаемого мира. Всегда приятно утереть нос столичной штучке. Жизнь в провинции, как известно, скудна на яркие впечатления. Так хотя бы помечтать…
События развиваются в рамках всё той же фольклорной традиции. Однако в истории крещения Ольги присутствует не только очередной незадачливый претендент на руку княгини, но и ее сын Святослав. Еще будучи в Константинополе, Ольга после крещения нанесла визит патриарху и заявила ему: «Люди мои – язычники, и сын мой – тоже. Да сохранит меня Бог от всякого зла». И отвечал ей патриарх: «Чадо верное! В Христа ты крестилась, и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя, как сохранил Еноха в древнейшие времена, а затем Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Лота от содомлян, Моисея от Фараона, Давида от Саула, трех отроков от печи, Даниила от зверей, – так и тебя избавит он от дьявола и от сетей его». «И благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою землю и пришла в Киев». Здесь, в Киеве, Ольгу уже ждал Святослав. Ольга начала склонять его к принятию крещения, «но он пренебрегал этим и не принимал в уши. Но если кто желал креститься, то не запрещал, а насмехался над ним. „Ибо для неверующих вера христианская юродство есть“. „Ибо не знают, не разумеют те, что ходят во тьме, и не ведают славы Господней“. „Огрубели сердца их, с трудом уши их слышат, а очи видят“».
Ольга не теряла надежды и продолжала убеждать Святослава: «Я познала Бога, сын мой, и радуюсь, если и ты познаешь – будешь радоваться». «Он же не внимал этому, отговариваясь: „Как мне одному принять новую веру, а дружина моя станет над этим смеяться?“ Она же сказала: „Если ты крестишься, то и все сделают то же“. Он же не послушался матери, следуя обычаям языческим, не ведая, что кто матери не послушает – в беду попадет. Как сказано: „Если кто отца или матери не послушает, то смерть примет“. Он же за это гневался на мать…» (Мрачное пророчество – позднее сбывшееся.) Но Ольга любила своего сына Святослава и говорила ему: «Да будет воля Божья. Если захочет помиловать Бог род мой и народ русский, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». «И, так говоря, молилась за сына и за людей каждую ночь и каждый день, воспитывая сына до его возмужания и совершеннолетия».
В этом летописном отрывке есть очевидное противоречие. Святослав – предводитель собственной дружины, с мнением которой он считается, но которая, по мнению Ольги, пойдет за своим князем куда угодно – даже креститься. Он гневается на мать, что недостойно сына и заслуживает сурового наказания. Подобный грех мог совершить только взрослый. Но тут же летописец говорит, что Ольга воспитывала сына до его совершеннолетия. А ведь после гибели отца, по летописному счету, минуло уже десять лет, мальчик должен был вырасти. Правда, если мы вспомним, что даты были вставлены в уже готовый текст, и уберем из летописи «разбивку» по «летам», то все встанет на свои места – Ольга пребывает в Киеве в любви с сыном, потом едет в Царьград (предание не разделяет эти события годами, которые нечем заполнить, летописцу важна динамика изложения), а вернувшись, продолжает заботиться о сыне.
Перед нами впервые летописный текст, в котором сделана попытка представить характер реального Святослава – убежденного язычника и дружинного вожака. За этот отрывок исследователю можно было бы и ухватиться, если бы его содержание и представленные в нем типажи так не напоминали эпические образы удалого богатыря Васьки Буслаева и его матушки «матерой вдовы» Амелфы (или Мамелфы) Тимофеевны. Оставшись вдовой с малолетним сыном, она не идет замуж вторично, смотрит за порядком в доме, ведет дела покойного мужа, пока вырастает сын, сберегает для него мужнее богатство, выручает сына из опасных ситуаций, в которые его заносят молодецкая удаль и похвальба, но от личного участия в важнейших делах по возможности уклоняется, отговариваясь все тем же вдовством. Как тут не вспомнить Ольгу, покинувшую пир с древлянами перед началом страшной резни, устроенной по ее же приказу, обустраивавшую доставшиеся ей владения, отказавшуюся от брака с самим императором и т. д.{204} Отправляясь на подвиги, удалец берет у своей матери благословение, а, например, Соловей Будимирович везет с собой матушку на корабле аж из-за моря. Неугомонный Василий Буслаев (по характеру весьма похожий на летописного Святослава), способный объявить войну всему Новгороду (как позднее Святослав, решившийся на войну с Византийской империей – можно сказать, со всем миром) и ничего не боящийся, быстро усмиряется своей матерью. Такая «матера вдова» необходима в былинах, ведь в них так мало внимания уделяется семейному быту героев. Об отцах богатырей – Добрыни и Василия Буслаева – ничего не известно, они, видно, давно умерли. Исследователи даже находят в этом какие-то пережитки матриархата и счета родства по материнской линии{205}. Летописное повествование как бы продолжает цикл преданий о детстве и взрослении героя, Святослава. Должно вот-вот наступить время начала богатырских подвигов, но в момент крещения матери оно еще не настало – князь тешится со своими ребятами-дружинниками, раня сердце матушки. Ему тоскливо от бродящей в нем силушки, тесно в родном городе, скоро-скоро он вырвется на простор…
Что же у нас опять осталось от летописного сообщения? Смутные впечатления от крещения Ольги и отношения к этому Святослава, которые сохранились у летописца, знакомого с устными преданиями. Мы вновь не можем понять – кто правит в Киеве? Святослав давно взрослый, он сын Игоря, но из «Повести временных лет» неясно, стоит ли за Святославом кто-то, кроме его дружины. Промелькнувшие в договоре 944 года князья никак себя более не проявляют. Что сталось с ними? Историк права С. В. Юшков высказывал предположение, что Ольга ликвидировала не только Мала, но и всех прочих князей, – это он считал одним из основных мероприятий княгини середины 40-х годов X века. Взамен и была создана «прочная, непосредственно связанная с центром местная финансовая администрация»{206}. Но здесь все спорно. О прочной финансово-административной системе управления Русью, якобы созданной Ольгой, речь уже шла. О князьях – еще впереди. К счастью, кроме летописей у нас есть и другие источники, в которых сохранилась информация о Руси 950-х годов, о визите Ольги в Константинополь и о ее крещении.
Константин VII Багрянородный сохранил описание приемов «Эльги, архонтиссы Росии», в составе еще одного своего ученого трактата – «О церемониях византийского двора». Если «Повесть временных лет» относит визит Ольги к 955 году, то непосредственный участник событий, император Константин, сообщает, не указывая года, что он принимал Ольгу в Константинополе в среду 9 сентября и воскресенье 18 октября. Это значит, что приемы состоялись в 957 году, так как именно в этом году 9 сентября приходилось на среду, а 18 октября – на воскресенье. Получается, летописец не сильно ошибся{207}.
Не все обстоятельства встречи Ольги и Константина получили освещение в его трактате. Мы не знаем, сколько времени Ольге пришлось ждать приема ее посольства василевсом ромеев. Наверное, долго. В Константинополе вообще любили томить иностранных послов ожиданием, еще раз подчеркивая значимость происходящего. Как тут не вспомнить сообщение епископа Кремоны Лиутпранда, посла непризнанного Византией «римского» императора Оттона I Великого! Прибыв в Константинополь 4 июня 968 года, он и его люди прождали разрешения войти в город до одиннадцати часов, сидя на лошадях под проливным дождем. Лиутпранд вообще остался тогда недоволен и тем, как его принимали, и результатами своей миссии. Он был человеком опытным и в качестве посла уже посещал Константинополь за 20 лет до этого, в 949 году, находясь на службе у другого государя – итальянского короля Беренгария Иврейского. У Ольги такой богатой практики не было, но она испытала сходные чувства. В предании о долгом «стоянии» в Суде прорывается раздражение русской княгини поведением принимающей стороны.
Константин описывает то, что произошло уже после томительного ожидания. 9 сентября Ольга со свитой – «близкими», «архонтиссами-родственницами», служанками, послами и купцами «архонтов Росии» – вошла в большой зал Магнаврского дворца (одного из самых великолепных зданий дворцового комплекса Константинополя){208}. Послы и купцы остановились у занавесей, отделявших зал приема от вестибюля, в котором ожидали аудиенции. То, что происходило дальше, известно из описания Лиутпрандом аналогичного приема, которого тот удостоился в этом же зале дворца в сентябре 949 года: «Перед императорским троном стояло бронзовое, но позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы различных видов, тоже бронзовые с позолотой, певшие на разные голоса, согласно своей птичьей породе. Императорский же трон был построен столь искусно, что одно мгновение казался низким, в следующее – повыше, а вслед за тем – возвышенным; трон этот как будто охраняли огромной величины львы, не знаю, из бронзы или из дерева, но покрытые золотом; они били хвостами о землю и, разинув пасть, подвижными языками издавали рычание. И вот, опираясь на плечи двух евнухов, я был введен туда пред лик императора. Когда при моем появлении львы зарычали, а птицы защебетали, согласно своей породе, я не испугался и не удивился, ибо был осведомлен обо всем этом теми, кто хорошо это знал. Итак, трижды поклонившись императору, я поднял голову и увидел того, кого прежде видел сидевшим на небольшом возвышении, сидящим почти под самым потолком зала и облаченным в другие одежды. Как это случилось, я не мог понять, разве что он, вероятно, был поднят вверх так же, как поднимают вал давильного пресса»{209}. Вряд ли для Ольги придумали что-нибудь оригинальное. Судя по рассказу Лиутпранда, фокусы с механическими зверями и летающим императором были частью обязательного ритуала. Были ли предупреждены о нем Ольга и ее приближенные, неизвестно. Как и во время приема Лиутпранда, император, встречаясь с Ольгой, не проронил ни звука. Даже если бы он и захотел поговорить с прибывшими, ему это было бы неудобно сделать из-за большого расстояния. Логофет дрома (так назывался в Империи ромеев глава ведомства почты и внешних сношений) задал Ольге дежурные вопросы про ее здоровье и здоровье ее близких. После этого русское посольство покинуло зал через небольшой внутренний сад, прошло сквозь несколько великолепных залов и вестибюлей дворца в портик Августия (главная часть наиболее старого дворцового комплекса) и разместилось там в ожидании второго приема, который состоялся в этот же день.
Теперь все происходило в зале Юстиниана (построенном императором Юстинианом II в конце VII – начале VIII века и украшенном императором Феофилом во второй четверти IX века). Когда Ольга во главе «родственных ей архонтисс и наиболее видных из ее прислужниц» была введена в зал препозитом (главным евнухом) и двумя остиариями (евнухами-привратниками), отодвинувшими занавес у входа в зал приема и провозгласившими имя и титул Ольги, глазам русской княгини представилось весьма внушительное зрелище. Огромный зал заполняли евнухи и жены титулованных персон, разделенные на «вилы»: всего семь разрядов, от высших до низших. Пол зала был выложен разноцветными мраморными плитами, что позволяло присутствующим занять свое, строго определенное место. Потолок сиял золоченой мозаикой. На помосте, украшенном тканями пурпурного («царского») цвета, возвышался большой трон, который занимала императрица Елена, сбоку стояло золотое царское кресло. В нем сидела Феофано, жена Романа II – сына и соправителя Константина Багрянородного, невестка Елены. Звучали два серебряных органа, помещавшиеся за занавесями позади трона. Препозит задал княгине какой-то протокольный вопрос от лица Елены. Дав положенный по протоколу ответ, Ольга покинула зал Юстиниана и отправилась в зал Кенургий («Новое здание», построенное при деде действующего императора Василии I и украшенное при самом Константине Багрянородном), где смогла немного отдохнуть. Этот зал русы смогли рассмотреть более внимательно.
Как и все, что они видели в тот день, Кенургий был великолепен{210}. В центре сиявшего золотом потолка палаты переливался выложенный из зеленого стекла огромный крест, а вокруг него были изображены Василий I с семьей, протягивавшие к кресту руки. Потолок поддерживали 16 колонн из зеленого камня, выстроившихся в одну линию. Искусный резчик высек на них виноградные гроздья и всевозможных животных. Стены, переливающиеся многоцветным стеклом, до потолка украшали великолепные мозаики, в основном изображавшие деяния всё того же Василия I в окружении родственников и свиты. В центре зала на полу сверкал выложенный мозаичный павлин, заключенный в круг. От чудесной птицы в разные стороны расходились лучи, доходя до четырех орлов, сложенных из мозаик столь искусно, что казались живыми…
В этот день Ольге предстояла еще не одна встреча с Константином VII и Еленой. Вскоре княгиню вновь пригласили в зал Юстиниана, где кроме императорской четы присутствовали их дети – сын Роман и дочери. На этот раз встреча прошла в неформальной обстановке. Ольге предложили сесть, и она долго беседовала с василевсом ромеев. В тот же день в зале Юстиниана Елена и Феофано дали торжественный обед. Когда Ольга в который уже раз за день вступила в зал, сопровождавшие ее «архонтиссы» простерлись ниц перед императрицами ромеев, но сама Ольга, немного наклонив голову, села к столу, за которым помещались знатные византийские дамы. Вряд ли за столом шли какие-то переговоры. Слух пирующих услаждали гимнами в честь августейших особ певчие храма Апостолов и храма Святой Софии. В трактате Константина Багрянородного отмечается, что там «разыгрывались также и всякие театральные игрища». Нам неизвестно, что это были за «игрища», но ромеям наверняка удалось удивить своих гостей. Лиутпранд, например, рассказывал, что в 949 году во время обеда в обществе византийского императора «пришел некий человек, неся на лбу без помощи рук деревянный шест длиной в 24, а то и более фута, на котором локтем ниже верхнего конца имелась перекладина в два локтя длиной. Привели также двух голых, но препоясанных, то есть имевших набедренные повязки, мальчиков, которые карабкались вверх по шесту и выполняли там трюки, а затем, повернувшись головой вниз, спускались по нему, а он оставался неподвижным, словно корнями врос в землю. Затем, после того как один мальчик спустился, второй, оставшийся там один, продолжал выступление, что привело меня в еще большее изумление. Ведь, пока они оба выполняли на шесте трюки, это казалось вполне возможным, ибо они хоть и были весьма искусны, но управляли шестом, по которому взбирались, благодаря одинаковой тяжести. Но как один, оставшийся на вершине шеста, сумел сохранить равновесие так, чтобы и выступать, и спуститься невредимым, – это меня поразило настолько, что удивление мое не укрылось даже от императора. Поэтому, подозвав переводчика, он пожелал узнать, что мне показалось более удивительным: мальчик, который двигался столь осторожно, что шест оставался неподвижным, или тот, кто держал его у себя на лбу столь мастерски, что ни от тяжести мальчиков, ни от их игры даже слегка не отклонился в сторону? И когда я сказал, что не знаю, что мне кажется… более удивительным, он, засмеявшись, ответил, что и сам этого не знает»{211}. То, что увидел Лиутпранд, до сих пор является одним из сложнейших цирковых номеров. Возможно, сегодня такой трюк эквилибристов с першем (шестом) длиной более семи метров не удивит пресыщенную публику так, как он поразил молодого итальянца середины X века. Но еще в 1912 году это было сенсацией, и в объявлении петербургского цирка «Модерн» провозглашалось: «Первый раз в мире! Невероятно! Вдвоем на одном перше, свободно балансируемом на плече третьего, – Кароли, Одони и Камила»{212}. Как видим, и тут все проще – шест стоит на плече, а не на лбу у третьего. Но Византия претендовала на роль столицы мира, и ее василевсы много сил тратили на то, чтобы изумлять варваров. Можно предположить, что для Ольги ромеи приготовили что-нибудь другое. Все-таки прошло восемь лет, да и публика за обедом была другая – одни женщины (евнухи не в счет).
Впрочем, мужчины из русского посольства также не были забыты. Одновременно с обедом в зале Юстиниана в Хрисотриклине (главном тронном зале Большого императорского дворца) шел другой обед. Пространство этой, как ее называли, «золотой палаты» было ограничено восемью арками, за которыми открывались более или менее обширные помещения (камары), служившие личными покоями императора. Своей причудливой восьмиугольной формой Хрисотриклин, увенчанный куполом с шестнадцатью окнами, напоминал цветок, из центра которого расходились лепестки. В зал, где стоял трон императора, вели серебряные ворота, стены покрывали великолепные изображения цветов, выложенные из мельчайших разноцветных камушков. В одной из восьми камар помещался большой стол, сделанный из серебра и украшенный различными рисунками и инкрустациями, за который русам предложили сесть. Здесь в обществе императоров Константина и Романа и пировали «все послы архонтов Росии, люди и родичи архонтиссы и купцы». А после обеда состоялась раздача даров: некто, названный «анепсием» Ольги, получил 30 милиарисиев (серебряных монет; 12 милиарисиев составляли один золотой, то есть номисму, так что «анепсий» получил две с половиной номисмы), восемь людей Ольги – по 20 милиарисиев, 20 послов «архонтов» (русских князей) – по 12 милиарисиев, 43 купца – по 12 милиарисиев, некий священник Григорий – 8 милиарисиев, два переводчика – по 12 милиарисиев, люди Святослава (сколько их было, не указано) – по 5 милиарисиев, шесть людей послов – по 3 милиарисия, переводчик архонтиссы – 15 милиарисиев. С Ольгой императоры Константин и Роман и члены их семей встретились еще раз – за десертом. Русских должна была поразить его сервировка – в украшенных жемчугом и драгоценными камнями чашах. При этом Ольге вручили в золотой богато украшенной чаше 500 милиарисиев, шести ее женщинам – по 20 милиарисиев, а восемнадцати ее прислужницам – по 8 милиарисиев.
Среди русского посольства наше внимание не может не привлечь «анепсий», получивший самые большие дары после Ольги (хотя и несопоставимо меньшие). Этим словом в Византии обозначался или племянник, или двоюродный брат, или родственник вообще{213}. Как видно из описания приема, Ольгу сопровождали «родственные ей архонтиссы», во время торжественного обеда в обществе василевсов ромеев пировали еще какие-то «родичи» Ольги, но никто из них не получил даров от императора (возможно, Ольга должна была наделить их из выданной ей суммы?), и их степень родства в отношении княгини не определена. Особо выделен только этот «анепсий». Судя по всему, он был наиболее важной особой из свиты Ольги{214}. Гадая, кто это такой, исследователи видели в нем чаще всего племянника Игоря, покойного мужа Ольги, следовательно, и ее племянника. В русско-византийском договоре упомянуты два племянника Игоря – Игорь и Акун. Кто-то из них вполне мог сопровождать княгиню в Царьград. Но это мог быть и племянник самой Ольги, происходивший из ее рода{215}. Историк Г. Г. Литаврин внес важное уточнение, указав, что «термин „анепсий“ означает кровного родственника, каковым в отношении Ольги не были ни Игорь-младший, ни Акун. Следовательно, логично допустить, что Ольга имела хотя бы одного брата или сестру. Племянник Ольги был вторым после нее лицом в караване, выполнял, по-видимому, функцию военного предводителя во время путешествия, обеспечивая безопасность посольства от возможного нападения врагов»{216}. Все это выглядит вполне вероятным, хотя можно предложить иную идентификацию этого «анепсия». В описании приема «архонтиссы Росии» – кстати, названной в трактате по имени только один раз, в начале главы, – в рассказе о раздаче денег сообщается, что восемь людей «архонтиссы», упомянутых после «анепсия», получили по 20 милиарисиев, а «люди Святослава», поставленные в этом списке награжденных за послами русских князей, купцов, священника и переводчиков, – по 5 милиарисиев. Дальше названы «люди послов». Выстраивая иерархию русского посольства, получаем (исключая купцов, не имевших своих людей, самостоятельно получавших дары и, возможно, также являвшихся представителями русских князей, а также священника и переводчиков) следующую последовательность: «архонтисса Росии», «анепсий», люди «архонтиссы», 20 послов русских «архонтов», «люди Святослава», люди послов. Соотнеся знатных русских путешественников и их «людей», получаем, что «люди Святослава» – это люди «анепсия». Таким образом, можно предположить, что Святослав сопровождал Ольгу во время визита в Константинополь{217}. («Анепсий» ведь означает кровного родственника вообще, каковым Святослав в отношении Ольги, разумеется, являлся.) Возможно, более точное определение родственных связей взрослого Святослава и Ольги не было обязательно: ведь не определяется же степень родства Ольги и родственных ей «архонтисс», состоявших в посольстве.
Возможность посещения Святославом Константинополя в составе русского посольства в 957 году открывает перед пишущим о князе огромные перспективы. Можно представить, как русский князь проводил время в квартале Святого Маманда, среди соотечественников, как осматривал столицу ромеев. А позднее, описывая столкновение русов Святослава с силами Византийской империи, как-то связать эту войну с впечатлениями, оставшимися у него от посещения Царьграда. Наконец, можно вообразить, как Святослав на обеде рассматривал издалека императора-русофоба Константина VII Багрянородного и его беспутного сына Романа II. Времени насмотреться на них было у участников русского посольства достаточно. Вот и 18 октября, в воскресенье, византийская сторона вновь давала обеды в честь русов. Опять пировали, разделившись по половому признаку. А потом, как полагается, русы получили дары: «архонтиссе 200 милиарисиев, ее анепсию – 20 милиарисиев, священнику Григорию – 8 милиарисиев, 16 ее женщинам – по 12 милиарисиев, 18 ее рабыням – по 6 милиарисиев, 22 послам – по 12 милиарисиев, 44 купцам – по 6 милиарисиев, 2 переводчикам – по 12 милиарисиев»{218}.
Историками неоднократно и вполне справедливо подчеркивалось, что суммы, выданные Ольге, были весьма скромными{219}. Не менее важна и разница между суммами, врученными ей при первой встрече и на прощальном приеме. «В подобных обстоятельствах, – отмечал Г. Г. Литаврин, – такое отличие служило показателем недовольства императора крушением тех надежд, которые он возлагал на личную встречу с русской княгиней»{220}. Впрочем, и Ольга уехала из Константинополя недовольной.
Чего же, собственно, русские ждали от этого визита? Летопись сообщает, что Ольга отправилась в Царьград, чтобы принять там крещение, которое она хитростью и получила от греческого царя. Если это так, то Святослав, сопровождавший мать в Константинополь, должен был, кажется, поддерживать ее искания. Но он остается закоренелым язычником. Зачем же тогда он ездил? И не только он. В свите русской княгини состояли 22 посла от русских князей. Состоят в посольстве и купцы. Причем число послов, указанное в договоре 944 года (25 человек), и число послов, прибывших в Константинополь с Ольгой в 957 году, практически совпадает. Можно согласиться с исследователями, считающими, что Ольгу сопровождали в поездке послы от князей, которые ранее участвовали в заключении договора с греками. Выходит, эти князья никуда не исчезли и система междукняжеских отношений, существовавшая при Игоре, не претерпела существенных изменений{221}. Во главе Руси по-прежнему стоял союз князей. Но им-то зачем крещение Ольги? Или князья отправили своих послов и купцов в столицу Империи ромеев просто за компанию, попить-поесть, посмотреть фокусы и спортивные номера, пожить в столице Мира за чужой счет и вдобавок получить подарки? Такое поведение, конечно, встречается среди российских чиновников даже в наши дни, но тогда возникает вопрос: почему князья отправили в Царьград послов, а не нагрянули туда сами вместе с Ольгой, ее «анепсием» и несколькими родственницами и родственниками?
Подробно рассказывая о визите Ольги, Константин Багрянородный не упоминает о ее крещении. Разумеется, император описывал лишь торжественные приемы, а программа визита княгини не ограничивалась их встречами{222}. Однако багрянородный василевс вряд ли пропустил бы такое событие, как крещение «архонтиссы Росии» во время визита в Константинополь. Он об этом событии молчит, более того, называет Ольгу не ее христианским именем Елена, а «Эльгой», как язычницу, подчеркивая тем самым, что не считает русскую княгиню христианкой. Во время поездки в Царьград Ольгу сопровождал некий священник Григорий, но с ним при византийском дворе обошлись не слишком почтительно, вручив едва ли не самые маленькие дары{223}. Все это может свидетельствовать о том, что Ольга познакомилась с христианством до посещения Константинополя и, как видно, независимо от него, что не могло не раздражать греков.
Поскольку в «византийской» версии крещения Ольги обнаруживаются слабые места, в науке начали возникать альтернативные построения. В XIX веке появилась «болгарская» версия крещения Ольги. Кто-то из исследователей разглядел в священнике Григории знаменитого сотрудника болгарского царя Симеона, уехавшего из Болгарии после смерти своего покровителя (в 927 году) и подвизавшегося будто бы на Руси. Кому-то даже сама Ольга казалась болгарской княжной{224}. В советское время «болгарская» версия была косвенно подкреплена работами, доказывающими существование неизменно дружественных отношений между Киевской Русью и Болгарией уже в первой половине X века, наличие активных культурных контактов и даже заключение неких союзных договоров в правления Вещего Олега и Игоря. М. Н. Тихомиров, например, считал, что Олег участвовал в походах на Константинополь болгарского царя Симеона{225}. А. Н. Сахаров высказывался осторожнее, но из шаблонного замечания летописца о том, что Вещий Олег двинулся в поход на Константинополь «на конях и на кораблях», сделал вывод, что на это нужно было получить разрешение могущественной тогда Болгарии. А раз так, то болгары, которые «перманентно» боролись с Византией, должны были стать союзниками русов. Позднее, при Игоре, отношения двух братских славянских народов испортились, но в 907 году «не было ничего похожего» и между Русью и Болгарией было заключено некое «тайное соглашение», хотя автор и отмечает «гипотетичность данного вывода»{226}.
Никто не ставит под сомнение наличие болгарского культурного влияния на Русь. Доказать же наличие союзного договора Олега и болгарского царя Симеона сложнее. Более того, у нас имеются данные, свидетельствующие о заключении в этот период союза греков и русов против (!) Симеона{227}. И от версии о том, что Ольга приняла крещение из Болгарии, следует отказаться, так как отношения Руси и Болгарии в 40-50-е годы.
X века, как это признает, кстати, и А. Н. Сахаров, были скорее враждебными, чем дружественными. Когда в 941 году Игорь отправился в поход на Византию, о приближении русов греков известили именно болгары{228}. Некоторые ученые, ссылаясь на археологические данные, предполагают даже, что в 40-50-е годы X века имела место война между Киевской Русью и Болгарией! Ведь согласно рассказу, помещенному в «Повести временных лет» под 6415 (907) годом, в походе на Царьград Вещий Олег имел в составе своего войска в числе других племен тиверцев, правда на положении союзников. Позже, в походе Игоря на греков, тиверцы участвовали уже как составная часть войска. Покорив тиверцев, русские князья включили, таким образом, в состав зависимых от Руси территорий земли между Днестром и Прутом. «Однако на южную часть Пруто-Днестровского междуречья, по всей вероятности, претендовала в этот период и Болгария, – пишет болгарский исследователь В. Д. Николаев. – Источники не содержат данных о том, была ли в это время завоевана Русью именно эта, южная часть. По всей видимости, ее завоевание было ко времени русско-византийской войны начала 40-х годов X века лишь начато и продолжалось в 40-50-х годах. Так, на одном из городских центров на данной территории, археологически связанном с Первым Болгарским царством – Калфе, следы разрушений оборонительных сооружений относятся к середине X века»{229}. Разумеется, борьба шла с перерывами, так как столкновения с болгарами наносили ущерб русской торговле (ведь русские корабли двигались в Византию вдоль болгарского берега). Вражда продолжалась и в 960-е годы, что особенно проявилось во время балканской кампании Святослава, о которой речь впереди. Отрицательное отношение русских к болгарам сохранялось и позднее, что нашло отражение в летописании. О дунайских болгарах говорится преимущественно в начальной части «Повести временных лет», и всюду летописец не жаловал болгар, хотя и не проявлял это открыто{230}. Наконец, не стоит забывать, что богомильская ересь, столь распространенная в Болгарии X века, не была известна на Руси, что косвенно свидетельствует о слабом влиянии в этот период болгарских христиан на русов{231}.
Мы уделили столько внимания болгаро-русским отношениям первой половины X века, поскольку их тогдашнее состояние во многом предопределило развитие событий на Балканах конца 960-х – начала 970-х годов, активным участником которых стал наш Святослав. Отмечу, что в историографии имеется еще версия о том, что Ольга крестилась в Киеве у местных христиан (то ли варяжского, то ли хазарского происхождения). Не может не привлечь наше внимание и сообщение источников об обращении Ольги к Оттону I с просьбой прислать священников на Русь и о неудачной миссии в Киев немецкого епископа Адальберта (о которой подробнее пойдет речь в пятой главе). Неоднократно в нашей историографии высказывалось также предположение о возможном участии в христианизации Руси беглецов из разгромленной венграми Великой Моравии{232}.
Какие же причины привели к увлечению Ольги, а возможно, и других русских князей христианством? Раздумывая над этим, ученые быстро «переросли» наивные размышления о неожиданно снизошедшем на Ольгу вследствие проповеди какого-нибудь отважного подвижника веры озарении, заставившем ее мгновенно убедиться в ложности язычества и истинности христианства и превратившем кровожадную киевскую княгиню в смиренную вдову, терпеливо сносившую насмешки сына-язычника и проводившую все свое время, уговаривая его креститься. Как правило, за обращением варварских королей и князей в христианскую веру стоял трезвый политический расчет. В частности, болгарский каган второй половины IX века Борис-Михаил, отец вышеупомянутого Симеона, обратился к византийцам с просьбой о крещении из-за постигшего Болгарию страшного голода, рассчитывая получить от ромеев хлеб. Впоследствии он еще долго колебался между Римом и Константинополем, выбирая более щедрого «просветителя». Схожие искания пережила и Великая Моравия. Интерес русских «архонтов» к соседям-христианам также может объясняться какими-то политическими расчетами союза русских князей, расчетами, которые никого из них не могли оставить равнодушным. Стараясь разгадать цели визита Ольги в Царьград, историки то предполагали ее стремление укрепить мир с Византией, то принимали во внимание торговые, культурные, военные или территориальные интересы Руси. Предлагались и такие варианты: Ольга будто бы желала получить царский титул для себя или для сына или же стремилась женить Святослава на византийской принцессе (тогда его тем более логично было повезти с собой в Константинополь){233}. Но все эти предположения построены на догадках. Отправляясь в Константинополь, Ольга могла как преследовать все эти цели, так и не преследовать ни одной из них. Сами по себе поездка в Царьград, встреча с греческим царем, крещение были полезны русской княгине, ибо способствовали ее выделению среди русской и славянской знати, возвышению над подчиненными Киеву землями…
Но вернемся к вопросу о посещении Святославом византийской столицы. Все-таки предположение о том, что «анепсием» Ольги был именно Святослав, недоказуемо. Источник ведь можно понять и иначе. Наличие в посольстве «людей Святослава», стоящих особняком и от людей Ольги, и от людей других русских князей, может определяться особым статусом Святослава на Руси. Но вот тут-то и возникает вопрос: что это за статус? Следует обратить внимание на распределение переданных византийской стороной даров внутри самого русского посольства. Г. Г. Литаврин разделил окружение Ольги, в зависимости от величины полученных даров, на семь ступеней: 1) «анепсий» (как считает исследователь, племянник княгини); 2) восемь «людей» княгини и шесть архонтисс – ее родственниц; 3) личный переводчик Ольги; 4) 20 послов, 43 купца и два переводчика; 5) священник Григорий и 18 наиболее видных служанок Ольги; 6) люди Святослава (по расчетам исследователя, их было пятеро); 7) шесть людей послов. Особого внимания, по мнению Литаврина, заслуживает место в семиразрядной табели о рангах, отведенное «людям Святослава». Оно «неожиданно низко: представители Святослава поставлены на четыре ранга ниже людей Ольги, во столько же раз меньше сумма денег, им выплаченная, их социальный статус уступает даже статусу „отборных служанок“ и священника Григория»{234}.
Впрочем, мы не знаем, сколько «людей Святослава» участвовало в путешествии в Царьград. Он явно послал не одного человека, и можно подумать, что в сравнении с послами прочих «архонтов Росии» его люди сообща получили гораздо большую сумму. Наконец, то, что люди Святослава особо выделены ромеями, говорит о их особом статусе и в глазах византийской стороны. Возможно, величина даров, полученных людьми Святослава, объясняется тем, что сам князь мог чем-то не нравиться ромеям (возможно, своим отношением к ним или к христианам вообще?). Известно, что византийцы демонстрировали свое отношение к иностранным послам, умело играя на размерах передаваемых им даров и условиях их содержания{235}. Вероятно, не случайно суммы, переданные Ольге и ее «анепсию» 18 октября, значительно уменьшились в сравнении с 8 сентября, а у остальных послов «архонтов Росии» остались прежними – по 12 милиарисиев. Что-то изменилось, и не в лучшую сторону, в отношении греков к главам русского посольства к концу визита…
Завершая разбор истории посещения русами Византии, мы можем констатировать, что именно Ольга возглавляла посольство, именно она явилась в императорский дворец в окружении родственников, послов и купцов, именно ее поддерживали русские князья, именно она вела долгие переговоры с императором Константином, и именно ее ромеи называли «архонтиссой Росии» – тем титулом, которым называли когда-то ее мужа Игоря. К 957 году перехода власти над Киевом к Святославу так и не произошло. Если же признать, что «анепсием» на приемах в Константинополе был назван Святослав, его низкий статус в сравнении с Ольгой будет еще нагляднее. Не мог правитель Киева получать суммы меньше своей матери! Русами управлял княжеский союз во главе с Ольгой, которая уже давно не могла считаться регентшей Святослава.
Но возможно ли, чтобы женщина в кровавом X веке занимала положение правительницы, надолго потеснив мужчин (не только племянников мужа, но и сына) и даже заставив их подчиняться себе? Вполне! Тот же русско-византийский договор 944 года позволяет утверждать, что женщины активно участвовали в политической жизни Руси: ведь его подписали наряду с князьями-мужчинами и несколько женщин – Ольга, Предслава и Сфандра. Для того чтобы участвовать в подписании внешнеполитического договора подобного уровня, женщина должна была управлять каким-нибудь городом, иметь дружину, словом, делать все то же, что и князья-мужчины. Ольга еще до гибели мужа самостоятельно владела Вышгородом. Предслава и Сфандра – вдовы или дочери князей – вероятно, также располагали самостоятельными владениями{236}. Можно вспомнить женщин – княгинь и боярынь – чуть более позднего времени. Например, Рогнеду, гордую полоцкую княжну, семья которой была истреблена новгородским князем Владимиром Святославичем, а сама она силой взята убийцей ее родных в жены. Она берется за нож, чтобы отомстить презревшему ее супругу, терпит неудачу и, высланная мужем, оказывается правительницей Изяславля, воспитывает сына. Или мать Феодосия Печерского – боярыню, оставшуюся после смерти мужа с сыном-подростком на руках, но вступившую в управление владениями покойного супруга, направлявшую рабов на работы, надзирающую за хозяйством и воспитывающую горячо любимого наследника. Любопытно, что мать будущего святого, недовольная его смиренным образом жизни, «упрашивала его одеться почище и пойти поиграть со сверстниками. И говорила ему, что своим видом он и себя срамит, и семью свою. Но тот не слушал ее, и не раз, придя в ярость и гнев, избивала она сына, ибо была телом крепка и сильна, как мужчина. Бывало, что кто-либо, не видя ее, услышит, как она говорит, и подумает, что это мужчина»{237}. В результате такого воспитания из тихого и терпеливого отрока в конце концов получился деловитый игумен Киево-Печерского монастыря, активно вмешивавшийся и в междукняжеские отношения. Ольгу с матерью Феодосия разделяет менее ста лет, а с Рогнедой – и того меньше.
О том, что княгини в Киевской Руси имели собственные дружины, не уступающие дружинам своих мужей, также известно. В скандинавских сагах описывается, как примерно в последней четверти X века в Новгороде молодой человек по имени Олав убил на рынке своего давнего обидчика, после чего укрылся в доме местной княгини. Между тем в Новгороде «был такой великий мир, что по законам следовало убить всякого, кто убьет неосужденного человека; бросились все люди по обычаю и закону своему искать, куда скрылся мальчик. Говорили, что он во дворе княгини и что там отряд людей в полном вооружении; тогда сказали конунгу (местному князю, мужу княгини; по саге, это Владимир. – А. К). Он пошел туда со своей дружиной и не хотел, чтобы они дрались; он устроил мир, а затем соглашение; назначил конунг виру, и княгиня заплатила. С тех пор был Олав у княгини, и она его очень любила»{238}. У княгини свой двор, отдельный от мужа, своя дружина. Русские женщины не только в иностранных сагах, но и в наших былинах наделены силой, хитростью и ничем не уступают мужчинам. Девушка свободна настолько, что сама себя может предложить в жены. Но может сдаться жениху только после отчаянного поединка, а может и сама победить и взять в мужья побежденного. В русском эпосе жена не только не всегда согласна со своим мужем, но способна вызвать его на поединок.
Но при чем здесь Ольга?! Мы же совсем недавно утверждали, что ее книжный образ напоминает скорее старую мать богатыря, «матерую вдову»! Не следует забывать о том, что летописный и житийный образ Ольги сложный, как бы двойственный. Да, в «Повести временных лет» Ольга представлена заботливой женой и матерью, любящей своего сына даже тогда, когда он издевается над ее христианской верой. Этот тип женщины был очень любим христианскими книжниками. Именно как «любящая жена и мать» Ольга, став вдовой, жестоко мстит за своего убитого мужа. Правда, тут будущая святая несколько перестаралась, и из-за образа «честной вдовы-христианки» неожиданно выступает совсем другой образ. Это образ жестокой и коварной мстительницы, женщины-воительницы. Двойственность образа Ольги ярко проявляется и в сказании Жития Ольги из «Степенной книги» о ее первой встрече с Игорем. Ольга изображена здесь удалым гребцом, так что Игорь с первого взгляда принял ее за мужчину и, только присмотревшись, обнаружил, что гребец – это девушка. М. Халанский отметил, что «по тону и стилю рассказа можно подумать, что автору Жития был известен эпический мотив о встрече богатыря с богатыршей, поленицей, мужественной, как богатырь»{239}. И вновь Ольга – богатырша, воительница. Впрочем, обычно она действует хитростью. Именно так княгиня губит древлянских послов, а во время визита в Царьград обводит вокруг пальца самого греческого царя. Возмущаясь, тот заявил, что Ольга его «переклюкала» (так в древнерусском оригинале). Ольга вообще склонна говорить «клюками» (загадками), в чем проявляется своеобразная характеристика, которую ей дает летописец, так как это умение, по мнению древнерусских книжников, было проявлением хитрости, лукавства, лживости и коварства говорившего. Но это же умение, если им владел предводитель, ценилось дружинниками. «Подвиг хитрости-мудрости, с одной стороны, мужества и необыкновенной силы, с другой, – отмечал И. П. Хрущов, – были главными мотивами дружинного поведения. Соименный Ольге вещий князь, подобно Ольге, был любимым действующим лицом в рассказе, где хитрость-мудрость приписывали успеху дела. Олег переодеванием обманывает Аскольда и Дира, а кораблями, хитро поставленными на колеса, выигрывает дело с греками. Хитрость отрока спасает Киев от печенегов, хитрость старца, устроившего колодези, выручает осажденный Белгород»{240}.
Обладая всеми этими достоинствами и талантами, Ольга вполне могла возглавлять княжеский союз и управлять Киевом, а Святослав – находиться при ней, взяв на себя решение военных вопросов. Константин Багрянородный дает нам понять, что в начале 950-х годов князь уже не владел «Немогардом». В ряде поздних летописей XVII века сообщается, что Святослав сидел на княжении в Новгороде или Чернигове, но эти сообщения скорее всего порождены стремлением летописцев объяснить, чем же занимался сын, пока мать правила в Киеве{241}. Мы не знаем, жил ли Святослав тогда с Ольгой в Киеве или занимал какой-то другой город, но ясно, что главой союза русских князей он не был.
В былинах быстро наступает момент, когда герой перестает «растеть-матереть», приходит время «ясному соколу вылететь», «белому кречету вон выпорхнуть» и, получив от матушки «прощеньице-благословеньице», отправиться в «раздольице чисто поле». В летописи этот «вылет» из-за разбивки единого изначально текста на годы несколько отодвинулся во времени. После рассказа о поездке Ольги в Царьград в «Повести временных лет» вновь стоят «пустые годы» (на этот раз их восемь) и только затем следует долгожданное сообщение: «Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и легко, как пардус, передвигаясь в походах, много воевал. В походах же не возил с собой ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину или зверину или говядину, жарил на углях и так ел. Не имел он и шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в головах. Такими же были и все его воины. И посылал в иные земли со словами: „Хочу на вас идти“».
Походный быт Святослава вполне соответствует поведению в подобных условиях эпического героя. В связи с этим филолог Р. С. Липец пишет: «Достаточно вспомнить эпос любого кочевого в прошлом народа, жившего в евразийских степях, чтобы найти там знакомую картину походного ночлега: батыры обжаривают на рожнах или даже цельных стволах деревьев над огнем мясо убитых тут же диких маралов или пойманных в чужом табуне кобылиц, а то и мясо верблюдов или овец. Котлы чаще упоминаются, когда действия происходят в укрепленных ставках, юртах, на пирах и т. п. Спит воин, вытянувшись, как цельный ремень, раскрасневшись, как тамариск у того же костра, и постель его – тот же конский приклад – седло, потник. Тут же бродят, пасутся кони, чутко оберегая от опасности беспечных хозяев… Ни шатра над головой, ни какого-нибудь поселения окрест, на „месячное расстояние“ пути…»{242} Любопытно, что реальный Святослав мало передвигался на коне. Его стихией была вода, он в основном перемещался по рекам, на ладьях. А в летописи действительно чувствуется влияние эпоса степных кочевников (торков или печенегов), с которыми Святослав то враждовал, то действовал заодно. Потому и герой – всадник. Не вполне понятным кажется сравнение князя с «пардусом» (гепардом). Разумеется, на Руси был известен этот хищник из семейства кошачьих, отличающийся быстротой бега. Азиатских гепардов, распространенных в Афганистане и Иране, русские князья использовали на охоте, они считались хорошим подарком{243}. Но уж больно мелким кажется гепард, Святослава хочется соотнести с кем-нибудь покрупнее – с тигром или барсом. Именно с ними обычно сравнивают героя в восточных эпосах: батыр «упивается боем, местью побежденным врагам, динамичен и неукротим в нападении на противников и в преследовании их»{244}. Русскому эпосу эти грозные звери неизвестны, в былинах, посвященных войнам оборонительного характера, герой-тигр выглядел бы слишком кровожадным. Святослава летописцы «уменьшают» до гепарда, известного русским XI-XII веков, но и в таком сравнении чувствуется влияние хвалебных песен о русском князе, которые могли возникнуть в нерусской среде, среди тех, с кем сражался Святослав. Возможно, «превращение» Святослава в «пардуса» произошло из стремления рассказчика сделать образ героя более понятным русскому слушателю. Перейдя в русский фольклор, образ гепарда затем оказался и в летописи. В любом случае, сравнение героя с этим хищником стоит одиноко в русской литературе, более не встречаясь.
В летописном описании Святослав – идеал дружинного вождя. Простота быта князя и его соратников как бы противопоставляется картинам из княжеско-дружинной жизни, которые мог наблюдать русский человек, живший во времена летописца. Автор описания походного образа жизни Святослава, вошедшего в «Повесть временных лет», вовсе не был одинок в своих настроениях. Неистребимая тоска по прежним временам чувствуется в мольбах, с которыми обращается другой русский книжник к своим современникам. Он напоминает им о древних князьях, которые не стремились к стяжанию богатства, не наживались на разборе дел в суде, а брали себе только положенное в таком случае вознаграждение, да и то тратили его на оружие для дружинников. А дружинники, проводя время в походах в иные страны, не заявляли князьям, что им мало двухсот гривен за службу (сумма очень большая для XI-XII веков), и не стремились украсить своих жен золотыми «обручами». В результате древние князья и дружинники «расплодили» землю Русскую{245}. Вспоминая одного из таких «древних князей» – Игоря, особенно его последний вояж в Древлянскую землю, понимаешь, что писатель просто фантазировал на вечную тему о том, что «раньше было лучше». Святослав возвышался до уровня этого идеала, хотя в реальности скорее всего был таким же хищником, как и его отец. Любопытно, что в процитированном отрывке из «Повести временных лет» Святослав даже войны начинает, благородно предупреждая неприятеля о своем приближении. На самом деле, как мы скоро убедимся, князь всегда использовал фактор внезапности.
Но вернемся к летописному повествованию и посмотрим, куда же направился князь. А направился он «на Оку-реку и на Волгу и, встретив вятичей, сказал им: „Кому дань даете?“ Они же ответили: „Хазарам – по щелягу от рала даем“. Пошел Святослав на хазар. Услышав об этом, хазары вышли навстречу со своим князем Каганом, и сошлись биться, и одолел Святослав хазар и город их Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил». Текст, когда-то единый, и здесь разбит по годам. Поход растягивается по времени на три «лета»: 964 год – Святослав встречается с вятичами, 965-й – воюет с хазарами и занимает Белую Вежу, справляется с ясами и касогами, 966-й – побеждает вятичей и возлагает на них дань.
Летописцы знали, что вятичи, как и радимичи, – от рода ляхов: «Были ведь два брата у ляхов – Радим, а другой Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи». Как это понимать? Д. С. Лихачев высказывал предположение, что летописный отрывок следует трактовать в том смысле, что «названия эти произошли от двух польских выходцев Радима и Вятка, передавших свои имена подчинившимся им славянским племенам», и склонялся к тому, чтобы назвать этот рассказ «ученым домыслом летописца»{246}. Однако другие исследователи считают, что летописец приписывал польское происхождение вятичам и радимичам в целом, а не только их легендарным князьям. При этом одни авторы склонны доверять этой информации летописца, другие – нет{247}.
О взаимоотношениях вятичей с хазарами «Повесть временных лет» под 859 годом сообщает, что уже тогда хазары «брали с полян, и с северян, и с вятичей по беле и веверице от дыма» (от печной трубы? от дома? от семьи?). В понимании размеров дани среди ученых также нет единства. Д. С. Лихачев, например, переводит текст в смысле «по серебряной монете и по белке»; А. Г. Кузьмин – «по горностаю и белке»{248}. Ни о каком «щеляге от рала» здесь речи нет. Правда, под 885 годом летописец сообщает, что «по щелягу» платили дань хазарам радимичи. По поводу этого «щеляга» в науке вышел многовековой спор.
В нем видели то шиллинг (большинство исследователей), то номисму, то дирхем{249}. Проблема запутанная, если не сказать больше – неразрешимая.
По свидетельству летописца, у вятичей были общие обычаи с радимичами и северянами: «…жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах. И браков у них не бывало, а были игрища между селами. И сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни и здесь умыкали себе жен по договоренности с ними. Имели же по две и по три жены. И когда кто-то умирал, устраивали по нему тризну, а затем раскладывали большой костер, возлагали на него умершего и сжигали, после чего, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах при дорогах, как это и теперь еще делают вятичи. Такого же обычая придерживались и кривичи, и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе уставляющие закон». Из этого отрывка следует, что, в отличие от прочих племен, вятичи продолжали придерживаться прежних обычаев и во времена летописца (по крайней мере до конца XI века).
Археологов поражают своим богатством курганы вятичей. Захоронения на территории племен, живших южнее, ближе к Киеву и полянам-русам, отличаются от вятичских большей скромностью. Особенным разнообразием вещей характеризуются захоронения женщин, которых многоженцы-вятичи «умыкали» на игрищах между селами. Здесь встречаются характерные для вятичей семилопастные височные кольца (их носили на головной ленте из кожи или ткани, а иногда вплетали в волосы), разнообразные шейные гривны и ожерелья из большого числа бус, металлические браслеты и перстни. Вятичские дамы были настоящими щеголихами. Захоронения мужчин-вятичей скромнее, в погребениях чаще всего встречаются ножи и глиняные горшки{250}. Переход в обряде захоронения к трупоположению (с конца XI века) вовсе не свидетельствует об отказе вятичей от язычества. Знаменитый Киево-Печерский патерик сохранил сообщение о Кукше, монахе Печерского монастыря в Киеве, который в первой четверти XII века отправился проповедовать веру Христову в земли вятичей. Ему поначалу сопутствовал успех – он многих крестил, совершил великие чудеса (вызвал дождь, иссушил озеро и т. д.), но все равно пал жертвой язычников. После страшных пыток Кукша и его ученик были убиты{251}.
Неменьшее упорство проявляли вятичи и в отстаивании своей независимости. Так, описывая легендарный поход Олега на Царьград (под 907 годом), летописец сообщает, что в составе его воинства были вятичи. Это сообщение, в общем, ничего не значит – в перечне племен, якобы участвовавших в походе, названы вообще все известные летописцу племена, как славянские, так и нет. Их перечислили по какому-то трафарету, но кто реально был участником этого загадочного похода, неизвестного по византийским источникам, неясно. Во всяком случае, Константин Багрянородный не называет вятичей среди славянских племен, уплачивавших дань Киеву. Неизвестно и какие последствия имело появление Святослава в землях вятичей. На первый взгляд все ясно – власти Киева покоряется еще одно славянское племя. Но под 981 и 982 годами «Повесть временных лет» сообщает об упорной войне, которую вел с вятичами киевский князь Владимир, сын Святослава. Другой Владимир, Мономах (праправнук Святослава), как о подвиге рассказывал в своем «Поучении» о том, что он по поручению отца проехал к Ростову «сквозь землю вятичей». Этот поход исследователи относят к 1072 году. А еще позднее, в 1081-1082 годах, Мономах две зимы подряд ходил в Вятичскую землю воевать с местными правителями Ходотой и его сыном{252}. В общем, чего добился своим походом Святослав, сказать трудно. Вряд ли его появление у вятичей сопровождалось эксцессами, подобными тем, что устроила Ольга в земле древлян. После похода войск Ольги Древлянская земля превратилась в придаток Русской земли, вполне лояльный киевской княжеской династии. Низвести за один поход до этого уровня богатых и упрямых вятичей было задачей непосильной даже для стремительного Святослава. Вятичи согласились платить дань русам, которую они платили прежде хазарам, побежденным Святославом, и только. Неясно и то, все ли вятичские племена перешли в разряд данников Киева или только их часть.
Странным кажется само направление движения Святослава «на Оку-реку и на Волгу». Как уже отмечалось, летопись вполне определенно помещает вятичей на Оке, где сел «с родом своим» легендарный Вятко. Что же касается Волги, то в ее верховьях летописец размещает кривичей, а у места впадения в нее Оки – мурому, черемисов и мордву{253}. По археологическим данным также выходит, что поселения вятичей не доходили до Волги. Зато на нижней Волге жили хазары. Отсюда А. А. Шахматов и Д. С. Лихачев сделали вывод, что Святослав и направился сразу на Волгу, против хазар. Что же касается вятичей, то диалог Святослава с ними появился позднее как вставка в первоначальный рассказ о войне с хазарами, в качестве мотивировки этого похода. Исследователи обратили внимание на то, что практически сразу Святослав нарушает приписываемое ему летописцами правило – предупреждать врагов о своем появлении заранее. Но если убрать из текста сообщение о вятичах, то все встанет на свое место: «„Хочу на вас идти“… Пошел Святослав на хазар. Услышав об этом, хазары вышли навстречу…» и т. д. «Весь поход Святослава получает большую целеустремленность: Святослав идет прямо к нижнему течению Волги, не поднимаясь безо всяких видимых к тому оснований и результатов к Оке» (Д. С. Лихачев){254}. Но куда же тогда делись вятичи? А. А. Шахматов считал, что в первоначальном летописном повествовании после похода на Волгу рассказывалось о встрече с вятичами, захвате Белой Вежи, ясах, касогах и возложении дани на тех же вятичей{255}. Не слишком ли запутанное объяснение? Кроме того, оно не проясняет главного: зачем для покорения вятичей, живших на Оке, понадобилось захватывать крепость хазар Саркел, которую русские называли Белой Вежей и которая располагалась на нижнем Дону? К чему тогда поход Святослава на нижнюю Волгу? Передвижения князя в представлении указанных исследователей приобретают совсем не «целеустремленный», а скорее хаотический характер. Кроме того, пункты назначения, к которым направляли его ученые XX века, разделяют такие огромные расстояния, что даже быстрому Святославу за столь короткий срок преодолеть их не было никакой возможности. Тем более что Шахматов и Лихачев, следуя за летописью, направляли к ним Святослава посуху – лесами и степями.
Для того чтобы разобраться в возникшей путанице и понять, что хотел нам сказать летописец, внимательнее присмотримся к имеющимся на сегодняшний день материалам о расселении вятичей. По данным археологических раскопок, вятичи действительно сформировались как отдельное образование на верхней Оке. Славяне появились здесь в VIII-IX веках. А в IX-X веках начинается продвижение вятичей в соседние регионы. Они проникают в более северные земли, небольшими группами оседают в бассейне реки Москвы, а в XI веке массово расселяются на западных землях Среднего Поочья. Движение вятичей вниз по Оке продолжается до устья Прони, они оседают в бассейне и этой реки. Одновременно с движением на север вятичи начинают заселять и донские земли. Здесь, в области верхнего и среднего Дона, уже жили славяне, представители так называемой «боршевской культуры» (археологи назвали культуру по одному из исследованных городищ в селе Боршево Воронежской области), о которых ничего не знает «Повесть временных лет». Определить племенную принадлежность носителей боршевской культуры сложно. Это были выходцы из разных праславянских племенных образований. Их поселения зачастую были основаны на старых скифских городищах. Вновь основанные городища были защищены системой валов и рвов, немалое их число располагалось на островах. Основу экономики боршевского населения составляло пашенное земледелие, но боршевцы занимались также скотоводством, охотой, рыбной ловлей и бортничеством. Начав переселяться в Подонье на рубеже IX-X веков, вятичи вскоре составили основное ядро местного славянского населения. На Дону славяне продержались до конца X века, а затем в значительной массе покинули свои поселения под давлением печенегов, переместившись в Рязанское Поочье{256}.
Выходит, часть вятичей во времена Святослава жила на Дону. Поэтому вполне естественно, что, отправившись в эти земли, князь столкнулся с хазарами и их форпостом на донских землях – Саркелом (Белой Вежей). В середине X века хазары были не в том положении, чтобы забираться за данью к вятичам, жившим на Оке. Другое дело – славяне, занимавшие Подонье. Но во времена, когда составлялись летописи, вятичей на Дону уже не было, однако они по-прежнему жили на Оке. Зная о войне с хазарами за вятичей, летописец и направил князя на Оку{257}. Впрочем, можно предположить и то, что, двигаясь со своими войсками на вятичей, Святослав действительно вначале достиг Верхней Оки, а затем, перебравшись на Дон, поплыл вниз, к тем вятичам, что еще платили дань хазарам, далее к Белой Веже, в земли ясов, вдоль побережья Азовского моря, к касогам. В целом сообщение о вятичах как о причине войны с хазарами вовсе не кажется неким инородным телом, вставленным в рассказ о походе Святослава на хазар. Напротив, лишним выглядит добавление «и на Волгу». Зачем оно появилось в тексте? Об этом еще пойдет разговор в одной из следующих глав. А пока вернемся в Подонье. Жаль, что слова летописца о столкновении Святослава с вятичами столь скупы. Мы не знаем названий их городищ, имен князей, короче, всего того, что составляет те детали, из которых складывается историческое повествование. Каким богатством теперь кажется летописный рассказ о мести Ольги древлянам! Ничего мы не можем прибавить к двум-трем летописным строчкам и о столкновении Святослава со славянами верхнего и среднего Дона. Назван лишь один город в этом регионе – Белая Вежа – да и тот хазарский. К нему и обратимся.
В середине 830-х годов к василевсу ромеев Феофилу прибыли представители хазар – послы кагана (царя, не обладавшего реальной властью) и бека (всесильного заместителя кагана), которые передали просьбу хазарских владык: в назначенном месте построить для них крепость. Феофил послал к ним спафарокандидата (чиновника невысокого ранга) Петрону, по прозванию Каматир, который вместе с сопровождавшими его людьми отплыл в направлении Херсона. Здесь посланцы императора пересели с хеландий на транспортные суда и, обогнув полуостров, прошли через Боспор Киммерийский (Керченский пролив) в Меотиду (Азовское море). Вскоре они достигли места впадения в море Танаиса (Дон) и продолжили свой путь вверх по этой реке. Спустя какое-то время ромеи увидели на высоком береговом мысе руины заброшенной крепости. Место было великолепное, ибо с высоты крутого склона на большое расстояние прекрасно просматривались и река, и ее окрестности. Обгоревшие стены с башенными выступами значительной толщины, облицованные тесаными блоками белого камня, могли послужить основой новой постройки или, на худой конец, дать для нее материал. Судя по всему, крепость погибла сравнительно недавно, но на вопрос о том, когда это произошло и кто ее сокрушил, добиться ответа от сопровождавших хазар Петрона и его люди так и не смогли. Те или действительно ничего не знали, или не хотели распространяться на эту тему. Удалось узнать лишь, что после случившейся катастрофы этот окраинный городок стоял какое-то время заброшенным и ни одна живая душа сюда не попадала. Но когда власти каганата решили построить в этих местах новую крепость и люди вошли в правобережные руины, их глазам открылась ужасная картина – двор крепости, ее жилища были завалены останками жителей, в основном женщин и детей (мужчины были убиты, обороняя стены); ворвавшиеся внутрь враги разграбили, а затем запалили внутрикрепостные постройки. В некоторых домах-полуземлянках убитые лежали целыми семьями, а по двору крепости и между постройками шныряло зверье, растаскивая кости непогребенных. Останки погибших кое-как засыпали камнями и землей там же, где их и обнаружили. Из приведенных рассказов византийские чиновники и архитекторы поняли только то, что строить им предстоит в другом месте{258}.
Наконец добрались до пункта назначения. Здесь Танаис образовывал небольшую излучину, на этом мысе и предстояло построить крепость. Возводить стены было не из чего, поскольку в прилегающей местности не имелось подходящего для строительства камня. Однако заказчики и не думали переносить стройку, им было важно обезопасить именно это место близ реки. Кроме того, на левом берегу Танаиса на расстоянии в один день пути не было более ни одного подходящего места, где можно было бы что-нибудь вообще построить. Для Саркела выбрали редкий незаливной, поднятый над поймой участок. Соорудив печи, строители наладили выпуск кирпича, готовя известь из мелких речных ракушек. Выпускаемый по их рецепту, но местными мастерами кирпич не мог не заинтересовать ромеев, он был значительно толще и меньше того, что использовался у них на родине. В Хазарии из этого строительного материала не имел права строить никто, кроме самого кагана. Предоставив местным изготовление кирпичей, которых могло понадобиться несколько миллионов, византийские архитекторы занялись планировкой крепости. Здесь-то уже все было сделано в соответствии со вкусами проектировщиков: «абсолютно правильные прямые утлы, точное соблюдение принятой ориентировки (углами по странам света) всех кирпичных строений, общие стройные и строгие пропорции прямоугольной крепости, выступающие пилоны ворот, умело „вписанных“ в расширенных для этого серединных башнях, свидетельствуют о том, что работа производилась квалифицированными архитекторами, хорошо знакомыми с античными и византийскими традициями»{259}. Собственно, этим участие византийских специалистов в строительстве и ограничилось. Получив проект, хазары реализовали его в своих традициях. Стены были построены без фундаментов, многочисленные рабочие, согнанные по повелению владык Хазарии, выкопали широкий и глубокий ров, превративший мыс и стоявшую на нем крепость в остров. Извлеченную при строительстве землю использовали для возведения вала. Общая площадь искусственного острова составила около десяти гектаров. На самом конце мыса выкопали второй, меньший ров, создав еще один островок площадью не более трех гектаров. На этом-то надежно защищенном островке и стояла крепость, названная Саркелом, что ромеи перевели как «Белый дом», а русы – «Белая Вежа»{260}.
Петрона и его люди не могли не отметить, что хазары ждали врага откуда-то с запада. С помощью возведенных на искусственном острове укреплений предполагалось не контролировать передвижения судов по Танаису (в это время речному пути здесь ничто не угрожало), а охранять переправу через реку и подступы к воде по суше. Кроме этого, в задачу размещенных в крепости воинов входила таможенная служба.
В районе Саркела скрещивались несколько наиболее крупных сухопутных дорог, пересекавших земли каганата. Одна из них шла на юго-восток от Саркела к реке Сал, а далее разветвлялась. На юго-запад дорога шла на расстояние примерно в 400 километров до Кубани, а затем разделялась на две – свернув на запад, можно было попасть на Тамань и в Крым, повернув на юг – пройти через горы в Грузию. Если же от Сала путешественники направлялись на юго-восток, то они могли добраться в низовья Волги, к Итилю – столице хазар, а отсюда можно было, двигаясь на юг, вдоль Каспия, пройти к Дербенту и далее в богатые страны Востока. Значение Саркела не ограничивалось только его положением на путях внутри Хазарского каганата. Ведь он был выстроен на скрещении путей, которые к тому же являлись западным ответвлением Великого шелкового пути. Шелк шел из центра Китая в Среднюю Азию и через Хорезм к Итилю, а далее, как уже было сказано, – к Саркелу, а отсюда – в Крым и Грузию. Вдоль всех этих дорог на расстоянии дневного перехода (примерно 30 километров) стояли более или менее укрепленные караван-сараи, в которых можно было укрыться от охотников до легкой наживы и отдохнуть. Такой хорошо укрепленной стоянкой для купцов и был поначалу Саркел.
Крепость имела форму прямоугольника длиной в 186 и шириной в 126 метров. Толщина стен достигала 3,75 метра (несколько меньше, чем у ее погибшего предшественника на правом берегу, с толщиной стен в четыре метра), по углам были поставлены массивные квадратные башни, на пять метров выступавшие за наружную линию стены. В двух из них – на северо-западной и северо-восточной сторонах – находились ворота. Главными были ворота на северо-западной стене – массивные, окованные железными листами. Проход в них по ширине составлял 4,5 метра и был вымощен каменными плитами. У входа были выстроены караульные помещения для воинов, охранявших основной въезд в крепость. Вторые ворота были вдвое уже и выходили прямо к реке. Внутри Саркел был разделен на две части (северо-западную и юго-восточную) поперечной стеной толщиной три метра. В юго-восточной части крепости не имелось внешних ворот. Противник мог проникнуть через вышеописанные ворота только в северо-западную часть и уже здесь натолкнуться на новое препятствие – очередную стену. За этой стеной была цитадель – последнее убежище для защитников крепости. Ее посещать путешествующим было совсем необязательно. В северо-западной части Саркела для них и так были созданы все условия: построены два караван-сарая с внутренними дворами, несколькими комнатами для гостей и большими помещениями для скота. Они занимали четвертую часть всей территории крепости. Здесь можно было с комфортом отдохнуть и принести благодарственные жертвы богам. Тут же находились гончарная мастерская и кузница.
У входа в цитадель стояли два караульных помещения. Территория цитадели тоже была разделена стеной на две части – северо-восточную и юго-западную. В центре северо-восточной половины располагался комплекс общественных построек{261}. А в юго-западной части находились склады оружия и провианта, казармы для воинов. Здесь же была построена еще одна башня – донжон, последний рубеж обороны. Но в условиях мирного времени это было прежде всего жилище начальника гарнизона крепости.
К началу X века положение крепости резко изменилось. Шелковый путь прекратил свое существование. Шелковые ткани перестали поступать из Китая, их основным поставщиком в Европу стала теперь Византия. А через Саркел товары везли вверх по Дону, до поворота его на север, далее – волоком до Волги, по ней до Итиля и дальше по Каспийскому морю. Значение сухопутного пути пало, печенеги заняли донские степи, их владения простирались вплоть до Саркела, границей между ними и Хазарией стал Дон. Теперь главной задачей Саркела было охранять владения каганата от печенегов и контролировать ситуацию в землях данников-славян. За счет притока людей в хорошо укрепленную крепость ее население начало быстро увеличиваться. Все это, в свою очередь, привело к перестройке Саркела и превращению его из таможенного пункта в город. Людям нужно было где-то жить, желательно под защитой городских стен, и потому они начали расчищать пространство для своих построек, убирая все, что казалось теперь ненужным. Были разобраны караван-сараи, их частично сохранившиеся стены послужили основой для небольших жилых домиков. Кое-где сохранились комнаты для гостей, новые хозяева перестроили их в свои постоянные жилища. В возникших постройках сложили печи из вывороченного кирпича. Дворы караван-сараев также были застроены домиками-полуземлянками с камышовыми крышами. Постройки облепили крепостные стены внутри города. Открылись ремесленные мастерские, в округе поселились земледельцы и скотоводы, тянувшиеся поближе к безопасному месту. Обитали они и в городе. Рядом с ним пасли стада овец, коров, табуны лошадей. На лето их отгоняли в степь. Крепость, в которой прежде поддерживался идеальный порядок, стала зарастать мусором, приобрела неряшливый вид. Воины в городе по-прежнему имелись. Даже в Константинополе знали, что гарнизон Саркела составляет 300 человек, сменяемых ежегодно. Правда, теперь смены производились все реже, да и в число защитников города входили в основном нанятые кочевники – гузы (или огузы, известные русским как «торки») или все те же печенеги. В самом городе хазар также почти не было. Как и в IX веке, здесь жили в основном донские болгары (еще один осколок их орды, кроме тех, что в ходе переселения осели на Кубани, Средней Волге и, в значительной степени, на Балканах). Встречались в городе и славяне. Деградировала даже цитадель, в которой и размещались воины-кочевники, жившие в наземных разобранных юртах. Проходы в нее были плотно и беспорядочно застроены, северо-восточную часть освободили от построек, теперь тут была базарная площадь. Даже наиболее укрепленная часть цитадели с башней (донжоном) была застроена домиками, окружавшими их хозяйственными постройками, ямами и погребами. Донжон превратился в большой жилой и богатый дом местного правителя, окруженный жилищами обслуги и воинов.
Таким Саркел и увидели воины Святослава. «Повесть временных лет» сообщает, что захвату города русами предшествовало столкновение с войском хазар, возглавляемым неким «князем Каганом». Закончилось сражение победой русской стороны. Сомнительно, чтобы на эту окраину рассыпающегося под ударами соседей каганата подошло войско, которое лично возглавлял каган – священный царь хазар, обычно живший затворником в своем дворце в Итиле на нижней Волге, окруженный женами и наложницами. Возможно, летописец, слабо разбиравшийся в запутанной структуре верховной власти хазар, от государства которых к XI веку не осталось и следа, назвал «каганом» его энергичного заместителя – бека, обладавшего реальной властью и предводительствовавшего войском. Но еще более вероятно, что появление в повествовании некоего князя хазар, носящего имя «Каган» (это в летописи не титул, а личное имя), – очередная дань фольклорной традиции. Кто же, как не «князь Каган», должен противостоять на поле боя князю русов?! Летописец знал, что так называли хазары своего владыку, такое имя он и дал князю, противостоявшему Святославу. Возможно, что оборону Саркела от русов действительно возглавлял какой-то хазарский князь, наместник кагана в этом городе. Возможно и то, что осаде города предшествовало столкновение кочевников гарнизона с русами вне стен Саркела.
Итилю явно было не до своего форпоста в донских степях. В сочинениях арабских авторов Ибн Мискавейха (ум. 1034) и следовавшего за ним Ибн ал-Асира (1160-1234) сохранилось сообщение о нападении на Хазарию в 965 году некоего племени тюрок. Это событие заставило хазар обратиться в Хорезм и в обмен на полученную помощь принять ислам. В науке уже давно принято как-то связывать эти события с походом Святослава на Саркел{262}. Перепутать русов с тюрками арабы не могли, поэтому считается вероятным, что одновременно со Святославом на владения хазар напали с востока гузы (огузы), выступающие в сообщении арабских авторов под древним именем тюрков, под которым они (в форме «торк») впервые стали известны и русским{263}. В 80-90-е годы IX века огузы вытеснили с Волги родственных им печенегов. Поначалу они выступали как союзники хазар, но уже в 30-40-е годы X века начали нападать на них. Константин Багрянородный советует сыну учитывать в своей политике то, что «узы способны воевать с хазарами, поскольку находятся с ними в соседстве»{264}. Речь, следовательно, идет о деле вполне обычном. В большинстве своем огузские племена тогда кочевали в степях у Аральского и Каспийского морей, на западе их владения достигали Волги и граничили с хазарскими. Нет ничего удивительного в том, что пока Святослав громил западные владения Хазарии, огузы напали на них с востока. Обращение же хазар к Хорезму относится к более позднему времени{265}. Были ли действия русов и огузов результатом их взаимной договоренности или просто совпали по времени, сказать сложно{266}. В этих условиях Саркел оказался один на один с русами Святослава.
Мы не знаем подробностей операции по захвату Саркела. По-видимому, русы взяли крепость в осаду. Археологи обнаружили любопытное свидетельство этого. При раскопках под северо-западной стеной в западном углу крепости был обнаружен подкоп – довольно широкий (2,2 метра), сужающийся наружу. Общая длина его равнялась примерно 8,5 метра, а высота – 0,7 метра. Скорее всего, его вырыли изнутри, для вылазки. На самом выходе из лаза, с внешней стороны крепости, ученые раскопали скелет человека, сжимавшего в руке клочок бумаги. Человек пытался выбраться из осажденной крепости, имея при себе записку (вероятно, с просьбой о помощи). Тут его и убили осаждавшие. К сожалению, никаких следов письма обнаружено не было{267}. Значит, осада имела место и осажденные звали кого-то на помощь. Это, кстати, еще одно свидетельство в пользу того, что никакого столкновения русов Святослава с силами всего каганата перед этим не было. Иначе кого могли просить о помощи обитатели Саркела, если бы те, на кого они надеялись, были уже однажды разбиты неприятелем?
Неизвестно, каким образом русы ворвались в город. Судя по всему, Саркел был подожжен, а на его улицах началась ожесточенная резня – последний акт развернувшейся трагедии. И здесь тоже нам на помощь приходит археология. При раскопках был обнаружен клад, состоявший из драгоценных серебряных с чернью и позолотой бляшек воинского пояса, бронзовых позолоченных бляшек второго пояса, целых обломков дирхемов, сердоликовых бус. Горшок, в котором лежали ценности, был разбит (сохранилось только дно), причем вещи обгорели и частично спеклись{268}. Видно, его владелец сначала засунул ценности в горшок с просом, а затем, поняв, что враг ворвался в город и произошла катастрофа, бросился спасать то, что было спрятано в доме. Он вынес горшок из уже горящего жилища, но тут его остановили (понятно кто). В произошедшей схватке горшок уронили и разбили, но ни его владелец, ни те, кто пытался отобрать у него имущество, так и не смогли им воспользоваться. Вещи были затоптаны в землю и засыпаны пеплом пожарища. Если бы тот, кто знал о них, уцелел в схватке, он наверняка бы собрал вещи. Но этого не произошло – таково было взаимное ожесточение сторон. Так разбитый горшок и остался лежать почти на поверхности, дожидаясь археологов середины XX века.
Опустошив Саркел, русы Святослава покинули город, оставив за своей спиной окруженные стенами дымящиеся руины домов. Их путь лежал дальше вниз по Дону. Вятичи и прочие обитатели верхнего и среднего течения реки признали власть русского князя.
Не все жители Саркела были перебиты в горячке боя. Кому-то удалось вырваться из охваченного огнем города. В отличие от разрушенной в начале IX века на правом берегу Дона крепости археологи не обнаружили в Саркеле в слое гибели скелетов убитых жителей. Оставшиеся в живых вскоре вернулись на пепелище и погребли трупы своих близких или соседей. Город постепенно ожил вновь. Ему предстояло простоять на своем месте еще 150 лет, но это уже был не Саркел, а Белая Вежа – русский город на Дону.
Что же случилось со Святославом дальше? А дальше, согласно «Повести временных лет», наш князь «победил ясов и касогов». Вот так: одной строкой – два народа. Без малейшего комментария по этому поводу. Принято считать, что под «ясами» летописец подразумевает осетин (алан), а «касоги» – это черкесы (хотя правильнее для того времени было бы говорить об адыгах в целом – нынешних черкесах, адыгейцах и кабардинцах). У читателя, посмотревшего на современную карту Российской Федерации, может возникнуть масса вопросов – например, о том, почему Святослава от Дона занесло с его дружиной так далеко на Кавказ или сколько времени понадобилось князю для победы над этими многочисленными народами, живущими к тому же на территориях со сложным рельефом местности. Однако нужно учитывать, что, говоря о ясах и касогах, с которыми пришлось иметь дело Святославу, летописец имел в виду боевые действия в иных территориальных пределах.
Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей» говорит, что страна Алания находится «выше» Кавказских гор{269}. В его время аланы уже добились независимости от хазар, поэтому император и советует сыну использовать их способность воевать против своих бывших повелителей и причинять им «великий ущерб и бедствия»{270}. Контактировали аланы и с русами – известно о их участии в походе на Бердаа в 943/44 году. Но когда-то, до начала гуннских нашествий в IV веке, аланы обитали к востоку от Дона. Их соседями были племена аорсов и роксоланов, аланам же и подчиненные. Принято считать, что от кого-то из них и перешло к аланам их другое название – асы (ясы). Появление гуннов внесло в жизнь алан-ясов серьезные изменения – часть из них была вовлечена в движение на запад, оказалась в Испании, Галлии, Подунавье. Здесь, смешавшись с местным населением, они исчезли из истории. Другая часть оказалась на Кавказе. Но кто-то удержался на Дону, войдя в русскую историю под именем ясов{271}. Впрочем, есть и другие версии появления ясов на Дону. Все они сводятся к более позднему переселению их сюда из предгорий Северного Кавказа. Одни исследователи относят это событие к VII веку и считают результатом давления хазар. Другие видят в появлении алан в Подонье следствие кровопролитных арабо-хазарских войн в Закавказье: втянутые в них аланы покинули свои разоренные арабскими войсками земли в середине VIII века. Третьи считают, что зависимые аланы были переселены на северо-восточные земли каганата хазарским правительством во второй половине VIII века. Четвертые винят во всем болгар. Пятым кажется, что алан погнала на север эпидемия чумы. Наконец, шестым причина видится в каких-то внутренних процессах, протекавших в аланском обществе{272}. Ясно одно: в середине X века аланы-ясы жили на Дону и по-прежнему входили в состав Хазарского каганата. Это и привело их к столкновению с войсками Святослава, столкновению, которое, по мнению ряда археологов, имело для ясов весьма трагические последствия. Впрочем, ясы пережили этот удар. Пережили они не только поход Святослава, но и появление в их степях печенегов, а затем и половцев. Летописи сообщают, что в 1116 году сын киевского князя Владимира Мономаха Ярополк ходил походом «на Половецкую землю, к реке называемой Доном, и взял тут многочисленный полон». Во время похода он захватил три половецких города и «привел с собой ясов и жену полонил себе ясыню». Названия трех городов разные летописи передают по-разному: Галин (или Балин), Чешуев (Чешлюев, а в Ипатьевской летописи – Шарукан) и Сутров. Скорее всего, эти три города также принадлежали ясам: ведь, в отличие от кочевников-половцев, ясы вели оседлый образ жизни{273}.
Об адыгах нам известно, что к началу VI века на территории Северо-Западного Кавказа сложились три их объединения, представлявшие собой независимые союзы (конфедерации) отдельных общин и племен{274}. Черноморское побережье от реки Шахе и приблизительно до южной границы современного Анапского района занимала Зихская (Зихийская) конфедерация (зихи). Юг современного Анапского района, левобережье Кубанской дельты и часть закубанской равнины, тянущейся от начала дельты на восток, занимала Сагинская конфедерация (сагины). На северном склоне Большого Кавказа в горах и предгорьях, прорезанных притоками Кубани, сложилась Касожская конфедерация (касоги). В VII веке зихи, присоединив к себе приморских сагинов, расселились до Таманского полуострова. Касоги, поглотив восточную часть союза сагинов, вышли к Северной Кубани. В это время адыги и попали в сферу влияния Хазарского каганата. Во второй половине VIII века произошло объединение всех адыгских племен и общин под властью «князя из князей» Инала, пользовавшегося поддержкой хазар. После его смерти это образование распалось. Константин Багрянородный, говоря об адыгах, называет три самостоятельные области, существующие в их земле: Зихию, Папагию и Касахию. Последняя считалась самой сильной. Во второй половине IX – середине X века активизируется противостояние адыгов хазарам (в этом отношении особенно выделяется Зихия). В то же самое время начинаются вторжения в земли адыгов кавказских алан. Константин Багрянородный сообщает по этому поводу: «Вдоль побережья Зихии [в море] имеются островки, один крупный островок и три [малых], ближе их к берегу есть и другие, используемые зихами под пастбища и застроенные ими, – это Турганирх, Царваганин и другой островок. В бухте Спатала находится еще один островок, а в Птелеях – другой, на котором во время набегов аланов зихи находят убежище»{275}. Идентификация этих островков-убежищ затруднительна. Есть мнение, что имеются в виду острова Кубанской дельты: к середине X века относится появление на территории дельты и на берегах Керченского пролива выходцев из различных адыгских общин, составивших отдельную группу адыгов{276}.
Выходит, спустившись по Дону в Азовское море, продвигаясь далее в направлении Керченского пролива (Боспора Киммерийского) или уже пройдя пролив и оказавшись в Черном море, Святослав столкнулся на морском побережье с этими «островными» адыгами, называемыми в русской летописи «касогами». Как и в случае с ясами, для этого вовсе не нужно было отправляться далеко на Кавказ. В «Повести временных лет» под 1022 годом помещен любопытный рассказ. Внук Святослава Мстислав, владевший Тмутараканью, отправляется походом на касогов: «Узнав же об этом, князь касожский Редедя вышел навстречу ему. И когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: „Чего ради мы будем губить наши дружины? Сойдемся и сами поборемся. И если одолеешь ты, – возьмешь имущество мое, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то я возьму все твое“. И сказал Мстислав: „Пусть будет так“. И сказал Редедя Мстиславу: „Не оружием будем биться, но борьбою“. И схватились крепко бороться, и начал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: „О Пречистая Богородица, помоги мне! Если одолею его, построю церковь во имя твое“. И сказав это, ударил Редедю о землю. И выхватив нож, зарезал Редедю. И пошел в землю его, взял все имущество его, и жену его, и детей его, и дань возложил на касогов. И, вернувшись в Тмуторокань, заложил церковь Святой Богородицы, и построил ее; стоит она и до сего дня в Тмуторокани»{277}. Как видим, и тут касоги живут в непосредственной близости от таманского побережья Керченского пролива, где располагались владения Мстислава Владимировича (вряд ли князь забирался ради поединка с Редедей к нынешним черкесам).
Летопись сообщает, что Святослав победил ясов и касогов. Что имеется в виду? Сопровождалось ли столкновение князя с касогами столь же драматическими сценами, как и в случае с его внуком? Судя по рассказам византийцев, Святослав не любил решать вопросы в единоборстве с противником. Из летописного рассказа неясно и то, какие последствия имели эти победы Святослава. Любопытно, что у адыгов сохранилось предание, возможно, способное пролить свет на эти события. В нем сообщается, что два адыгейских князя – Безруко Болотоков и Алегико Канжов – соединили свои силы и отправились воевать Хазарию. Посланный с малым отрядом в разведку, Алегико неожиданно для него наткнулся на хазарское войско, числом превосходившее его силы, и был взят в плен. Три года князь томился в плену у хазар в их крепости, которая называлась то ли «Аскала», то ли «Саркала» и находилась за Доном. (Первый издатель этого предания Ш. Б. Ногмов (ум. 1844) пояснял, что «саркала» на персидском языке означает «главная крепость», Аскала – «Азовская крепость»{278}.) В это время в землях адыгов во главе многочисленного войска появился новый неприятель – «татарский хан». Между противниками произошло несколько сражений, а затем на помощь к адыгам подошли «опсы» (овсы-аланы). Узнав об этом, хан согласился заключить мир, а затем бывшие враги, соединив силы, сообща напали на «Саркалу». В этом походе в качестве главного помощника «хана» выступает вышеупомянутый князь адыгов Безруко. Поход был удачным, союзники разбили войско хазар, взяли «Саркалу» и освободили Алегико. Далее Ш. Б. Ногмов сообщает, что победители «заняли все царство Хазарское по берегу Азовского моря и овладели Тамтаракаем. Нашим войскам досталась богатая добыча. Видя ревность и хорошее содействие наших войск, хан благодарил их за храбрость и мужество и, наградив богатыми дарами, отпустил с почестями в отечество. Это счастливое возвращение наших войск способствовало к поддержанию народа, страдавшего тогда от голода по случаю неурожая»{279}. Издатель предания, известный как первый кабардинский ученый и просветитель, видел в описываемых событиях отражение истории походов Святослава на ясов и касогов. «Не мудрено, – писал он, – что предание, переходя от поколения к поколению, могло исказиться, и имя Русских, которые сделались впоследствии неизвестными нашему народу, забылось. После падения Тмутараканского княжества наш народ не имел с ними сношений и в продолжении с лишком пяти столетий, до самого царствования Иоанна Васильевича Грозного. Могло быть, что имя Русских исчезло в памяти народной и было заменено именем Татар, которые заняли на западе то место, от которого приходили Русские к Косогам, или Кахам. Излишне упоминать, что Татар еще не было в Крыму, когда по берегам Азовского моря существовало царство Хазарское»{280}. Трудно судить, насколько в этом предании отразились реальные события, происходившие в Подонье и Приазовье в середине 60-х годов X века. Неясно также, где в публикации Ш. Б. Ногмова текст предания, а где его умозаключения, сделанные после ознакомления с ранней русской историей. Летопись относит столкновение с ясами и касогами ко времени после взятия Саркела, но летописец мог что-то и перепутать, хотя сам путь Святослава по Дону не предполагает контакта с адыгами до взятия донской крепости хазар. Другое дело – крепость «Тамтаракай», название которой Константин Багрянородный передает как «Таматарха». Учитывая скорое появление на месте Таматархи русской Тмутаракани с потомком Святослава в качестве князя, можно сделать вывод, что предание в целом верно указывает место следующего приложения богатырской силы русских дружинников, а возможно, и вовлеченных в это движения ясов и касогов{281}. Вопрос о времени появления русов на Тамани и возникновения здесь русского княжения сохраняет свою актуальность и по сей день. Коснуться его необходимо еще и потому, что мы, возможно, получим объяснение, зачем Святослав, уже овладев Саркелом и подчинив вятичей, устремился к Керченскому проливу.
С глубокой древности на Таманском полуострове, представлявшем собой несколько островов в дельте Кубани, жили люди. Их привлекали сюда теплый климат, разнообразие животного мира, речные и морские рыбные богатства, огромные запасы питьевой воды (грунтовой, которую можно было добыть колодезным способом). На самом большом острове дельты, на высоком холме, более двух с половиной тысяч лет тому назад возник античный город Гермонасса. На его-то месте выросла уже в хазарское время Таматарха. Любопытно, что Тамань виделась островом всем посещавшим ее, как в XI веке, когда это была русская Тмутаракань, так и в XVII веке, когда ею владели татары{282}. Несмотря на длительную историю поселения, мы знаем о нем не очень много, о Таматархе особенно. Информации в письменных источниках мало, археологам работать здесь сложно – на месте станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края, в черте которой располагались Гермонасса и Таматарха, а позднее и русская Тмутаракань, постоянно кипела жизнь. Культурные слои античного, средневекового и современного периодов перекопаны и «перемешаны» жителями, которые веками здесь что-то строили, сеяли и, наконец, искали клады. Чего стоило науке одно только возведение в 1794 году, после перехода Тамани к России от Турции, крепости Фанагория! Для ее строительства по приказу А. В. Суворова использовали «близ лежащих развалившихся Таманской крепости стен и башен камень, а сверх того и все найденные мраморные камни и другие древние вещи, имеющие на себе достопамятные знаки», которые предписано было «хранить для приличного употребления на новую крепость»{283}. В результате были сняты верхние пласты культурного слоя по всей территории Таманского городища. В данном случае я вовсе не хочу упрекнуть наших военных специалистов XVIII века: в неспокойных тогдашних условиях при дефиците времени они избрали самый короткий и верный путь…
Во второй половине IX века владевшие городом хазары, от которых и пошло название Таматарха («Тумен-тархан», то есть место ставки военачальника – тархана – главы округа, выставлявшего десять тысяч воинов – «тумен»), возвели вокруг него мощные укрепления. Это было связано с нашествием на Крым венгров, а затем печенегов. Судя по картине, вырисовывающейся на основе материалов, полученных в результате кропотливого труда не одного поколения отечественных археологов, перед воинами Святослава, подступившими к крепости, должно было предстать зрелище неприступной твердыни{284}. Ширина стен Таматархи достигала в ряде мест семи с половиной метров при их высоте от основания до восьми-десяти метров. Размер желтых сырцовых кирпичей, из которых сложили ядро стены, скрепленных раствором глинистой земли, в среднем составлял 0,4 на 0,2 метра, при толщине шесть-семь сантиметров. Для того чтобы сохранить стену от обрушения, снаружи и внутри ее были сооружены каменные панцири толщиной 0,7-0,9 метра из крупных булыжников, плитняков, известняков и песчаников. Камни были пригнаны один к другому очень хорошо и скреплены всё тем же земляным раствором. В пространство между панцирями и ядром были также заложены камни и земля, составившие отходы строительства. Над стеной были возведены деревянные постройки, а вокруг нее – вал и ров. Археологи обнаружили остатки разрушенной шести- или семиугольной башни, возведенной из самана, камней и кирпича; длина каждой из ее сторон равнялась 4,3-4,4 метра. Деревянный настил делил постройку на два этажа, венчала ее деревянная крыша. Это сооружение было одной из оборонительных башен-донжонов (одной из немногих или даже единственной – среди ученых нет общего мнения на этот счет).
Внутренняя площадь города достигала 30 гектаров, что предполагает численность населения примерно в шесть тысяч человек. Таматарха была значительно крупнее Саркела. Это был крупный перевалочный пункт, через который проходили многие морские и сухопутные пути. Вот что сообщает об интересующем нас месте на Тамани Константин Багрянородный: «Из Меотидского озера (Азовского моря. – А. К.) выходит пролив по названию Вурлик (Керченский. – А. К.) и течет к морю Понт (Черное море. – А. К.); на проливе стоит Боспор (нынешняя Керчь. – А. К.), а против Боспора находится так называемая крепость Таматарха. Ширина этой переправы через пролив 18 миль. На середине этих 18 миль имеется крупный низменный островок по имени Атех (?). За Таматархой, в 18 или 20 милях, есть река по названию Укрух (Кубань. – А. К.), разделяющая Зихию (страну адыгов. – А. К.) и Таматарху, а от Укруха до реки Никопсис (возможно, река Нечепсухо к северу от Туапсе. – А. К.), на которой находится крепость, одноименная реке, простирается страна Зихия»{285}. В другом месте трактата сообщается, что «вне крепости Таматарха имеются многочисленные источники, дающие нефть»{286}. Нефть являлась важным элементом страшного «жидкого огня», и Таматарха поставляла ее ромеям. Кроме этого, город славился своей посудой. Процветало здесь и виноделие.
Среди ученых нет единого мнения по вопросу о том, кому принадлежали берега Керченского пролива на момент появления под стенами Таматархи русов Святослава. Город, пестрый по своему этническому составу (здесь жили хазары, греки, болгары, аланы, евреи, адыги, арабы, русы, армяне, печенеги, венгры, гузы), насчитывал к тому времени полуторатысячелетнюю историю. Принадлежавший попеременно византийцам и хазарам, с укреплениями, возведенными по заказу каганата, но при содействии византийских мастеров, он сохранял культурный стиль византийской провинции, в который влились и элементы культуры Хазарского каганата.
Самым естественным, кажется, признать принадлежность Боспора и Таматархи хазарам. Представление об этом сложилось давно и основывается на следующем. Арабский историк и географ ал-Масуди (ум. 956), сообщая о походе русов на Каспий в 912-913 годах, в своем сочинении «Промывальни золота и рудники драгоценностей» (другой вариант перевода – «Золотые копи и россыпи самоцветов») пишет, что тогда «около 500 кораблей, из коих на каждом было сто человек (из русов. – А. К.), вошли в рукав Найтаса, соединяющийся с Хазарскою рекою. Здесь же хазарским царем поставлены в большом количестве люди, которые удерживают приходящих этим морем, также приходящих сухим путем с той стороны, где полоса Хазарского моря соединяется с морем Найтас… После того как русские суда прибыли к хазарским людям, поставленным при устье рукава, они (русы. – А. К.) послали к хазарскому царю просить о том, чтоб они могли перейти в его страну, войти в его реку и вступить в Хазарское море»{287}. Из этого сообщения следует, что ал-Масуди, как и многие арабские авторы, верил, что море Найтас (Черное море) каким-то «рукавом» (проливом) соединяется с Хазарской рекой (Волгой), по которой русы и попали в Хазарское море (Каспийское). У устья этого «рукава» ал-Масуди и помещал хазарский гарнизон. Один из первых русских специалистов по истории хазар В. В. Григорьев в 1835 году утверждал, что в «означенном месте находился город Таматарха, принадлежавший хазарам», ссылаясь при этом на каких-то «византийских писателей»{288}. Предположение Григорьева поддержал и знаменитый А. Я. Гаркави, издавший вышеуказанный отрывок из сочинения арабского географа{289}.
Тот же А. Я. Гаркави поместил в своем своде известий восточных авторов о русах и славянах отрывок из только что ставшей известной «Книги стран» Ибн ал-Факиха, сведения которого относились к IX веку: «Что касается славянских купцов, то они возят меха лисиц и меха выдр из дальнейшего конца Славонии, для чего они отправляются к Румскому морю, где владетель Рума берет с них десятину; затем идут по морю к Самкушу – Еврею, после чего они обращаются к Славонии. Потом они берут путь от Славянского моря, пока не приходят к Хазарскому рукаву, где владетель Хазара берет с них десятину; затем они идут к Хазарскому морю по той реке, которую называют Славянской рекой»{290}. В Самкуше Гаркави видел «какой-нибудь прибрежный город Черного моря, может быть, в Крыму», в «Славянском» море – Азовское, а в «Славянской» реке – Волгу{291}. Он не отождествлял «Самкуш» с «Таматархой», располагавшейся на Тамани, хотя описание хазарского гарнизона и «рукава», соединяющего «Русское», или «Славянское», море (у ал-Масуди Черное и Азовское моря – это одно море{292}), столь сходно, что у большинства писавших впоследствии авторов не вызывало сомнений, что Самкуш – это Таматарха.
Новые аргументы в пользу принадлежности Таматархи хазарам были обнаружены в знаменитой еврейско-хазарской переписке X века. История этой переписки такова: живший в первой половине X века сановник кордовского халифа Хасдай ибн Шафрут, происходивший из влиятельного еврейского рода, получил от еврейских купцов сведения о существовании Хазарского каганата, правители которого исповедуют иудаизм. При посредничестве этих же купцов Хасдай направил письмо хазарскому царю, которого звали Иосиф, а затем получил от него ответ. Письмо Хасдая дошло до нас в единственной редакции, а ответ Иосифа – в двух (краткой и более пространной). В пространной редакции письма Иосифа есть такое место: «…до границ моря Кустандины, на протяжении двух месяцев пути, все платят мне дань. С западных сторон – Ш-р-кил, С-м-к-р-ц, К-р-ц, Суг-рай, Алуса, Л-м-б-г, Б-р-т-нит, Алуби-ха, Кут, Манк-т, Бур-к, Ал-ма, Г-рузин. Эти (местности) расположены на берегу моря Кустандины, к западной (его) стороне»{293}. Первые пять городов русский издатель переписки П. К. Коковцов определял как Саркел (Белая Вежа), Самкерц (Самкуш, Таматарха-Тмутаракань), Керчь (Корчев), Судак, Алушта{294}.
В настоящее время большинство исследователей признают тождество Самкерца и Таматархи. Большинство, но не все. Некоторые ученые их различают, помещая Самкерц не на Тамани, а на Керченском полуострове и отождествляя его с Керчью («К-р-ц» еврейско-хазарской переписки), точнее с каким-то еврейским пригородом древней Керчи. В качестве доказательства указывается на то, что, во-первых, превращение формы «Таматарха» в форму «Самкерц» маловероятно; во-вторых, перечень городов Крыма в переписке – вообще самое сомнительное место в этом источнике; в-третьих, в ряде русских источников Керчь (русская форма – «Корчев») появляется в форме «Скурцевъ» (Самкерц?){295}. Любопытно, что Константин Багрянородный, дважды упоминая Таматарху в своем трактате, ни разу не говорит о ее принадлежности хазарам. Не относит он ее и к владениям византийцев, адыгов или русов. Замечание о последних сделано вовсе не для искусственного увеличения «количества» вероятных владельцев. Дело в том, что историками уже на протяжении двух столетий периодически высказывается предположение о том, что русы играли в Приазовье более активную роль в период, предшествующий появлению здесь дружин Святослава. Придется коснуться и этого вопроса, как кажется, несколько отойдя от предмета книги – биографии Святослава. Но это только так кажется.
В исторических исследованиях XIX – начала XX века любили писать о проблеме загадочной Приазовской (или, как ее еще называли, Азовско-Черноморской, Черноморской, Тмутараканской, Таманской, Азовско-Донской, Южной) Руси. Речь шла о предположительном раннем расселении русов, в которых видели славян, в Приазовье и даже о принадлежности им Тмутаракани еще до похода сюда Святослава. Эти положения не подтвердились археологическими данными. Еще в начале XX века А. А. Спицын выступил против гипотезы о раннем проникновении славяно-русского населения на Нижний Дон и в Приазовье, признавая жителями этого региона алан{296}. А в 1930-х годах трудами археологов М. И. Артамонова и И. И. Ляпушкина было установлено, что до конца X века Азовско-Черноморский регион был заселен племенами, основной археолого-этнографический признак которых – керамика – существенно отличается от керамики, характеризующей памятники того же времени (VIII-X века) на исконно славянских территориях. Славяне распространились на Дону и Тамани только в XI веке, археологически сменив салтово-маяцкую культуру, которая сближается, с одной стороны, с аланской культурой Северного Кавказа, с другой – с болгарской (неславянской) культурой Добруджи и Среднего Поволжья{297}. Правда, если Артамонов считал, что салтовская культура входила в состав Хазарского каганата, то Ляпушкин не был склонен расширять за их счет размеры государства хазар. Впрочем, независимо от этих нюансов, с 1930-х годов появление русов в Приазовье принято связывать исключительно с распространением на этот регион влияния киевских князей (Святослава или его сына Владимира){298}. На этом можно было бы поставить точку, если бы не материалы письменных источников.
Константин Багрянородный нигде прямо не говорит о присутствии русов в Приазовском регионе. К «русской» теме он обращается в семи главах своего трактата «Об управлении империей» (2, 4, 6, 9, 13, 37 и 42-й). Специально русам посвящена только 9-я глава, в которой повествуется об образе жизни русов и об их путешествиях из Киева в Константинополь. В остальных русы лишь упоминаются, хотя и эти главы содержат интересную информацию. Например, рассказывая о печенегах (во 2-й главе), автор сообщает, что поскольку печенеги «стали соседними и сопредельными» русам, то «когда у них нет мира друг с другом, они грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб». Поэтому русы «озабочены тем, чтобы иметь мир» с печенегами{299}. Далее в трактате содержится странное утверждение о том, что русы покупают у печенегов «коров, коней, овец и от этого живут легче и сытнее, поскольку ни одного из упомянутых выше животных в Росии не водилось»{300}. М. В. Бибиков, автор комментария к этой главе в последнем и, пожалуй, лучшем издании книги «Об управлении империей», отмечает ошибочность утверждения Константина Багрянородного об отсутствии скота у русов. Исследователь объясняет это тем, что неверная информация была получена императором, «вероятно, от византийского купца, а не от болгарина или печенега, знавших лучше реальную ситуацию»{301}.
В этой же главе сообщается о том, что русы, если не находятся в мире с печенегами, вообще не могут отправляться для войны или торговли «от своих семей», так как печенеги всегда имеют возможность, «напав, всё у них уничтожить и разорить». Не могут русы, враждуя с печенегами, появиться и у Константинополя, поскольку когда они «с ладьями приходят к речным порогам и не могут миновать их иначе, чем вытащив свои ладьи из реки и переправив, неся на плечах, нападают тогда на них люди этого народа пачинакитов (печенегов. – А. К.) и легко – не могут же росы двум трудам противостоять – побеждают и устраивают резню»{302}.
В 4-й главе император вновь пишет о пользе союза с печенегами: если василевс ромеев находится в мире с ними, то не только русы, но и венгры не могут нападать на державу ромеев и требовать у ромеев за мир «великих и чрезмерных денег и вещей», потому что печенеги, «связанные дружбой с василевсом и побуждаемые его грамотами и дарами, могут легко нападать на землю росов и турок (венгров. – А. К.), уводить в рабство их жен и детей и разорять их землю»{303}. В. П. Шушарин, комментируя это место источника, отмечает: «Запись этих сведений Константина осуществлена, несомненно, до 895 года, когда мадьяры перешли через Карпаты и начали осваивать Среднее Подунавье, так как о каких-либо нападениях печенегов на здешние места обитания мадьяр неизвестно»{304}.
Сообщив в 5-й главе, что эти же печенеги могут выступить и против Дунайской Болгарии, в 6-й главе Константин Багрянородный отмечает: «…другой народ из тех же самых пачинакитов находится рядом с областью Херсона. Они и торгуют с херсонитами, и исполняют поручения как их, так и василевса и в Росии, и в Хазарии, и в Зихии, и во всех тамошних краях…»{305} Судя по всему, речь идет о совершенно другом регионе – и племя печенегов другое, и рядом с ними Херсон, Хазария, Зихия (группа адыгских племен, обитавших на побережье Черного моря) – в общем, Причерноморье. Но в этом же регионе оказывается и Росия, хотя выше сообщалось о путешествиях русов в Константинополь по Днепру.
Обнаруженную нами путаницу в сообщениях о русах не проясняет и 37-я глава, специально посвященная печенегам. Сообщается, что страна печенегов («Пачинакия») делится на восемь «фем», во главе которых столько же «великих архонтов»; фемы же делятся на 40 частей во главе с архонтами «более низкого разряда». Четыре рода печенегов (фемы Куарцицур, Сирукалпеи, Вороталмат и Вулацопон) «расположены по ту сторону Днепра по направлению к краям (соответственно) более восточным и северным, напротив Узии, Хазарии, Алании, Херсона и прочих Климатов. Остальные же четыре рода располагаются по сю сторону реки Днепра, по направлению к более западным и северным краям, а именно: фема Гиазихопон соседит с Булгарией, фема Нижней Гилы соседит с Туркией, фема Харавои соседит с Росией, а фема Иавдиертим соседит с подплатежными стране Росии местностями, с ультинами (уличами. – А. К.), дервленинами (древлянами. – А. К.), лензанинами и прочими славянами. Пачинакия отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути, от Алании – на шесть дней, от Мордии – на десять дней, от Росии – на один день, от Туркии – на четыре дня, от Булгарии – на полдня, к Херсону она очень близка, а к Боспору еще ближе»{306}. Непонятно, какие печенеги живут близко к Боспору и почему в данной главе фема Харавои, соседствующая с Росией, относится к краям «западным и северным», в то время как фемы, расположенные «напротив Узии, Хазарии, Алании, Херсона и прочих Климатов», относятся к иному региону, а между тем в главе 6-й со всеми этими странами соседствует одна и та же группа печенегов. В главе 42-й уверенно сообщается, что русы живут «в верховьях реки Днепр»; «отплывая по этой реке, они прибывают к ромеям»{307}. Противоречие не исчезает. В одном месте своего трактата Константин Багрянородный помещает русов в Причерноморье, в других – в Поднепровье. Можно предположить, что у царственного автора относительно местоположения русов были разные информаторы. Возможно, он пользовался разновременной информацией.
Любопытно, что Константин Багрянородный не единственный византийский автор X века, помещавший поселения русов в районе Керченского пролива. В «Истории» Льва Диакона, содержащей самое полное описание русско-византийской войны 971 года, ставшей кульминацией военной карьеры нашего Святослава, император Иоанн Цимисхий требует от русского князя, чтобы тот «удалился в свои области и к Киммерийскому Боспору», то есть Керченскому проливу{308}. Возможно, речь идет о принадлежности этому князю Таматархи-Тмутаракани как результате похода середины 960-х годов. Но позднее Цимисхий напоминает Святославу о том, что отец последнего, Игорь, спасся в 941 году, уйдя все к тому же Киммерийскому Боспору с десятком лодок{309}. Кроме того, в других местах автор «Истории» называет русов «тавроскифами» и «таврами», в чем также содержится намек на то, что, по его мнению, их родина находится на Боспоре Киммерийском. А в восьмой книге своего сочинения Лев Диакон, рассказывая о сражении русов и ромеев, отмечает: «Скифы (русы. – А. К.) (всегда) сражаются в пешем строю; они не привыкли воевать на конях и не упражняются в этом деле. Поэтому они не выдержали натиска ромейских копий, обратились в бегство и заперлись в стенах города»{310}. В девятой книге он продолжает развивать эту тему, сообщая, что во время другого сражения русы «впервые появились тогда на конях. Они всегда прежде шли в бой в пешем строю, а ездить верхом и сражаться с врагами (на лошадях) не умели. Ромеи тотчас вооружились, вскочили на коней, схватили копья (они пользуются в битвах очень длинными копьями) и стремительно, грозной лавиной понеслись на врагов. Ромейские копья поражали (скифов), не умевших управлять лошадьми при помощи поводьев. Они обратились в бегство и скрылись за стенами»{311}. Как видно, Лев Диакон следует здесь, подобно Константину Багрянородному, какой-то традиции, согласно которой русам были незнакомы не только кони, но и коровы, овцы и т. д. Согласно этой же традиции русы жили где-то в Причерноморье. Менее информированный, сравнительно с василевсом ромеев, Лев Диакон другой традиции изображения русов не знал. Константин Багрянородный, располагавший информацией от лиц, непосредственно русов наблюдавших, помещал их на Днепре. Однако традиция изображать русов безлошадными обитателями областей близ Керченского пролива была столь устойчива, что она отразилась и в труде «Об управлении империей», внеся в него некоторую путаницу.
О существовании поселений русов у Черного моря писали не только византийцы. Вышеупомянутый ал-Масуди также сообщает о том, что Черное море «есть Русское море, никто кроме (русов) не плавает по нему, и они живут на одном из его берегов»{312}. Любопытно, что Черное море, как «Русское», было известно в Европе до конца XI века{313}. Наконец, в русско-византийском договоре 944 года имеется особая статья «О Корсунской стране», в которой русы обязуются не пускать племена черных болгар (еще один осколок Болгарской орды, оставшийся в Приазовье), идущих со стороны степей, в земли херсонцев{314}. Для этого нужно было обладать какими-то соседними с Корсунской страной землями, на северных или восточных берегах Азовского моря или в Крыму. Да и статьи договоров 911 и 944 годов, требующие, чтобы русы оказывали помощь потерпевшим кораблекрушение грекам, предполагают, что речь идет скорее о морском побережье, берегах Черного или Азовского морей{315}.
Итак, данные разнообразных письменных источников помещают русов в Азовско-Черноморском регионе. В хрисовуле византийского императора Мануила I Комнина от 1169 года сообщается, что генуэзские купцы получили право торговли во всех областях «нашего царства, за исключением Росии и Матрахи»{316}. Города «Матраха» (Таматарха-Тмутаракань) и «Русийа» (современная Керчь) упоминаются и в труде арабского географа ал-Идриси (около 1100-1164) «Развлечение страстно желающего странствовать по землям»{317}. Получается, «Росия-Русийа» не тождественна «Матрахе» (Таматархе-Тмутаракани), а поскольку термином «Матраха» обозначался не только город, но и вся примыкающая область, то и «Росия» – название области, но не на Таманском полуострове, а в Крыму{318}. Нельзя оставлять без внимания и наличие на северном побережье Азовского моря топонимов с корнями «рос» и «рус»{319}.
Этим данным, как кажется, противоречит тезис об отсутствии славян в Крыму и на Тамани до конца X века. Выход из создавшегося положения был предложен в работах Г. В. Вернадского, С. П. Толстова, П. Н. Третьякова, Д. Т. Березовца, Д. Л. Талиса, А. Г. Кузьмина{320}. Указанные авторы, особенно Д. Т. Березовец и Д. Л. Талис, указывая на этническую общность населения Степного и Предгорного Крыма второй половины I тысячелетия н. э. с алано-болгарским миром Подонья и Приазовья, в то же время доказывали, что археологические данные позволяют идентифицировать часть населения Крыма VIII – начала X века с русами в описании арабских авторов. Приазовская Русь действительно существовала, но это была Русь не славянская, а, если так можно выразиться, «салтовская». Регион салтово-маяцкой культуры охватывает столь разные народы (от алан до болгар), что С. А. Плетнева насчитывает в ней шесть вариантов (правда, сама она, вслед за М. И. Артамоновым, считала эту культуру принадлежащей Хазарскому каганату).
Трудно установить, почему часть алан, живших в Приазовье, арабские и византийские источники называют русами. Корни «рус»-«рос» в индоевропейских языках широко распространены, причем в разных группах в них вкладывается неодинаковый смысл. А. Г. Кузьмин писал в связи с этим о существовании в Европе в период Средневековья более десятка разноэтничных, не связанных между собой, Русий, видя в Приазовье и Среднем Поднепровье лишь две из них{321}. Их, судя по всему, путали, как путали арабские авторы Волжскую и Дунайскую Болгарии{322}. Отсюда и перенесение на киевских русов наименования тавро-скифов, и убежденность Льва Диакона и Константина Багрянородного в существовании Руси в Приазовье.
Однако все это в середине X века было только данью традиции. Д. Л. Талис отмечал, что поселения крымских русов погибают в начале X века, «что, по-видимому, связано с периодом первой печенежской активности»{323}. Отметим, что содержащееся в 4-й главе трактата Константина Багрянородного сообщение о нападениях печенегов на венгров и русов отражает информацию источника конца IX века. Возможно, сыграло свою роль и давление Хазарии. Конечно, русы не владели в первой половине X века Таматархой. Лишь в 960-х годах она впервые попадает под их власть, но это были уже русы приднепровские, киевские. Возможно, что при продвижении в Приазовье Святослав опирался на каких-то уцелевших здесь приазовских русов. Не исключено, что между двумя «Русиями» существовали давние связи, что и отразилось в договоре 944 года{324}, и наличие этих связей толкнуло нашего князя на Тамань. Но все это лишь предположения, предположения и еще раз предположения…
Вышесказанное позволяет разобраться и в информации, которая содержится в 9-й главе трактата Константина Багрянородного, специально посвященной русам. Как мы помним, царственный автор сообщает, что «приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы (ладьи. – А. К.) являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: кривитеины, лендзанины и прочии Славинии – рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти (водоемы) впадают в реку Днепр, то и они из тамошних (мест) входят в эту самую реку и отправляются к Киову. Их вытаскивают для (оснастки) и продают росам. Росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины и прочее убранство… снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трех недель, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр»{325}. Далее следует описание полного опасностей пути русов через днепровские пороги, вдоль северо-западного побережья Черного моря в Византию. В конце главы сообщается о «зимнем образе жизни» русов, когда их «архонты» «со всеми росами» выходят из Киева и отправляются в полюдья{326}.
Упоминание о «внешней Росии» вызвало оживленную дискуссию среди ученых. Одним виделось, что «внешняя Росия» – это земли славян (со всеми перечисленными городами), подчиненные «Росии внутренней» (термин восстанавливается как оппозиция к «внешней Росии»), то есть Киеву, откуда выходят росы в полюдье. Другие считали, что эти Росии – «внешняя» («Немогард», где сидел на княжении Святослав, в котором чаще всего видели нынешний Великий Новгород) и «внутренняя» (Киев – все остальные росы) – два основных пункта пребывания росов. Кто-то видел во «внутренней Росии» землю полян, Русь «в узком смысле», кто-то – во «внешней» – Северную Русь с границей где-то между Новгородом и Смоленском. Кому-то представлялось, что в выделении «внешней Росии» отразилась не русская, а византийская географическая традиция, где «внутренняя Росия» – ближайшие к Византии земли в Поднепровье, а «внешняя» – отдаленная Новгородская земля{327}. Между тем при внимательном чтении текста видно, что «внешняя Росия» – это и «Немогард», и «Милиниска», и «Телиуца», и «Чернигога», и «Вусеград», и «Киов» – все города, откуда в Константинополь приходят «моноксилы» русов. Киев здесь – только место сбора этих судов, та же «внешняя Росия» (учеными неоднократно отмечалось, что странно относить к разным «Росиям» Киев и Вышгород, располагавшийся в 20 километрах от Киева и принадлежавший Ольге, жене Игоря). При этом «пактиоты» (союзники) росов – славяне – не имеют к «внешней Росии» никакого отношения. Получается, что, по мнению Константина Багрянородного, «внешняя» Русь – это города, разбросанные по Днепру. Таким образом, в приведенном тексте не названо ничего, что относилось бы территориально к Руси «внутренней». М. А. Шангин и А. Ф. Вишнякова, верно отметившие это обстоятельство, предлагали вообще выбросить из текста слово «внешняя», считая его появление ошибкой переписчика, попавшей в текст с «поля рукописи»{328}. Однако подобное предположение малоубедительно и представляется попыткой не решить проблему, а уйти от нее. Не стоит забывать, что кроме Константина Багрянородного «внешняя Русь» («ар-Русийа внешняя») упоминается и в арабских источниках, в частности в труде вышеупомянутого арабского географа XII века ал-Идриси, и тоже без противопоставления ей «внутренней Руси»{329}.
Приходится признать, что словосочетание «внешняя Росия» в тексте есть и оно поставлено рядом с сообщением об «Ингоре» (Игоре), архонте просто «Росии», отце «Сфендослава», который «сидел» в «Немогарде». Комментировавшие эту главу сочинения Константина Багрянородного Е. А. Мельникова и В. Я. Петрухин писали о сложности, неоднородности ее состава, об использовании здесь сообщений двух информаторов. Это, во-первых, «один из „росов“, член великокняжеской дружины (и, видимо, достаточно высокопоставленный, может быть, один из тех, чья подпись стоит в договоре 944 года), скандинав по происхождению, хорошо владевший и древнерусским языком» (некий «двуязычный рос», которому приписывается «описание сбора моноксил в Киеве и Витичеве, описание днепровских порогов и пути до острова Святого Эферия»); и, во-вторых, просто какой-то «русскоязычный информатор», сообщивший сведения о жизни росов, использованные в конце главы{330}. Любопытно, что авторы комментария не заметили или решили оставить без внимания вышеуказанный комментарий М. В. Бибикова в том же издании, правда к другой главе трактата, о том, что среди информаторов Константина Багрянородного был и некий «византийский купец», владевший не вполне верной информацией о русах, а также комментарий В. П. Шушарина (еще одна глава того же издания) о том, что информация императора кое-где отражает реалии полувековой давности, соответственно и источник этой информации у Константина свой – уже четвертый по счету. Чересчур сложным представляется и предположение о «двуязычном росе», который сыпал перед ромеями несколькими названиями одних и тех же днепровских порогов. Не проще ли предположить, что и по этому вопросу у Константина VII было несколько информаторов, в том числе и осевший в Киеве скандинав, считавший теперь себя «русом»? При этом он не обязательно был участником посольства 944 года. Напомню, что еще С. А. Гедеонов предполагал, что при составлении этой главы могли использоваться сведения, отражавшие реалии гораздо более раннего времени, еще до похода 941 года, когда Святослав сидел на княжении в «Немогарде»{331}. О том, что информаторов у Константина Багрянородного при написании 9-й главы было много, а сама информация накапливалась десятилетиями, можно судить и по сообщению о «крепости Киоава, называемой Самватас». Этот «Самватас» стал настоящей головоломкой для историков. Мы не будем углубляться в историю вопроса; ясно, что «Киоав» – это славянское название столицы русов, а «Самватас» выдает среди византийских информаторов какой-то восточный источник, возможно, хазарский. Под таким названием хазары могли знать Киев или одно из укрепленных поселений на киевских горах{332}.
Даже первое предложение 9-й главы и то составлено из нескольких источников. И если «внешняя Росия» – это вся днепровская Русь, то пояснение, данное Константином, что малоизвестный тогда Святослав – это сын «архонта Росии» Игоря, хорошо известного византийцам как раз по походу 941 года, особенно любопытно. Ведь это пояснение – данное, подчеркну, самим царственным автором, а не его русскими информаторами, – явно разделяющее «внешнюю Росию» и «Росию» Игоря, является отражением все той же традиции, помещающей владения русов в Приазовье, куда, согласно Льву Диакону, и отступил Игорь после поражения в морском сражении с ромеями. Маловероятно, что Игорь действительно выбрал этот путь для возвращения в Киев. Просто Лев, традиционно помещая русов на Боспоре Киммерийском, только сюда и мог направить русского князя. Однако представления о том, что русы когда-то жили в Приазовье, возможное сохранение здесь их остатков, вероятные связи с ними русов приднепровских – все это свидетельствует о том, что Киев имел в этом регионе свои интересы. Поэтому появление Святослава на Керченском проливе после разгрома хазарского Саркела, побед над вятичами, ясами и касогами вполне закономерно. Хотя и в этом случае нам не вполне понятны цели, которые преследовал князь, и неясны результаты, которых он добился.
Мы не знаем, кому принадлежали берега Керченского пролива в начале 60-х годов X века, владели ли Таматархой по-прежнему хазары или она находилась под совместным контролем Хазарии и Византии, стала ли уже самостоятельным городом. Соответственно, нам неизвестно, какие силы противостояли русам в городе и противостояли ли вообще. Впрочем, последнее несомненно – такие крепости легко не сдаются. Можно, конечно, пофантазировать и представить, как воины Святослава ворвались в город, рассыпались по его узким улочкам, начали врываться в домики, сложенные из саманного кирпича и покрытые камышом (или соломой, или камкой – морской травой), а сверху обмазанные саманной грязью. Наконец, описать, как город горел, как рухнула охваченная огнем башня-донжон… Но летопись молчит о взятии Святославом Таматархи, молчат об этом и иностранные источники. Археологические данные свидетельствуют, что примерно в это время город сгорел дотла. Но пожарище могло быть и результатом повторного утверждения (или только закрепления) здесь русской власти уже при Владимире Святославиче. Кстати, было даже высказано предположение, что город подожгли сами его защитники (по этой версии – хазары), которые, испугавшись приближения Святослава, покинули Таматарху и перешли на западный берег пролива – в Боспор (К-р-ц – Керчь), решив, что здесь они будут в большей безопасности{333}. Однако это маловероятно – с чего было бросать прекрасно укрепленную крепость, да и качество укреплений Боспора в этот период оценивается учеными по-разному. Одни авторы предполагают, что Святославом в Боспоре была снесена цитадель, другие относят ее разбор к концу IX века{334}. В целом, средневековая Керчь изучена пока археологами недостаточно. Известно, что греческая колония здесь возникла значительно раньше Гермонассы, называлась она Пантикапей. Со временем Пантикапей расширил свои владения и превратился в столицу Боспорского царства, просуществовавшего около пятисот лет. Именно этот период в жизни города до недавнего времени в основном и привлекал археологов. Памятуя о славном прошлом города, византийцы называли его Боспором, хотя овладевшие в VIII веке городом хазары, как мы знаем, именовали его «К-р-ц». Под этим названием («Корчев») знали его и на Руси. Неясно, кому принадлежал город в середине X века. Большинство историков, как и в случае с Таматархой, видят в Боспоре 960-х годов хазарское владение. Некоторыми авторами обращалось внимание на то, что стоявший в городе храм, известный как храм Иоанна Предтечи, не был разрушен в ходе тех бурных событий. Из этого почему-то следовал вывод, что укрепления города разрушили не русы Святослава (язычника), а какие-то «провизантийски настроенные элементы, которые воспользовались появлением русских дружин на берегах пролива для низвержения почти трехсотлетнего господства хазар в Таврике»{335}. Остается повторить еще раз, что мы не знаем точно, как пали и Таматарха, и Боспор, равно как и не знаем, переправлялся ли Святослав через пролив вообще. Но, независимо от этого, следует признать, что появление русов на берегу пролива и падение Таматархи изменили расстановку сил в Приазовье и Крыму. Святослав оказался в непосредственной близости от крымских владений Византии – фемы Херсон{336}. Перед ним открывалось весьма широкое поле для деятельности. Его потомки в конце X-XI веке, владея Тмутараканью, неоднократно пытались влиять на положение дел в Крыму как мирным, так и военным путем. Однако наш герой неожиданно покидает Керченский пролив и устремляется в Дунайскую Болгарию. Это имело для него роковые последствия.
«Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания. Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей среди всех полезных людям вещей» – так начал свою «Историю» придворный дьякон Лев, имевший репутацию человека образованного, «книжного»{337}. Ему было около сорока лет, и за свою жизнь он стал свидетелем правления пяти императоров Византии: Константина VII Багрянородного, Романа II, Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия, Василия II. Лев Диакон повидал много необычайных и чудесных событий. Вспоминалось, как «на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя». Но среди этих «полных ужаса и достойных удивления» событий, умолчать, не поведать о которых в назидание потомкам было невозможно, особое место заняла русско-болгаро-византийская война конца 960-х годов. Ее описанию Лев Диакон посвятил шесть из десяти книг своей «Истории».
В 967 году, когда только завязывался очередной конфликт на Балканах, Льву было около шестнадцати лет (он вспоминал, что у него уже пробивалась бородка). Выходец из зажиточной провинциальной семьи, он был отправлен родителями из своего Калоэ, что на реке Каистр, во Фракисийской феме («прекрасное местечко в Азии»), в Константинополь учиться. Императором ромеев был тогда Никифор Фока, потомственный воин, неоднократно побеждавший арабов, завоеватель Крита. За несколько лет до того, как Лев прибыл в столицу империи, скончался погрязший в разврате и роскоши 25-летний василевс Роман II, оставивший двух маленьких сыновей – Василия и Константина. Про вдову Романа, красавицу Феофано, ловкую дочь трактирщика, очаровавшую падкого на всевозможные удовольствия сына императора-интеллектуала Константина Багрянородного, ходили нехорошие слухи. Всякое рассказывали про образ жизни, который императрица вела в юности. Говорили и то, что по ее совету Роман отравил отца, а затем, продержавшись у власти три с небольшим года, сам был отравлен женой, после чего «причалил к пристани смерти». Впрочем, злопыхатели могли излишне демонизировать красавицу. Из того, что она не любила свекра и свекровь, вовсе не следует, что ей был несимпатичен ее муж. Роман был молодым, красивым мужчиной, весельчаком и затейником. Если Феофано и была порочна, то молодой император явно превосходил ее испорченностью натуры. За шесть с половиной лет брака у супругов родилось пятеро детей (кроме двух вышеназванных царевичей еще и три дочери), причем за два дня до смерти мужа Феофано родила последнего ребенка – дочь Анну. Травить мужа ей было незачем. Может быть, стоит поверить в версию о том, что молодой василевс – страстный наездник – умер от внутренних повреждений, полученных во время бешеной скачки на охоте?{338} После его смерти Феофано хотела править сама, но не вышло. Никифор Фока поднял мятеж в войсках и, облачившись в царственное одеяние самодержца и воссев на горячего белого коня, украшенного царской сбруей и пурпурными коврами (царский цвет), въехал в Константинополь. Восторженно приветствуемый народом и вельможами, сопровождаемый патриархом, увенчавшим его главу царственной диадемой, Никифор вошел во дворец и занял царский трон. Немолодой вдовец, суровый солдат, он не смог устоять перед прелестями Феофано (она была моложе его более чем на 30 лет) и вступил с императрицей в брак. По Константинополю пошли разговоры о том, что их супружество нельзя считать законным, так как Никифор был восприемником детей Романа и Феофано и, следовательно, находился в духовном родстве с императрицей. Впрочем, злые языки замолчали, как только новый император выступил походом на Восток и начал крушить арабов. Сначала пали крепости Адана, Анаварза и еще свыше двадцати подобных им укреплений, затем Никифор взял Мопсуэстию и, наконец, Таре, казавшийся неприступным. В конце 966 года император вернулся в столицу и был вновь восторженно принят народом.
Льву, будущему придворному дьякону и хронисту, довелось увидеть императора спустя несколько месяцев, весной 967 года, уже после этого триумфа. Василевс в сопровождении свиты шагом проезжал на коне по городу. Юный провинциал жадно всматривался в лицо владыки мира. Никифору Фоке было далеко за 50 лет. Запомнились смуглый цвет лица, черные грустные глаза, прятавшиеся под мохнатыми бровями, слегка крючковатый нос, черная, аккуратно подстриженная борода с проседью. Император имел брюшко, вообще плотную комплекцию, очень широкие грудь и плечи, выдававшие в нем человека недюжинной силы. Невеселым был его путь. Восторги жителей столицы остались в прошлом. Виной тому явился начавшийся голод. Брат императора Лев Фока, пользуясь случаем, начал искусственно повышать цены на хлеб и пускать его в продажу со своих складов. Хлеб вздорожал в несколько раз. В народе стали обвинять братьев в том, что они обращают бедствие народа в свою пользу. Недовольна была и церковь: Никифор принял закон, направленный против сосредоточения большой земельной собственности у монастырей и богоугодных заведений. Духовенство потеряло многие льготы. В ответ императора обвиняли чуть ли не в возобновлении иконоборчества. Непрекращающиеся войны побуждали Никифора повышать налоги. На улицах шептались, что василевс безжалостно разоряет своих подданных. Императора обвиняли и в более страшном – в желании оскопить маленьких сыновей Романа II, которые были его соправителями, чтобы лишить их возможности иметь наследников и тем самым закрепить императорскую власть за своей семьей. Всех вдруг стало раздражать хозяйничанье солдатни Никифора на улицах столицы. Показательный эпизод произошел во время устроенных императором конских ристаний. До начала состязаний Никифор приказал бывшим при нем воинам сойти на арену, разбиться на противостоящие отряды, обнажить мечи и шутя наступать друг на друга, демонстрируя таким образом свое воинское искусство. Но зрители решили, что началась настоящая резня между разбушевавшимися солдатами василевса, и в панике ринулись из театра, давя друг друга. В городе потом долго еще подсчитывали число покалеченных и затоптанных до смерти в возникшей давке. Те же, кто разобрался в произошедшем на ипподроме, все равно не одобряли поступок императора, считая, что Никифор решил напугать недовольных горожан демонстрацией военной силы.
Беспорядки в столице происходили постоянно. В день, когда Лев Диакон смог лицезреть василевса, родственники и друзья погибших на ипподроме устроили драку с наемниками-армянами, составлявшими столичный гарнизон. Произошло настоящее побоище, в ходе которого армяне ранили многих горожан. На глазах у юноши в адрес проезжавшего мимо императора из толпы посыпались жестокие оскорбления. Никифор, окруженный поносившим его народом, сохранял удивительное самообладание. Впрочем, когда одна из женщин забралась на крышу дома вместе со своей дочерью и обе принялись бросать в императора камни, его спокойствию пришел конец. А затем толпа бросилась на василевса. Никифор едва вырвался из рук разъяренных горожан. К ночи беспорядки прекратились. Баб, едва не убивших императора камнями, уже на следующий день сожгли на окраине столицы. Устроить, как это было принято, казнь преступниц, покушавшихся на василевса, в центре города, поместив их в особую металлическую полую статую, имевшую форму быка, Никифор не решился. Он старался успокоить себя, списав все на опьянение городских низов по поводу праздника Вознесения Господня. Однако дворец василевса был на всякий случай обнесен неприступной стеной.
А вскоре по столице поползли слухи о готовящейся войне с болгарами. Оказывается, еще во время празднеств по поводу взятия Тарса, зимой 966/67 года, к Никифору явились болгарские послы и от имени своего царя Петра потребовали обычную дань, которую византийцы платили им уже 40 лет. Речь послов неожиданно рассердила всегда невозмутимого императора. Более того, он, говорят, впал в ярость и воскликнул необычным для него громким голосом: «Горе ромеям, если они, силой оружия обратившие в бегство всех неприятелей, должны, как рабы, платить подати грязному и во всех отношениях низкому скифскому племени!» Он еще что-то кричал, обращаясь к окружающим вельможам и своему отцу – старому полководцу Варде Фоке, а затем отказался выплачивать что-либо этому «нищему грязному племени». Мало того, император приказал отхлестать послов по щекам, вышвырнуть их из дворца, прибавив к уже сказанному: «Идите к своему вождю, покрытому шкурами и грызущему сырую кожу, и передайте ему: великий и могучий государь ромеев в скором времени придет в твою страну и сполна отдаст тебе дань, чтобы ты, трижды раб от рождения, научился именовать повелителей ромеев своими господами, а не требовал с них податей, как с невольников»{339}.
В июне 967 года жители Константинополя узнали, что император выступил в поход на болгар. Вскоре, правда, он вновь появился в столице, а конфликт с болгарами сам собой прекратился. Четверть века спустя, составляя «Историю», свидетель всей этой военной горячки Лев Диакон записал, что Никифор Фока, собрав боеспособное войско, выступил в поход против болгар и с первого же приступа овладел всеми пограничными с Византией укреплениями. Но, осмотрев лежащую перед ним страну, Никифор обнаружил, что она гориста и покрыта лесами, в ней много рек и болот. Решив, что вести туда неподготовленное войско не стоит, император отправился восвояси. Позднее стало известно, что Фока возвел в достоинство патрикия некоего Калокира и отправил его к русам, снабдив золотом в количестве около 15 кентинариев, с приказанием, как пишет Лев Диакон, «распределить между ними» золото и привести их в Болгарию, с тем «чтобы они захватили эту страну»{340}. Сам же император деятельно начал готовиться к новому походу на арабов.
Калокир прибыл к Святославу, завязал с ним дружбу, успешно «совратил его дарами и очаровал льстивыми речами», а затем уговорил выступить против болгар. Святослав, сообщает византийский хронист, был «не в силах сдержать своих устремлений», он мечтал овладеть страной болгар и, будучи «мужем горячим и дерзким, да к тому же отважным и деятельным», поднял на войну «все молодое поколение», собрав войско, состоявшее, «кроме обоза, из шестидесяти тысяч цветущих здоровьем мужей»[2]. В августе 968 года русы двинулись на болгар. Время для похода было выбрано не случайно: урожай в Болгарии собрали, и Святослав был уверен, что его огромное войско будет обеспечено продовольствием{341}. Болгары узнали о приближении врага, когда Святослав был уже на Дунае, готовясь к высадке на берег. Они собрали войско из тридцати тысяч человек, но русы, выбравшись на сушу, сомкнули щиты и, обнажив мечи, бросились на врага. Не выдержав первого же натиска, болгары обратились в бегство. Русы осадили их крепость Доростол. Так начался поход Святослава на Балканы.
В рассказе Льва Диакона много неясного и даже странного. Прежде всего, странным представляется поведение Никифора Фоки. Император, который вообще был человеком мрачным, расчетливым и потому уравновешенным, вдруг срывается на болгарских послов, явившихся к нему с вполне законными требованиями (чем удивляет, кстати, самого Льва Диакона), унижает их. Затем в затянувшемся припадке бешенства готовит армию к походу, начинает войну с болгарами, штурмует города, но, испугавшись дальнейших трудностей, отступает, решив натравить на болгар русов.
Следует учитывать, что в отношениях с болгарами Византия обычно проявляла исключительную осторожность. Болгария была не той страной, на переговорах с которой давали волю чувствам. Когда-то Византия и Болгария являлись непримиримыми врагами. При царе Симеоне Великом болгарские войска не один раз стояли под стенами Константинополя и болгары ставили свои условия византийскому правительству. Симеон значительно расширил границы Болгарии, но ему было мало увеличить свои владения. Этот правитель получил воспитание при византийском дворе, проникся обычаями ромеев, и именно это значительно усложнило жизнь Византии, после того как восторженный ученик стал царем болгар и начал мечтать об императорской короне. Во время осады столицы Византии в августе 913 года Симеон почти добился признания за собой титула василевса болгар, уравнивавшего его с византийским императором. Патриарх Николай Мистик отправился в лагерь к Симеону, чтобы возложить на голову болгарского вождя царский венец. Правда, хитрый грек обманул болгарина, вместо венца водрузив на его голову свою накидку и сделав, таким образом, акт коронации недействительным. Болгары тогда отступили, но мира не было до самой смерти болгарского царя. Последний раз Симеон осаждал Константинополь в 924 году. Не получив признания от византийцев, он сам провозгласил себя василевсом болгар и ромеев. Амбициозный болгарский царь мечтал объединить под своей властью оба государства. Но Болгария была разорена непосильным для нее соревнованием с Византией, бесконечными войнами. В конце концов, начались неудачи: в 926 году войско Симеона было разбито хорватами. А в мае 927 года сильно переживавший свое поражение шестидесятилетний царь умер.
Симеон был женат два раза; от первой жены у него остался сын Михаил, от второй трое – Петр, Иоанн и Вениамин. Старший сын не пользовался расположением родителя и был пострижен в монахи. Иоанн и Вениамин также не были близки отцу. Воспитанный в Константинополе, Симеон во всем старался подражать византийскому двору. А младшие сыновья царя твердо придерживались болгарских обычаев и даже носили только болгарское платье. Вениамина, или как его называли чаще, Бояна, вообще считали колдуном и оборотнем. Рассказывали, что однажды он превратился в волка или какого-то похожего на него зверя. Преемником Симеона стал близкий отцу по духу Петр, которому к тому времени было около двадцати лет. Советником и опекуном молодого царя стал его дядя по матери Георгий Сурсувул.
Исходя из того, что при Петре Болгария прекратила давление на Византию, а правление этого царя закончилось крушением державы болгар, в литературе весьма распространен взгляд на сына Симеона Великого как на неудачника, погубившего дело жизни отца. Его считают человеком мягким и робким, по-монашески благочестивым, стремившимся держаться подальше от мирской суеты{342}. Эта характеристика не вполне верна. Петр причислен в Болгарии к лику святых, посему и биография этого правителя, составленная в духе жития, приписывала ему те черты, которыми наделялись герои подобного рода литературы{343}. Петр попытался было поначалу продолжать политику отца, но вскоре убедился в невозможности этого. Ему досталось плохое наследство – разоренная страна{344}. Уже в последние годы правления Симеона из Болгарии десятками тысяч начало разбегаться население, а после смерти страшного царя окрестные народы (хорваты, венгры и др.) стали нападать на болгарские земли. Из-за нашествия саранчи Болгария была поражена сильным голодом. В октябре 927 года правительство Петра заключило мирный договор с Византией, по которому Империя ромеев признала за болгарским правителем царский титул, Византия обязалась выплачивать болгарам ежегодную дань, была признана независимость болгарской церкви, возглавляемой патриархом. В Константинополе состоялось венчание Петра и Марии, внучки императора Романа I Лакапина, дочери его сына и соправителя императора Христофора. Мария сменила имя (теперь она была названа Ириной, – что значит «мир», – потому, что именно благодаря ей между болгарами и греками был заключен прочный мир) и отправилась с мужем в Болгарию, увозя в качестве приданого всевозможное богатство и бесценную утварь. Сам факт этого брака показывает, сколь необходим был ромеям мир с болгарами, ведь брак с соседними государями считался недостойным для византийской принцессы. В дальнейшем в течение нескольких десятилетий византийские императоры оправдывались тем, что отец невесты – Христофор – не был багрянородным (родившимся в императорской семье) императором, а его отец Роман I узурпировал власть, пользуясь малолетством законного императора Константина VII Багрянородного. И вообще Роман I Лакапин – человек неграмотный, невоспитанный, даже не вполне православный ромей (он по происхождению армянин) – самовластно совершал поступки, понимание последствий которых в силу косности было ему недоступно. Хотя, конечно, благодаря этому миру и браку много плененных болгарами византийцев получили свободу. Однако Мария-Ирина вовсе не была отторгнута от семьи и родины. В течение последующих почти двадцати лет, пока Роман I правил Византией, она часто приезжала из Болгарии навестить отца и деда, сначала одна, а потом со своими тремя детьми. После свержения Романа I отношения охладели. Константин VII Багрянородный стеснялся родства византийских василевсов с болгарскими царями, но забыть, что сам он женат на дочери Романа I Елене, а Мария-Ирина является двоюродной сестрой его сына, будущего императора Романа II, вряд ли мог.
В условиях непрекращающихся войн с арабами Византии был нужен мир с Болгарией. Да и договор 927 года только на первый взгляд может показаться удачей для Болгарии. Конечно, византийская сторона соглашалась выполнить все, чего добивался Симеон в ходе своих войн. Однако болгарам пришлось возвратить часть территорий, захваченных отцом Петра, а в договоре имелось косвенное указание на то, что царь Болгарии все же ниже по своему статусу императора Византии. Как показали последующие события, этот договор оказался стратегическим поражением Болгарии{345}. Далеко не все в Болгарии приветствовали установление дружественных отношений с Византией. Недовольны были прежде всего бояре, относившиеся к поколению, жившему при Симеоне и воспитанному в духе военных походов на Византию. Нужно учитывать и то, что болгарская знать была очень сильна на местах, этнически неоднородна, а потому угодить всем не представлялось возможным. Духовенство в целом было довольно миром, однако произошедшее в связи с независимостью от Византии изменение его статуса привело к порче нравов священников и в результате к распространению ереси богомилов, отвергавших поклонение кресту, не признававших таинства священными действиями, сообщающими благодать. Богомилы отрицали храмы и церковную иерархию. Мало того, еретики учили не повиноваться властям, хулили царя и бояр, не признавали власть господ{346}. Простой народ был недоволен усилением поборов (в ходе войн Симеона казна была разорена). Недовольство служило базой для тех многочисленных мятежей и волнений, которые начали вспыхивать в Болгарии еще в правление Симеона. Первый заговор против Петра раскрыли уже в 929 году. Заговорщики хотели низложить царя и возвести на престол его младшего брата Иоанна. В наказание Иоанна подвергли экзекуции и заключили в тюрьму, а позднее постригли в монахи. Когда об этом узнал император Роман I Лакапин, он приказал выкрасть Иоанна и привезти в Константинополь. Здесь Иоанн скинул монашеское платье, женился (при этом на устроенной пышной свадьбе одним из дружек был император Христофор, тесть болгарского царя), получил от византийских властей дом и много всякого имущества. В 930 году мятеж поднял другой брат Петра – сбежавший из монастыря Михаил. Он захватил одну из крепостей, со всей Болгарии к нему начали стекаться сторонники. Мятежники предполагали создать особое княжество в западных областях царства. Это движение прекратилось только из-за неожиданной смерти Михаила. Его сторонники вторглись в ромейские земли, опустошили несколько областей, да так и остались в пределах Византийской империи. Власти империи дали местным жителям компенсацию за захваченные болгарами-переселенцами земли. В 931 году от Болгарии отделились сербы, помощь которым оказала опять-таки Византия. К внутренним проблемам прибавились внешние. С 30-х годов X века не прекращалось давление венгров, совершавших постоянные набеги на болгарские земли. Особенно разорительны были нападения, совершенные в 943, 948-950 и 961-962 годах.
В течение сорока лет, прошедших со смерти Симеона, Византия, даже поддерживая и укрывая мятежников и отнюдь не испытывая к болгарам теплых чувств, свято соблюдала мирный договор 927 года. Между странами не было ни одного вооруженного конфликта. И вдруг такой срыв у всегда спокойного василевса ромеев! Можно предположить, конечно, что в Константинополе решили, что Болгария, как говорится, «созрела», и оскорбление болгар было только поводом к давно готовившейся войне. Но тогда тем более непонятно, почему осторожный и опытный полководец Никифор Фока подумал о трудностях похода в Болгарию, об опасности войны в горах только в самый разгар кампании. Да и собственно, чего ему было бояться, ведь Никифор всю жизнь воевал в горах Анатолии против арабов, этим же занимались и его предки. Фокой была даже написана книга о военном искусстве, посвященная боевым действиям в горах. Наконец, почему бездействовали оскорбленные болгары, как будто пассивно ожидавшие, пока император отправит Калокира к Святославу, тот соберет войска и высадится на болгарском берегу? Почему они не предпринимали никаких ответных действий в отношении Византии?{347}
Приведу один интересный факт. С 4 июня по 2 октября 968 года, спустя год после оскорбления Никифором болгарских послов, в Константинополе находился посол непризнанного Византией «римского» императора Оттона I, уже упоминавшийся выше кремонский епископ Лиутпранд. Миссия у Лиутпранда была сложная, вернее сказать невыполнимая: ему предстояло добиться согласия Никифора Фоки на брак Оттона II, также коронованного императором сына и соправителя Оттона I, с одной из дочерей Романа II. Успеха хлопоты епископа не имели, и в 969 году, вернувшись из окончившегося провалом посольства, он дал подробный отчет о нем обоим императорам Оттонам – отцу и сыну. Среди массы любопытной информации содержится и сообщение о том, как 29 июня 968 года посол Оттона I был приглашен к столу византийского императора. Каково же было возмущение Лиутпранда, когда он обнаружил, что болгарского посла, мерзкого дикаря и вчерашнего язычника, обритого наголо по венгерскому обычаю и опоясанного бронзовой цепью, прибывшего в Константинополь накануне, посадили на более почетное место за столом, чем его, епископа Кремоны. Посчитав это бесчестьем для своих государей, оскорбленный Лиутпранд покинул стол. Его догнали брат императора Лев Фока и протасикрит (начальник императорской канцелярии) Симеон. Бранясь, они попытались объяснить епископу, что иначе поступить византийский двор и не может: «Когда Петр, василевс Болгарии, женился на дочери Христофора, было подписано
Из отчета Лиутпранда можно сделать вывод, что никаких изменений в отношениях между болгарами и ромеями и отступлений от договора 927 года не произошло и отношения, по крайней мере внешне, были самыми теплыми. Вряд ли это было бы возможно, если бы произошел конфликт, описанный Львом Диаконом. А ведь до нападения Святослава на Болгарию оставался месяц{349}. С русами, кстати, империя также сохраняла хорошие отношения – Лиутпранд наблюдал 19 июля того же года отправление в Италию византийского флота, в который входили и два русских корабля.
Так что же, выходит, конфликта византийцев с болгарами и не было вовсе? Кроме Льва Диакона ни один византийский источник не сообщает об оскорблении болгарских послов и походе императора к границам Болгарии. В хрониках византийцев Иоанна Скилицы («Обозрение историй», конец XI века), а также повторявших его рассказ поздних компиляторов – Георгия Кедрина («Обозрение историй», конец XI или начало XII века) и Иоанна Зонары («Краткая история», первая половина XII века) история зарождения болгаро-византийского конфликта изложена иначе, чем в «Истории» Льва Диакона. Согласно Скилице и Кедрину, Никифор Фока вовсе не ходил в поход на болгар, а лишь ездил на переговоры с Петром, которые действительно носили сложный характер: Никифор Фока направил письмо болгарскому царю с просьбой, чтобы тот воспрепятствовал венграм переправляться через Дунай и опустошать владения ромеев. Но Петр не исполнил просьбы императора и отказал ему, предоставив разные на то объяснения. Тогда-то Никифор и пожаловал Калокира, сына херсонского протевона (так называлось местное выборное должностное лицо – глава местного самоуправления), званием патрикия и послал к Святославу. Зонара повторяет изложение Скилицы и Кедрина, поясняя, что Петр отказался исполнить просьбу Никифора Фоки, так как «был недоволен императором за то, что тот не подал ему помощи при подобном случае за несколько лет перед этим. Он отвечал Никифору, что, не получив от него войско против этих самых угров (венгров. – А. К.), принужден был заключить с ними мир и теперь не может без причины нарушить его»{350}. В данном случае более позднее, сравнительно с трудом Льва Диакона, составление указанных хроник вовсе не свидетельствует о том, что им следует меньше доверять. В основе повествования хронистов XI-XII веков лежал источник X века, не дошедший до нас.
Перечисляя сообщения источников о русско-болгаро-византийских отношениях второй половины 60-х годов X века, нельзя не вспомнить арабского писателя середины XI века Яхъю Антиохийского. По его словам, появлению русов на Балканах предшествовал болгаро-византийский военный конфликт и Никифор сначала пошел на болгар походом и «поразил их», а уже потом договорился с русами. Правда, арабский автор пишет и о том, что в произошедших событиях были виноваты сами болгары, так как они «воспользовались случаем, когда царь Никифор был занят воеванием земель мусульманских, и опустошали окраины его владений и производили набеги на сопредельные им его страны»{351}. Ничего подобного на самом деле не происходило, иначе византийские хронисты обязательно отметили бы это.
Яхья Антиохийский был во всех отношениях далек от описываемых событий. Но зачем же нужно было очевидцу Льву Диакону выдумывать факт оскорбления болгарских послов и превращать поездку Никифора Фоки на переговоры с Петром в военный поход против него? Отличительной чертой Льва Диакона как историка является стремление показать свою ученость, в погоне за красивым оборотом несколько приукрасить рассказ, а в ряде случаев даже выдать желаемое за действительное. Но в данном случае он ничего не выдумывал. Скорее всего, стремительно терявшему популярность императору могло показаться, что вернуть ее поможет быстрая и легкая победа, желательно недалеко от столицы, чтобы обывателям было понятнее ее значение. И после отъезда зимой 966/67 года ничего не подозревавшего болгарского посольства в столице империи начала искусственно нагнетаться истерия, были запущены слухи о скандале, якобы произошедшем во время переговоров, а затем заговорили и о пограничной войне. В данном случае известный трюк с целью переключить внимание народа с внутренних проблем на внешние не сработал, но Лев Диакон, тогда неискушенный юный провинциал, запомнил все так, как это с подачи официальной пропаганды обсуждалось на улицах Константинополя, и спустя десятилетия описал в своей «Истории»{352}. Все дело тут в произведенном впечатлении. Несколькими страницами выше приводилось описание со слов Льва Диакона внешности Никифора Фоки, который видел василевса ромеев во время проезда того по улицам столицы. А вот Лиутпранду, встречавшемуся с византийским императором всего полтора года спустя, тот показался «довольно нелепым человеком, пигмеем с тупой головой и маленькими, как у крота, глазками», которого «уродовали и безобразили» «короткая, широкая и густая с проседью борода, а также шея в палец высотой». И далее: Никифор – «мохнатый из-за обильно и густо растущих волос, цветом кожи – эфиоп», «с которым не захочешь повстречаться ночью» (тут интеллектуал-епископ цитирует Ювенала) – «имел одутловатый живот и тощий зад; бедра сравнительно с его малым ростом были слишком длинны, а голени – слишком коротки, пятки и стопы – соразмерной длины; одет он был в роскошное шерстяное платье, но слишком старое и от долгого употребления зловонное и тусклое…»{353}. Описание Лиутпрандом Никифора выглядит карикатурой на картину, нарисованную Львом Диаконом, Возможно, император проезжал мимо своего подданного верхом и потому выглядел гораздо величественнее? Но и в таком положении Никифор не произвел на епископа Кремоны должного впечатления. Более того, увиденное даже заставило Лиутпранда рассмеяться, таким нелепым показался василевс ромеев «на нетерпеливом и необузданном коне – столь маленький на столь огромном». Это напомнило послу «куклу», которую зависимые от Оттона I славяне «привязывают к жеребенку, позволяя ему затем следовать за матерью без узды»{354}. Все дело во впечатлении – недовольному результатами своего посольства Лиутпранду Никифор виделся гадким карликом, а восторженному юноше Льву Диакону – коренастым крепышом. Вот и слухи о войне Лев принял за правду. Возможно, и Яхья Антиохийский, говоря о болгаро-византийском конфликте, имел в виду те же демонстративные военные приготовления Никифора и состоявшиеся затем переговоры василевса ромеев с царем Петром.
Но вернемся к истории конфликта на Балканах. Зачем нужно было отправлять к русам Калокира с 15 кентинариями золота, если война с болгарами была фикцией? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно принять во внимание, что причиной отвратительного приема, который устроили Лиутпранду в Константинополе, было не только сватовство Оттона II к византийской принцессе. Немецкий король Оттон I, государь Лиутпранда, в 962 году вступил в Рим и торжественно короновался императорским венцом в храме Святого Петра. Мало того, создавая Священную Римскую империю германской нации, Оттон начал захватывать владения Византии в Италии. Никифор, связанный войной с арабами, не имел возможности остановить наступление немцев; происходил обмен посольствами, но безуспешно. Война шла с переменным успехом. В этих условиях ссориться с болгарами было незачем. Но сама Болгария начала с большим интересом посматривать в сторону Оттона. В 965 году при дворе последнего в Мерзебурге было замечено болгарское посольство. Возможно, Петр пытался с помощью германского императора, победителя венгров в битве на реке Лех в 955 году, прекратить венгерские набеги на свою землю. Судя по сообщению византийских хронистов, болгары в этом преуспели, Петру удалось заключить какое-то соглашение с кочевниками, что не понравилось Никифору Фоке. Но главное – сама возможность сближения Оттона и Петра не могла не беспокоить Константинополь. Важно было оторвать Болгарию от немцев, а лучший для этого способ – напугать болгар. Нападение русов должно было показать Болгарии, кто ее верный друг, и заставить просить помощи у Византии{355}. Вряд ли Никифор рассчитывал при помощи русов завоевать Болгарию. Для этого надо было быть наготове, чтобы вступить в ее пределы, когда настанет подходящий момент, но василевса это как будто и не интересовало – в конце июля 968 года он отправился походом на восток{356}. Скорее, император хотел преподать болгарам урок. Как увидим дальше, расчеты Никифора Фоки полностью оправдались.
Сталкивая Русь и Болгарию, василевс ромеев стремился сохранить видимость нейтралитета и дружественные отношения с обеими странами. Это была привычная практика византийской дипломатии. Однако обычно ромеи использовали для нападений на болгар печенегов, играя на их корысти или стремлении услужить византийскому императору{357}. Почему же на этот раз византийцы решили обратиться к русам? Возможно, это случилось потому, что император Никифор Фока прекрасно знал качества русских воинов – еще в 960 году, когда он был назначен главнокомандующим силами, посланными на Крит, чтобы отбить его у арабов, в числе его войск находились русы. Это была опасная экспедиция. Арабы захватили остров лет за 150 до высадки здесь Никифора Фоки. Только за первую половину X века ромеи предприняли пять попыток вернуть Крит, но безуспешно. Критские арабы беспрестанно совершали морские набеги на владения Византии, каждый раз захватывая большую добычу, продавая затем пленников на восточных рынках. Хандак, столица Крита, представляла собой первоклассную крепость. Русы тогда прекрасно показали себя в деле опустошения ее окрестностей и уничтожения мелких отрядов неприятеля, состоявших из жителей, которые оказались отрезанными от города. Столица критских арабов была полностью изолирована и лишена возможности получать помощь и провиант. Для того чтобы подорвать моральный дух осажденных и ухудшить санитарное состояние города, Никифор приказал вкладывать в баллисты камнеметных орудий отрубленные головы и обезображенные тела убитых арабов и трупы ослов и забрасывать их в город. И все-таки жители Хандака держались. А когда началась зима 960/61 года, казавшаяся бесконечной, русы под стенами города стоически переносили и дожди, и стужу, и недостаток продовольствия, и изношенность одежды – в общем, делали всё, что требуется от хороших солдат. Вместе с ними, а также армянами и славянами, участвовавшими в походе, ромеи разделили радость победы, когда в марте 961 года они взяли Хандак штурмом. Именно возвращение Крита под власть Византии принесло Никифору Фоке ту популярность в народе и войсках, которая в конечном счете предопределила его восшествие на престол.
Но кроме того, что русы были прекрасными воинами, имелась еще одна причина, заставившая василевса ромеев отправить к ним посла со столь щекотливым поручением. В прошлой главе мы остановились на том, что Святослав достиг Керченского пролива и опасность нависла над византийскими владениями в Крыму. Яхья Антиохийский сообщает, что незадолго до заключения союза с Никифором русы воевали с византийцами. Не в Приазовье ли? К сожалению, подробностей арабский автор не сообщил. Ромеям важно было переключить внимание Святослава на другой объект. Недаром на переговоры с ним был послан сын херсонского протевона. Направляя русов на Балканы, Никифор одним выстрелом поражал несколько целей – отвлекал внимание Святослава от Херсона, давал урок начавшей проявлять строптивость Болгарии и, наконец, столкнув Болгарию и Русь, ослаблял обе стороны{358}. Но зачем было русам стараться для Никифора Фоки?
Как уже было сказано, и византийские авторы, и Яхъя считали, что русы напали на Болгарию по договоренности с Византией, проще говоря, за плату. Святослав, согласившийся помогать Никифору, на первый взгляд может показаться безумным авантюристом и грабителем, ради наживы и за плату мечущимся со своими воинами по Восточной Европе от Тамани до Балкан. Как увидим, сходно оценивали действия князя и киевляне (в тексте «Повести временных лет» под 969 годом). Правда, летопись описывает и то, с каким равнодушием позднее отнесся Святослав к дарам, присланным ему греками. Но и здесь летописец, следуя традиции, изображает Святослава идеальным князем-воином, чуждым мелочным, материальным заботам{359}. Повторяю, каким был Святослав на самом деле, определить по летописи трудно. Вот и на болгар он напал внезапно, без предупреждения, вновь противореча летописному «хочу на вас идти».
Если согласиться с византийскими хронистами, уверенными, что русы появились в Болгарии в роли простых наемников Византии, нанятых за 15 кентинариев, мы вновь неизбежно столкнемся с противоречиями. 15 кентинариев – много это или мало? На первый взгляд может показаться – много. Известно, что кентинарий – крупная денежная единица, равнявшаяся 100 литрам или 7200 номисмам (солидам) – золотым монетам. Это более 450 килограммов золота. Нельзя не вспомнить в связи с этим о посольстве синкела Иоанна (синкел – титул духовного лица, входившего в состав синклита), отправленном византийским императором Феофилом к арабскому халифу Мамуну в Багдад около 829-830 годов. Тогда, по сообщению византийского источника, император дал Иоанну «много того, чем славится Ромейское царство и чем восхищает оно инородное племя, а к этому прибавил еще свыше четырех кентинариев золотом»{360}. Золото было предназначено для раздачи приближенным халифа, и, имея четыре кентинария, посол ромеев завоевал огромное уважение арабов, поскольку одаривал каждого, кто по какой-нибудь причине являлся к нему, серебряным сосудом, наполненным золотом. Арабам казалось, что он сыпал золотом «словно песком». Что уж говорить о Калокире, прибывшем к русам со значительно большей суммой!
Однако если сравнивать эту сумму с тогдашними расценками труда наемников, то получится «другая арифметика». Плата греческого солдата составляла от 20 до 50 солидов в год, а каждый из русов, участвовавших в войнах византийцев с арабами, получал ежегодно по 30 солидов. Если платить русам Святослава по этому тарифу, то всей заплаченной Никифором Фокой суммы хватит только на 3600 человек{361}. Между тем численность русского войска была значительно большей. Лев Диакон, напомню, сообщает, что Святослав повел на войну с болгарами 60 тысяч «цветущих здоровьем мужей». У позднейших византийских хронистов, писавших о балканских войнах Святослава, появлялось желание увеличить численность русской армии, воевавшей с болгарами (а позднее и с византийцами). Например, Иоанн Скилица в своем «Обозрении историй» доводил число русов, убитых только в двух сражениях с ромеями, до 638 тысяч{362}. Разумеется, эти цифры изрядно преувеличены. «Повесть временных лет» оценивает численность воинства Святослава скромнее. В 971 году Святослав сообщил грекам, что у него 20 тысяч человек, причем прибавил лишних десять тысяч – русов было тогда всего около десяти тысяч. Но такова была численность его войска после трех лет войны. В начале похода армия Святослава была, конечно, более значительной. Напомню, что Игорь повел в поход на Константинополь около тысячи кораблей, то есть примерно 40 тысяч человек. Вряд ли можно было решиться на войну с болгарами, имея меньшее войско. Возможности сына были большими, чем у отца, – к моменту начала войны с болгарами Святослав победил вятичей, хазар, ясов и касогов. Его внук Мстислав, князь Тмутаракани, в 1022 году зарезав князя касогов Редедю и возложив на касогов дань, уже через год, собрав войско из хазар и всё тех же касогов, начал войну против своего брата Ярослава Мудрого и чуть было не взял Киев. Располагая силами побежденных им народов Подонья и Приазовья, Святослав мог начать войну с таким сильным противником, как Болгария. Скорее всего, князь и двинулся-то на болгар из Приазовья, со своей базы на Керченском проливе. Еще раз подчеркну – не случайно к нему был отправлен для переговоров именно Калокир. Если бы Святослав вернулся к матери в Киев, Никифор Фока мог избрать для этой миссии другого человека, не возводя в сан патрикия никому не известного провинциала. Именно близость Калокира к местопребыванию Святослава и нависшая над владениями империи в Крыму опасность выдвинули на роль посла сына херсонского протевона. Святослав, без сомнения, привлек к участию в походе и силы Среднего Поднепровья.
У Киева был год для того, чтобы подготовить ладьи к отплытию, собрать большое войско, привлечь в него молодежь из земель славян-данников и, возможно, бросить клич в более отдаленные страны.
Механизм набора десятков тысяч людей для подобного рода предприятий можно восстановить лишь предположительно. Наверное, и в подготовке к походу, и в самом движении русского войска на Дунай принял участие кто-то из тех примерно двух десятков князей, чьи послы подписывали русско-византийский договор 944 года и пировали с василевсом ромеев Константином Багрянородным в Константинополе в 957 году. Несомненно, эти князья или их сыновья сохраняли свое влияние на дела, происходящие в Русской земле и десятилетие спустя. Но подобного рода потрясения, способные взбаламутить дотоле спокойное течение жизни и отдельного человека, и целой страны, обычно выносят на поверхность и людей совершенно новых. Энергичный человек, которому было тесно в рамках городской или сельской общины, получив известие о том, что в Киеве собирается войско для похода куда-либо, вполне мог собрать военный отряд такого же сорта удальцов и отправиться с ним искать военного счастья{363}. Масса людей, собранная и готовая устремиться на юг, вряд ли планировала по возвращении домой вновь заняться мирным трудом. Понимая, что многие из них погибнут, они всё же надеялись уцелеть и резко поменять свою жизнь. Археолог В. В. Седов по этому поводу заметил: «Прослужив по несколько лет в единой культурной среде, дружинники возвращались в свои родные места уже не кривичами, северянами, хорватами, словенами или мерей, а русами»{364}. Что-то похожее происходило и в смутные времена Богдана Хмельницкого, когда крестьяне толпами вступали в мятежное казачье воинство, используя открывшуюся возможность записаться в реестр и стать на жалованье к польскому королю или, позднее, русскому царю, попав, таким образом, в казаки – элиту среди православных Малороссии, местное «рыцарство»…
Участие Херсона в приготовлениях русов к войне с болгарами позволяло Святославу использовать фактор внезапности. Херсониты ничего не сообщили болгарам, когда корабли с пестрым воинством Святослава отплыли из Керченского пролива и, обойдя Крым, направились к устью Дуная. В назначенное время они встретились с ладьями русов, спустившимися по Днепру и двигавшимися обычным маршрутом вдоль Черноморского побережья к устью Дуная. Херсонские рыбаки, промышлявшие в устье Днепра, также молчали о появлении русов. Все это дало Святославу и его людям возможность подойти к берегам Болгарии столь незаметно, что болгары не успели приготовиться к отражению нападения.
Да, Святослав вполне мог собрать 60 тысяч человек и переправить их в Болгарию{365}. Но даже если эта цифра и несколько преувеличена Львом Диаконом, сумма в 15 кентинариев являлась недостаточной для найма армии, способной победить болгар. Возможно, речь шла об авансе?{366} Более вероятно, однако, что переданные через Калокира деньги были подарком от византийского императора русской знати, и подарком весьма значительным. (Если исходить из того, что 12 милиарисиев составляли 1 номисму, то при сложении общей стоимости даров, полученных Ольгой и ее окружением в Константинополе, получится около 2900 милиарисиев. 15 же кентинариев составляет 1 миллион 296 тысяч милиарисиев.) Передача кентинариев русам не была платой за труды, но не была она и простой данью уважения. Посол Никифора Фоки прибыл не вербовать русских наемников, а договариваться с русскими князьями о выступлении против болгар. Это золото должно было возбудить симпатии русов к Калокиру, заставить их воевать с болгарами, вспомнив о своем интересе к болгарским землям, куда, как позднее выразился Святослав, «стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки, вина и различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». Ранее я уже касался вопроса о русско-болгарских отношениях в 40-50-е годы X века. Напомню, что враждебными они стали задолго до встречи Калокира со Святославом. Кроме того, обращение Византии к русам – как и визит Ольги в Царьград и участие русских дружин в войнах ромеев с арабами – стало проявлением дружественных отношений, установившихся между двумя странами после заключения мирного договора 944 года.
Рассказав о победе русов над болгарами и осаде Доростола в конце лета – осенью 968 года, Лев Диакон более не упоминает о Болгарии в течение целого года. «Повесть временных лет», никак не проясняя причины появления Святослава на Балканах, сообщает: «Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков». Из этого сообщения, кажется, можно сделать вывод, что Святослав с ходу прошел сквозь всю Болгарию, хотя направление его движения не вполне ясно – придунайские области составляли лишь незначительную часть Болгарии. Непонятно, и почему он начал брать «дань» с византийцев. Уж не идет ли речь о выплате Никифором Фокой русскому князю еще какого-то причитавшегося ему вознаграждения?
Впрочем, не стоит преувеличивать успехи русов на этом этапе военной кампании. Лев Диакон сообщает, что осенью 969 года Никифор Фока отправил в Болгарию посольство, возглавляемое патрикием Никифором Эротиком и епископом Евхаиты Филофеем. Судя по всему, византийские послы застали дела в Болгарии в большом расстройстве. Царь Петр тяжело заболел – несчастный старик был раздавлен известием о поражении и умер в январе 970 года, спустя несколько месяцев после появления в Великом Преславе (столице болгар) патрикия Никифора и епископа Филофея. В ходе переговоров обе стороны беспрестанно напоминали друг другу о том, что они одной веры, болгары молили о помощи против русов, ромеи обещали послать войска. Была даже достигнута договоренность скрепить заключенный союз браком девиц из болгарского царского рода (неясно, кем они приходились Петру – внучками или дочками) с сыновьями покойного императора Романа II – Василием и Константином. Мальчикам было около тринадцати и десяти лет соответственно. Их дед Константин Багрянородный, наверное, переворачивался в гробу – по его мнению, византийский император стоял столь высоко в сравнении со всеми другими государями, что браки представителей Македонской династии с варварами-соседями стали бы унижением для империи. Болгары начали готовить царевен к отправке в Константинополь, по-прежнему не уставая сообщать о своем бедственном положении. Известия, поступавшие из Константинополя, должны были как будто успокаивать Преслав. Никифор Фока снаряжал войско, занимался его обучением, приступил к реформированию конницы – одел всадников в железные доспехи. На башнях городской стены столицы ромеев были расставлены метательные орудия, огромная тяжелая цепь была протянута на огромных столбах через бухту Золотой Рог. Василевс ромеев усиливал оборону своей столицы, которой, в общем-то, никто не угрожал, но в поход «против русов» так и не выступил. Возможно, ему помешали боевые действия против арабов. А возможно, он посчитал, что момент для захвата Болгарии еще не пришел, и решил повременить с оказанием ей «дружественной» помощи. Этого мы уже не узнаем. В любом случае, время у него было – за прошедший год русы не заняли Великий Преслав, находившийся в Северо-Восточной Болгарии, всего в 100 километрах от Доростола, к которому войска Святослава подошли практически сразу после высадки в устье Дуная. Выходит, русы заняли только территорию нынешней Добруджи. Этому положению вовсе не противоречит загадочное сообщение летописца о восьмидесяти городах на Дунае, якобы захваченных Святославом. Просто речь должна идти о восьмидесяти городах в придунайской области Северо-Восточной Болгарии{367}. Но почему их 80? К сожалению, однозначного объяснения у этой фразы нет. Скорее всего, мы имеем дело с каким-то поэтическим, фольклорным способом передачи информации о значительном числе городов, захваченных русами{368}.
Но и приобретение Добруджи явилось крупным успехом. Расположенный здесь город Доростол был важным политическим, военно-административным, торговым и церковным центром Нижнего Подунавья, к тому же резиденцией болгарского патриарха{369}. Овладение Добруджей давало массу торговых преимуществ. Во-первых, через нее проходили оживленные пути между Азией и Юго-Восточными Балканами{370}. Во-вторых, это позволяло, направляясь в Византию, не зависеть от болгар, плохие отношения с которыми отрицательно сказывались на русской торговле.
Но почему Святослав не попробовал продвинуться южнее и занять Преслав? Возможно, потому, что по своим первоначальным целям война Святослава на Балканах была продолжением той антиболгарской политики Игоря и Ольги, о которой Никифор Фока наверняка знал. Византийский император не был настолько наивен, чтобы не понимать того, что русы, заняв земли Болгарии, с которой они враждовали еще в 940-950-е годы, пожелают их оставить себе{371}. Скорее всего, зная об устремлениях русов, он потому-то и пригласил их в Болгарию вместо печенегов, аппетиты которых были непредсказуемы. (Кроме того, печенегов стоило оставить «про запас» и при случае натравить их уже на русов, если они в свою очередь окажутся неуправляемыми.) Возможно, по договоренности между сторонами русы и должны были занять Добруджу, регион, в котором они были заинтересованы. С этой целью Святослав и появился на Балканах. Если все это было действительно так, то вряд ли византийский император разочаровался в выборе союзника. Русы выполнили все условия договора – они не пошли дальше Добруджи, Болгарии было нанесено поражение, но она сохранила видимость независимости. Предложившей болгарам помощь Византии оставалось только «задушить их в дружеских объятиях». Вот уж действительно, можно согласиться с епископом Лиутпрандом, считавшим, что василевс ромеев «лжив, коварен, безжалостен, хитер, как лис, высокомерен, притворно скромен, скуп и алчен»{372}.
Впрочем, дело могло быть и не в договоренности с Никифором Фокой. Просто русы не успели развить свой успех. Что-то им помешало. Хронист Иоанн Скилица считал, что сразу после своего нападения, захватив обильную добычу, русы возвратились к себе и появились в Болгарии вновь только спустя год. «Повесть временных лет» связывает возвращение Святослава в Поднепровье с набегом на Киев печенегов.
Прежде чем мы вернемся вместе со Святославом в Киев, я попытаюсь ответить на вопрос, который, возможно, уже давно занимает читателей книги. Мы оставили Киев в середине 950-х годов под властью Ольги, возглавлявшей союз из двух десятков русских князей. Святослав занимал при матери подчиненное положение. Но вот в середине 960-х годов он покоряет вятичей, крушит хазар, ясов и касогов, превращает в руины Саркел и Таматарху, угрожает владениям Византии в Крыму, наносит поражение войску дунайских болгар, вовлекая в движение на Балканы десятки тысяч человек. Не означает ли это, что его статус изменился? Среди исследователей распространено мнение, согласно которому к началу 960-х годов сын сумел оттеснить Ольгу от власти и занять киевский стол – ее-де крещение, заигрывание с христианской Византией привели к недовольству языческой партии во главе со Святославом и свержению княгини. Доказывая это положение, историки ссылаются на историю неудачной миссии на Русь епископа Адальберта.
Суть дела такова. В «Продолжении хроники Регинона Прюмского» под 959 годом сказано: «Послы Елены, королевы ругов (русов; княгиня Ольга после крещения приняла христианское имя Елена. – А. К.), крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, явившись к королю, притворно, как выяснилось впоследствии, просили назначить их народу епископа и священников»{373}. Сообщение любопытное. Во-первых, из хроники следует, что крестилась княгиня в Константинополе не при Константине Багрянородном, а в период правления его сына Романа II. Неужели Ольга совершила еще один визит в Константинополь уже после 957 года? Может быть, княгиня надеялась добиться улучшения отношений с ромеями в связи со смертью Константина в ноябре 959 года?{374} Нет, скорее всего, речь в хронике идет все о том же визите, описанном в трактате Константина Багрянородного. Дело в том, что Роман II еще при жизни отца стал его соправителем, а вот в момент обращения Ольги к Оттону I, тогда еще королю, Константин уже умер и его сын правил самостоятельно. Потому Роман и занял в сознании хрониста место своего отца, при котором Ольга приняла крещение.{375} Во-вторых, оказывается, что вскоре после крещения Ольга направила послов к Оттону I с просьбой прислать епископа. Менее всего исследователи склонны видеть в смене политических ориентиров русской княгини какие-то религиозные причины, только – прагматические{376}. Б. А. Рыбаков даже считал, что «тайная христианка» Ольга, потерявшая власть в результате конфликта с язычниками во главе с ее возмужавшим сыном, искала поддержку у немцев. Обращение к Оттону оказывается ее личным делом{377}. Вряд ли это так. Из хроники ясно следует, что как минимум до 959 года Ольга по-прежнему управляла Киевом. Да и странным кажется, если княгиня, вместо немецкой военной силы, ожидала поддержки от епископа и священников.
Немцы явно не спешили. Под 960 годом в «Продолжении хроники Регинона Прюмского» сообщается: «Король отпраздновал Рождество Господне (959 года. – Л. К.) во Франкфурте, где Либуций из обители Святого Альбана посвящается в епископы для народа ругов достопочтенным архиепископом Адальдагом». Ну а в 961 году «Либуций, отправлению которого в прошлом году помешали какие-то задержки, умер 15 февраля сего года. На должности его сменил, по совету и ходатайству архиепископа Вильгельма, Адальберт из обители Святого Максимина, который хотя и ждал от архиепископа лучшего и ничем никогда перед ним не провинился, должен был отправляться на чужбину. С почестями, назначив его епископом народу ругов, благочестивейший король, по обыкновенному своему милосердию, снабдил его всем, в чем тот нуждался». И, наконец, запись о событиях 962 года: «В это же лето Адальберт, назначенный епископом к ругам, вернулся, не сумев преуспеть ни в чем из того, чего ради он был послан, и убедившись в тщетности своих усилий. На обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он после больших лишений едва спасся. Прибывшего к королю Адальберта приняли милостиво, а любезный Богу архиепископ Вильгельм в возмещение стольких тягот дальнего странствия, которого он сам был устроителем, предоставляет ему имущество и, словно брат брата, окружает всяческими удобствами. В его защиту Вильгельм даже отправил письмо императору, возвращения которого Адальберту было приказано дожидаться во дворце»{378}.
Регинон был аббатом Прюмского монастыря в 892-899 годах. Изгнанный оттуда, он перебрался в Трир, расположенный севернее его монастыря, где оставался до своей смерти в 915 году. Здесь им и была написана хроника, повествование в которой доведено до 906 года. Продолжение хроники Регинона – о событиях с 907 по 967 год – написано уже другим человеком. Этим человеком был Адальберт – тот самый неудачливый епископ, отправленный по ходатайству архиепископа Вильгельма на Русь. Так что относительно миссии Адальберта мы имеем информацию, так сказать, «из первых рук». Неудача на Руси не сломала карьеру Адальберту. Возможно, ему помогло покровительство все того же архиепископа Вильгельма – внебрачного сына Оттона I и славянки. В начале 966 года Адальберт получает в управление Вайсенбургское аббатство, а в октябре 968 года становится магдебургским архиепископом. Работу над хроникой Адальберт более не продолжает. Скончался магдебургский архиепископ в июне 981 года.
О миссии Адальберта к русам имеется упоминание в «Хронике» Титмара Мерзебургского, написанной в начале XI века. Титмар сообщает, что Адальберта из Руси изгнали язычники{379}. Информацию о произошедших с Адальбертом на Руси приключениях дают и германские анналы XI века, относящиеся к так называемой Херсфельдской анналистической традиции, но нового в них мало. Они, как и Титмар Мерзебургский, варьируют причины, по которым епископ потерпел неудачу: русы, обращаясь к Оттону, «как показал впоследствии исход дела, во всем солгали» (Хильдесхеймские анналы); «епископ едва избежал смертельной опасности от их происков» (Альтайхские и Кведлинбургские анналы); «едва ускользнул из их нечестивых рук» (Анналы Ламперта Херсфельдского){380}. «Деяния магдебургских архиепископов» (середина XII века), продолжая линию, намеченную Титмаром Мерзебургским, отмечают, что «ожесточенный народ (русы. – А. К.), свирепый видом и неукротимый сердцем, изгнал его (Адальберта. – А. К.) из своих пределов, презрев благовествовавшего Евангелие мира»{381}.
Из этих сообщений видно, что во время посещения Руси Адальберт подвергся каким-то опасностям, некоторые его спутники погибли, а сам он едва спасся. А вскоре после изгнания епископа Святослав начал свои знаменитые походы. Причину или следствие бегства Адальберта многие историки видят в перевороте, совершенном «языческой партией». Этот переворот относят к 962 году{382}.
Но из рассказа самого Адальберта вовсе не следует, что епископ потерпел неудачу из-за переворота в Киеве. Судя по сообщению его хроники, Адальберта обманули те же люди, что и пригласили. Сам епископ воспринял назначение к русам как незаслуженное наказание, отправился в свою миссию неохотно, и это могло стать одной из причин, по которым он потерпел неудачу. Не случайно Адальберт скромно умалчивает о причинах провала и ничего не говорит о насильственном изгнании. Из рассказа хроники можно сделать вывод, что он сам уехал, «убедившись в тщетности своих усилий». Ситуация на Руси действительно могла измениться за то время, которое прошло с момента приглашения епископа, но это не означает, что в Киеве произошел «языческий переворот». Кончина Константина Багрянородного в ноябре 959 года и начало самостоятельного правления Романа II могли привести к существенному улучшению русско-византийских отношений. В 960-961 годах во время войны за Крит мы видим в составе армии, осаждающей Хандак, и русские отряды – а ведь раньше, согласно «Повести временных лет», Ольга отказалась посылать их Константину{383}. Отметим, что мотив изгнания Адальберта русами появился в источниках гораздо позднее посещения им Руси, когда возникла необходимость чем-нибудь оправдать неудачу епископа и обосновать назначение его магдебургским архиепископом. Что же касается известия о гибели спутников Адальберта, то он сам не связывал эти события с действиями русских властей. Лишения и гибель товарищей неудачливый просветитель русов пережил «на обратном пути», то есть речь скорее всего идет о дорожном происшествии{384}.
Гипотеза о произошедшем в Киеве в начале 960-х годов перевороте основана на представлениях исследователей о том, что, во-первых, Ольга была всего лишь регентшей при сыне, хотя ее полномочия и несколько затянулись (что, как мы выяснили, неверно), а во-вторых, крещение киевской княгини было ее частным делом и язычники, возглавляемые Святославом (откуда это видно, непонятно), относились к ней и ее духовным исканиям с враждебностью. В действительности же из летописного текста следует, что, несмотря на расхождения в вере, Ольга любила сына, а отношение самого Святослава к христианам было насмешливым, но терпимым. А как к Ольге относились прочие русы? Встречала ли позиция княгини понимание в русском обществе? Много ли было христиан в Киеве? Играли ли они какую-нибудь роль в управлении Русью?
Среди историков нет единого мнения на этот счет. С одной стороны, большинство исследователей признают, что влияние христиан было велико в Киеве уже в середине X века. Об этом свидетельствуют упоминания в источниках о «крещении» русов до Ольги, наличие в Киеве христианской церкви, участие русов-христиан в заключении договора с греками в 944 году. Причем, согласно договору, христиане и язычники представляли в то время в Киеве равноправные общины. Некоторые авторы пишут даже о «нравственном преобладании христиан», а иногда к числу «внутренних христиан» относят и Игоря, мужа Ольги (последнее предположение, правда, ни на чем не основано){385}. Однако не меньше историков, напротив, уверены в том, что в первой половине X века влияние христиан было еще слабым. Аргументы у них тоже имеются. При заключении русско-византийского договора 944 года среди русских послов не указано ни одного обладателя христианского имени. Ольгу не поддерживал даже сын, и она, по словам летописца, «светилась» среди язычников, «аки бисер в кале». В 969 году, будучи при смерти, княгиня просила не совершать по ней языческих обрядов, словно побаиваясь, что ее могут похоронить не так, как положено. Находившийся при ней священник и похоронил первую русскую княгиню-христианку{386}.
Из этих двух точек зрения мне кажется более обоснованной первая. Действительно, среди имен русов-христиан в тексте договора 944 года византийских имен нет, но то, что среди русов-послов и русов-князей христиане были, – несомненно. Именно им, принявшим крещение, договор грозит возмездием от «Бога вседержителя» за нарушение установленного соглашения. Что касается истории похорон Ольги, то еще А. А. Шахматов отметил: рассказ «Повести временных лет» о погребении княгини тенденциозен и составлен из разных источников. Сначала сообщается: «Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте». И тут же добавление: «Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника – тот и похоронил блаженную Ольгу». Как видим, сначала летописец говорит, что Ольгу хоронили всем Киевом, а чуть ниже сказано, что ее хоронил только священник. Скорее всего, мы здесь имеем дело с вставленными в разное время в летопись особыми рассказами о погребении княгини. Летописцу было важно доказать, что святая Ольга жила и умерла, как христианка, окруженная язычниками и потому страдающая и одинокая{387}. Иные картины рисуют поздние летописи и житийная литература. В их представлении Ольга энергично насаждает христианство, сокрушает кумиры и возводит церкви на Руси{388}. По размаху просветительской деятельности она не уступает своему внуку Владимиру Святому. Возможно, в этих источниках отразилось стремление средневековых книжников несколько преувеличить успехи княгини-христианки. Но о широком распространении христианства среди русов еще до прихода к власти Владимира сообщается и в «Сборнике анекдотов и собрании блестящих рассказов» персидского автора Мухаммеда ал-Ауфи (первая половина XIII века){389}. Да и рассказ летописи о том, как Ольга уговаривала сына креститься, можно понимать в том смысле, что княгиня не видела никаких препятствий к распространению христианства на Руси и предлагала принять крещение Святославу и его дружине.
Ольга не была «тайной» христианкой. Ей нечего было «таиться»: ведь стремление княгини к сближению Руси с христианскими странами поддерживали князья, входившие в союз и отправившие вместе с ней своих послов в Константинополь. Хотя христиан среди них, вероятно, было мало. В этих условиях «языческая партия» вряд ли могла совершить в Киеве переворот.
Учеными предлагается еще одна датировка «свержения» Ольги Святославом – 964 год. Начавшиеся стремительные военные переходы князя выглядят столь непохожими на размеренную и, как кажется, мирную политику Ольги, направленную на «обустройство земли», что возникает желание приурочить к этому времени и окончание правления княгини в Русской земле{390}. Различия в характере матери и сына и, соответственно, в характере проводимой ими политики кажутся исследователям столь непримиримыми, что речь зачастую идет о том, что эти два родных человека воплощают в себе различные течения или даже разные общественные уклады русской жизни середины X века{391}. Но если беспристрастно посмотреть на события, происходившие в 940-960-х годах, то устремления Ольги и Святослава не покажутся диаметрально противоположными. Святослав идет походом в землю вятичей и этим ничего принципиально нового не совершает – политика русских князей в общем-то и сводилась к покорению и эксплуатации славянских племен, зависевших от Киева. В рамках той же политики действует и Ольга, подавляя выступление древлян. При этом она уверенно демонстрирует, что не боится крови и не останавливается перед применением военной силы. Святослав разрушает Саркел, мешающий подчинить вятичей. Хазары представлены в «Повести временных лет» основным конкурентом русских князей в деле взимания дани со славян. В этих условиях гибель хазарской крепости на Дону вполне закономерна. Движение князя на Тамань может показаться целиком его инициативой, хотя какие-то интересы у русов в области Приазовья имелись задолго до его появления здесь. Несомненно, опасность, которую Святослав начал представлять для владений Византии в Крыму после выхода русских сил к Керченскому проливу, – это то, что идет вразрез с политикой союза с византийцами, проводившейся правительством Ольги с конца 950-х годов. Но именно после встречи с посланником василевса ромеев Святослав покидает Приазовье и устремляется на Дунай, в Болгарию. Русское Поднепровье его активно поддерживает. Преувеличивать влияние Калокира не стоит, а вот мнение Киева наш отчаянный князь не мог не учитывать. И правы исследователи, которые видят в договоренности, достигнутой между Святославом и Никифором Фокой, продолжение военного сотрудничества Руси и Византии, которое всеми силами укрепляла Ольга{392}. Наконец, начало войны русов с болгарами в 968 году естественно вытекает из враждебных русско-болгарских отношений 940-950-х годов. Ольга продолжает занимать Киев до самой своей смерти, пока ее сын воюет вдали от «матери городов русских». Случись на Руси переворот, такое было бы невозможно{393}. В сочинениях некоторых исследователей проглядывает стремление изобразить Ольгу в последние годы жизни как всеми забытую, одинокую старуху, тихо доживающую век в своем киевском тереме. Но этот образ старой княгини – какое-то причудливое соединение былинного портрета «матерой вдовы», который рисует летописец, и другого портрета, знакомого уже нашему современнику. Это – некий член Политбюро ЦК КПСС в отставке, проигравший в борьбе за власть и потому пребывающий на пенсии в своей московской квартире или на подмосковной даче, разумеется, под неусыпным надзором компетентных органов.
Ольга сидит в Киеве; она продолжает прежний курс во внешней и внутренней политике; ее, как и раньше, поддерживают несколько десятков русских князей-союзников. Речь может идти только о том, что она доверила Святославу руководство войском, что естественно, учитывая пол и возраст Ольги, характер Святослава и их родственные отношения{394}. Но при таком «разделении функций» главенство принадлежит ей, Ольге. Военная активность Святослава была невозможна без ресурсов Киева, Русской земли, земель славян-данников. Неясно лишь, чего князь хотел лично для себя, к чему он сам стремился, отправляясь в тот или иной поход. Этот вопрос я постараюсь разрешить в следующих главах.
«Повесть временных лет» сообщает, что, пока Святослав воевал в Болгарии, на Русскую землю напали печенеги. Ольга с внуками (названными в тексте поименно: Ярополк, Олег и Владимир) «заперлась» в Киеве. «И осадили печенеги город силой великой – было их бесчисленное множество вокруг города. И нельзя было ни выйти из города, ни вести послать. И изнемогли люди от голода и жажды…»
Печенеги – кочевники, занимавшие земли к югу от Руси, между реками Прут и Дон, – уже неоднократно упоминались на страницах этой книги. Они делились на две ветви – западную и восточную, не связанные между собой союзом и в результате смешения с местным населением всё более и более расходившиеся в этническом отношении. По сообщениям восточных авторов, общая протяженность страны печенегов составляла 30 дней пути в длину и ширину{395}. Печенеги были зажиточны – у них имелось много скота, печенежская знать тянулась к показной роскоши – золотым и серебряным сосудам, дорогому оружию. Печенеги-воины отличались богатой экипировкой – серебряными поясами и дорогими знаменами. Звуки труб, сделанных в форме бычьих голов, в которые они трубили во время сражений, невозможно было ни с чем спутать. Печенеги были весьма многочисленны. Они делились на восемь племенных групп, возглавляемых князьями, которых Константин Багрянородный назвал «великими архонтами». Умирая, «великие архонты» «не имели права передавать достоинство детям или своим братьям; довольно было для владеющих им и того, что они правили в течение жизни. После же их смерти должно было избирать или их двоюродного брата, или сыновей двоюродных братьев, чтобы достоинство не оставалось постоянно в одной ветви рода, но чтобы честь наследовали и получали также и родичи по боковой ветви. Из постороннего же рода никто не вторгается и не становится архонтом». Эти восемь больших групп кочевников делились на 40 частей (родов?), которыми управляли князьки «более низкого разряда»{396}. Каждое печенежское племя было вполне самостоятельно, а все их большие и малые князья являлись не более чем военными предводителями, сильно зависевшими от настроения совета старейшин и простых воинов, собравшихся на сходку{397}.
Печенеги сильно омрачали жизнь русам, нападая на их земли, впрочем, как и на земли других своих соседей. От страны русов их отделял всего один день пути. Ни один русский караван не мог спокойно пройти по Днепру и вдоль побережья Черного моря без риска быть атакованным кочевниками. Соседи печенегов не оставались в долгу, стараясь отплатить им ответными походами.
Мы не знаем, какая группа (или группы) печенегов осадила город в отсутствие Святослава. Мало у нас сведений и о самой осаде, да и, собственно, о Киеве этого времени. Как были укреплены несколько поселений, разбросанных по киевским горам, определить непросто. Поселение на Старокиевской горе, где археологи обнаружили руины каменного терема, вероятно, принадлежавшего Ольге, и огромный могильник, было защищено крутыми склонами горы и обрывами. Многочисленные овраги и небольшие речки, впадающие в Лыбедь и Днепр, также должны были преградить путь нападающим. С южной стороны, где не имелось естественной защиты, были возведены вал и ров. Вероятно, на валу имелись и деревянные стены{398}. Больше сказать нечего – такова судьба деревянного города, на месте которого жили и продолжают жить люди. Впрочем, из описания осады Киева печенегами не видно, чтобы осаждающие шли на штурм киевских гор; они, судя по всему, предпочитали изматывать киевлян блокадой.
«Мать городов русских» не была оставлена без поддержки извне. Некие «люди той стороны Днепра» собрались в ладьях «и стояли на том берегу. И нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из Киева к ним. И стали печалиться люди в городе, и сказали: „Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и передать им: если не подступите утром к городу – сдадимся печенегам“. И сказал один отрок: „Я проберусь“. И ответили ему: „Иди“. Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: „Не видел ли кто-нибудь коня?“ Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ничего с ним сделать. На том берегу заметили это, подплыли к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли к дружине. И сказал им отрок: „Если не подойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам“. Воевода же их, по имени Претич, сказал на это: „Пойдем завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав“. И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришел сам князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один и обратился к воеводе Претичу: „Кто это пришел?“ А тот ответил ему: „Люди той стороны“. Печенежский князь снова спросил: „А ты не князь ли?“ Претич же ответил: „Я муж его, пришел с передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем – бесчисленное их множество“. Так сказал он, чтобы напугать печенегов. Князь же печенежский сказал Претичу: „Будь мне другом“. Тот ответил: „Будет так“. И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы, а тот дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города. И нельзя было вывести коня и напоить: стояли печенеги на Лыбеди. И послали киевляне к Святославу со словами: „Ты, княже, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул. А нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?“ Услышав эти слова, Святослав с дружиной быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сожалел об ущербе, нанесенном печенегами. И собрав воинов, прогнал печенегов в поле, и наступил мир».
Так излагает ход событий «Повесть временных лет». Летописный текст противоречив и неясен. Почему после заключения мира между Претичем и печенегами осада не была прекращена? Напротив, отступление печенегов от Клева как будто еще более ухудшило положение горожан. Каким образом киевляне, которые ранее не могли послать весточку Претичу, стоявшему на другом берегу Днепра, умудрились связаться со Святославом, воевавшим в Болгарии? Наконец, куда девался Претич после прихода Святослава? Почему «Повесть временных лет» ничего более не сообщает о нем? Складывается впечатление, что Киев был освобожден как бы два раза – сначала Претичем, а затем Святославом. Возникшее противоречие разрешил А. А. Шахматов, который пришел к выводу, что рассказ летописи об освобождении Киева от печенегов является компиляцией из двух независимых источников, один из которых считал спасителем Киева Претича, а другой – Святослава{399}. Рассматривая летописный текст в плане его последовательного осложнения вставками, Шахматов считал, что в так называемом «Древнейшем своде» (первой половины XI века) рассказ о Претиче отсутствовал и появился он в «Начальном своде» (конца XI века, оба свода, напомню, предшествовали «Повести временных лет»). Позднее А. Г. Кузьмин отметил, что в данном случае «речь может идти о соединении в летописи двух разных версий, а не о последовательной редакции одного и того же предания»{400}.
Летописный текст соткан из народных преданий. Отдельный сюжет первоначально составляла и история о молодом киевлянине, который пробрался сквозь печенежский лагерь, чтобы попросить о помощи. Сказания о нем и Претиче искусственно соединены – зачем воеводе был нужен гонец, если его силы уже стояли на берегу Днепра и он знал, что княгиню надо выручать? В духе фольклора и изображение печенегов глупцами, которых Претич разогнал не оружием, а трубными звуками и криком горожан{401}. И это рассказывалось про печенегов, которые, как известно, сами были большие любители потрубить! В предании подчеркивалось умственное превосходство русских над врагом. Возможно, поэтому подвиг Претича, «обманувшего печенежского князя, и подвиг отрока, хитростью пробравшегося через печенежский лагерь, объединены в одном рассказе»{402}. Весьма символичны и подарки, которыми обменялись воевода и печенежский князь.
Итак, в летописи отразились две версии спасения Киева от печенегов. Претич в роли спасителя Киева выглядит «убедительнее». Во-первых, потому, что Святослав прискакал в Киев «быстро» и с небольшой дружиной. Он явно не собирался воевать с печенегами, которые, согласно «Повести временных лет», стояли под Киевом «силой великой – было их бесчисленное множество». Во-вторых, даже если бы гонцу и удалось вырваться из осажденного города, его путь в Болгарию, а затем путь Святослава из Болгарии в Киев заняли бы несколько месяцев. Могли ли рассчитывать киевляне, сильно страдавшие от голода и жажды, что помощь успеет подойти вовремя? Любопытно, что Святослав, прибыв на Русь, сначала свободно прошел в Киев, где удостоверился, что мать и дети живы (странно, ведь Ольга с внуками «вышла к ладьям» и, вероятно, была перевезена на другой берег еще во время шума, поднятого людьми Претича?), а затем только собрал воинов и «прогнал печенегов в поле». Получается, что осада с Киева уже была снята до Святослава. Киев явно был спасен до прихода князя, и спасен Претичем{403}. Кто же такой этот воевода «той стороны Днепра»?
«Повесть временных лет» сообщает, что на вопрос печенежского князя («А ты не князь ли?») Претич ответил: «Я муж его, пришел с передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем – бесчисленное их множество». Из этого диалога, как кажется, можно сделать вывод – Претич выдавал себя за воеводу Святослава или даже был таковым на самом деле. Однако Претич не мог действовать в авангарде войск Святослава, потому что князь, как видно из летописного текста, сам спешил на Русь с малыми силами. Да и по правде говоря, воевода никакого князя не ждал, а все сказанное им печенежскому князю было блефом. При этом Претич стоял на левом берегу Днепра и, следовательно, князь, за воеводу которого он себя выдавал, должен был подойти к Киеву с востока, а Святослав в это время находился на Дунае, о чем печенеги прекрасно знали. Еще раз подчеркну: рассказы об освобождении Киева Претичем и Святославом не только не связаны между собой, но и противоречат друг другу. Когда печенег спросил Претича о князе «той стороны» Днепра, то он имел в виду не Святослава, а какого-то другого князя, находившегося в это время к востоку от Киева. Может быть, некого левобережного владетеля?{404}
На левом берегу располагался Чернигов – второй по значению город Среднего Поднепровья после Киева. Но имелся ли там князь в середине X века? Предание, как водится, связывает основание города с неким легендарным князем Черным, будто бы воевавшим с древлянами и погибшим в сражении с хазарами. В Чернигове старожилы показывали курган «Черная могила» и курган княжны Черны, считавшиеся, соответственно, могилами князя Черного и его дочери, которая якобы выбросилась из окна своего терема во время осады города древлянским князем, пленившимся ее красой. Вся эта романтическая история вполне могла появиться в результате соединения легенды об основателе города, имя которого, естественно, и должен был носить город, и известного сюжета из времен Батыева нашествия{405}. Но черниговцы и по сей день не забывают о князе Черном – относительно недавно в городе появилась улица, переименованная в его честь. В советское время она называлась скромнее – Пролетарская.
Предания о князе Черном позволили историкам предположить, что в Чернигове был княжеский стол. Впервые об этом как о серьезном научном построении стало возможным говорить после детального изучения местного кургана «Черная могила», проведенного Б. А. Рыбаковым. Выводы из анализа находок позволили исследователю утверждать, что в Чернигове в X веке имелись свои князья{406}. Построение Рыбакова встретило поддержку среди специалистов, однако нашлись и противники, считавшие, что в Чернигове тогда княжеского стола не было и городом управляли напрямую из Киева{407}. Главным аргументом противников гипотезы Рыбакова является уверенность в том, что в середине X века на Руси была всего одна княжеская династия – Рюриковичей. Однако текст договора 944 года позволяет не согласиться с этим. Не выдерживает критики и предположение о том, что в «Черной могиле» покоится какой-то воевода или наместник киевского князя. Анализ сюжетов на оковке ритона из этого кургана показывает, что они отражали представление славян о княжеской власти, а следовательно, предметы из могилы являются княжескими{408}.
О существовании особого княжеского стола в Чернигове свидетельствует и наличие в городе детинца (крепости), и упоминание Чернигова в договоре 944 года вместе с Киевом, что говорит о их равном статусе, и наконец то, что, согласно «Повести временных лет», до второй четверти XI века в городе еще не правили Рюриковичи. Отметим, что сам Чернигов выделился из нескольких поселений, а вокруг него существовала система вторичных центров, городищ, которые, возможно, были резиденциями знатных русов{409}.
Но если печенеги действительно опасались появления близ Киева черниговского князя, то почему вместо него возник воевода Претич, который робко топтался со своими людьми на левом берегу Днепра, мечтая лишь о том, чтобы вывезти из города Ольгу с внуками? Куда девался его князь? И где были два десятка прочих русских князей, окружавших Игоря во время отправки посольства к ромеям в 944 году и затем посылавших в Константинополь русскую делегацию во главе с Ольгой? Может быть, все они были вовлечены в движение Святослава в Болгарию? Учитывая количество русов, высадившихся на болгарском берегу летом 968 года, это вполне вероятно. Но почему тогда печенегов так напутал шум, устроенный Претичем? Какую опасность они ожидали с этой стороны, если все русские князья находились на Балканах?{410} Что же такое происходило в то время на Востоке, что могло настораживать кочевников, блокировавших Киев?
Араб Ибн Хаукаль происходил из города Нисибина в северной Месопотамии. Разорившись, он решил поправить свое положение и совершить путешествие (возможно, в качестве агента), надеясь провернуть при этом кое-какие коммерческие делишки. В 943 году путешественник выехал из Багдада и более тридцати лет провел в скитаниях, посетив почти все мусульманские страны от Испании до Индии. Результатом его странствий стал труд, название которого переводят на русский язык то как «Книга путей и государств», то как «Книга путей и стран». При ее написании Ибн Хаукаль, как и большинство арабских авторов, использовал труды предшественников и собственные наблюдения. Он сообщил, что в 358 году хиджры (по мусульманскому летоисчислению, а от Рождества Христова это период с ноября 968-го по ноябрь 969 года) русы разграбили столицу Волжской Болгарии Булгар, напали на буртасов, разорили хазарские города на Волге: «В настоящее же время не осталось ни следа ни из Булгара, ни из Буртаса, ни из Хазара, ибо Русы напали (или истребили) всех их, отняли у них все эти области и присвоили их себе. Те же, которые спаслись от их рук, рассеяны по ближайшим местам, из желания остаться вблизи своих стран и надеясь заключить с ними мир и подчиниться им»{411}. В другом месте Ибн Хаукаль пишет, что «Булгар есть небольшой город, не имеющий многих владений; известен же он потому, что был гаванью этих государств, но Русы ограбили его, Хазран, Итиль и Самандар в 358 году и отправились тотчас в Рум и Андалус»{412}. Еще в одном месте своего труда, отметив в очередной раз, что поход русов имел место в 358 году хиджры, он сообщает: «Хазары имеют также город, называемый Самандаром, который находился между ним (Итилем. – А. К) и Баб-аль-Абвабом (Дербентом. – А. К.). В этом городе было много садов, говорят, что он содержал около 40 тысяч виноградников. Я разведал о нем в Джурджане (Ургенче, столице Хорезма. – А. К.) по свежей памяти о нем. Его населяли мусульмане и другие; они (мусульмане. – А. К.) имели в нем мечети, христиане – церкви и евреи – синагоги. Но Русы напали на все это, разрушили всё, что было по реке Итиль (Волге. – А. К.), принадлежавшее Хазарам, Булгарам и Буртасам, и овладели им. Жители Итиля же убежали на остров Бабаль-Абваба (остров близ Дербента. – А. К.), а часть их живет на острове Сиа-Ку (полуостров Мангышлак. – А. К.) в страхе»{413}.
Ибн Хаукаль писал свою книгу около 976-977 годов. «Повесть временных лет», составленная в начале XII века на основе более ранних летописных и нелетописных источников, также сообщает о войне русов с хазарами, но датирует это событие 965 годом и делает главным действующим лицом Святослава, излагая историю похода отлично от арабского географа. Об одном или разных походах говорят источники? Если об одном, то какая датировка более правильная? Если о разных, то кто разгромил владения хазар в Нижнем Поволжье (в Итиле) и на Кавказе (в Самандаре) в 968/69 году? Востоковед второй половины XIX века А. Я. Гаркави, издавший отрывки из сочинения Ибн Хаукаля на русском языке, был убежден, что ученый араб X века описывал какой-то другой поход, отличный от похода Святослава в Подонье и на Тамань. И этот второй поход Гаркави также приписывал Святославу{414}. Казалось бы, кто кроме этого стремительного князя мог нанести серию ударов по ослабленной соседями Хазарии, ударов, которые имели для хазар роковые последствия? Но в конце 960-х годов Святослав был занят дунайскими болгарами. Летопись пишет, что, узнав о набеге печенегов, князь быстро прискакал в Киев по приглашению горожан (и набег кочевников, и возвращение князя летописец относит к 968 году). Всеми помыслами Святослав оставался на Дунае, туда он и стремился вернуться при первой возможности. В июле 969 года он все еще пребывал в Киеве – умерла Ольга, сын хоронил мать, делал распоряжения, касавшиеся управления Русской землей, и все-таки неудержимо стремился назад – в Болгарию. Об этом мы еще поговорим подробнее чуть позже, пока же отметим, что в момент разгрома хазарского Поволжья князь находился в Киеве и никуда из него, кроме как на Дунай, не рвался. Может быть, его планы изменились? Или же он, оставшись в столице русов, направил против хазар войска? Для разгрома, описанного Ибн Хаукалем, требовались значительные силы и немалое время. Ни того ни другого у Святослава не было. Из летописного рассказа видно, что основная часть русского войска, отплывшего в Болгарию на судах, так и осталась на Балканах{415}. Небольшая конная дружина – вот те силы, с которыми наш герой появился в Киеве. Болгары, кстати, не почувствовали особых изменений с его уходом на Русь. Осенью 969 года они молили Никифора Фоку о помощи против русов. Если бы князь решил устроить поход на Восток, ему, несомненно, пришлось бы выводить войска из Болгарии. Судя по летописному описанию осады Киева печенегами, на Руси взять силы было неоткуда. Киевляне прямо укоряли Святослава, что он ради «чужой земли» покинул «свою». В этих условиях даже стремительному Святославу вряд ли удалось бы набрать в «своей земле» еще одно войско и направить его на Итиль и Самандар{416}.
Если считать, что разгром Итиля и Самандара – дело рук Святослава (без сомнения, воевавшего с хазарами), и признать, что в 968/69 году князь совершить этот поход не мог, остается один выход – отнести поход в Поволжье и на Кавказ ко времени, когда Святослав еще не увлекся перспективой закрепления на Дунае, то есть признать, что и русская летопись, и арабский географ говорят об одном и том же походе – походе 965 года на хазар. Но как тогда быть с датировкой похода, имеющейся у Ибн Хаукаля? Нам известно, что в летописных датах часто встречаются неточности. Напомню, что даты были проставлены в уже готовый текст составителем «Повести временных лет». Было известно, что княгиня Ольга умерла 11 июля 969 года, поэтому осаду печенегами Киева и возвращение Святослава домой отнесли к предыдущему, 968 году. Исходя из этого, поход на болгар по летописи начался в 967 году, хотя на самом деле, как видно из византийских источников, в этом году Святослав только встретился с Калокиром, а напал на Болгарию в следующем, 968 году. Так как же можно не доверять современнику событий Ибн Хаукалю и доверять русской летописи?
Ответ на этот вопрос попытался найти еще один крупный востоковед, В. В. Бартольд. Он пришел к выводу, что Ибн Хаукаль вовсе не относил поход русов на хазар к 358 году хиджры, а указание на этот год – результат плохого перевода, выполненного А. Я. Гаркави: «В действительности более тщательное рассмотрение текста Ибн Хаукаля показывает, что его дата (358 г. х.) относится не ко времени разгрома, а к тому времени, когда Ибн Хаукаль, находившийся в Джурджане (Гиркане), узнал о разгроме, и только по небрежности в других местах отнесено им к самому событию»{417}. Подтверждение летописной датировки и одновременно «небрежности» Ибн Хаукаля можно, как кажется, отыскать в упоминавшихся выше сообщениях арабских авторов Ибн Мискавейха (начало XI века) и Ибн ал-Асира (начало XIII века) о том, что в 354 году хиджры (965 год н. э.) какие-то «турки» напали на Хазарию, что побудило хазар обратиться в Хорезм и в обмен на помощь принять ислам. Может быть, и эти арабские авторы тоже что-то перепутали и назвали «турками» русов или (что кажется более вероятным) их союзников в этом походе – огузов? Получается, Ибн Хаукаль как бы дополняет русскую летопись. Но почему сама «Повесть временных лет» ничего не говорит о разгроме Итиля и Самандара, зато описывает захват сравнительно небольшой Белой Вежи (Саркела)? Отвечая на этот вопрос, можно, конечно, допустить, что летописец не любил описывать дальние походы русов или считал необходимым сообщать о завоевании лишь тех земель, которые позднее вошли в состав Руси. Возможно, он просто не знал о разгроме Хазарии, но помнил об овладении Саркелом. Но почему же Ибн Хаукаль ничего не сообщает о действиях русов на Дону и в Тамани? Получается, это для него было несущественным?{418} Такие вот поверхностные и недалекие русские хронисты и арабские авторы…
Уж слишком много вероятного и предположительного в размышлениях исследователей по поводу поставленных здесь вопросов! Нельзя не обратить внимание на то, что писец, переписывавший текст Лаврентьевской летописи (в которую была внесена «Повесть временных лет»), в рассказе о походе Святослава на хазар в 965 году допустил описку, в результате чего получилось: «…город их и Белую Вежу взял»{419}. Ученые ухватились за это обстоятельство, решив, что речь идет о двух разных городах, а загадочный «город их» – это Итиль, столица Хазарского каганата. Выходило, что информация о походе Святослава на Нижнюю Волгу у составителей «Повести временных лет» все же была?{420} Однако в других летописях, содержащих текст «Повести временных лет», союз «и», соединяющий слова «город их» и «Белая Вежа», отсутствует. Речь, еще раз подчеркну, идет только об ошибке переписчика. Правильное чтение: «…город их Белую Вежу взял». Другое дело, что Саркел – Белую Вежу – летописцы приняли за столицу хазар, близ которой, вполне логично, не могла не произойти битва Святослава с «князем» хазар «Каганом». Зная о том, что Белая Вежа была когда-то городом хазар, летописец внес в свое сочинение только предания о захвате русами Подонья. В то же время, имея смутные сведения о том, что и на Волге жили хазары, он указал в качестве направления похода русов не только Оку, где жили вятичи, но и Волгу. Конечно, возможно, что приписка «…и на Волгу» – отзвук информации о походе на Итиль. Но только – «возможно». Почему, зная об этом походе, летописец не посвятил истории разгрома хазар в Поволжье и на Каспии хотя бы одной связной строчки?
Трудности встречает и стремление исследователей объединить в одну большую историю рассказы о походах русов, имеющиеся в «Повести временных лет» и книге Ибн Хаукаля, и отнести весь колоссальный по охваченной территории поход к одному 965 году. Некоторые авторы давали русам Святослава на поход даже не год-полтора, а всего семь-восемь месяцев. В результате получался какой-то бесцельный марафон по территории Восточной Европы и Северного Кавказа. В ходе «реконструкции» похода Святослав отправлялся из Киева, преодолевал землю вятичей, попадал с Оки на Волгу и, после многотрудного и многомесячного похода, обрушивался на Булгар – столицу волжских болгар{421}. Сам по себе этот поход – уже достижение, но русов, и без того измученных боями и тяжкими переходами, ученые только ставили на стартовые позиции. Но вот забег начинался. Разрушив Булгар, Святослав спускался по Волге к Итилю (по протяженности путь примерно равный расстоянию от нынешней Казани до Астрахани). Он очень спешил, но все равно успевал по дороге разбить буртасов. Где-то близ Итиля русы разгромили войско хазарского кагана, захватили Итиль, опустошили его и вступили в Каспийское море. Некоторое время они плыли на юг, вдоль каспийского побережья нынешнего Дагестана, пока не достигли еще одного богатейшего города Хазарии, Самандара, и громили и его. Штурм и разграбление Итиля и Самандара занимали немного времени: ведь русы не могли здесь задерживаться надолго. Они словно знали, что ограничены во времени, – в 965 году нужно покончить с хазарами, в 966-м – подчинить вятичей, а на 967 год византийские хронисты уже назначили Святославу встречу с Калокиром. Надо было спешить, чтобы хватило времени на подготовку к болгарскому походу. На разгроме Самандара заканчивается описание пути, которое можно было позаимствовать у Ибн Хаукаля. Дальше начинаются летописные материалы. Святослава следовало как-то «затащить» на Дон, поэтому, подчинившись воле ученых, он прекратил столь успешно начатый поход на Каспий, вероятно, сознательно отказавшись от идеи пограбить города, не уступающие Самандару богатством, а вместо этого отправился вдоль Кавказа на запад. Наверное, для того, чтобы еще раз продемонстрировать живучесть и выносливость доверившихся ему участников похода. Здесь, где-то между Кумой и Тереком, а может быть уже и на Кубани, ослабленные предыдущими боями, тяжело нагруженные добычей русы с легкостью победили ясов и касогов. Я говорю – «с легкостью», так как на «тяжелые продолжительные бои» исследователи им времени не оставили – надо спешить. Ну, вот впереди и Таманский полуостров. Захвачены Таматарха-Тмутаракань и Боспор; далее Святослав отправился через Азовское море на север, по Дону, и наконец достиг Саркела. Непонятно, почему князь выбрал к Саркелу такой сложный путь – через Тамань и Азовское море, но иначе не объяснить появление русов на берегу Керченского пролива. В общем, получился еще один рекорд. После взятия Саркела князь степями вернулся в Киев. Наверное, уже была зима, но путь через заснеженные степи не смутил Святослава. Ему в этом походе вообще не мешали погодные условия. Кроме того, зимовать в степи было нельзя (Саркел ведь сгорел), а оставаться в Крыму – тем более. Иначе зачем он тогда ушел оттуда на Саркел? И все это русы проделали в компании с «турками», которые отчего-то согласились участвовать в этом «пробеге»{422}. Их присутствие даже подгоняло русов – из союзников кочевники легко могли превратиться во врагов и попытаться отобрать у измученных людей Святослава всю добычу. Наверное, добычу небольшую – на приобретение большего исследователи князю не дали времени, да с ней и тяжело было бы поспевать за установленными сроками. К тому же в конце этого похода у русов должны были еще остаться силы на итоговую войну с вятичами{423}.
Но если даже признать возможность осуществления столь грандиозного похода русов, то он, повторюсь, представляется совершенно бесцельным. Определяя задачи Святослава, поставленные в ходе войны с хазарами, ученые обычно невнятно пишут о стремлении князя «сокрушить Хазарский каганат». Мотивы, которыми руководствовались русы, «сокрушая» хазар, приводятся самые разные. Одним авторам казалось, что Святослава обуяла жажда мщения – дело в том, что за 60 лет до этого, в 912/13 году, 500 русских кораблей, получив разрешение на проход от хазар, разграбили западное и южное побережья Каспийского моря, но на обратной дороге, при попустительстве правительства Хазарии, подверглись нападению хазарских мусульман и христиан, а затем остатки русов были перебиты буртасами и волжскими болгарами{424}. Но не чересчур ли злопамятным (если не сказать больше!) представляется в этом случае русский князь, особенно если принять в расчет истекшее со времени истребления русов время?! Предполагались и менее благородные цели для Святослава – в частности, обыкновенный грабеж{425}. Правда, мы уже говорили, что на методичный грабеж русам времени бы все равно не хватило. Надо сказать, что столь примитивную мотивацию навязывали Святославу немногие, но меркантильные соображения разглядели в его действиях большинство ученых. Они писали о стремлении князя «пробиться к торговым путям», «сломить торговую блокаду хазар» и т. д.{426} Однако, учитывая скорость, которую историки задали русам, вряд ли Святославу удалось бы закрепиться на торговых путях. Немало исследователей, в соответствии с «Повестью временных лет», выдвигали на первый план желание присоединить к Руси землю вятичей{427}. Впрочем, меркантильные соображения здесь также не исключались – вятичи теперь платили дань Киеву. Непонятно только, зачем для покорения вятичей надо было опустошать Поволжье и побережье Каспия. Наконец, некоторые авторы писали о стремлении Святослава присоединить к Руси земли в Поволжье и даже, создав здесь базу, начать движение дальше – на Каспий, к Багдаду и т. д.{428} Однако как этого можно было достигнуть при такой стремительности продвижения русских отрядов, неясно. Неясно и почему Святослав отказался от своих глобальных планов и в конце концов устремился в Болгарию{429}.
Составленное на основании данных Ибн Хаукаля и «Повести временных лет» описание похода показывает, что совершить подобное за тот промежуток времени, который на него отвели историки, невозможно. Русы неминуемо должны были или погибнуть, или задержаться на Востоке на несколько лет. Отмечу, что, согласно описанию самого Ибн Хаукаля, русы никуда не спешили: местные жители даже стали искать с ними примирения, думая, что они останутся здесь навсегда. Да русы и не могли двигаться быстро, ведь во время похода они всё же грабили и разоряли поволжские города, а это уменьшает скорость передвижения армии. Думать, что богатства Итиля и Самандара могли оставить русских завоевателей равнодушными, вряд ли правильно. Обычно, овладевая тем или иным городом, русы «осваивали» его, что называется, «без суеты». Например, в 332 году хиджры (943/44 году н. э.), овладев расположенным на реке Куре городом Бердаа и прилегающей к нему местностью, русы совершенно разорили город за шесть месяцев или даже год. Для того чтобы разорить такой крупный центр, как Самандар (бывшую столицу хазар, по размерам превосходившую их новую столицу – Итиль), также требовался значительный промежуток времени. Никуда русы не спешили и во время похода на Каспий в 300 году хиджры (912/13 году н. э.). Они оставались здесь «многие месяцы» и направились восвояси, лишь когда «им надоела эта жизнь»{430}. Наконец, известно, что сам Святослав, высадившись летом 968 года в Дунайской Болгарии, полтора года не покидал пределов Добруджи и не продвигался далее вглубь владений болгар.
Картина грандиозного похода во главе со Святославом, составленная из информации русской летописи и арабского географа, не складывается. И это несмотря на массу допущений, натяжек и предположений. Рассыплем же эту картину окончательно. Убежденность в том, что речь в источниках идет об одном и том же походе, основывалась на тезисе В. В. Бартольда, что в 358 году хиджры Ибн Хаукаль только узнал о походе русов, а сам поход состоялся раньше. И хотя не все ученые были согласны с этим положением, их аргументы можно было легко опровергнуть тем соображением, что они обращались за подтверждением своих выводов к устаревшему переводу А. Я. Гаркави или, в лучшем случае, к тому же списку труда Ибн Хаукаля, которым пользовался издатель «Сказаний мусульманских писателей»{431}. Для окончательного решения вопроса необходимо было осуществить новый перевод интересующих нас отрывков с привлечением всех известных списков «Книги путей и государств». Этот труд был проделан в 1970-х годах Т. М. Калининой, которая использовала списки более совершенные в сравнении с тем, которым пользовался А. Я. Гаркави. В ходе работы Т. М. Калинина решительно опровергла выводы В. В. Бартольда и установила, что 358 год хиджры был датой именно нападения русов, а не получения Ибн Хаукалем информации о нем{432}.
Следует отметить, что в самом тексте Ибн Хаукаля содержатся дополнительные детали, подтверждающие построения Т. М. Калининой. Так, Ибн Хаукаль сообщает, что русы шли по Волге к Каспийскому морю и еще до своего появления у хазар разгромили Булгар. Тот же В. В. Бартольд усомнился в этом известии арабского географа, так как Хазария после разгрома ее русами уже не смогла оправиться, в то время как Волжская Болгария начала играть ведущую роль на волжском торговом пути. По мнению В. В. Бартольда, Булгар вовсе не был разгромлен русами, а Ибн Хаукаль просто слышал «о разгроме русами дунайских болгар, смешал этих болгар с волжскими и свою догадку о том, как русы могли дойти по Волге до хазар, выдал за действительный факт»{433}. Восточные авторы и в самом деле частенько путали обе Болгарии. Предположение В. В. Бартольда встретило поддержку среди ученых. Наиболее аргументированно эту версию поддержала Т. М. Калинина. Сравнив списки Ибн Хаукаля с книгой другого араба ал-Истахри (первая половина X века), положенной в основу «Книги путей и государств», Т. М. Калинина доказала, что Ибн Хаукаль перенес известия о дунайских болгарах, имеющиеся в труде ал-Истахри, на волжских булгар. Он, видимо, слышал о войне русов на Дунае, «но поскольку он знал лишь Волжскую Булгарию, как соседку русов и хазар, то приписал Балканскую войну Святослава тому разгрому хазарских городов, с которым он непосредственно столкнулся»{434}. Таким образом, Ибн Хаукаль считал, что разгром Хазарии русами произошел уже после нападения Святослава на Болгарию в 968 году.
Любопытно и сообщение Ибн Хаукаля о том, что после разгрома Хазарии русы отправились в «Рум и Андалус». С «Румом» все относительно ясно: еще А. Я. Гаркави писал, что Ибн Хаукаль имел в виду войну русов с Византией около 970/71 года. Что же касается сообщения о походе русов в «Андалус», то тут исследователи или признавались, что не могут найти этому сообщению объяснение, или, чаще, считали, что в данном случае речь идет о набеге норманнов на Испанию. В 970 году норманны напали на берега Испании, а весной этого года ими был взят и разграблен город Сантьяго-де-Компостела. Летом 971 года в столице арабской мусульманской Испании Кордове было получено известие о появлении поблизости норманнов, и флоту, стоявшему в Альмерии, приказали отправиться в Севилью. Слухи об этих событиях дошли до Ибн Хаукаля, и он связал их с рассказом о разгроме русами Хазарии, перепутав норманнов с русами, подобно тому как еще один арабский географ, ал-Йа’куби (вторая половина IX века), назвал «русью» норвежских викингов, напавших на Севилью в 844 году{435}. В данном случае для нас имеет значение то, что поход русов в загадочный «Андалус» произошел одновременно с началом русско-византийского конфликта и появлением норманнов в Андалузии.
Итак, разгром русами владений хазар в Поволжье и на Кавказе произошел между нападением Святослава на Дунайскую Болгарию (968 год) и войной русов с Византией (971 год). Датировка Ибн Хаукаля не вызывает сомнений – это 358 год хиджры (ноябрь 968-го – ноябрь 969 года). Еще раз подчеркну: Святослав не мог быть участником этого похода{436}. Несомненно и то, что разгром русами во главе со Святославом Подонья, их появление на берегу Керченского пролива, встреча нашего князя с Калокиром произошли до похода на дунайских болгар. В этом смысле хронология «Повести временных лет» не вызывает сомнений. Понятно и то, что одного года недостаточно для того, чтобы опустошить Итиль, Самандар, земли ясов и касогов, Саркел и Таматарху. Зато его вполне хватит для того, чтобы или повоевать на Нижней Волге и Каспии, или совершить поход на нижний Дон и Приазовье. В связи с этим мне представляется необходимым вернуться к положению о том, что имели место два похода русов на Восток – в 965 году (описанный в русских летописях) и 968/69 году (описанный Ибн Хаукалем). Эти походы преследовали различные цели и проходили в разных регионах. Но кто были те русы, которые опустошили Нижнее Поволжье и побережье Каспийского моря? Исследователи зачастую видели в них неких норманнов, явившихся то ли из Скандинавии, то ли с какой-то своей базы в Восточной Европе (располагавшейся в Новгороде, Поволжье или Тмутаракани){437}. Согласиться с таким предположением вряд ли возможно. Ведь только Киевская Русь располагала к 960-м годам силами для столь сокрушительного удара по городам Поволжья и Кавказа, какой рисует в своих сообщениях Ибн Хаукаль{438}. Предполагалось также, что русы эти представляли собой отряды, посланные на хазар Святославом, явившимся в Киев после набега печенегов{439}. Это как будто находит подтверждение в сообщении арабского путешественника второй половины X века ал-Мукадцаси о том, что «войско из Рума (Византии. – А. К.), которое называют русами, напало на них (хазар. – А. К) и овладело их страной»{440}. Однако картина беззащитного Киева и увлеченность Святослава балканским проектом делают это предположение маловероятным. Фраза о русах, явившихся из «Рума», скорее означает, что русы напали на хазар после нападения на балканские владения Византии, к которым в момент сбора материалов для книги ал-Мукаддаси (она написана в 980-х годах) относилась и Дунайская Болгария. Из всего вышесказанного следует, что поход 968/69 года совершила сила, независимая от Святослава и Ольги, но явившаяся с территории Киевской Руси. Это могли быть только князья, входившие в союз с центром в Киеве. Часть из них не пошла со Святославом на Дунай, но продолжила начатое им решительное наступление на хазар, ударив по Нижнему Поволжью.
Итак, история отношений русов и хазар в 960-х годах предстает в следующем виде. К середине X века от могущества Хазарского каганата остались одни воспоминания. В результате давления киевских русов было утрачено влияние на земли восточных славян. При поддержке арабов добились независимости волжские болгары. Хазарами были практически утрачены позиции в Восточном Крыму. То же самое произошло в горном Дагестане и в восточной части предгорий Кавказа. Сохранившиеся в Подонье, Приазовье, Нижнем Поволжье и на Каспии владения хазар теснили аланы, черные болгары, печенеги, огузы и, разумеется, русы. Наступил момент, когда в истории государства хазар можно было поставить точку. В середине 960-х годов русы, руководимые Святославом, подчинили вятичей, разгромили Саркел, Таматарху и Боспор. Как уже отмечалось, этот поход являлся продолжением прежней политики Киева в отношении восточнославянских племен, уплачивавших дань хазарам. В результате рейда русов по Дону и вдоль побережья Азовского моря каганат утратил все свои западные владения. После этого Святослав увлекся землями на Дунае. Однако Киев оказывал давление на владения хазар и на другом направлении. В знаменитой переписке хазарского царя Иосифа с испанским евреем Хасдаем ибн Шафрутом имеется сообщение о том, что хазары перекрывают устье Волги, не позволяя русам проходить в Каспийское море, чтобы «идти на исмаильтян, и (точно так же) всех врагов (их) на суше приходить к „Воротам“ (Дербенту)». Иосиф добавляет о русах: «Я веду с ними упорную войну. Если бы я их оставил (в покое), они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада»{441}. Русско-хазарский военный конфликт в начале 960-х годов, когда было написано письмо, налицо. И вот спустя всего несколько лет после того, как были написаны процитированные строки, русские отрады, направленные из Киева, явились на Нижнее Поволжье и нанесли удар по Итилю и Самандару{442}. В то время когда одни русы засели в Дунайской Болгарии, а другие – в городах хазар, на Киев и напали печенеги. Именно подхода русских сил с востока, со стороны Хазарии, и испугались кочевники.
Что ж, остается признать, что русские князья во главе с Ольгой во второй половине 960-х годов слишком увлеклись внешними походами. Направив из Среднего Поднепровья одновременно два значительных войска – одно на Дунай, а другое на Волгу, – они оставили Киев беззащитным, чем воспользовались печенеги. В этих условиях на первый план вышла сила, о которой до этого на страницах данной книги не шла речь. Этой силой было киевское вече.
История возвращения Святослава в Киев достаточно темная. Сюда его пригласили киевляне, то есть городская община Киева, а не союзные князья. Появление князя не было связано с обороной города от печенегов. Киев был спасен левобережным воеводой Претичем еще до прихода из Болгарии небольшой дружины, возглавляемой Святославом. Зачем же тогда киевляне отправили посольство к Святославу? Ситуация кажется еще более запутанной после знакомства с летописным рассказом о том, как, явившись в город, Святослав заявил матери и боярам: «Не любо мне в Киеве быть, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». Ольга уговаривает сына: «Видишь – я больна; куда хочешь уйти от меня? („Ибо уже разболелась она“, – добавляет летописец.) Когда похоронишь меня – иди куда хочешь». Почему же, явившись на Русь, Святослав вскоре понимает, что ему «не любо» жить в Киеве? Почему он хочет вернуться в Болгарию, положение в которой очень неустойчиво, так как ее покорение далеко до завершения? Князь так торопится на Балканы, что хочет оставить мать, находящуюся при смерти. Ольга просит сына дождаться ее смерти и похоронить ее. «Повесть временных лет» указывает, что умерла княгиня всего через три дня после этого разговора (согласно Проложному житию Ольги, 11 июля 969 года){443}. Но похоронив мать, Святослав сразу же перестает торопиться в Болгарию и весь 970 год проводит в Киеве, распределяя земли между сыновьями. На Балканах он появляется только в 971 году. Последнее противоречие легко разрешимо – летописное сообщение о пребывании Святослава в Киеве также первоначально не знало разбивки на годы. Князь покинул Киев сразу же после смерти матери, и лишь позднейший летописный сводчик разделил сообщение о его визите в Киев между тремя годами{444}. Однако разрешив одно противоречие, мы только усилили другие. Ведь если мы сокращаем срок пребывания Святослава в Киеве, то еще более непонятными становятся цель его появления там и причина быстрого отъезда.
Учитывая, что Святослава пригласили именно киевляне, и проводя параллель с подобными историями, происходившими в XI-XII веках, мы можем предположить, что киевляне звали его на княжение. В X веке киевский князь зависел не только от воли других князей и дружины, но еще и от мнения «земли», городской общины, которой он управлял. Согласно летописи, во время легендарного похода Олега на Царьград дань с греков получали не только те, кто участвовал в походе, но и крупнейшие города Руси – главнейшие общины, которые, по всей видимости, санкционировали и организовали поход на Византию (Киев, Чернигов и др.). Известно о совещаниях Владимира, сына Святослава, со «старцами градскими» (городскими старейшинами). В городах, наряду с княжеской администрацией, долго сохранялась и десятичная система местного управления, зародившаяся в глубокой древности (в городах во главе десяти дворов стоял «десятский», сто дворов составляли «сотню», возглавляемую «сотским»). Следует вспомнить и о той роли, которую играло в древней Руси вече (народное собрание). Летописцев не удивляло, что народ (вече) пригласил Рюрика, спокойно отнесся к захвату Киева Олегом, вызвал Святослава из Болгарии. Все это кажется книжникам вполне естественным. И в X веке, и позднее, в XI-XII веках, вече было важным элементом политической жизни, с которым должны были считаться князья; само же вече часто не считалось с князьями и их мнением. Неоднократно симпатии городской общины в выборе князя не совпадали с расчетами князей-союзников. Без согласия и одобрения народа, городской общины князь не мог безопасно для себя совершить ни одного значительного шага.
Огромным влиянием пользовались самые знатные и богатые представители общины – бояре и купцы. По своей силе купец IX-X веков мало чем отличался от предводителя бродячей дружины – князя или воеводы. Не случайно, согласно рассказу «Повести временных лет», киевляне приняли за купеческий караван войско Вещего Олега. Купцы вместе с представителями князей участвовали в заключении договора с Византией в 944 году. Несомненно, в середине X века русские купцы зависели от князей. В договоре 944 года сообщается о необходимости предъявления купцами верительных грамот от князей, без которых купцы не только не могли торговать в Константинополе, но и не имели права даже проживать в столице Византии. Однако тут же указывается, что это условие было нововведением, а прежде купцы предъявляли серебряные печати. Неясно, что это были за верительные печати и как они выглядели. Возможно, речь идет о «перстнях-печатях», при помощи которых производился оттиск, своеобразном личном знаке купца. Известно, что, когда русы в Бердаа в 943/44 году грабили местное население, каждый из захватчиков, обобрав мусульманина, «оставлял его и давал ему кусок глины с печатью, которая была ему гарантией от других»{445}. Вряд ли следует считать, что эти оттиски на глине производились в какой-то княжеской канцелярии и обязательно являлись знаком великого князя Киевского. Скорее всего, это был личный знак руса-воина. Следовательно, подобные печати были распространены в русском обществе, и предъявляемые до середины X века русскими купцами, они могли быть их личным, особым знаком, своеобразной торговой маркой, которая была известна византийским партнерам.
К середине X века ужесточается контроль князей над русами вообще. Из договора 944 года следует, что найм русов на военную службу в империю был поставлен под контроль княжеской власти, и это также было нововведением. Однако положение купцов оставалось высоким. Прибывая с купеческим караваном и проживая вместе с купцами и другими русами в квартале Святого Маманда, послы оказывались под влиянием купцов. Кроме того, явно не весь товар принадлежал князьям. Примерно равное число послов и купцов, заключавших договор 944 года (25 и 26), может свидетельствовать о том, что и те и другие представляли примерно 20 русских поселений. С течением времени представительство купцов во взаимных отношениях Руси и Византии даже усиливается – в 957 году с Ольгой в Константинополь прибыли уже 22 посла и 44 купца.
Русские бояре, купцы и простые русы оказывали серьезное влияние на политическую жизнь в Киеве X века. Вероятно, здесь всегда имелась партия сторонников Святослава. Воспользовавшись осадой города печенегами, вскоре после счастливого спасения они обратились к Святославу с просьбой прибыть в Киев, чтобы управлять им. Но Святослав оставаться в Киеве не пожелал. Его планам и планам его киевских сторонников не суждено было сбыться. Возможно, не все киевляне были готовы принять его в качестве князя, а Ольга все еще контролировала ситуацию в Поднепровье.
Впрочем, это только предположение. Летопись объясняет произошедшее иначе: Святослав прибыл в Киев спасать город от печенегов, но не хотел задерживаться на Руси. И все-таки в обращении к нему матери чувствуется какой-то душевный надрыв. При чтении летописных строк остается ощущение возникшего между ними конфликта. Святославу не сидится в Киеве, он рвется в Переяславец на Дунае. Второй раз «Повесть временных лет» сообщает о пристрастиях князя, вкладывая в его уста прямую речь: «Не любо мне в Киеве быть…» Ранее Святослав уже высказывался о своем отношении к крещению. Теперь речь идет не о выборе веры, а о выборе места жительства. Что же это за пленительный Переяславец на Дунае, куда он рвется из Киева?
Летописец сообщает, что еще во время своего первого появления в Болгарии Святослав «сел княжить» в этом городе, «беря дань с греков». Речь идет о городке, известном в средневековых источниках под названием Малый Преслав. Он располагался в районе дельты Дуная на правом берегу самого южного его рукава, недалеко от впадения в Черное море. Это была весьма заболоченная местность, от Переяславца до Доростола (самого крупного города Добруджи) было четыре дня пути. Ныне это окрестности села Нуфэру в Румынии, в восьми-десяти километрах к юго-востоку от города Тулчи. Любопытно, что до начала XX века село носило название Прислава, а затем было переименовано. Когда-то на этом месте находилось античное поселение, но во времена болгар от него даже и воспоминания не осталось. А в первой половине X века здесь возник Переяславец – речной порт и торговый центр{446}. Как видим, ко времени появления в Дунайской Болгарии русов это был совсем молодой город, и если уж к концу 969 года владения Святослава в Болгарии и не простирались далее Добруджи, нам все равно неясно, почему князь рвался в Переяславец, а не в Доростол – центр этой области. Русским же летописцам XI-XII веков, напротив, все было понятно. В их время Малый Преслав часто посещали русские купцы, проплывавшие вдоль побережья Черного моря. От них летописцы и черпали информацию о географии далекой земли дунайских болгар, к тому времени уже давно находившейся под властью Византии. Именно с начала XI века (с момента окончательного установления ромеями своей власти в болгарских землях) началось активное участие Переяславца в русско-византийской торговле. «Теперь, – пишет историк В. Б. Перхавко, Киев и другие древнерусские центры могли получать отсюда разнообразные византийские товары (вино, южные фрукты и специи, изделия провинциального византийского ремесла). К XI-XII векам (но не к X столетию) относятся и археологические материалы, свидетельствующие о древнерусском торговом обмене с нижнедунайскими центрами (Доростолом – Силистрой, Диногецией, Исакчей, островом Пэкуйул-луи-Соаре, Капидавой, Мэчиной, Черна водой). При их раскопках открыты, в частности, древнерусские дверные замки трубчатой формы, кресты-энколпионы, пряслица для прядения из розового овручского шифера, служившие погремушками глиняные поливные яйца-писанки, стеклянные браслеты и другие украшения. В районе села Нуфэру, где предположительно локализируется Переяславец – Малый Преслав, преобладают археологические находки последней трети X-XIV века: византийские амфоры, стеклянные браслеты, поливная посуда, монеты и печати, восточные сфероконические сосуды для благовоний и ртути, привезенные из Руси ремесленные изделия (писанка, овручские пряслица)»{447}.
Вряд ли Святослав произносил о Переяславце X века слова, вложенные в его уста летописцами. В его времена страны, торговавшие с болгарами, имели дело в основном со столицей Болгарского царства – Великим Преславом. Русы тогда проходили лишь вдоль побережья Болгарии, не углубляясь внутрь страны. Это не позволяли русско-болгарские отношения первой половины X века, затянувшийся кризис в которых разрешился в результате нападения Святослава. Переяславец находился от морского побережья на расстоянии одного-двух дней плавания вверх по Дунаю. Вряд ли русы во времена Игоря, Ольги и Святослава попадали сюда. Другое дело – XI век, хотя описанное изобилие товаров, приходивших якобы в Переяславец, даже для этого времени кажется чрезмерным. Скорее всего, летописец XI века дополнил торгово-экономическую характеристику Переяславца на Дунае второй половины X века современными ему сведениями о торговых связях самой Руси{448}. При этом, не зная Болгарии дальше Переяславца, он в своем описании превратил этот городок в столицу болгар X века. Именно в этом смысле нужно понимать фразу летописи о том, что во время своего первого появления в Болгарии Святослав «сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков». Кстати, во времена летописца этими землями владели ромеи, отсюда, вероятно, и замечание, что именно с них русский князь брал дань – еще один анахронизм, возникший в летописи под влиянием рассказов купцов.
Но вернемся к событиям в Киеве летом 969 года. Превратив Переяславец в столицу болгар, приписав ему торговое значение, которого этот город никогда не имел, летописец все же верно передал два принципиально важных момента – общее направление, в котором торопился уйти из Поднепровья Святослав, и его нетерпеливое желание сделать это немедленно. Смерть Ольги превращается в досадную помеху его устремлениям. Князь торопливо распределяет между сыновьями владения и устремляется на Дунай. Летопись, таким образом, сообщает нам некоторые подробности из личной жизни князя, называя имена трех его сыновей от разных жен. Как у любого князя-язычника, у Святослава, конечно, было много жен и, судя по всему, весьма приблизительное представление о количестве собственных детей. Когда Святослав уже «посадил Ярополка в Киеве, а Олега в Древлянской земле», рассказывает летописец, к нему «пришли новгородцы, прося себе князя: „Если не пойдете к нам, то сами найдем себе князя“. И сказал им Святослав: „А кто бы пошел к вам?“ И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: „Просите Владимира“. Владимир же был от Малуши, ключницы Ольгиной. Малуша же была сестрой Добрыни, отец же им был Малк Любечанин, и приходился Добрыня Владимиру дядей. И сказали новгородцы Святославу: „Дай нам Владимира“. Он же ответил: „Вот он вам“. И взяли к себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с Добрыней, дядей своим, в Новгород».
Получается, что двоих своих сыновей Святослав наделил владениями, а вот про третьего – Владимира – вспомнил вроде бы не сразу, но потом все же отправил княжича попытать счастья в Новгороде. Владимир был сыном Святослава и рабыни княгини Ольги – ключницы Малуши. Вряд ли Святослав испытывал к Малуше какое-то глубокое чувство, хотя наши романисты и любят в произведениях «из древнерусской жизни», что называется, «обыграть» сюжет, «высосав» из летописной строчки одну-две главы о несчастной любви князя к ключнице. Скорее, все было иначе – овладел энергичный князь смазливой рабыней во время одного из своих наездов в Киев, да и забыл. Забыл и ключницу, и прижитого ею мальчика, который, судя по всему, с детства воспитывался матерью с убеждением, что он – князь. Поздние летописи сообщают, что Малуша родила Владимира в каком-то отдаленном селе Будутине, куда «в гневе» Ольга отправила ключницу на жительство{449}. Неизвестно, что, собственно, разозлило княгиню. Прижитые князьями от наложниц дети были обычным явлением даже в X веке. При этом особых различий в их положении и положении «законных» детей не ощущалось. Все зависело только от чувств, которые испытывал к ребенку отец{450}. Да и в момент распределения владений сын Малуши успел-таки появиться в Киеве. Летопись сообщает, что он вместе с братьями и бабкой пережил в городе осаду печенегов. Забывчивость Святослава могла бы показаться странной, если не учитывать, что поименный перечень внуков Ольги в эпизоде осады Киева, возможно, является поздней вставкой в предание, сделанной летописцем.
Несмотря на четко определенный в летописях низкий статус матери Владимира, исследователи иногда любят, вооружившись одним именем отца Малуши, пофантазировать и придумать ключнице знатную родословную{451}. Летописец уделил ее происхождению достаточно внимания и сделал это только потому, что она была матерью Владимира Святого. Будучи рабыней, Малуша представляет собой, пожалуй, один из интереснейших типов женщин русского Средневековья. И абсолютно напрасно советские романисты и даже кинематографисты любили лить слезы над порушенной честью несчастной «простушки» из княжеского терема, в котором-де царили «волчьи нравы». Малуша добилась того, чего хотела. Летописи молчат о ее судьбе после утверждения Владимира в Новгороде, но, несомненно, она не была безрадостной. Исландские саги сообщают, что Владимир любил послушать свою мать, которая была известна как пророчица. «Многое случалось так, как она говорила. И была она тогда в преклонном возрасте. Таков был их обычай, что в первый вечер йоля (одного из языческих зимних праздников. – А. К.) должны были приносить ее кресло перед высоким сиденьем конунга. И раньше, чем люди начинали пить, спрашивал конунг свою мать, не видит или не знает ли она какой-либо угрозы или урона, нависших над его государством, или приближения какого-либо немирья или опасности, или покушения кого-либо на его владения. Она же отвечала: „Не вижу я ничего такого, сын мой, что, я знала бы, могло принести вред тебе или твоему государству, а равно и такого, что спугнуло бы твое счастье…“»{452}. Если это не выдумка саг и если образ матери Владимира не перепутан с образом его бабки Ольги, то Малуша прожила длинную жизнь и ее ожидала почтенная старость.
Малуше повезло еще и потому, что из всех жен и подруг «быстрого, словно пардус», Святослава только ее имя и сохранилось в истории. Правда, знаменитый В. Н. Татищев в своей «Истории Российской» указывал в качестве тестя Святослава некого «князя угорского», но делал это хотя и в главе, посвященной загадочной Иоакимовской летописи, но без специальной ссылки на какой-то источник. Возможно, это его умозаключение вытекало все из той же речи Святослава о достоинствах Переяславца, которую Татищев понял в том смысле, что «о помосчи же от венгерского войском, сребром и златом сам Святослав упомянул». У венгерской жены Святослава даже появилось имя – Предслава, которое историк нашел в русско-византийском договоре 944 года{453}. Но даже если мы, следуя Татищеву, предположим, что Святослав, воюя в Дунайской Болгарии в союзе с венграми, женился на дочери какого-то венгерского князька, все-таки придется признать существование у князя и других жен – матерей Ярополка и Олега. Как известно, эти сыновья Святослава недолюбливали друг друга, при этом к моменту возвращения Святослава в Киев они были достаточно взрослыми людьми. Ярополку отец даже привез в жены красавицу-гречанку, бывшую монахиню. В каком монастыре ее захватили русы Святослава – в византийских владениях в Крыму или на Балканах, – неизвестно. Известно о многочисленном гареме сына Святослава Владимира. Даже если он был своеобразным рекордсменом в этой области, мы все же вправе предположить, что гарем его отца Святослава насчитывал если не сотни, то по крайней мере десятки жен.
При знакомстве с историей распределения земель между сыновьями Святослава складывается впечатление, что влияние князя в это время не распространялось далее Киева, брошенного в условиях набега печенегов на произвол судьбы князьями-союзниками Ольги, и Древлянской земли, ставшей со времен Ольги придатком Киева. Появление новгородцев вызывает у Святослава удивление. Впрочем, и в гордом заявлении новгородских послов («Если не пойдете к нам, то сами добудем себе князя»), и в ответных, обидных словах князя, обращенных к ним («А кто бы пошел к вам?»), чувствуется привычное для Киева XI-XII веков представление о дерзости и строптивости новгородцев. Высказывалось предположение, что этот летописный рассказ представляет собой предание новгородского происхождения{454}. То, что перед нами текст, существовавший ранее в виде отдельного предания, ясно. На это указывают противоречия внутри летописного текста. Сначала летописец сообщает о том, что Ярополка посадили в Киеве, а Олега – у древлян, а потом, после появления новгородцев, вдруг заявляет, что оба эти князя отказались княжить в Новгороде. Если они уже посажены куда-то на княжение, то зачем им предлагать Новгород? У нас нет точных данных об отношениях Киева и Новгорода до этого времени. Приход Вещего Олега из Новгорода в Киев маловероятен; тождество Новгорода с «Немогардом», в котором когда-то сидел на княжении Святослав, сомнительно. Новгород не упоминается и в русско-византийском договоре 944 года. В этих условиях предание о появлении новгородцев в Киеве при Святославе выглядит едва ли не первым упоминанием о контактах между двумя городами, и неожиданность обращения новгородцев вполне объяснима{455}.
На каких же условиях Святослав оставил сыновьям вверенные им области? Сохранил ли он какие-нибудь связи с Русью? Уже достаточно давно в науке высказана точка зрения, согласно которой Святослав решил перенести столицу Руси на Балканы, а сыновей оставил в их областях в качестве своих наместников{456}. Этой точки зрения противостоит другая: ее сторонники считают, что Святослав ушел на Дунай окончательно, сделав своих сыновей независимыми от него правителями{457}. Последнее кажется мне более вероятным. А. А. Шахматов считал, что речь Святослава к матери и боярам о достоинствах Переяславца на Дунае составитель «Древнейшего свода» – одного из летописных сводов, предшествовавших «Повести временных лет», – извлек из какой-то болгарской хроники, и речь эту князь произнес уже после возвращения в Болгарию{458}. И хотя доказать существование такой болгарской хроники вряд ли возможно, Святослав в своей речи явно давал оценку Переяславцу с точки зрения болгарского владыки. Русский князь намеревался торговать с Русью, как с любой другой соседней страной. Этой фразой он явно отделяет себя от Руси. Можно вполне согласиться с филологом А. С. Деминым, что «Русь по отношению к земле Святослава представлена внешней, сопредельной страной, из которой блага текут в Переяславец, – наподобие Византии, Чехии, Венгрии. Из Руси в Переяславец поступает даже „челядь“ (рабы. – А. К.), которая в летописи упоминается только как объект внешних связей Руси (дары, трофеи и пр.). Такое отношение к Руси как загранице абсолютно необычно для русских персонажей летописи»{459}. Не случайно позднее Святослав признает, что «Русская земля далеко», то есть помощи из нее он не получает и связей с ней не поддерживает.
Такое отношение Святослава к Киеву, его стремление осесть в Добрудже позволяют определить основной мотив, которым руководствовался наш герой в своих походах. Вспомним, что при жизни отца он занимал некий «Немогард». Гибель Игоря и утверждение в Киеве Ольги привели к изменениям в жизни их сына. О причинах этих изменений мы можем только гадать. «Немогард» был оставлен, но и нахождение при матери в Киеве не удовлетворяло энергичного князя. Как и многими русскими князьями до него, им владело стремление к перемене мест, поиску земли, куда «стекаются» все блага. Руководствуясь этими же мотивами, Вещий Олег в летописном предании захватил Киев. В 943/44 году какие-то русы, возглавляемые несколькими «начальниками» (так называет русских князей арабский источник), захватили город Бердаа на реке Куре и, вступив в город, заявили местным жителям: «Нет между нами и вами разногласия в вере. Единственно, чего мы желаем, это власти. На нас лежит обязанность хорошо относиться к вам, а на вас – хорошо повиноваться нам»{460}. И надо сказать, что поначалу, пока русы думали, что горожане согласятся на их требование, они вели себя вполне пристойно. Грабеж начался позднее, когда жители Бердаа слишком явно начали демонстрировать свою нелояльность новой власти. Вот и Святослав, устремившись в землю вятичей, а затем на Саркел, решил найти для себя новое место сосредоточения «всех благ». Поначалу он сделал ставку на Керченский пролив – Тмутаракань или Боспор. Перед ним открывалось широкое поле для деятельности в Крыму. Помешали византийцы. Поняв, что его пребывание здесь чревато конфликтом с ромеями, в котором Киев может его не поддержать, Святослав отплыл в Болгарию. Теперь на Добрудже сосредоточились все его интересы. Но и приглашение в Киев, который осаждали печенеги, не оставило князя равнодушным. Правда, побывав здесь, он потерял интерес к «матери городов русских». Болгария казалась ему привлекательнее. Там было больше возможностей для приложения тех сил, которыми щедро наградила его природа. В Добрудже он был сам себе хозяин. Возможность владения землей, вдоль которой ежегодно проплывали русские торговые караваны, более близкой к Византии, чрезвычайно его волновала. Разделавшись наконец с заботами об устройстве Русской земли, Святослав, полный самых радужных надежд, отправился на Дунай.
Занятно читать летописные строки о боевых действиях в Дунайской Болгарии. Особенно если знать, что писавшему их летописцу страна болгар представлялась областью вокруг Переяславца на Дунае. Получается, что здесь до возвращения в Киев Святослав и «брал дань с греков». В глазах древнерусского книжника маленький Переяславец вырос до столицы целого царства. Сюда рвется Святослав. Но за город надо еще побороться! Ведь когда князь вновь пришел из Киева в Переяславец, «затворились болгары в городе. И вышли болгары на битву против Святослава, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав воинам своим: „Здесь нам и пасть! Встанем же мужественно, братья и дружина!“ И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом».
Картина поистине эпическая. Конечно, можно предположить, что в летописи перепутаны оба города – периферийный Малый Преслав (Переяславец на Дунае) и Великий Преслав (настоящая столица Дунайской Болгарии) и летописец, держа в голове Переяславец, перенес на него события, происходившие на самом деле вокруг Великого Преслава{461}. В таком случае источником могли послужить предания, сложившиеся среди ветеранов похода на Балканы. Если это действительно так, то мы имеем летописное описание штурма болгарской столицы, остававшейся неподконтрольной русам до декабря 969 года. Значит, Святослав, вернувшийся после похорон Ольги в Болгарию, начал расширять ареал действий своих войск? С чем это связано? И что происходило в землях, уже захваченных русами в отсутствие князя?
Византийские источники об этом молчат. Лев Диакон вообще не заметил ухода Святослава из Болгарии: в его «Истории» русы после своего первого появления на Дунае не прекращают давление на болгар ни на одну минуту. Несколько иначе изображает дело в своем «Обозрении историй» Иоанн Скилица – живший во второй половине XI века успешный чиновник, дослужившийся до должности друнгария виглы (ведавшего внешней охраной дворца) и носивший титул куропалата (один из первых по значению в византийской иерархии). Согласно его хронике, в ходе первого нападения на Болгарию русы «разорили многие города и села болгар, захватили обильную добычу и возвратились к себе». А через год «они опять напали на Болгарию, совершив то же, что и в первый раз, и даже еще худшее»{462}.
Это уже другая крайность. Летопись сообщает, что Святослав привел с собой в Киев немного сил, оставив большую часть войска на Дунае. Уход князя на Русь не заметили и болгары, завязавшие с Константинополем переговоры о помощи осенью 969 года. Так что фразу Скилицы о повторном нападении русов на Болгарию следует понимать в том смысле, что русы спустя год возобновили боевые действия и развили столь большую активность, что вести об этом дошли до Константинополя. Видно, уход Святослава в Киев привел к временному затишью – русы закреплялись в захваченной Добрудже.
Летописец обвиняет самих болгар в возобновлении боевых действий. Считая, что Святослав сразу покорил Болгарию и засел в Переяславце, наш книжник представляет действия болгар восстанием. Этой летописной картине пытался придать дополнительные краски В. Н. Татищев. Он поместил на страницах «Истории Российской» уникальный рассказ о том, что произошло в Болгарии после ухода из нее Святослава. Свое сообщение историк отнес к 971 году, когда по летописной хронологии Святослав еще только рассаживал сыновей по областям, собираясь возвратиться на Дунай. По Татищеву, русскими силами на Балканах в отсутствие Святослава командовал некий воевода Волк. Когда князь ушел спасать Киев от печенегов, болгары осадили Волка в Переяславце. Ощутив нехватку продовольствия, воевода, дотоле мужественно оборонявший город, решил вырваться из Переяславца и покинуть Болгарию. Он усыпил бдительность болгар, приказав резать коней и солить конину, и болгары поверили, что русские готовятся к длительной обороне. Ночью Волк поджег город. Осаждающие кинулись грабить горящий Переяславец. Воспользовавшись этим, отчаянный русский воевода погрузился на корабли и отплыл на Русь. По пути Волк узнал о возвращении Святослава и встретил князя на Днестре. Вот тогда-то Святослав повторно осадил Переяславец{463}.
Василий Никитич Татищев (1686-1750) был крупным государственным деятелем; всю жизнь он выполнял самые разнообразные, подчас весьма сложные поручения правителей России. Он воевал со шведами и турками (был ранен в Полтавской битве), ездил за границу, руководил уральскими заводами, «усмирял» башкир и калмыков, был губернатором Астраханского края. Как и большинство «птенцов гнезда Петрова», Татищев увлекался разными науками: ему принадлежат труды по географии, праву, философии, экономике, этнографии и фольклору и даже «Сказание о звере мамонте». Но главным увлечением чиновника была история. Несколько десятилетий, урывками, из-за колоссальной занятости, Татищев писал «Историю Российскую». Основным источником его труда были летописи. Сперва ученому казалось, что для познания истории достаточно найти хорошую рукопись летописи и внимательно ее прочесть. Но вскоре, сравнивая одну летопись с другой, он обнаружил, что они говорят об одних и тех же событиях весьма различно, а о многих важных действиях не упоминают вовсе. Татищев начал собирать летописи, все более и более убеждаясь, что летописцы были тенденциозными авторами и рассказ летописи – еще не истина. Истина казалась достижимой при сравнении показаний нескольких летописей. По рассказу самого Татищева, древние книги добывались им самыми разными способами. Копию одной древней летописи он получил от раскольника во время поездки в Сибирь, другую ему дал посмотреть знаменитый Артемий Волынский, впоследствии казненный по приказу императрицы Анны Иоанновны, третью Татищев купил у уличного торговца и т. д. Всего Татищев перечисляет 11 летописей, привлеченных им к исследованию (на самом деле он использовал их больше). Из них восемь считались известными ученым уже к середине XX века. Списки остальных числились в не дошедших до нас или пока не найденных – библиотека Татищева вскоре после его смерти сгорела{464}. Поэтому исследователей уже не одно столетие привлекают известия, встречающиеся только в «Истории Российской» и неизвестные по другим источникам. Существующий не одно столетие спор сводится к вопросу: были ли оригинальные «татищевские известия» заимствованы из не дошедших до нас летописей или же они «изобретены» самим Татищевым?
В XX веке тщательное изучение рукописей «Истории Российской» дало повод к новым обвинениям Татищева в недобросовестности. Труд Татищева дошел до нас в двух вариантах (редакциях). Первый вариант (доведенный до нашествия Батыя) автор написал в 1741-1746 годах, а второй, начатый в 1747 году, готовился историком вплоть до его смерти (в нем Татищев сумел довести погодное изложение событий только до середины XVI века, хотя собрал материалы и по истории XVII века, до Петра I). Сравнивая между собой первую и вторую редакции, а также созданные с них в разное время копии, выполненные еще при жизни Татищева, исследователи обнаружили, что со временем автор менял текст, причем не просто его редактировал, улучшая стиль, но изменял имена героев, вкладывал в их уста новые реплики и т. д. Излагая исторические события в летописной манере, он не отделял при этом данные, заимствованные из источников, от собственных гипотез и догадок. Получалось, что чем дальше от «первоначального» текста, тем больше искажений{465}.
В интересующем нас случае Татищев не указывает источник, из которого он извлек повествование о воеводе Волке, но вносит во второй редакции в текст изменения, которые отнюдь не относятся к разряду стилистических, существенно меняя детали описываемых событий, сравнительно с первой редакцией. Так, в первом варианте Волк, собираясь вырваться из осады, тайно готовит «свои ладьи», но, выйдя из города, захватывает и «все болгарские кубары». В результате воеводе удалось погрузить на свои и захваченные неприятельские корабли дружину и имущество, а болгары не смогли ему «ничто учинити». Во второй редакции русские отплывают только на своих судах. Болгарские «лодии» Волк конечно же захватил, но исключительно для того, чтобы лишить болгар возможности отправиться в погоню. Именно поэтому болгары ничего и не смогли ему сделать. Таким образом, желая объяснить бессилие болгар, автор вносит в текст дополнительные детали. Далее, в первой редакции Волк, находясь в устье Днепра, узнает о приближении Святослава с войском. Но встречается он с князем на Днестре. Получается, воеводе пришлось возвращаться назад? Во второй редакции все в порядке – воевода узнает о прибытии Святослава в устье Днестра и на Днестре же встречается со своим князем. Впрочем, возможно, в первой редакции мы имеем дело с опиской и до Днепра Волк не дошел. Зато описание повторного захвата русскими Переяславца подкорректировано, исходя из того же желания объяснить текст летописи. В первой редакции Святослав приходит к Переяславце болгары затворяются в городе, затем выходят на бой с русскими, Святослав с трудом побеждает, а после этого берет город приступом. В общем, всё как в «Повести временных лет». Во второй редакции Татищев – вероятно, исходя из своего военного опыта, – пытается сделать борьбу за Переяславец более упорной. Болгары совершают не одну, а, судя по всему, несколько вылазок. И только в ходе одной из них Святослав наносит неприятелю решительное поражение и затем берет город приступом. Все это не может показаться несущественным – из стремления объяснить и сделать более наглядным описание происходивших вокруг Переяславца событий Татищев вносит в историю боев за город принципиальные изменения. Невольно закрадывается мысль: а сама история с воеводой Волком не служит ли пояснением к летописному сообщению о скором возвращении Святослава в Киев после известия об осаде города печенегами? Не хотел ли таким образом Татищев объяснить, чем занималось остававшееся на Дунае русское войско? В «Повести временных лет» под 984 годом упоминается некий воевода князя Владимира Святославича, которого звали Волчий Хвост (это сообщение есть и в «Истории Российской» Татищева). Не по этому ли «Хвосту» 984 года Татищев нашел своего Волка в 971 году?
Рассказ о воеводе Волке – не единственное оригинальное сообщение о временах Святослава, встречающееся в «Истории Российской» В. Н. Татищева. В предыдущей главе уже шла речь о венгерской княжне, на которой знаменитый историк «женил» Святослава. С «татищевскими известиями» нам предстоит иметь дело и в дальнейшем. А пока обратимся к событиям, происходившим на Балканах в 969-970 годах.
Когда же Святослав овладел Великим Преславом? Скилица сообщает, что, покорив Болгарию, русский князь взял в плен сыновей царя Петра – Бориса и Романа. Выходит, что это произошло уже после смерти Петра. Несчастный старик, совершенно раздавленный неудачной войной с русами, физически немощный после случившегося с ним апоплексического удара, дождался возвращения из Константинополя своих сыновей, завещал престол старшему из них, ставшему царем Борисом II, и постригся в монахи. Он умер 30 января 970 года, к счастью, так и не увидев вступления в его столицу русов{466}. Подробностей захвата Преслава у нас нет. Считать, что история овладения именно этим городом отразилась в рассказе «Повести временных лет», все-таки вряд ли возможно. Скорее, мы имеем дело с представлениями летописца о захвате некой абстрактной столицы болгар, известной книжнику под именем Переяславец. В реальности все происходило иначе. Когда летом 971 года Великий Преслав штурмовали византийцы, они не заметили следов повреждения в укреплениях столицы болгар, которые были бы неизбежны, будь город взят русами приступом. Преслав был мощной крепостью, и сражение за него не могло не сопровождаться потерями среди осаждающих. Это неминуемо привело бы к эксцессам в отношении местных жителей. Достаточно вспомнить плачевное состояние Саркела или Таматархи после взятия их Святославом или Итиля и Самандара после разгрома их русами в 968/69 году, чтобы понять – русы не брали Преслав силой. Город не был разграблен (это сделали только ромеи), уцелели церкви, дворец и даже казна болгарских царей. Столицу болгар от византийской армии оборонял, сообща с местными жителями, значительный отряд русов. При этом в захваченном городе ромеи поймали молодого человека с едва пробившейся рыжей бородкой, в котором опознали болгарского царя Бориса И. Он был в царских одеждах, при нем находились жена и двое малолетних детей. Пленником русов Борис не был. Он сохранял, по крайней мере внешне, статус владыки болгар. И византийцы, подобно русам, признали за ним этот статус и воздавали почести (также лишь внешние) вплоть до победы над русами. Из этого следует, что Святославу удалось заключить с болгарами какой-то договор, закрепивший за русами их приобретения и фактически превративший болгарского царя в номинального правителя государства, территорию которого наводнили отряды русов, ставших настоящими хозяевами положения в когда-то мощном Болгарском царстве. Святославу это давало возможность избежать лишних столкновений с тем населением Болгарии, которое продолжало хранить верность своему законному царю. Борису оставалось с этим согласиться или потерять даже видимость власти. Он, судя по всему, предпочел первое{467}. После вступления русов в Великий Преслав просьбы болгар о помощи, обращенные к византийцам, прекратились. Посольство к Никифору Фоке в декабре 969 года было последним. В отличие от своего отца Борис II не питал иллюзий в отношении Константинополя. Византийские источники сообщают, что надежды болгар на помощь ромеев были разрушены информацией о том, что именно Никифор Фока натравил на них русов. Очевидно, этот аргумент был использован Святославом на переговорах с Борисом.
Далеко не все болгары были согласны с новым положением дел. Судьба непокорных оказалась трагичной. Например, город Филиппополь (ныне Пловдив) русам пришлось брать с боем. В результате древний город, основанный еще царем Филиппом Македонским в IV веке до н. э., был опустошен, а 20 тысяч оставшихся в живых жителей посажены на кол. Подробностей происходившего кошмара источники не сообщают. Романист, получив такой сюжет, наверняка развернул бы его в полную драматизма картину. Тут были бы изображены и легкомысленные горожане, вздумавшие дразнить нашего «пардуса», а затем ужаснувшиеся, обнаружив близ Филиппополя толпы русов и их союзников, о которых речь впереди. Яркую картину являл бы собой приступ – отчаянный героизм одних, трусость других и холодная (или горячая?) жестокость третьих.
Победители вламывались в дома побежденных, грабили и творили невесть что. Кричали женщины и дети. Кто-нибудь из уцелевших «отцов города» произносил речи, полные трагического пафоса, в основном же болгары подавленно молчали… Ну вот, наконец, и финальная сцена, некоторыми деталями напоминающая средневековое «Сказание о Дракуле»…
Но я пишу не роман, а научно-популярную книгу, задача которой не будить чувство, а излагать факты. Возможно, цифра посаженных на кол в «Истории» Льва Диакона и преувеличена. Но то, что город обезлюдел, – несомненно. Позднее византийский император Иоанн Цимисхий прилагал усилия с целью возродить в Филиппополе жизнь, переселив туда манихеев из Малой Азии{468}. Но и спустя полтора столетия город производил на путешествующих удручающее впечатление. Византийская принцесса Анна Комнина, посетившая Филиппополь около 1114-1118 годов, записала: «Город расположен на трех холмах, каждый из которых опоясан большой и высокой стеной. Там же, где город спускается на ровное и гладкое место, его окружает ров, идущий вдоль Гебра (река Эвр, или Марица. – А. К.). Как кажется, город был некогда большим и красивым. Но с тех пор как в давние времена его поработили тавры и скифы, он приобрел такой вид, в каком я застала его во время правления моего отца и, судя по нему, решила, что город действительно был раньше большим»{469}. Напомню, что «тавро-скифами» (а также – «таврами» и «скифами») ромеи называли русов. Как видно, Филиппополь, расположенный во Фракии, недалеко от границы с Византией, сделал ставку не на русов, а на ромеев, – и поплатился за это{470}. Святослав, получается, удержал этот город под номинальной властью Бориса II. Поступил, можно сказать, как болгарский «государственник». Своей жестокостью он, по словам Льва Диакона, «смирил и обуздал всякое сопротивление и обеспечил покорность» болгар{471}. Однако сделать это удалось в отношении не всех владений болгарских царей. Судя по сообщениям источников, русско-болгарская и последовавшая вскоре русско-византийская войны захватили только Восточную Болгарию, непосредственно соседствующую с владениями Византии. О судьбе Западной Болгарии в этот период нам ничего не известно, но та роль, которую она сыграла в болгарской истории позднее, наводит на мысль, что эти земли не были затронуты русско-болгаро-византийским конфликтом, не были оккупированы ни русами, ни ромеями. По существу, Болгария распалась на зоны, подконтрольные русам (северо-восток – Добруджу), Борису II (остальная Восточная Болгария, подчиненная ему лишь формально, фактически – русам) и не подконтрольные никому, кроме местной элиты (Западная Болгария){472}. Не исключено, что Западная Болгария внешне признавала власть Бориса, но окруженный в своей столице русским гарнизоном болгарский царь утратил всякий контакт с территориями, не затронутыми войной.
Итак, в ходе второго похода Святослав отступил от договоренностей, достигнутых между ним и императором ромеев Никифором Фокой. Русский князь вышел за пределы Добруджи, захватил столицу Болгарского царства, заключил союз с Борисом II и дошел до болгаро-византийской границы, разорив город Филиппополь. Все его действия носили явный антивизантийский характер. Ромеев не могли не обеспокоить русско-болгарский союз, переход Болгарии под контроль русов и русская активность в пограничных районах. Это был решительный поворот в русско-византийских отношениях. Объясняется он тем, что накануне описанных событий ушли из жизни три государя, стоявшие у истоков тогдашнего конфликта на Балканах: 11 июля 969 года в Киеве умерла княгиня Ольга, 30 января 970 года умер болгарский царь Петр, а перед этим, в ночь с 10 на 11 декабря 969 года, заговорщики, возглавляемые императрицей Феофано и полководцем Иоанном Цимисхием (ставшим новым императором), убили императора Никифора Фоку. Гибель Никифора окончательно изменила положение дел на Дунае.
Многое из происходившего в то время в Империи ромеев способствовало возникновению заговора против императора. Уже три года продолжался голод. Среди жителей Константинополя и его окрестностей Никифор Фока был крайне непопулярен. Внимание народа более уже нельзя было переключить на вопросы внешней политики: войны с арабами, пусть и успешные, казались бесконечными, а слухи о нападении русов на Болгарию внушали ромеям страх по поводу неминуемо наступающего конца света. Подданные не забыли, что Никифор захватил власть силой, женился на вдове Романа II Феофано, отодвинув на второй план законных наследников – внуков Константина Багрянородного Василия и Константина, ставших соправителями мужа их матери. В столице никак не удавалось пресечь разговоры об опасности, которая якобы угрожала мальчикам со стороны отчима. Укрепившийся в своем дворце император, превращенный общественным мнением в чудовище, мрачно смотрел в будущее. Его не обрадовало даже известие о взятии в конце октября 969 года Великой Антиохии.
Никифор лично осаждал Антиохию дважды (в 966 и 968 годах). Для него захват этого арабского города стал первостепенной задачей. То упорство, с которым василевс добивался падения Антиохии, породило поверье, что Никифор умрет сразу после взятия города. Истощенные осадой арабы держались из последних сил, а император не торопил командующего, патрикия Петра, со штурмом крепости. Василевс считал, что идти на приступ бессмысленно, измученный город все равно падет, к чему лишние жертвы среди осаждающих. Но злые языки говорили о страхе императора – ведь с падением Антиохии скорая кончина Никифора станет неизбежной. Между тем патрикий Петр отправил таксиарха (тысяцкого) Михаила Вурцу разведать обстановку в городе. Тот решил проявить инициативу и, подойдя с несколькими храбрецами вплотную к крепости, обнаружил в стене удобное место для того, чтобы проникнуть в Антиохию. Вернувшись назад в лагерь, Вурца приказал соорудить лестницы, соответствующие высоте стен, и в середине ночи с отрядом отчаянных головорезов вернулся к крепости. Приставив лестницы к стене, ромеи бесшумно взобрались по ним и перерезали спавших сторожей. Затем воины Вурцы вошли в ночной город и подожгли его со всех четырех сторон. В Антиохии началась паника. Не растерявшись и не желая упустить удобный момент, патрикий Петр с основными силами ворвался в горящий город через ворота, которые ему открыли люди всё того же Вурцы. Арабы не смогли оказать никакого сопротивления. Антиохия была опустошена, ее население обращено в рабство. Никифор Фока устроил по этому поводу празднество, но под предлогом неисполнения приказания не брать город штурмом и в наказание за последующее жестокое обращение с населением Антиохии вместо награды подверг Михаила Вурцу опале. И опять злые языки посчитали причиной неблагодарности василевса страх смерти, которая теперь казалась неотвратимой. А в начале ноября какой-то монах-отшельник сумел приблизиться к императору и вручить письмо следующего содержания: «Провидение открыло мне, червю, что ты, государь, переселишься из этой жизни на третий месяц по прошествии сентября»{473}. Найти письмоносца не удалось – монах исчез так же внезапно, как и появился. Император стал одержим мыслью о смерти. В эти трудные для Никифора дни у него нашелся новый повод для скорби – скончался его отец, девяностолетний Варда Фока, когда-то славный военачальник. Всё вокруг, казалось, наводило на размышления о неизбежности конца. Василевс беспрестанно молился и истязал плоть. Он даже спал на полу, правда, предварительно положив на него шкуру барса и пурпурный войлок.
Непопулярный в народе, раздавленный страхом правитель утратил всякую привлекательность для императрицы Феофано, Брак с этим стариком, навязанный ей силой обстоятельств, и без того был для молодой красивой женщины испытанием. Теперь же Никифор в восприятии вдовы Романа II окончательно превратился в старого смердящего карлу (таким он виделся недоброжелателям, вроде епископа Лиутпранда). Энергичная мать пятерых детей решила подыскать замену надоевшему супругу. Ее выбор пал на относительно свежего вдовца Иоанна Цимисхия (он был моложе ее второго мужа на 12 или 13 лет). Иоанн приходился Никифору дальним родственником по матери, но, в отличие от смуглого императора, имел белое лицо со здоровым румянцем на щеках, белокурые волосы, несколько жидковатые повыше лба. Но эта намечающаяся лысина нисколько его не портила, напротив, в сравнении с императором Никифором, заросшим несимпатичной черной и густой шерстью, Иоанн даже выигрывал в глазах Феофано. У него были тонкий нос и рыжеватая борода, которую Цимисхий стриг на щеках и отпускал на подбородке. Пронзительный взгляд его голубых глаз как будто проникал в самое сердце много повидавшей на своем небольшом веку императрицы. Вполне возможно, этот взгляд навевал воспоминания о безвременно ушедшем супруге – Романе II, хотя у внука Зои Карбонопсины (Огнеокой) цвет глаз был явно другой. Не походил Иоанн Цимисхий на него и фигурой: в отличие от высокого и великолепно сложенного Романа он был коротышка (как и второй, надоевший муж – Никифор Фока). Само прозвище любимца августы «Цимисхий» подчеркивало этот его недостаток: ведь в переводе с армянского языка оно означает «туфелька» (Иоанн Цимисхий, как и Никифор Фока и Роман Лакапин, имел армянские корни). Но зато он обладал колоссальной физической силой, ловкостью и бесстрашием. Феофано, должно быть, слышала рассказы о том, как Цимисхий один без боязни нападал на целый отряд и, перебив множество врагов, с быстротой птицы возвращался к своему войску целый и невредимый. Не было ему равных и в игре в мяч, метании копья и стрельбе из лука (посланная им стрела попадала в отверстие величиной с кольцо). А как он прыгал! Говорят, выстраивал в ряд четырех скакунов и, птицей перелетев над тремя из них, садился на последнего. О его щедрости ходили легенды, и ко всем окружающим Иоанн обращался с открытым сердцем. Правда, злые языки доносили, что Цимисхий сверх всякой меры напивался на пирах и был жаден к телесным наслаждениям. Но этим Феофано было не удивить, таким же был ее молодой муж Роман II, и теперь она точно знала – подобный супруг гораздо привлекательнее, чем зануда и святоша, вроде ненавистного Никифора. А этот старый негодяй посмел сместить такое чудо, как Иоанн Цимисхий, с должности командующего вооруженными силами империи на Востоке и загнал своего несчастного родственника в ссылку! И за что же?! Иоанн повздорил с братом императора Львом Фокой! А ведь именно Иоанну Цимисхию Никифор был обязан престолом – говорят, именно он убедил своего тогдашнего командира после смерти Романа захватить трон. Какая неблагодарность! И что станет с молодым и цветущим, но склонным к алкоголю и излишествам мужчиной в ссылке?! Феофано, взывая к гуманизму готового к всепрощению Никифора Фоки, начала хлопотать, просить, убеждать и добилась-таки возвращения Иоанна Цимисхия в столицу.
Здесь деятельная императрица и не менее деятельный Цимисхий быстро наладили контакт. Любовник проникал во дворец к августе через тайные ходы. Вскоре он начал приводить с собой или просто присылать к Феофано своих людей, имевших вид отчаянных рубак. Тех проводили в специальную потайную комнатку в покоях императрицы. В заговор было посвящено уже достаточно людей (одним из самых энергичных помощников Иоанна в этом деле был, между прочим, еще один обиженный Никифором Фокой военачальник – Михаил Вурца). Правда, возникла опасность разоблачения заговорщиков. У Никифора Фоки нашлись и доброжелатели. 10 декабря 969 года, вечером, во время молитвы, один из клириков царского дворца вручил Никифору записку, в которой сообщалось следующее: «Да будет тебе известно, государь, что этой ночью тебя ожидает жестокая смерть. Для того чтобы убедиться в этом, прикажи осмотреть женские покои; там спрятаны вооруженные люди, которые собираются тебя умертвить»{474}. Никифор приказал осмотреть комнаты Феофано, но посланные то ли не заметили вход в потайную каморку, где засели убийцы, то ли не заглянули в нее. Все это подтолкнуло заговорщиков к решительным действиям. Зайдя перед сном в покои мужа, Феофано обнаружила василевса за его привычным занятием – Никифор молился, изредка прерываясь для чтения Священного Писания. Супруга сказала, что пойдет проведать болгарских принцесс – невест юных императоров Василия и Константина, незадолго перед тем прибывших в Константинополь, и попросила не запирать дверь. В пятом часу утра Иоанн Цимисхий с отрядом заговорщиков приблизился к комплексу Большого императорского дворца и свистом подал знак своим сообщникам, уже вооружившимся и покинувшим комнатку, служившую им убежищем. Всех вновь прибывших при помощи корзины, к которой была привязана веревка, втащили наверх. Когда заговорщики ворвались в спальню императора, они поначалу не нашли свою жертву (ведь василевс спал не на постели) и испытали несколько неприятных мгновений, но потом обнаружили Никифора и принялись избивать его ногами. Когда император попытался подняться, его ударили мечом по голове. Несчастного Фоку таскали за бороду по комнате, безжалостно били рукоятками мечей по лицу. И хотя ему уже выбили зубы, истерзанный старик продолжал окровавленным ртом бормотать молитвы, взывать к заступничеству Богородицы, до тех пор, пока Иоанн самолично не расколол ему мечом череп надвое. Затем все убийцы по нескольку раз ударили мечами по мертвому телу.
Иоанн Цимисхий прошел в Хрисотриклин – великолепный дворцовый зал, тот самый, в котором в далеком 957 году Константин Багрянородный и его сын Роман пировали с русскими послами. Здесь убийца императора надел на ноги пурпурную обувь, воссел на трон и объявил себя императором. Вскоре его признали таковым телохранители Никифора, подоспевшие на шум с некоторым опозданием (а чего еще им оставалось теперь делать?), придворные, а затем в известность поставили и ошеломленных жителей Константинополя. Более всего последних волновал вопрос, не приведет ли убийство прежнего императора к волнениям на улицах, грабежам и убийствам. Этого не произошло, и все успокоились. А вскоре щедрыми дарами Иоанн снискал симпатии своих подданных – все свое имущество он приказал распределить между окрестными и соседними земледельцами, а также пожертвовал на больницу для прокаженных. По приказу нового императора брат Никифора Фоки Лев с сыновьями были арестованы и отправлены в ссылку. Со своих должностей были смещены возможные сторонники убитого василевса, а на их место назначены приверженцы Иоанна. Заменили и всех топархов областей. Как и ранее Никифор Фока, Иоанн Цимисхий был провозглашен соправителем сыновей Романа II, но в отличие от своего предшественника он не женился на Феофано. Красивая, но весьма опасная женщина была обманута своим коварным сожителем. Ее сослали на один из Принцевых островов, близ столицы. Этим, а также тем, что Иоанн «покарал» кое-кого из убийц Никифора Фоки, он успокоил патриарха Полиевкта, который не мог не отреагировать на расправу, пусть и с ненавистным, но все-таки василевсом ромеев. Вскоре взбешенная Феофано пробралась в Константинополь и попыталась укрыться в храме Святой Софии. Когда ее вытаскивали оттуда, она сопротивлялась и громко ругала вероломного любовника, а заодно и своего юного старшего сына Василия, не вступившегося за мать. На этот раз ее заточили в монастырь в далекой феме (провинции) Армениаки – на родине Иоанна Цимисхия. 25 декабря 969 года состоялась коронация нового императора. А спустя без малого год – в ноябре 970 года – император женился на дочери императора Константина Багрянородного Феодоре, которая, как пишет Лев Диакон, «не слишком выделялась красотой и стройностью, но целомудрием и всякого рода добродетелями, без сомнения, превосходила всех женщин»{475}. Этот брак позволил узурпатору породниться с василевсами Македонской династии.
На нового императора свалилась целая гора забот: голод, жаждавшие реванша арабы, непрекращавшийся конфликт с Оттоном I и, наконец, засевшие в Болгарии русы{476}. Вскоре Цимисхию удалось наладить подвоз продовольствия в Константинополь и тем самым успокоить по крайней мере жителей столицы. К счастью, и попытка арабов вернуть Антиохию окончилась для них неудачей. С немцами ромеи помирились только в 972 году, после заключения брака между Оттоном II и византийской принцессой Феофано, племянницей Цимисхия. А вот с русами после убийства Никифора Фоки отношения ухудшились донельзя. Никифор не предпринимал против Святослава враждебных действий. Его вполне устраивало хозяйничанье русского князя в Северо-Восточной Болгарии. Хитрый император ждал, когда плод дозреет и сам упадет в руки. На просьбы болгар о помощи он отвечал военными демонстрациями вроде показного укрепления столицы, вел переговоры и т. д. Возможно, его несколько насторожило известие о смерти Ольги, но все происходившее в отношениях с русами и болгарами вполне соответствовало характеру достигнутых со Святославом договоренностей и было не более чем дипломатической игрой. Правда, в науке уже давно высказано предположение о том, что печенегов, напавших на Киев весной 969 года, нанял тот же Никифор Фока с целью выманить Святослава из Болгарии. Василевса ромеев якобы смутили успехи русского князя в Болгарии, он понял, что ошибся, предложив русам напасть на болгар и т. д.{477} Как известно, еще Константин Багрянородный писал о том, что в случае необходимости ромеи могут использовать печенегов против русов, а потому это предположение на первый взгляд выглядит весьма вероятным. Впрочем, не более вероятным, чем другие предположения – будто печенегов натравили на Киев болгары{478} или хазары{479}. И тем и другим было, кажется, нужнее избавиться от русов, воевавших в их землях. Что же касается Византии, то ее владениям Святослав в тот момент не угрожал, его войска действовали слишком далеко от византийской границы, а в Преславе умирал царь Петр. Важно учитывать и то, что ни один византийский автор, писавший о войне на Балканах, не упоминает о подобной операции Константинополя. Конечно, переговоры с печенегами, если бы они велись, происходили бы в тайне. Но ведь сообщили же источники о том, что Святослав направился в Болгарию после переговоров с Калокиром! Наконец, если бы Никифор Фока натравил печенегов на Киев, это стало бы еще одной его неудачей, поскольку большая часть русского войска все равно осталась в Болгарии. Не слишком ли много предполагается ошибок и неудач для императора? Никифор имел репутацию одного из самых осторожных и расчетливых правителей своего времени. То, что его погубила женщина, вовсе не повод делать из него простака. Тем более что печенеги могли напасть на Киев и безо всяких уговоров со стороны, просто из желания опустошить окрестности города.
Не осталось без внимания исследователей и сообщение Льва Диакона о том, что Калокир во время переговоров со Святославом затеял собственную игру и стал уговаривать нашего князя начать наступление на болгар еще и для того, «чтобы после победы над ними подчинить и удержать страну для собственного (Святослава. – А. К.) пребывания, а ему помочь против ромеев в борьбе за овладение престолом и ромейской державой». За это Калокир посулил Святославу «огромные, несказанные богатства из царской сокровищницы». В довершение всего византийский посол соединился со Святославом «узами побратимства» (ромей с варваром!), что в Византийской империи могло трактоваться однозначно, как измена{480}. Из этого сообщения, кажется, следует, что Святослав с самого начала был враждебно настроен не только по отношению к Болгарии, но и к Византии, и, одновременно с болгарской, начал войну с ромеями. Но какие же он тогда преследовал цели? Размышляя над этим, некоторые историки согласились с Львом Диаконом, решив, что Святослав, еще отправляясь в поход на болгар, хотел завоевать Болгарию целиком{481}. Кому-то даже померещилось, будто и завоевание Византии входило в планы нашего князя – Святослав, оказывается, грезил о некой «империи на юге»{482}. А как же договоренность с Калокиром? Да мог ли Святослава сдерживать какой-то Калокир, если он не побоялся выступить против самого императора ромеев?! Некоторым авторам вообще казалось, что появление Калокира было только поводом для Святослава разграбить как можно больше богатых соседних земель, невзирая вообще ни на какие соглашения, и никакими «государственными видами» отчаянный «вождь дружины» не руководствовался{483}.
Все эти предположения не находят подтверждения в источниках. Святослав, явившись в Болгарию, не стремился поначалу выходить за пределы Добруджи. А это явно противоречило его гипотетическим планам захвата всей Болгарии, и уж тем более Византии, – разумеется, будь у него таковые. Кроме того, та скорость, с которой Иоанн Цимисхий в 971 году очистил от русов болгарские города, свидетельствует о слабости русских войск сравнительно с византийскими. Вряд ли Святослав задумывал завоевание Византии, зная о том, что соотношение сил не в его пользу. И, наконец, та неторопливость, с которой наш князь продвигался на юг Болгарии, и то, что само это движение началось лишь в 970 году, доказывают: Русь до этого времени твердо соблюдала заключенные с Византией договоренности. Но вот поменялся состав правителей стран – участниц конфликта: на Руси – после смерти Ольги, придерживавшейся линии союза с Византией, в Болгарии – после прихода к власти молодого царя Бориса, разочаровавшегося в болгаро-византийском союзе, в Византии – после смерти Никифора, пригласившего русов на Балканы и проводившего в отношении их своеобразную политику умиротворения. Тогда и произошли изменения в политике этих стран. Согласно «Повести временных лет», столкновения между русами и греками начались сразу же после возвращения Святослава из Киева, то есть после смерти Ольги. И по мнению византийских хронистов, активные боевые действия ромеев против русов относятся к правлению Иоанна Цимисхия. В связи с этим интересно замечание уже неоднократно упоминавшегося Яхъи Антиохийского относительно войны Цимисхия со Святославом: «И дошло до Цимисхия, что русы, с которыми Никифор заключил мир и условился насчет войны с болгарами, намереваются идти на него и воевать с ним и мстить ему за (убиение) Никифора. И предупредил их Цимисхий и отправился против них»{484}. Другой автор XI века, на этот раз армянский, Степанос Таронский, в своей «Всеобщей истории», рассказав о мятеже против Иоанна Цимисхия, который поднял племянник Никифора Варда Фока вскоре после убийства дяди-императора, пишет далее, что «потом он (Иоанн Цимисхий. – А. К.) отправился войной на землю булхаров, которые при помощи рузов вышли против Кир-Жана (Иоанна Цимисхия. – А. К.)»{485}. Яхья прямо говорит о том, что конфликт русов и греков связан с изменениями, произошедшими на византийском престоле, а Степанос ставит войну Цимисхия с русами в ряд событий, вызванных убийством Никифора Фоки (вроде мятежа Варды Фоки). Лев Диакон и Скилица косвенно подтверждают это, отмечая, что основной причиной войны Иоанна Цимисхия со Святославом явился отказ последнего принять мирные предложения императора, несмотря на то, что Иоанн Цимисхий обещал свято соблюсти все условия договора, заключенного русами с Никифором{486}.
А как же быть с сообщением об «антивизантийской» деятельности посла Никифора Фоки Калокира? Учитывая недовольство Никифором Фокой, существовавшее и среди знати, и среди духовенства, и среди народа, недовольство, которым, как мы видели, ловко воспользовался Иоанн Цимисхий, предположение о смелых планах Калокира захватить при поддержке русов византийский престол на первый взгляд представляется вероятным. Однако оно только кажется таковым, поскольку действия, производимые Калокиром и Святославом, не способствовали их приближению к Царьграду. Во-первых, для того, чтобы овладеть византийским престолом, Калокиру нужно было плести интриги в самой столице Империи ромеев, а не где-то в Болгарии. Так, например, Иоанн Цимисхий сверг Никифора Фоку в результате переворота в Константинополе. Во-вторых, даже если Калокир решил захватить императорскую корону, опираясь на воинов Святослава, то логичнее было бы начать борьбу с захвата какой-нибудь византийской провинции или даже с похода на Константинополь, а не с войны в Болгарии, которая не являлась византийской провинцией. Овладение ею ничего не давало «властолюбцу» Калокиру, кроме истощения сил и потери времени. Наконец, в-третьих, фигура незнатного, никому не известного провинциала-херсонита, вознесенного в патрикии Никифором Фокой, совершенно несопоставима с теми планами, которые он, согласно Льву Диакону, строил. Ведь не был же Калокир сумасшедшим?!
Не желая отказываться от сообщения источника о кознях Калокира, но понимая всю нереальность мотивов, которыми он якобы руководствовался, некоторые авторы предлагали скорректировать устремления сына херсонского протевона, не отказывая ему в активной роли в событиях на Балканах. Например, предлагалось рассматривать Калокира не как претендента на византийский престол, а как сепаратиста, добивавшегося отделения Херсона от Византии{487}. Как известно, отношения между Херсоном и Константинополем были весьма сложными. В конце 830-х годов Петрона, отправленный, как мы помним, императором Феофилом к хазарам для строительства Саркела, посетил Херсон и, вернувшись в столицу, посоветовал василевсу: «Если ты хочешь всецело и самовластно повелевать крепостью Херсоном и местностями в нем и не упустить их из своих рук, избери собственного стратега (наместника. – А. К.) и не доверяй их протевонам и архонтам»{488}. Петрона и стал первым стратегом Херсона. Херсониты не смирились с утратой самостоятельности, в городе часто происходили волнения, а в начале 890-х годов жители Херсона даже убили своего очередного стратега Симеона. В отличие от стратега протевоны и архонты относились к выборным «отцам города» и последовательно отстаивали его интересы. Сыном протевона и был Калокир. В начале 950-х годов Константин Багрянородный рекомендовал сыну в случае, «если жители крепости Херсон когда-либо восстанут или замыслят совершить противное царским повелениям, должно тогда, сколько ни найдется херсонских кораблей в столице, конфисковать вместе с их содержимым, а моряков и пассажиров-херсонитов связать и заключить в работные дома. Затем же должны быть посланы три василика (чиновники императора, выполнявшие его поручения. – А. К.): один – на побережье фемы Армениаки, другой – на побережье фемы Пафлагония, третий – на побережье фемы Вукелларии (перечисленные фемы располагались на южном берегу Черного моря. – А. К.), чтобы захватить все суда херсонские, конфисковать и груз, и корабли, а людей связать и запереть в государственные тюрьмы и потом донести об этих делах, как их можно устроить. Кроме того, нужно, чтобы эти василики препятствовали пафлагонским и вукелларийским кораблям и береговым суденышкам Понта переплывать через море в Херсон с хлебом и вином, или с каким-либо иным продуктом, или с товаром». Затем следовало отменить все денежные выплаты, которые Херсон получал от центральной власти, а всем представителям этой власти (прежде всего стратегу) предлагалось покинуть блокированный город. Василевс подчеркивал, что херсониты «не могут существовать», если не будут получать зерно, доставляемое из фем южного берега Черного моря, и если не смогут продавать купцам из метрополии шкуры и воск, поставляемые в Херсон печенегами{489}. Любопытно, что глава, посвященная Херсону, – самая объемная в трактате «Об управлении империей». Рекомендации василевса ромеев удивительным образом похожи на те, что давали более тысячелетия спустя некоторые политики первому президенту Российской Федерации относительно возможных отношений с чеченскими сепаратистами. Русам, кстати, казалось, что «Корсунская страна» имеет особый статус, что подчеркивается в русско-византийских договорах 944 года (о котором мы уже говорили) и 971 года (о котором речь еще впереди).
Но, при всей сложности отношений Херсонской фемы с метрополией, предполагать, будто Калокир представлял какие-то силы, стремившиеся отделить Херсон от империи, нет оснований. Ведь в случае принятия такого предположения невозможно объяснить причины, по которым сын херсонского протевона увел войска Святослава на Балканы, в то время как они могли оказать поддержку сепаратистам непосредственно в Крыму, поскольку находились поблизости – на берегах Керченского пролива. Скорее, Калокир действовал вполне солидарно с высшими властями империи, стараясь предотвратить то, что сделал с Херсоном спустя несколько десятилетий сын Святослава Владимир. Не случайно ловкого херсонита поощрили званием патрикия.
В труде Скилицы, в отличие от «Истории» Льва Диакона, измена Калокира отнесена ко времени после прихода к власти Иоанна Цимисхия и захвата русами Преслава{490}. Учитывая, что вплоть до начала 970 года столкновений между Русью и Византией не происходило, следует согласиться с мнением византинистов М. Я. Сюзюмова и С. А. Иванова о том, что до убийства Никифора Фоки Калокир и не помышлял о выступлении против Константинополя. «И в самом деле, – пишут указанные авторы, – Лев в своем повествовании объединил два похода Святослава в один так, что, помимо прочих недоразумений, произошло смешение целей начальной и последующей деятельности Калокира. Очень возможно, что лишь тогда, когда Калокир получил сообщение об убийстве Никифора, он решил при опоре на Святослава поднять мятеж и захватить власть. Это тем более вероятно, что Калокир, возведенный Никифором в сан патрикия, считался его приверженцем и не мог надеяться на успех своей карьеры при Цимисхии, убийце Никифора. Более убедительным представляется, что версия о начальном этапе действий Калокира, изложенная Львом, исходила от официальных кругов правительства Иоанна Цимисхия. Реальные истоки интриг Калокира следует искать в недовольстве военной аристократии по поводу расправы над Никифором и возведения на престол его убийцы»{491}.
Калокир был далеко не единственным сторонником Никифора Фоки, попытавшимся взбунтоваться против его убийцы. Спустя полгода после гибели императора опомнились его родственники, сосланные в разные области империи. Племянник Никифора Фоки Варда (названный так в честь деда), которого Цимисхий отправил в ссылку в город Амасию в феме Армениаки (в эту фему, как видно, новый император вообще любил ссылать своих оппонентов), сумел бежать. Пробравшись в Каппадокию, Варда Фока захватил Кесарию – главный город этой провинции. Этот город был не случайно выбран беглецом. В Каппадокии уже началось возмущение против Иоанна Цимисхия, во главе которого стоял местный крестьянин Симеон, промышлявший возделыванием винограда. Кроме Симеона Виноградаря главными помощниками Варды стали его двоюродные братья, прозванные Парсакутинами. Отовсюду к ним начали стекаться сторонники – местные крестьяне и люди, так или иначе связанные с могущественным семейством Фок, зависевшие от них. Собрав значительное войско, Варда Фока надел красную обувь (символ императорской власти) и объявил себя императором ромеев. Опасность для Иоанна Цимисхия была тем серьезнее, что одновременно с восстанием в Каппадокии аналогичное движение чуть было не началось в Македонии [3], в непосредственной близости от Болгарии, где всем завладел Святослав, совершенно неуправляемый побратим Калокира. Брат убитого императора, неоднократно уже упоминавшийся Лев Фока, отец самозваного императора Варды Фоки, находился в ссылке на острове Лесбос. Отсюда, при посредничестве епископа города Авидоса Стефана, Лев начал переговоры с влиятельными македонцами, убеждая их восстать против Цимисхия. К счастью для последнего, заговор был вовремя раскрыт, Льва Фоку и епископа Стефана судили. Епископа лишили священнического сана, а Льва, вместе с его вторым сыном Никифором, приговорили к смерти. Впрочем, Цимисхий отменил приговор, заменив смертную казнь ослеплением и повторной ссылкой на Лесбос. Но и эта кара показалась императору чрезмерной – ослепление также отменили. Такая мягкость кажется странной для Цимисхия. Не следует забывать, что ввиду опасности, которая теперь исходила со стороны Болгарии, император хотел прекратить мятеж в Каппадокии как можно быстрее, в том числе используя переговоры. Озлоблять Варду Фоку жестокой казнью его отца и брата в этих условиях было совсем не нужно{492}. Против мятежников двинули армию, которую возглавил один из лучших полководцев империи Варда Склир, брат покойной жены Иоанна Цимисхия. Приближение войск Склира отрезвило мятежников. Наряду с «кнутом» был использован и «пряник» – всем перешедшим на сторону Цимисхия обещали прощение и высокие должности. Узнав об этом, к Варде Склиру переметнулись почти все главные участники мятежа, в том числе Парсакутины и Симеон Виноградарь, получивший звание патрикия. С уходом последнего войско Варды Фоки начали массово покидать крестьяне. Фока не стал ожидать окончательного развала собственной армии. Собрав 300 наиболее близких к нему людей, жену и детей, он бежал, бросив оставшихся сторонников на расправу солдатам Варды Склира. Всех захваченных в плен ослепили. Наконец и сам Фока сдался, выговорив себе жизнь. Цимисхий приказал постричь несостоявшегося императора в монахи и сослать вместе с семьей на остров Хиос. Так нелепо закончилось это движение, тем не менее отвлекшее на себя значительные силы и заставившее Иоанна Цимисхия вступить в переговоры со Святославом, которому к тому времени стало тесно даже в Болгарии. Русы начали переходить границу Византии и опустошать византийские провинции Фракию и Македонию.
И русские, и византийские источники согласны в том, что началу боевых действий предшествовали переговоры между ромеями и русами. Лев Диакон и Скилица сообщают, что начало диалога инициировал Иоанн Цимисхий. Он отправил к Святославу послов с требованием, чтобы русы, получив «обещанную императором Никифором» награду за набег на болгар, удалились восвояси. Судя по всему, Лев Диакон не считал 15 кентинариев, доставленных Калокиром русскому князю, суммой, которой должны были ограничиться выплаты русам. Не исключено, что во время пребывания в Болгарии Святослав поддерживал отношения с константинопольским двором и продолжал получать от Никифора какие-то «дары». В этом случае проясняется фраза летописца о том, что уже в первом походе на болгар, сидя в Переяславце, Святослав получал «дань» с греков{493}. Впрочем, не стоит слишком доверять Льву Диакону. Желая блеснуть собственной ученостью, он вполне мог вложить в уста своих героев фразы, которые те никогда не произносили. Таким образом, он продолжал дополнять новыми деталями свое видение ситуации, суть которой сводилась к положению: коварные русы-наемники обманули доверие ромеев, им понравилось в Болгарии, и они не захотели ее покидать, даже получив обещанное вознаграждение. Льва не смущает и то, что русы находились в Болгарии уже полтора года, а пригласивший Святослава Никифор Фока вовсе не пытался выставить его из Добруджи, расплатившись «за услугу». Перед нами интеллектуальный «изыск» Льва Диакона; это, в частности, видно из того, что Цимисхий предлагает Святославу удалиться к «Боспору Киммерийскому» (Керченскому проливу). Вряд ли Цимисхия больше устраивало пребывание русов близ крымских владений Византии, нежели в Болгарии, – однако автор «Истории» помещал здесь родину русов. Фантазией Льва Диакона порождено и заявление, якобы сделанное императором, о том, что Болгария «принадлежит ромеям и издавна считается частью Македонии»{494}. «История» была написана гораздо позднее описываемых в ней событий – русы к тому времени уже покинули Болгарию, а болгары были покорены Византией. Тогда-то и надо было подчеркнуть законность прав ромеев на захваченные земли.
Дальнейшие переговоры, в изложении Льва Диакона, представляют собой словесную перепалку сторон, в общем бессмысленную, зато служащую дополнительным доказательством правильного понимания ситуации византийским мыслителем второй половины X века. Вот Святослав отвечает послам Цимисхия – разумеется, «надменно и дерзко»: «Я уйду из этой богатой страны не раньше, чем получу большую денежную дань и выкуп за все захваченные мною в ходе войны города и за всех пленных. Если же ромеи не захотят заплатить то, что я требую, пусть тотчас же покинут Европу, на которую они не имеют права, и убираются в Азию, а иначе пусть и не надеются на заключение мира с тавроскифами». Если Цимисхий действительно предлагал русам покинуть Болгарию, то ответ Святослава наверняка был резким, но иным по форме. Русский князь вряд ли называл своих людей тавроскифами, а предложение ромеям покинуть Европу, исходящее из его уст, выглядит по меньшей мере неестественно. Впрочем, и император Иоанн обращается к русам не менее напыщенно и странно: «Мы верим в то, что Провидение управляет вселенной, и исповедуем все христианские законы; поэтому мы считаем, что не должны сами разрушать доставшийся нам от отцов неоскверненным и благодаря споспешествованию Бога неколебимый мир (намек на договор 944 года. – А. К.). Вот почему мы настоятельно убеждаем и советуем вам, как друзьям, тотчас же, без промедления и отговорок, покинуть страну, которая вам отнюдь не принадлежит. Знайте, что если вы не последуете сему доброму совету, то не мы, а вы окажетесь нарушителями заключенного в давние времена мира. Пусть наш ответ не покажется вам дерзким; мы уповаем на бессмертного Бога – Христа: если вы сами не уйдете из страны, то мы изгоним вас из нее против вашей воли». Затем он якобы напомнил о «жалкой судьбе» Игоря, отца Святослава, нарушившего мир с ромеями и поплатившегося за несоблюдение клятвы страшной смертью. Цимисхий посулил погибель и всему русскому войску, занимавшему Болгарию. «Это послание рассердило Сфендослава (так Лев Диакон именует Святослава. – А. К.), и он, охваченный варварским бешенством и безумием, послал такой ответ: „Я не вижу никакой необходимости для императора ромеев спешить к нам; пусть он не изнуряет свои силы на путешествие в сию страну – мы сами разобьем вскоре свои шатры у ворот Византия (Константинополя. – А. К.) и возведем вокруг города крепкие заслоны, а если он выйдет к нам, если решится противостоять такой беде, мы храбро встретим его и покажем ему на деле, что мы не какие-нибудь ремесленники, добывающие средства к жизни трудами рук своих, а мужи крови, которые оружием побеждают врага. Зря он по неразумию своему принимает росов за изнеженных баб и тщится запугать нас подобными угрозами, как грудных младенцев, которых стращают всякими пугалами“»{495}. Упоминание о «мужах крови» очень образно, хотя и непонятно, как мог язычник Святослав сыпать цитатами из Библии{496}. Здесь мы вновь слышим не русского князя, а Льва Диакона, для которого подобная реминисценция была вполне естественна.
В общем, не стоит считать повествование Льва Диакона выдержками из «дипломатической переписки» сторон. Ясно только, что между Святославом и Цимисхием состоялись непростые переговоры. Целью василевса ромеев было урегулировать отношения с русами после убийства Никифора Фоки. Но в описании Льва Диакона Цимисхий выбрал для достижения этой цели совсем неподходящий тон. Так задирать неприятеля можно было, уже имея готовую армию и подыскивая повод для немедленного нападения! А ромеи начали готовиться к войне только тогда, когда переговоры закончились неудачей. Войска с востока были переправлены в Европу, в пограничные с Болгарией районы. Командующими этими силами были назначены лучшие полководцы империи – магистр Варда Склир и патрикий Петр (отличившийся при взятии Антиохии). Болгарию наводнили византийские шпионы. Император планировал лично прибыть к войскам и начать боевые действия против русов весной 970 года. Так зачем же было давить на русов? Или Цимисхий тоже придерживался летописного правила заранее заявлять неприятелю: «Иду на вы»?!
Впрочем, задиристость якобы произнесенных в ходе этих переговоров фраз присуща не только византийскому историку. «Повесть временных лет» считает инициатором начала боевых действий Святослава, который, по летописи, и провоцирует ромеев. После захвата «Переяславца» (по мнению летописца – столицы болгар) князь «послал к грекам со словами: „Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот город“. И сказали греки: „Мы не сдюжим против вас; так возьми с нас дань на всю дружину и скажи, сколько вас, чтобы выдали вам по числу дружинников“. Так говорили греки, намереваясь обмануть русских, ибо греки лживы и до наших дней. И сказал им Святослав: „Нас двадцать тысяч“. Десять тысяч он прибавил, ибо было русских всего десять тысяч. И выставили греки против Святослава сто тысяч, и не дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских». Удивительно: Святослав, имея десятитысячное войско, заявляет грекам о готовности напасть на них, а те пытаются утихомирить его данью, просят указать, сколько у него людей{497}. И Святослав, будто не представляя мощи Византийской империи, пытается напугать врагов двадцатитысячным войском, в итоге нарываясь на 100 тысяч! И летописца еще возмущает «лживость» греков!
Конечно, Святослав на то и герой, чтобы совершать поступки иррациональные, с точки зрения обычного человека. Так заведено в русском фольклоре. И всегда былинные и сказочные герои выходят победителями из самых сложных ситуаций, чаще всего совершая всё те же странные для обывателя поступки. Святослав, рассказ о котором в летописи составлен из устных преданий, – не исключение. Столкнувшись с десятикратно превосходящим его войском, он кажется обреченным. Его дружинники «весьма испугались столь великого множества воинов. Но сказал Святослав: „Нам некуда деться, волей или неволей мы должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми. Ибо мертвые срама не знают, а если побежим – покроемся позором. Так не побежим, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то сами решите, как вам быть“. И ответили ему воины: „Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим“. И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая города, что стоят и доныне пусты». Этот рассказ дает мало нового для характеристики нашего героя. Князь действует в рамках уже один раз обозначенного летописцем стереотипа поведения: произносит пафосные речи, делает величественные жесты, воюет и неизменно побеждает. Вся его война с ромеями представлена в летописи как непрерывная цепь побед. В реальности все было несколько иначе. Хотя византийские хронисты также отмечают, что поначалу действия русов не встречали серьезного противодействия ромеев.
Узнав о подходе войска во главе с Вардой Склиром и Петром, русы не только не испугались, но, напротив, активизировали свои действия в пограничной провинции Византии Фракии. В одном из сражений дело дошло до того, что самому Петру довелось помериться силой с неким «вождем скифов», мужем «огромного роста», который, разъезжая между сражающимися на коне и потрясая копьем, искал себе поединщика. Вид его был страшен настолько, что такового среди ромеев не находилось. Наконец сам Петр, несмотря на то что был скопцом, помчался верхом навстречу страшному русу и копьем пронзил неприятеля насквозь. Лишившись предводителя, русы отступили. Лев Диакон, приведший этот эпизод, был увлечен прославлением подвигов ромеев ничуть не меньше русского летописца. Но тем более странно, что вскоре патрикий Петр перестает упоминаться в описании русско-византийского противостояния во Фракии. Возможно, его отозвали в Константинополь. Петр считался побочным сыном Льва Фоки – брата императора Никифора Фоки. Восстание в Каппадокии Варды Фоки (соответственно, брата Петра) могло привести к временному отстранению талантливого полководца от командования войсками. Впрочем, это только предположение, фактом же является то, что магистр Варда Склир остался единственным командующим.
У него было недостаточно сил, и поэтому он не мог перехватить у неприятеля инициативу, предпочитая отсиживаться в Аркадиополе (ныне – Люлебургаз в Турции), крепости, от которой было весьма недалеко до Константинополя. Большую часть Фракии Склир отдал на растерзание врагу. Русы, собрав значительные силы и присоединив к ним болгар, а также венгров и печенегов, буквально наводнили византийскую провинцию. Иоанн Скилица определяет их численность в «триста восемь тысяч боеспособных воинов»; под командованием же Варды Склира оставляет «всего двенадцать тысяч воинов»{498}. При таком раскладе Склир оказывается в положении Святослава, имевшего перед походом на греков десятитысячный отряд. Но византийский автор героизирует полководца ромеев даже сильнее, чем наш летописец – Святослава. На каждого византийского воина у него приходится 30 русов. Лев Диакон дает более реальные цифры. Численность ромеев он определяет в 10 тысяч (близко к Скилице), но вот русов и их союзников, по его версии, было не 300, а 30 тысяч. Впрочем, и это весьма значительная армия.
Любопытно сообщение об участии в боевых действиях венгров и печенегов. Исследователями высказывалось предположение, что кочевники были привлечены к нападению на Болгарию или даже попросту наняты Святославом{499}. Но здесь необходимы некоторые уточнения. Венгры начали опустошать Болгарию и Византию задолго до появления там Святослава. На византийские Фракию и Фессалию они нападали еще в 943, 948-950 и 961-962 годах, каждый раз проходя через владения болгар{500}. Страдавшие от венгров не меньше ромеев болгары заключили с кочевниками соглашение, тем самым обезопасив себя. Но им пришлось пообещать пропускать венгров в византийские владения. С этого, как мы помним, и начался конфликт между Никифором Фокой и болгарским царем Петром. Епископ Лиутпранд сообщал, что нападения венгров не прекращались и в дальнейшем: в марте 968 года венгерский отряд численностью в 300 человек захватил под Фессалоникой в плен 500 греков и увел их в Венгрию. «Это обстоятельство, ввиду успешного завершения, побудило 200 венгров неподалеку от Константинополя, в Македонии, сделать то же самое; правда, 40 из них, неосторожно возвращаясь домой через узкое ущелье, были взяты в плен. Никифор освободил их из заключения и, украсив самыми дорогими одеждами, сделал своими телохранителями и защитниками»{501}. В конце июля того же года ромеи отговаривали епископа от отъезда из Константинополя, ссылаясь на новое нападение венгров, якобы прервавшее всякое сообщение по суше. Лиутпранд считал эти объяснения ложью. Возможно, византийцы действительно хотели задержать посла Оттонов в Константинополе.
Несомненно, что, пользуясь ослаблением Болгарии, венгры опустошали и болгарские земли. Их союз с русами был скорее соглашением между двумя странами, независимо друг от друга, но одновременно ударившими по Болгарии и Византии{502}. С печенегами все также непросто. Судя по сообщениям «Повести временных лет», их отношения с русами во второй половине 60-х годов X века оставляли желать лучшего. Некоторые исследователи даже сомневались в участии печенегов в болгарском походе Святослава после их нападения на Киев{503}. Другие, напротив, считали, что набег печенегов и последующее заключение с ними мира как раз и позволили Святославу вовлечь их в движение на Балканы{504}. Возможно и то, что в Болгарии печенеги, как и венгры, появились независимо от русов. Никифор Фока, следуя установившейся традиции использовать печенегов против болгар, мог нанять и их, хотя византийские источники ничего об этом не сообщают. Как увидим ниже, даже в решающем сражении под Аркадиополем, объединившись для совместного движения на греков, «варвары разделились на три части – в первой были болгары и русы, турки же (венгры. – А. К.) и патцинаки (печенеги. – А. К.) выступали отдельно»{505}. Судя по несогласованности действий, проявившейся в ходе битвы, «союзники» не имели ни общего командования, ни совместного плана действий.
Но обратимся к описанию самих событий.
Вторгшиеся во Фракию русы и их союзники, как пишет Скилица, опустошали эту провинцию «огнем и грабежами». Здесь разыгрывались все те же леденящие кровь картины, знакомые нам по описанию нападения русов на побережье Малой Азии в 941 году, с некоторой поправкой еще и на венгерский и печенежский «колорит». Варда Склир даже не показывался из-за стен Аркадиополя. Он казался русам испуганным и потому безопасным. Дело дошло до того, что свой основной лагерь разноэтничная орда устроила недалеко от стен города, как бы дразня ромеев, провоцируя их на сражение. Но ничто не могло выманить магистра за пределы крепости. Он предпочитал из безопасного места наблюдать, «как неприятель грабит и уносит все, что ни попадя. Такое решение вызвало у варваров великое презрение; они полагали, что и в самом деле Склир заперся среди стен и удерживает там ромейские фаланги, боясь вступить в бой. Без страха разбрелись они кто куда, стали разбивать лагерь как попало и, проводя ночи в возлияниях и пьянстве, в игре на флейтах и кимвалах, в варварских плясках, перестали выставлять надлежащую стражу и не заботились ни о чем необходимом»{506}. Видя это, Варда приступил к реализации давно созревшего у него плана действий. Основная роль в предстоящей битве была возложена на патрикия Иоанна Алакаса (по происхождению, кстати, печенега). Склир поручил Алакасу, предварительно произведя разведку, напасть на неприятеля, вовлечь его в сражение, а затем обратиться в притворное бегство, увлекая за собой «варваров» в засаду. Эффект получился тем более впечатляющим, что, выполняя поставленную перед ним задачу, Алакас напал на отряд, состоявший из печенегов. Те действительно увлеклись преследованием отступивших ромеев и вскоре наткнулись на основные силы, которыми командовал лично Варда Склир. Печенеги остановились, изготовившись к бою, – и это погубило их окончательно. Дело в том, что фаланга ромеев, пропуская Алакаса и гнавшихся за ним печенегов, расступилась на значительную глубину. Печенеги оказались в «мешке». Из-за того, что они не отступили сразу же, было потеряно время; фаланги сомкнулись и окружили кочевников. Все они были перебиты ромеями.
Гибель печенегов ошеломила венгров, русов и болгар. Однако они успели приготовиться к сражению и встретили ромеев во всеоружии. Скилица сообщает, что первый удар по наступавшему войску Варды Склира нанесла конница «варваров», вероятно, состоявшая в основном из венгров. Натиск был отражен, и всадники укрылись среди пеших воинов. Когда оба войска сошлись, исход битвы долгое время был неопределенным. Перевес в пользу ромеев ясно обозначился, только когда был убит «некий скиф» (венгр? рус? печенег? болгарин?), «гордившийся размерами тела и неустрашимостью души». «Оторвавшись от остальных», он напал на самого Варду Склира, «который объезжал и воодушевлял строй воинов», и ударил его мечом по шлему. «Но меч соскользнул, удар оказался безуспешным, а магистр также ударил врага по шлему. Тяжесть руки и закалка железа придали его удару такую силу, что скиф целиком был разрублен на две части. Патрикий Константин, брат магистра, спеша к нему на выручку, пытался нанести удар по голове другому скифу, который хотел прийти на помощь первому и дерзко устремился на Варду; скиф, однако, уклонился в сторону, и Константин, промахнувшись, обрушил меч на шею коня и отделил его голову от туловища; скиф упал, а Константин соскочил с коня и, ухватив рукой бороду врага, заколол его. Этот подвиг возбудил отвагу ромеев и увеличил их храбрость, скифы же были охвачены страхом и ужасом. Вскоре силы оставили их, и они показали спины, обратившись в позорное и беспорядочное бегство»{507}. Спастись удалось немногим.
Рассказ Льва Диакона об этой битве несколько отличается в деталях. Иоанн Алакас не заманивает неприятеля, а только производит разведку, но перед началом сражения Варда Склир все-таки организует для «скифов» подвох, выставив на поле боя лишь часть своей армии. Большинство же своих воинов он спрятал «в лесах». По трубному звуку они должны были «выскочить из засады» и решить исход сражения в пользу ромеев. Во время сражения к магистру действительно подскакал «какой-то скиф, кичась своей силой и могучестью тела», и нанес неудачный удар по шлему византийского полководца. Но вот убил его не сам Варда, а его юный брат-богатырь. Именно у коня этого «скифа» Константин отрубил голову, а затем он заколол и самого воина. Исход битвы долго был неясен, и только когда по условному сигналу из леса вышла находившаяся в засаде фаланга ромеев и ударила «скифам» в тыл, те побежали. (Как мы видели, в описании Скилицы, хитрость Варды Склира с засадой была использована ромеями в самом начале сражения и погубила одних печенегов.) Когда началось бегство неприятеля, один из них, «какой-то знатный скиф, превосходивший прочих воинов большим ростом и блеском доспехов, двигаясь по пространству между двумя войсками, стал возбуждать в своих соратниках мужество. К нему подскакал Варда Склир и так ударил его по голове, что меч проник до пояса; шлем не мог защитить скифа, панцирь не выдержал силы руки и разящего действия меча. Тот свалился на землю, разрубленный надвое; ромеи приободрились и огласили воздух радостными криками. Скифы пришли в ужас от этого поразительного, сверхъестественного удара; они завопили, сломали свой строй и обратились в бегство. До позднего вечера ромеи преследовали их и беспощадно истребляли»{508}. Результаты этого «беспощадного истребления» выглядят у обоих византийских историков весьма впечатляющими. Лев Диакон считал, что под Аркадиополем погибло более двадцати тысяч «скифов», а у ромеев было убито пятьдесят человек (!), «много было ранено и еще больше пало коней». И это притом что успех в битве долго не приходил ни к одной из сторон! Впрочем, Льва Диакона оставил далеко позади Скилица. В своей хронике он «положил» на поле боя все 308 тысяч «варваров» («совсем немногие спаслись»); ромеи же «потеряли в сражении 25 человек убитыми, но ранены были почти все».
Греческие хронисты описывали русско-византийскую войну исключительно с собственных позиций. В том же духе поют славу Святославу и наши летописцы на страницах «Повести временных лет», где, как отмечалось выше, после победы над греками в некой «жестокой сече» князь развивает успешное наступление на Царьград, «воюя и разбивая города, что стоят и доныне пусты». Отмечу, что некоторые исследователи, ссылаясь на «недостоверность» описаний сражения, данных Львом Диаконом и Скилицей (фантастические цифры численности русов и потерь ромеев, путаница в деталях и т. д.), предпринимали попытки отождествить битву под Аркадиополем с той, что описана в летописи. Разумеется, с летописным же результатом{509}. Однако если довериться летописи, то возникает вопрос: почему же русы и их союзники, якобы разгромившие войска Варды Склира, не дошли до Константинополя и не опустошили его окрестностей? Ответ тоже находят в летописном тексте. Сообщается же там следующее. Узнав об успехах Святослава, «созвал царь бояр своих в палату и сказал им: „Что нам делать, не можем противостоять ему?“ И сказали ему бояре: „Пошли к нему дары, испытаем его, любит ли он золото и паволоки“. И послал к нему золото и паволоки, и мудрого мужа, наказавши ему: „Следи за его взором, лицом и мыслями!“ Он же взял дары и пришел к Святославу. И поведали Святославу, что пришли греки с поклоном, и сказал Святослав: „Ведите их сюда“. Войдя, они поклонились ему и положили перед ним золото и паволоки. И сказал Святослав своим отрокам, не глядя на дары: „Уберите“. Греки же вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: „Пришли мы к нему и поднесли дары, а он и не взглянул на них – приказал унести“. И сказал один: „Испытай его еще раз: пошли ему оружие“. Они же послушали его и послали ему меч и другое оружие, и поднесли ему. Он же взял и стал царя хвалить, посылая ему любовь и благодарность. Снова вернулись посланные к царю и рассказали ему всё, как было. И сказали бояре: „Лют будет муж этот, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет. Плати ему дань“.
И послал к нему царь, говоря: „Не ходи к столице, но возьми дань, какую хочешь“. Ибо лишь немного не дошел он до Царьграда. И дали ему дань. Он же брал и на убитых, говоря: „Возьмет за убитого род его“. Взял же и даров много и возвратился в Переяславец со славою великою. Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: „Как бы не погубили коварством и дружину мою и меня“. Так как многие были убиты в боях. И сказал: „Пойду на Русь, приведу больше дружины“».
Летописец считает, что больше столкновений между русами и греками не происходило; они подписали мир, и Святослав отправился в Киев. Авторы, присуждающие победу в битве под Аркадиополем нашему князю, думают, что какое-то мирное соглашение между русами и напуганными ромеями действительно было подписано и только оно и помешало Святославу дойти до Константинополя{510}. Между тем в реальности сражением во Фракии война не закончилась. Приведенный летописный текст имеет все тот же фольклорный характер. Фольклорный источник заметен и в истории соблазнения Святослава дарами, в которой князь представлен в уже привычном образе бессребреника{511}.
Первое, что необходимо отметить, соотнося данные русских и византийских источников о русско-византийской войне, – летописец в своем рассказе о битве Святослава с греками дает описание не конкретного события, а некое обобщенное видение всей войны. Святослав – единственный русский герой его повествования, этот герой не может не одержать победу, и он ее одерживает в единственной же битве. Как мы знаем, между русами и ромеями происходило не одно сражение, и усматривать в летописном рассказе битву именно близ Аркадиополя вряд ли правильно. Что касается летописного замечания о городах, стоящих «пустыми до сего дня», как бы подтверждающего сообщение о походе на Царьград, то оно столь же неконкретно. «Пустыми» стояли города и в Болгарии (тот же Филиппополь). О том, как виделась география этой страны летописцу, я уже говорил. К тому же во времена, когда составлялись русские летописи, земли болгар входили в состав Византийской империи, и потому понять, что имел в виду древнерусский книжник, практически невозможно{512}. В сравнении с фольклорной версией, изложенной в летописи, византийские источники при всей их тенденциозности все-таки содержат относительно достоверное описание событий. Хотя, как к любому источнику, к ним нужно подходить критически, проверяя каждую деталь их рассказа.
Второе – ни Лев Диакон, ни Скилица не говорят об участии в набегах на Фракию самого Святослава{513}. Разноэтничной ордой, с которой столкнулись войска под командованием патрикия Петра и магистра Варды Склира, командуют какие-то безымянные «огромного роста», в «блестящих доспехах» «знатные скифы». Учитывая многочисленность войска, которое Святослав повел на Дунай, и то, что русы управлялись союзом князей (а часть из этих князей, несомненно, участвовала в походе), наконец, учитывая сам способ сбора в подобного рода походы молодежи, когда стихийно выдвигались новые, дотоле неизвестные вожаки, – так вот, учитывая все это, можно считать несомненным: русами на Балканах командовало множество вождей, главным из которых конечно же был Святослав. Как это водится, кроме главного отряда, составлявшего ядро войска русов, действовало много вполне самостоятельных дружин, признающих только общее руководство нашего князя. Вероятно, часть русских вожаков (князей?), отделившись от основных сил и увлекая за собой болгар, устремилась на разграбление Фракии. Здесь или еще в Болгарии они соединились с венграми и печенегами. Судя по описанию византийских хронистов, в орде, с которой пришлось иметь дело Склиру, русы не составляли большинства. В результате разгрома этой орды больше всех пострадали кочевники. По крайней мере через год, когда армия под командованием Цимисхия вторглась в Болгарию, мы уже не видим в составе сил, противостоящих ромеям, ни печенегов, ни венгров. Более того, на завершающем этапе кампании, когда Святослав и его русы голодали в Доростоле, «соседние народы из числа варварских, боясь ромеев, отказывали им в поддержке»{514}. Поскольку в набеге на Аркадиополь Святослав не принимал участия, летописный рассказ о наступлении князя на Царьград к боям во Фракии не может иметь никакого отношения.
Весной 970 года ромеям не удалось выступить против русов. Мятеж Варды Фоки отвлек на себя серьезные военные силы. Как мы видели, для подавления мятежа из Фракии отправили даже магистра Варду Склира, назначенного «стратилатом». Вряд ли магистр мог получить подобное повышение, проиграй он сражение русам. И Цимисхий не решился бы перевести из Европы в Азию войска Склира и его самого, если бы русы продолжали наступление в направлении Константинополя. Как видно, главной опасностью для империи и себя лично василевс считал движение Фок. И это является еще одним аргументом в пользу того, что под Аркадиополем верх одержали ромеи, как о том и сообщают византийские источники. Не было и мира между ромеями и русами. Потерпев неудачу во Фракии, русы начали совершать набеги на Македонию. Войсками ромеев здесь командовал магистр Иоанн Куркуас (Младший), известный лентяй и пьяница, который бездействовал, не предпринимая никаких попыток защитить местное население от неприятеля. Впрочем, у него было оправдание – нехватка войска. Тем более что в своих планах русы не шли дальше пограничных с Болгарией византийских провинций, иначе, в отсутствие у василевса серьезных военных сил, они могли существенно осложнить положение византийской столицы.
Между тем мятеж Фок был подавлен. Варда Склир получил от императора приказ набрать воинов (ополчение) и вновь переправиться из Азии в Европу. Одновременно в Адрианополь (во Фракии) по реке Эвр (ныне – Марица) были отправлены триеры, оснащенные сифонами для выбрасывания «жидкого огня». В город свезли хлеб и корма для вьючных животных, было поставлено много оружия. Воины не должны были ни в чем испытывать недостатка. Склиру было предписано обучать ополченцев, готовить их к тяжелым боям. Тем же занимался и сам василевс. Он ежедневно тренировал войско, которое находилось при нем, заставлял его передвигаться в полном вооружении и выполнять различные военные приемы. Как-то сразу притихли печенеги и венгры. Разумеется, зимой начинать войну было неудобно. Пользуясь возникшей паузой, Иоанн сыграл в ноябре свадьбу с Феодорой{515}. (К слову сказать, подготовка войска к войне позволяла императору меньше видеться с малосимпатичной и добродетельной женой.) Весной Цимисхий собирался лично, во главе гвардии, прибыть к войскам. И тогда вся собранная им военная мощь империи должна была обрушиться на Болгарию, покончив и с ней, и с засевшими в этой стране русами.
Самым уязвимым местом на пути в Болгарию Цимисхий считал Гемы (Балканские горы). Когда-то император Никифор I, собрав огромную армию, вторгся во владения болгар – тогда еще кочевников, расселившихся среди покоренных ими балканских славян. Хан болгар Крум молил Никифора о мире, но император, желая посчитаться за нападения предыдущих лет, разорил Плиску (тогдашнюю столицу Болгарии) и, уничтожая на своем пути все живое, прошел по землям болгар и славян. А дальше Никифор попал в ловушку, расставленную болгарами, которые то ли заперли войско ромеев с двух сторон в одном из горных ущелий, то ли прижали людей Никифора к горам, перекрыв проход через них… В общем, произошла катастрофа, императорская армия была поголовно истреблена, погиб даже император. Мертвому василевсу отрезали голову, и она еще долго торчала на палке, привлекая приходивших поглазеть на нее варваров. Потом, говорят, Крум приказал эту голову высушить и очистить, а череп обложить серебром. Он служил хану чашей, из которой тот пил сам и заставлял пить вождей покоренных славянских племен.
С тех пор прошло много лет (описываемый эпизод относится к 811 году), изменились болгары, они давно смешались с местными славянами, приняли крещение. Но клисуры (горные проходы), через которые теперь лежал путь императорской армии к новой столице болгар Великому Преславу, оставались по-прежнему опасными для неприятельского войска. Цимисхий знал, что сопротивление русов будет отчаянным. Он и сам не оставлял им выбора, направив огненосные корабли через Босфор вдоль западного побережья Понта к устью Истра (Дуная). Триста галей (так назывались быстроходные суда, использовавшиеся для разведки) и монерий (суда с одним рядом весел) должны были запереть русов в Болгарии и не дать им ускользнуть от ромеев. Речь могла идти только о поголовном их истреблении. Уж больно эти варвары разозлили императора своими нападениями на Фракию и Македонию. Не собираясь церемониться с ними сам, Цимисхий не ждал и от русов иного отношения к себе. И потому его очень волновали вопросы: занял ли неприятель проходы через горы? соорудил ли изгороди и валы для заграждения в наиболее опасных и узких местах? ждет ли ромеев там засада? Вскоре лазутчики принесли радостную весть – горные тропы не охраняются! Это известие вызвало у ромейских военачальников недоумение, смешанное с недоверием; подозревали ловушку. Император объяснял произошедшее тем, что была Страстная неделя, до Пасхи (16 апреля 971 года) оставалось несколько дней, и «скифы» решили, будто в преддверии великого праздника ромеи не начнут войну. Цимисхию казалось разумным пройти через горы как можно быстрее, пока враг не успел опомниться{516}. Это предложение император вынес на утверждение военного совета, но присутствующие отреагировали сдержанно. И тогда василевс вызвался сам возглавить первый отряд, который пойдет через горы. Сначала в балканские теснины вступили «бессмертные» – отряд всадников, одетых в броню, учрежденный императором незадолго до начала кампании. Сюда брали наиболее отчаянных рубак, это была гвардия, неотступно находившаяся при Иоанне. За императором и его гвардейцами в ущелья втянулся отряд отборных пехотинцев и наконец отряд легких всадников. Скилица определяет численность авангарда примерно в девять тысяч человек (из них пять тысяч пеших и четыре тысячи конных). В изложении Льва Диакона, императора сопровождали 15 тысяч пехотинцев и 13 тысяч всадников. Возможно, в данном случае Скилица при определении численности византийской армии более точен (чего не скажешь, когда он начинает подсчитывать общую численность русов и особенно их потери), а цифры, указанные Львом, можно принять за численность всего войска, выступившего в Болгарию. Впрочем, в точности ничего утверждать нельзя. Вслед за отборными храбрецами в клисуры вступила основная часть армии, протащились обоз, осадные и другие машины. Наконец опасный участок пути был пройден. Византийская армия укрепилась на холме близ реки Тичи.
Когда наступил следующий день, передовые части византийского войска двинулись в направлении Великого Преслава. Близ города ромеи обнаружили уже ожидавших их появления «скифов»{517}. Между ними произошло сражение, исход которого был какое-то время неопределенным. Видя упорство неприятеля, Цимисхий ввел в бой «бессмертных». Тяжелая конница, выставив вперед копья, понеслась на врага и быстро опрокинула русов, сражавшихся в пешем строю. Те устремились в Преслав. Видя происходящее, русы, остававшиеся в болгарской столице, схватив оружие, кинулись выручать своих. Желающих помочь оказалось весьма много, но сделать они уже ничего не смогли. Византийская конница успела подойти к городу и отрезала бегущих от ворот. В результате ромеи начали истреблять и тех, кто спешил на выручку своим, и тех, кто пытался укрыться за стенами Преслава. Все пространство близ города покрылось телами убитых. И тогда командовавший русами Сфенкел (так его называет Лев Диакон; Скилица же передает имя русского предводителя как «Сфангел»), наблюдавший со стен города за происходящим, видимо, посчитал оставшихся за стенами столицы обреченными и, опасаясь того, что ромеи ворвутся в Преслав, закрыл ворота города. Защитникам Преслава оставалось лишь поражать близко подошедших к нему ромеев камнями и стрелами. Лев Диакон считает, что в этот день победители убили 8500 человек, однако Скилица приводит эту же цифру как число «скифов», вообще сражавшихся в тот день с ромеями. Но и он считает, что мало кому из бежавших в панике с поля боя удалось спастись. Ромеи захватили и много пленных.
Сфенкел, принявший столь жесткое решение, был одним из главных предводителей русов, явившихся в Болгарию (византийские источники ставят его по значению то на второе, то на третье место после Святослава). Но кроме него в Преславе находился еще один человек, которого также можно считать одним из главных действующих лиц в происходивших на Балканах событиях. Это был Калокир, тот самый посол императора Никифора Фоки, со встречи которого со Святославом и завертелась вся эта кровавая карусель событий. Чем занимался в Преславе херсонит, мы не знаем. Неясно и почему он пребывал здесь, а не со Святославом, который с основными русскими силами оставался в Добрудже, сделав Доростол центром своих владений. Возможно, близость Преслава к византийской границе позволяла Калокиру получать более полную информацию о том, что происходит в империи, и плести какие-то интриги. В отличие от русов, связанных отношениями товарищества, и от болгар, уже неспособных решать свою судьбу самостоятельно (независимо от того, сочувствовали они русам или нет), Калокир был свободен, в том числе и от «предрассудков», вроде тех, что связывали «варваров». Нападение Византии на Болгарию было событием экстраординарным, и по тому, как вело себя войско ромеев, подступившее к Преславу, Калокир понял, что командует ромеями лично василевс. Было ясно: появление здесь Иоанна Цимисхия не предвещает ничего хорошего ни Преславу, ни болгарам, ни русам, ни тем более самому Калокиру. И поэтому в ночь после первого боя русов и ромеев Калокир бежал из Преслава в Доростол, к Святославу. Узнав о нападении византийской армии, князь был поражен, но постарался приободрить тех, кто находился при нем, все еще считая положение не совсем безнадежным.
Между тем Иоанн Цимисхий изучил стоявшую перед ним крепость и составил план ее захвата. Сравнительно с Константинополем Преслав не показался императору ромеев великим городом (его площадь составляла 3,5 квадратного километра){518}. Линия внешних каменных стен болгарской столицы была изломанной – с севера они составляли прямую, с востока шли вдоль берега реки Тичи, повторяя прибрежную полосу, а с южной и западной сторон стена огибала большой холм, расположенный около города. Толщина стены достигала трех метров при высоте более десяти. Воины на платформе стен были защищены от стрел неприятеля высоким парапетом с зубцами, между которыми имелись широкие бойницы. По углам и по фронту стен возвышались, соответственно, круглые и прямоугольные башни. Башни высотой около 14 метров были надстроены и над всеми наглухо закрытыми городскими воротами (ширина прохода в них составляла 3,5-4 метра) – один этаж над входом в крепость, а над ним – площадка, где также помещались бойцы, защищенные парапетом с зубцами. Вокруг крепости, расположенной на неровной местности, не был возведен вал – судя по всему, Симеон Великий, отстроивший Преслав и сделавший его столицей своего царства, надеялся прежде всего на стены. Северная стена выглядела наиболее укрепленной. Ее выстроили позднее, сложив, как водится, с внешней и внутренней стороны из обтесанного известняка, засыпав пространство между ними необработанным камнем и залив раствором. Башен здесь также было больше, чем на других стенах. Наиболее уязвимой Цимисхию показалась южная сторона. Император знал, что внутри крепости находится и дополнительное укрепление – цитадель, возведенная в центре города вокруг царского дворца. Но она не особенно его смущала; главное было ворваться в Преслав, а дальше уж, как говорится, «действовать по обстановке».
На следующий день (это было 13 апреля, Великий четверг) к городу подошли основные силы византийской армии, взявшие Преслав в кольцо. Прибыли осадные машины, и начался штурм крепости. Сначала осажденным предложили сдаться добровольно. Получив отказ, ромеи принялись осыпать Преслав тучами стрел и камней, используя камнеметные орудия и не давая защитникам города не то что выглянуть из-за стен, но даже находиться на самих стенах. Обороняющиеся со своей стороны бросали в наступающих камни, поражали их стрелами. Наконец обстрел города из орудий прекратился. Последовал приказ идти на приступ. Глазам василевса, наблюдавшего с холма близ крепости за ходом сражения, открылось привычное для военного человека зрелище – толпы ромеев, подобно водам, хлынули к Преславу. Лучники продолжали осыпать город стрелами, стараясь парализовать сопротивление находящихся на стенах «скифов». Вскоре ромеи придвинули к стенам лестницы и полезли наверх. Какое-то время никому не удавалось подняться на стену. Наконец некий молодой человек, держа в правой руке меч, а в левой щит, которым он прикрывал голову от сыпавшихся на него сверху ударов, достиг гребня стены. Перед ним появился неприятельский воин, попытавшийся копьем столкнуть храбреца вниз, но одно неверное движение – и изловчившийся ромей снес мечом «скифу» голову, а в следующее мгновение уже стоял на стене. Теперь, чтобы уцелеть, ему приходилось поворачиваться еще быстрее. Отчаянно размахивая мечом, он старался отбиться от наседавших на него со всех сторон «скифов» и дать возможность взойти на стену своим товарищам. Через мгновение рядом с ним оказался уже второй боец, затем – третий и т. д. Воодушевленные первым успехом ромеи усилили натиск, и вскоре почти повсеместно там, где были приставлены лестницы, появились свои герои – первые, вторые, третьи… Перевес сил явно начал клониться на сторону штурмующих. И тогда обороняющиеся стали покидать стены. Понимая, что внешнюю линию укреплений Преслава им уже не удержать, они старались укрыться в цитадели. Между тем ворвавшиеся в город ромеи пробились к воротам в юго-восточном углу крепости и, открыв их, впустили в Преслав всю армию. Болгары и русы, не успевшие к тому времени покинуть стены, были перебиты. Бой продолжался теперь на городских улицах. Это была уже агония – ромеи убивали мужчин, хватали женщин и детей, врывались в дома и церкви. От простых воинов не отставали командиры. Особенно прославился разграблением храмов упоминавшийся выше магистр Иоанн Куркуас (Младший), который, не смущаясь, обращал в свою собственность и церковную утварь, и священные сосуды… Резня шла страшная. Тогда-то к Цимисхию и привели Бориса II, схваченного в городе вместе с семьей и опознанного по имеющимся на нем знакам царской власти. Император Иоанн встретил пленника со всем возможным в тех условиях радушием, называл его «владыкой болгар», объяснял, что ромеи прибыли в Болгарию лишь для того, чтобы принести свободу его народу, настрадавшемуся от тирании русов. Борису обещали после войны освободить всех болгарских пленников и никого не продавать в рабство. Царю оставалось только делать вид, будто он не замечает, что его больше не называют «василевсом», как было установлено еще договором 927 года, и верит всему сказанному{519}. И еще с болью в сердце взирать на страшные сцены насилия и опустошения, которые происходили в городе, отстроенном стараниями его отца и деда. Борис сам был таким же пленником, как и жители его столицы, у них только менялся хозяин.
Сопротивление казалось сломленным. Победители, разом ставшие грабителями, подошли к царскому дворцу, захват которого сулил им огромные богатства. Дворец окружала стена (толщиной чуть более двух метров и высотой не уступавшая внешней стене города), но она никого не остановила – одни из ворот оказались открытыми. Новые хозяева города, не задумываясь, вбежали внутрь. И тут их ждал сюрприз – более семи тысяч русов и болгар под предводительством Сфенкела укрылись в цитадели и теперь напали на них и в мгновение ока перекололи до полутораста человек – всех, кто первым оказался во внутреннем пространстве дворца. «Скифы» пресекли и последующие попытки ромеев захватить цитадель. Узнав о произошедшем, император лично, в сопровождении «бессмертных», прибыл ко дворцу. Попытка гвардейцев сломить сопротивление засевших внутри людей Сфенкела также не имела успеха – проем ворот был слишком узок, входить в него разом могло только небольшое количество воинов, и их тут же поражали русы и болгары.
Отчаянное сопротивление болгар византийские хронисты позднее объясняли их ненавистью к ромеям, в которых болгары видели виновников нападения русов. Учитывая, что местом действия был царский дворец, где вполне могли укрываться придворные Бориса II и его охрана (во дворце хранилась казна болгарских царей, кстати, нетронутая русами), а также прочие представители элиты гибнущего Болгарского царства, такое объяснение выглядит вполне правдоподобным – во дворце умели разбираться в тонкостях дипломатии. Наверное, часть живших в столице болгар также была не прочь сообща с русами защитить свой город от ромеев, а их царь, как мы помним, даже заключил со Святославом союз. Но в последующем, когда византийская армия двинулась вглубь болгарской территории, менее искушенные в политике болгары заняли положение наблюдателей, не видя большой разницы между русами и ромеями. И те и другие были завоевателями. Кроме того, и Борис II теперь сопровождал «освободительные» войска Иоанна Цимисхия.
Но вернемся к преславскому дворцу. Император быстро понял бессмысленность попыток ворваться в цитадель через ворота. Вести же правильный приступ не было возможности по целому ряду причин. Во-первых, быстро подтащить осадные машины по улицам города к холму, на котором стоял дворец, было немыслимо. Во-вторых, войско ромеев рассыпалось по территории города, и для того чтобы собрать его для штурма цитадели, также требовалось время. А между тем, учитывая численность неприятеля, засевшего во дворце, и то, что там собрались наиболее отчаянные и опытные головорезы, готовые на все, тянуть было нельзя. И тогда Цимисхий приказал поджечь дворец болгарских царей. Ромеи принялись бросать через стены огонь, и вскоре внутри разгорелся пожар{520}. Не желая сгореть заживо, Сфенкел повел своих людей на прорыв. Когда обгоревшие, наполовину задохнувшиеся от дыма «скифы» вышли за ворота цитадели, их окружил большой отряд ромеев под предводительством знаменитого Варды Склира. Начался неравный бой. Упорство, с которым сопротивлялись обреченные русы и болгары, поразило даже видавшего виды византийского военачальника. И все-таки большинство последних защитников болгарской столицы были убиты. Лишь небольшой группе самых отважных во главе со Сфенкелом удалось пробиться за стены города и позднее добраться до Святослава.
Цимисхий мог быть доволен – Великий Преслав взяли всего за два дня. В разграбленном городе император отпраздновал Пасху. Вероятно, там же находился и Борис II, продолжавший разыгрывать роль «болгарского владыки». В городе начали восстанавливать сильно пострадавшую при штурме стену, тушить периодически вспыхивающие пожары, грабежи прекратились, но после всего произошедшего это был уже совсем другой город. Он даже получил новое имя – Иоаннополь, в честь своего покорителя. Великий Преслав – столица Болгарского царства – исчез. Собственно, как и сама Болгария. Уже завоеванные болгарские земли были включены во Фракию – византийскую фему. Препятствием на пути к дальнейшим завоеваниям оставались только русы. Лев Диакон сообщает, что император, «отобрав несколько пленных тавро-скифов», послал их «к Сфендославу (Святославу. – А. К.) с сообщением о взятии города и гибели соратников. Он поручил им также передать Сфендославу, чтобы тот без промедления выбрал одно из двух: либо сложить оружие, сдаться победителям и, испросив прощение за свою дерзость, сейчас же удалиться из страны мисян (болгар. – А. К.), либо, если он этого не желает сделать и склоняется к врожденному своеволию, защищаться всеми силами от идущего на него ромейского войска»{521}. Это посольство, если его, конечно, не выдумал византийский историк, было всего лишь представлением, частью пасхальных торжеств, способом продемонстрировать миролюбие и одновременно неустрашимость императора. Цимисхий вовсе не собирался давать Святославу время на размышление или сборы. Оставив в Иоаннополе сильный гарнизон, он уже в первый день Светлой седмицы выступил в поход по направлению к Доростолу.
После захвата ромеями Преслава и «присоединения» к армии победителей Бориса II отношение болгар к русам резко изменилось. Недавно лояльные им «мисяне» начали изъявлять покорность своим новым хозяевам. Впрочем, внешне это выглядело как проявление преданности собственному монарху. Города на пути византийской армии открывали Цимисхию ворота. Так поступили Плиска (мощная крепость, старая болгарская столица), Диния и многие другие. Местные скотоводы и виноградари не проявляли никакой враждебности. Конечно, эксцессов избежать не удалось – какие-то поселения были отданы Цимисхием на разграбление своим воинам – надо же было их поощрить, несмотря даже на миролюбие болгар. Да и некоторые византийские военачальники, вроде того же Иоанна Куркуаса, не могли обойтись без мародерства.
Попадавшиеся по пути отряды русов – в основном это были собравшиеся вместе группы со своими предводителями, ранее по отдельности промышлявшие в Болгарии и не успевшие уйти к Святославу, – легко истреблялись воинами Цимисхия. Правда, однажды разведка ромеев обнаружила значительное скопление неприятеля численностью в несколько тысяч. (Скилица пишет о семи тысячах. Это вообще любимое число хронистов – столько же людей укрывалось, например, вместе со Сфенкелом в преславском дворце.) По приказу императора их атаковали, многие сразу были ранены и убиты. Остальные разбежались и попрятались по лесам. Если учесть, что их рассеяли всего 300 ромеев, становится ясно, что эти «пугливые» русы представляли собой толпу измученных беглецов, пробиравшихся в Доростол.
На подходе же к этому городу русы (судя по всему, немногочисленная группа) устроили засаду и напали на передовой отряд ромеев. Убив какое-то количество врагов, нападавшие укрылись в лесу. Взбешенный Цимисхий, увидев трупы своих людей, разбросанные вдоль дороги, приказал найти «партизан». Тщательно обыскав кусты, воины схватили нескольких человек, которых тут же изрубили мечами телохранители императора. Но за исключением этих «дорожных происшествий», продвижение византийской армии к Доростолу было благополучным – весь путь от Преслава до Доростола занял всего неделю. Можно сказать, что покорение Болгарии было осуществлено стремительно.
Во всей этой истории кажется непонятным поведение Святослава. До самого последнего момента он вел себя пассивно и дождался того, что ромеи сами пришли к нему. Эту странность историки объясняют каким-то мирным договором с ромеями, который заключили русы. Имея эту договоренность, князь якобы и не ждал нападения коварного Иоанна Цимисхия. Возникает вопрос: о каком договоре идет речь? С кем и когда его мог заключить Святослав? Маловероятно, чтобы это примирение произошло между ним и Цимисхием{522}. Напротив, византийские источники сообщают о неудаче русско-византийских переговоров и о непрекращающихся нападениях русов на Фракию и Македонию. Так на что же могли рассчитывать русы, не закрепившись в горах и оставив открытым путь в Болгарию? И даже когда ромеи вломились в Преслав, это не понудило Святослава к активным действиям. Он как будто чего-то ждал, каждый раз с изумлением получая новые известия об успешном продвижении ромеев. Не только захват болгарской столицы, но даже то, что византийские корабли блокировали устье Дуная, не заставило его действовать. Не вывели его из загадочной «спячки» и беглецы – сначала Калокир, затем Сфенкел со своими обгоревшими дружинниками, а позднее те русы, которых болгары и ромеи погнали из ранее занятых ими городов и которые начали отовсюду стекаться к своему вождю. Зная о приближении Цимисхия, Святослав ничего не предпринял для того, чтобы подготовить Доростол к обороне – вскоре мы увидим, что в городе не было сделано достаточных запасов провианта. Все это весьма странно для обычно стремительного князя. Лишь только когда в самом Доростоле началось брожение болгар и возникла опасность измены, Святослав наконец «пробудился». Схватив около трехсот наиболее родовитых и влиятельных доростольских болгар, заподозренных в заговоре, князь приказал отрубить им головы. Многих болгар, вероятно менее виновных, заключили в оковы. Стабилизировав тем самым ситуацию в городе, Святослав выступил навстречу ромеям и разбил лагерь в полудне пути от Доростола{523}. И вновь возникает вопрос: почему он не пошел дальше? Его как будто интересовал только этот город, за которым лежала область, зажатая между Дунаем и Черным морем, – Добруджа. Это была та самая область, за пределы которой люди Святослава не выходили, пока был жив Никифор Фока, область, которая по договоренности с этим императором отходила русам. Святослав считал ее своей, закрепленной за ним не только русско-византийским, но и, вероятно, русско-болгарским договором. Да, в 970 году русы покинули Добруджу, а затем начали военные действия и вне Болгарии! Да, на требование Цимисхия покинуть болгарские земли они ответили отказом! Но во Фракии и Македонии действовал не сам Святослав, а некий разноэтничный сброд, представленный со стороны русов неуправляемой вольницей. Напомню, что русское войско, высадившееся в Добрудже летом 968 года, вовсе не было сковано жесткой дисциплиной. В него изначально влилось много вполне самостоятельных, разноэтничных отрядов, возглавляемых своими князьями, воеводами и чаще всего абсолютно неконтролируемыми вожаками. Они, несомненно, признавали авторитет Святослава как верховного предводителя, в распоряжении которого к тому же был самый крупный отряд в русском воинстве. Но пребывание в течение нескольких лет в Болгарии ослабило эту связь, и многие предводители действовали сами по себе. Таким и был, наверное, вышеупомянутый Сфенкел, занимавший Преслав. Но сам-то Святослав, разорвав переговоры с Цимисхием, сидел в Добрудже и мог предполагать, что эта область, владение которой за ним давно закреплено, останется у него, даже если вся Болгария будет занята ромеями. Возможно, таким и был изначальный план Никифора Фоки. Горные проходы находились далеко от Доростола, и до них не было никакого дела ни Святославу, ни русским искателям приключений, постепенно разошедшимся по Восточной Болгарии, ни Сфенкелу, ни тем более Борису II, который с некоторого времени вообще оставался ко всему равнодушен. Надеясь на договоренности, достигнутые во время переговоров с послом Никифора Фоки Калокиром, Святослав только удивлялся успехам ромеев. Кстати, в нерушимость этого договора верил и сам Калокир. Недаром после появления византийской армии близ Преслава мятежный посол перебрался в Доростол, считая, что здесь он будет в безопасности. Договор с Никифором и «парализовал» Святослава на начальном этапе войны. Только когда стало ясно, что в Добрудже его тоже не оставят в покое, князь начал действовать.
И вот теперь русы ожидали ромеев недалеко от своей дунайской столицы. Битва, которая произошла 23 апреля 971 года между двумя враждебными армиями, имела решающее значение для всей последующей войны. Ромеи, как мы видели, уже побеждали русов в Болгарии, но то были не основные русские силы. И русам могло казаться, что успехи Цимисхия носят временный характер, вот встретится с ним Святослав и тогда…
Наконец они встретились. Русы стояли плотными рядами, сомкнув длинные щиты и выставив вперед копья. Это делало их строй похожим на стену. Иоанн Цимисхий выставил против них пехоту, расположив по ее краям тяжелую конницу (катафрактов). Позади пехотинцев находились лучники и пращники, в задачу которых входило стрелять без остановки. И Святослав, и Цимисхий постарались воодушевить своих людей речами. Русам их предводитель напомнил о том, что они непобедимы, впрочем, и сами русы знали, что поражение обесславит их и приведет к неминуемой потере всех их владений на Дунае. Для них, сделавших войну образом жизни, неудача была страшнее смерти. А ополченцам-ромеям было сказано, что перед ними варвары, которых следует презирать, и потому проиграть им стыдно. Распалив пехотинцев и конников этими речами, император послал их на русские ряды. Раздался сигнал труб, и завязалась схватка. Обе стороны дрались одинаково яростно, не уступая в храбрости друг другу. Русы все время кричали так, что крик их напоминал ромеям рев. Первая атака византийцев слегка расстроила ряды русов, но они удержались на месте и затем перешли в контратаку. Бой шел с переменным успехом целый день, всю равнину сражающиеся усыпали телами павших с обеих сторон. Очевидцы потом рассказывали, что инициатива 12 раз переходила от русов к ромеям и наоборот. Уже ближе к закату воинам Цимисхия удалось потеснить левое крыло неприятеля. Теперь главным для ромеев было не дать русам перестроиться и прийти на помощь своим. Раздался новый сигнал труб, и в бой была введена конница – резерв императора. На русов двинули даже «бессмертных», сам Иоанн Цимисхий поскакал за ними с развернутыми императорскими знаменами, потрясая копьем и побуждая воинов боевым кличем. Ответный радостный крик раздался среди сдержанных дотоле ромеев. Русы не выдержали натиска конников и побежали. Их преследовали, убивали и брали в плен. Впрочем, и византийская армия была утомлена сражением. Настало время устраивать победные пиры и раздавать награды. Большинство воинов Святослава во главе со своим предводителем благополучно вернулись в Доростол. Исход войны был предрешен.
Ныне Силистра – небольшой болгарский город на границе с Румынией с населением чуть более сорока тысяч человек и с весьма древней историей. Теперешнее название город получил, находясь уже под властью Турции. А основавшие его римляне назвали свою колонию «Дуросторум» («прочная крепость»). Занявшие позднее эти земли славяне переделали его в «Драстар». Во времена описываемого в этой книге конфликта на Балканах старое римское название, преобразованное ромеями в «Доростол» (или «Дористол»), даже в Византии было почти вытеснено славянизированным «Дристра». Несмотря на это, в русской исторической науке принято называть город Доростолом, сохраняя именно это, классическое, название бывшей римской колонии. За свою почти двухтысячелетнюю историю город пережил множество войн и потрясений, входил в состав разных государств. Во второй половине X века, когда им владели русы (кстати, называвшие свое владение «Деревестр», или «Дерестр»), это по-прежнему была мощная крепость – с высокими башнями и крепкими воротами. Толщиной стены превосходили даже преславские, достигая почти пяти метров. Течение Дуная в этом месте делало изгиб. Местность была неровная и покрытая густым лесом. На речном мысе правого берега реки и возвышался город.
Цимисхий, изучив полученную от лазутчиков информацию о состоянии укреплений города, о количестве его защитников, об имеющихся у них запасах продовольствия, принял решение отказаться от штурма и брать Доростол измором. Лев Диакон сообщает, что в крепости под командованием Святослава находилось около шестидесяти тысяч человек, забывая, что этой цифрой он ранее уже обозначал общую численность «тавро-скифов», отправившихся со Святославом в поход на Болгарию{524}. За прошедшие годы в условиях боев, которые все это время вели русы, их число должно было поубавиться. Поднепровье вряд ли посылало Святославу подкрепления (киевляне, как мы помним, были недовольны его далекими походами, да и значительное русское войско продолжало в это время пребывать на Нижнем Поволжье и Кавказе), а потому его единственным резервом оставались болгары, но на них теперь было мало надежды. Со всей Болгарии к Цимисхию продолжали являться послы от болгарских городов, умоляя о пощаде и принятии под власть империи. Кроме Доростола русы уже больше ничего не контролировали на Балканах. Скилица сообщает, что после поражения в битве 23 апреля Святослав, боясь мятежа в городе, приказал заковать в колодки и цепи «находившихся у него пленных болгар числом около двадцати тысяч»{525}. Как мы помним, еще во время наступления ромеев на Доростол Святослав засадил в тюрьму каких-то болгар. Поскольку речь у Скилицы идет об уже «пленных» болгарах, это могли быть те самые арестованные, которым теперь изменили режим содержания. Однако цифра в 20 тысяч вызывает сомнения. Напомню, что Лев Диакон такой же цифрой, явно преувеличенной, определяет численность болгар, посаженных на кол в Филиппополе.
Для Доростола эта цифра кажется чрезмерной. Мы не знаем, было ли таким все население города в то время. Для сравнения, во время осады Силистры русскими войсками в 1773-1774 годах город обороняли 30 тысяч человек. Не вызывает сомнений, что после захвата города русами значительная часть его населения покинула Доростол. Уехал оттуда и болгарский патриарх, имевший здесь ранее резиденцию. (Останься он в городе, это, несомненно, получило бы отражение в источниках.) Уж не посадил ли в колодки Святослав всех жителей Доростола? Если ему так хотелось обезопасить себя от них, то не проще ли было выставить их из города? Так, например, поступили русы с населением Бердаа во время похода 943/44 года. И кормить никого не надо было! Или Святослав опасался, что болгары пополнят армию осаждающих? Но ромеи не стремились привлекать к войне с русами болгар. Несмотря на присутствие в армии Цимисхия Бориса II, никаких «болгарских частей» за все время похода по Болгарии не возникло. Очевидно, цифра в 20 тысяч попросту придумана. Думаю, что и не все болгары в Доростоле были настроены против русов. Но чересчур полагаться на них Святослав не собирался.
Хотя я и назвал численность русов, засевших, по Льву Диакону, в Доростоле, преувеличенной, все-таки речь должна идти о нескольких десятках тысяч. Это косвенно подтверждается, с одной стороны, примерными цифрами потерь русов за предшествующий период войны, а с другой – тем упорством, с которым в последующем они будут отстаивать город. Значительная численность обороняющихся была «плюсом» для них в случае непродолжительной осады и «минусом», если осада затягивалась. Большой гарнизон требует большого количества провианта, и русы скоро должны были начать испытывать его нехватку. Продумав все это и выбрав правильную тактику, Цимисхий приказал начать строительство лагеря.
Для этого нужно было найти открытое место, с одной стороны, находящееся на разумном удалении от Доростола, с другой – позволяющее обозревать окрестности и контролировать передвижения неприятеля. Для лагеря не годились нездоровые заболоченные и лесные участки. Наметив подходящий холм, император велел выкопать вокруг него ров глубиной более двух метров. Вынутую землю относили на прилегающую к лагерю сторону, так что в результате получился высокий вал. На вершине насыпи укрепили копья и повесили на них соединенные между собой щиты. В центре поставили императорскую палатку, рядом разместились военачальники, вокруг – «бессмертные», далее – простые воины. По краям лагеря стояли пехотинцы, за ними – всадники. В случае нападения неприятеля пехота принимала на себя первый удар, что давало коннице время приготовиться к бою. Подступы к лагерю были защищены еще и искусно спрятанными ямами-ловушками с деревянными кольями на дне, разложенными в нужных местах металлическими шариками с четырьмя остриями, одно из которых торчало вверх. Вокруг лагеря натянули сигнальные веревки с колокольчиками и расставили пикеты (первые начинались на расстоянии полета стрелы от холма, где расположились ромеи){526}. Тщательность, с которой были проведены все эти работы, указывает на два важных обстоятельства: во-первых, Цимисхий опасался атаки русов, поскольку еще не имел над ними решающего перевеса в силах; во-вторых, ромеи собирались задержаться здесь надолго, иначе незачем было утомлять людей тяжелой работой. Никаких наступательных действий не предпринимали – император не хотел спугнуть врага слишком большой активностью. Его лагерь располагался перед Доростолом, а за городом нес свои воды Дунай, на берегу которого стояли ладьи русов, и им ничего не стоило, снявшись с якоря, уйти из крепости. Конечно, устье реки было закрыто, выйти в Черное море они не могли, но эта попытка осложнила бы ход войны, которая началась столь блестяще для ромеев. Василевс ждал скорого прихода к Доростолу страшных для русов огненосных судов. Их прибытие должно было запереть воинство Святослава в городе и превратить надежную крепость в смертельную ловушку.
Между тем ничего не подозревающий Святослав деятельно готовился к борьбе. Видя пассивность неприятеля, он принял это за проявление слабости и решил сам атаковать ромеев. Как-то вечером, когда в византийском лагере уже готовились ужинать, из восточных и западных ворот Доростола появились русы. Многих ромеев, до того видевших русов воюющими на кораблях или пешими, поразило, что часть из них была верхом. По приказу василевса восточные ворота караулил патрикий Петр, тот самый военачальник-скопец, пропавший из поля нашего зрения после первых боев во Фракии. Он вновь был в строю, более того, получил под свое командование фракийские и македонские части. Западные ворота стерег не менее грозный для русов Варда Склир, командовавший войсками, которые он привел с востока, после подавления мятежа Варды Фоки. Оба полководца, что называется, «не проспали» неприятеля. Видя, что «скифы» строятся в боевой порядок, ромеи напали на них. Русов прижали к крепостной стене, многих перебили, а остальные вернулись обратно в город. Святославу стало ясно, что его тщательно стерегут. Всю следующую ночь ромеи слышали из города какие-то завывания – это русы хоронили своих убитых. Желая не дать неприятелю опомниться, император собрал все свои силы и вывел их на равнину перед Доростолом. Он надеялся вызвать русов на новое сражение, но обороняющиеся только стреляли со стен по приближающемуся врагу и, используя имеющиеся у них метательные машины, бросали в ромеев камни. Дальше дело не пошло. То ли Святослав, прикинув свои силы, не решился принять бой, то ли после бессонной ночи уставшие русы не были готовы к нему физически. Но и из города они не уплыли, чем обрадовали Цимисхия{527}.
Наконец томительное ожидание императора подошло к концу – вдали показались корабли византийского флота. Одни из них везли продовольствие в лагерь ромеев, и хотя грузовых судов было очень много, а русы начинали испытывать лишения, связанные с осадой, не количество подвозимого провианта вызвало у осажденных настоящее потрясение, а огромное число огненосных триер, подходивших к Доростолу. Русы вспоминали рассказы стариков, участвовавших в походе Игоря на Царьград, о том кошмаре, который начался, когда на русские корабли обрушился «греческий огонь». Желая оправдать свою тогдашнюю неудачу, рассказчики наверняка еще и преувеличивали эффект, который производило страшное оружие ромеев. Впрочем, страх не парализовал осажденных. Чтобы обезопасить свой флот, русы подвели ладьи к городской стене в том месте, где Дунай протекал к ней особенно близко. Святославу стало ясно, что время упущено и уплыть из города не удастся. Это, вероятно, и подтолкнуло русов еще на одну отчаянную попытку нанести ромеям поражение на суше. На другой день после прибытия византийского флота ворота Доростола опять открылись и из них вышло гораздо большее число русов, чем в прошлый раз. Возглавлял их знаменитый Сфенкел. Был уже поздний вечер, почти ночь, и на этот раз нападение «варваров» стало полной неожиданностью для византийцев. Русы получили временный перевес, но вскоре ромеи опомнились и начали брать верх. В ходе сражения был убит Сфенкел, своей отчаянной храбростью наводивший на врагов ужас. Но даже потеряв предводителя, русы продолжали атаковать ромеев в течение всей ночи и следующего дня до полудня. Лишь когда по приказу Цимисхия конница отрезала им путь для возвращения в город, среди русов началась паника и они стали разбегаться кто куда. Ромеи преследовали и рубили обезумевших людей. После того как бой закончился, победители вернулись в лагерь и предались пирам. В тот день они особенно чествовали некого Феодора Лалакона, всадника, удивившего всех своей «устрашающей отвагой и телесной мощью». Он бился с неприятелем железной булавой и убил ею «множество врагов». Более всего впечатляла сила его удара – она была столь велика, что «удар булавы расплющивал не только шлем, но и покрытую шлемом голову»{528}. Несомненно, свой «талант» византийский боец смог проявить особенно ярко в ходе преследования русов, пытавшихся спастись бегством.
Как явствует из византийских источников, далеко не все русы верили в успех затеянного сражения. Святослав вообще остался в городе, предоставив действовать Сфенкелу, который, очевидно, и настаивал на вылазке. Эта деталь очень интересна в плане характеристики отношений между предводителями русов. С гибелью Сфенкела активность русов заметно снизилась. Вместе с этим вожаком, когда-то предводителем самостоятельного отряда, русы как бы «выплеснули» из города тех, кто выступал за активные действия и становился, таким образом, в оппозицию к большинству, возглавляемому Святославом. Судя по всему, князь предпочитал выжидать, не особенно веря в возможность победы над ромеями. С одной стороны, это было разумно, с другой – по-прежнему бесперспективно. Но видя перед собой хорошо укрепленный лагерь Цимисхия, куда ежедневно поступали подкрепления из византийских провинций, Святослав, зажатый в стенах Доростола, вряд ли мог предложить что-нибудь другое. Нет, князь не бездействовал. Он приказал выкопать вокруг стен города глубокий ров, и Доростол теперь стал практически неприступным. Почти ежедневно происходили и вылазки русов, часто заканчивавшиеся для осажденных успешно.
Однако у Цимисхия был еще один союзник, подвизавшийся непосредственно в Доростоле. Это голод, действие которого русы испытывали с каждым днем всё сильнее. Осада шла уже два месяца, запасы окончательно истощились, в городе находилось много раненых, и настроение, царившее среди людей Святослава, нельзя было назвать приподнятым. И тогда – то ли 23-го, то ли 28 июня{529} – русы решились на смелое предприятие. Выбрав темную ночь, когда разразилась страшная гроза с громом, молниями и сильным градом, Святослав лично вывел из города около двух тысяч человек и посадил их на ладьи. Они благополучно обошли флот ромеев (ни увидеть, ни даже услышать их из-за грозы было невозможно, да и командование флотом ромеев, видя, что «варвары» воюют только на суше, что называется, «расслабилось») и двинулись по реке за продовольствием. Можно представить себе изумление болгар, живших по течению Дуная, когда в их поселках вдруг вновь появились русы. Действовать необходимо было быстро, пока известие о произошедшем не дошло до ромеев. Спустя несколько дней, собрав зерновой хлеб, пшено и еще какие-то припасы, русы погрузились на суда и столь же незаметно двинулись к Доростолу. Ромеи так ничего бы и не заметили, если бы Святослав не узнал, что недалеко от берега пасутся лошади из войска византийцев, а рядом находятся обозные слуги, которые караулили коней, а заодно запасали дрова для своего лагеря. Высадившись на берег, русы бесшумно прошли через лес и напали на обозных. Практически вся обслуга была перебита, лишь кое-кому удалось спрятаться по кустам. В военном отношении эта акция не давала русам ничего, но ее дерзость позволяла напомнить Цимисхию о том, что от «проклятых скифов» все еще многого можно ожидать. Столь же успешно русы возвратились назад. Риск, которому себя подверг Святослав во время этой экспедиции, несомненно, поднял его авторитет среди соратников. Далеко не каждый из них отважился бы проплыть так близко от огненосных кораблей ромеев. Цимисхия же все произошедшее ввергло в страшный гнев. Он устроил разнос начальникам флота, грозил им смертью в случае, если что-то подобное повторится. Получив временное облегчение после доставки в город продовольствия, русы очень быстро ощутили на себе и негативные последствия этой акции. Ромеи перекопали все дороги, ведущие к Доростолу, везде выставили стражу, контроль за рекой был установлен такой, что из города на другой берег не могла без позволения осаждающих перелететь даже птица. И вскоре для измученных осадой русов и еще остававшихся в городе болгар настали по-настоящему «черные дни».
Цимисхий приказал подтащить к Доростолу осадные машины и беспрестанно метать за городскую стену камни. От них погибало много «скифов». Командование машинами было поручено магистру Иоанну Куркуасу, который уже упоминался в нашей книге то как военачальник, не сумевший из-за своей лени обеспечить безопасность Македонии от русов, то как мародер, грабивший болгарские церкви. И каждый раз ему все сходило с рук, ведь он приходился родственником самому Иоанну Цимисхию. Более всего магистра, конечно, привлекали пиры, которые устраивал в лагере василевс. О русах Куркуас думал, что, блокированные в городе, редко теперь показывавшиеся из-за своих стен и рва, они представляют собой не более чем мишени для камней, со свистом вылетающих из машин. Как-то утром бравый военачальник проснулся с привычной головной болью. Решив поправить здоровье, он выпил вина, отчего его опять начало клонить в сон. Превозмогая сонливость, магистр все же отправился к городским стенам, чтобы в очередной раз посмотреть, как выпущенные камни падают на Доростол. Каково же было его удивление и возмущение, когда он увидел «скифов», вышедших из города и устремившихся к камнеметам с явной целью их повредить. Не задумываясь ни секунды, он вскочил на коня и, увлекая своим примером сопровождавших его людей, понесся на «варваров». Те скоро заметили неуклюжего всадника. Более всего русам бросились в глаза его великолепное одеяние и вооружение, а также золото, которым щедро была украшена сбруя коня. Русам даже показалось, что к ним приближается сам василевс ромеев. Но вот конь оступился, попав в яму, и Куркуас упал на землю. Русы окружили его и изрубили на части своими топорами и мечами. Подоспевшие ромеи оттеснили русов от орудий, которые, в общем, не пострадали. Отрубленную же голову Куркуаса «скифы» унесли с собой в Доростол. Думая, что они убили самого императора, русы насадили голову магистра на копье и водрузили на стене так, чтобы она была видна осаждающим. Некоторое время в городе царило веселье; осажденным хотелось верить, что гибель василевса заставит греков убраться восвояси.
Между тем прошла середина июля, осада Доростола продолжалась уже почти три месяца, и в городе вновь начали строить планы нанесения удара по ромеям. На этот раз вылазку возглавил Икмор – человек огромного роста, имевший, подобно Сфенкелу, свою дружину{530}. Русы почитали его за второго после Святослава предводителя. Скилица сообщает, что Икмор «был уважаем всеми за одну доблесть, а не за знатность единокровных сородичей или в силу благорасположения» Святослава. Понять, что имел в виду хронист, непросто. Икмор мог иметь «знатных сородичей», даже быть князем, но пользоваться уважением прежде всего за свою доблесть. Но из этих слов можно сделать и другой вывод – о том, что, кроме доблести, Икмору похвастаться было нечем. И тогда перед нами вожак, которого вознесла до положения второго человека в балканской армии русов война и который привел с собой собранный им отряд воинов{531}. Увлекая за собой русов, Икмор крушил всех, кто оказывался на его пути. Казалось, равного ему в византийском воинстве не найдется. Приободрившиеся русы не отставали от своего предводителя. Так продолжалось до тех пор, пока к Икмору не устремился один из телохранителей Цимисхия – Анемас. Это был араб, сын и соправитель эмира Крита, за десять лет до этого вместе с отцом попавший в плен к ромеям и перешедший на службу к победителям. Подскакав к могучему русу, араб ловко увернулся от его удара и нанес ответный удар – к несчастью для Икмора, удачный. Опытный рубака отсек русскому вождю голову, правые плечо и руку. Увидев гибель своего предводителя, русы громко закричали, их ряды дрогнули, ромеи же, наоборот, воодушевились и усилили натиск. Вскоре русы начали отступать, а затем, закинув щиты за спину, побежали в Доростол. Ромеи вновь рубили убегающих, а их кони топтали «варваров». Наступившая ночь прекратила бойню и позволила уцелевшим пробраться в Доростол. И опять всю ночь со стороны города слышались завывания, там шли похороны убитых, чьи тела товарищи смогли вынести с поля боя{532}. Тела, оставшиеся лежать на земле, достались победителям. К удивлению тех, кто кинулся сдирать с мертвых «скифов» доспехи и собирать оружие, среди убитых в тот день защитников Доростола оказались женщины, переодетые в мужскую одежду. Кем они были – болгарками, примкнувшими к русам, или отчаянными русскими девами – былинными «поленицами», отправившимися в поход наравне с мужчинами, – сказать трудно.
В Доростоле давно уже воцарилось ощущение безнадежности происходящего. Поражение в последней битве только укрепило его. Нужно было принимать какое-то решение, но сделать это в одиночку Святослав не мог. Сбежавшееся со всей Болгарии в Доростол русское войско по-прежнему представляло собой объединение больших и малых отрядов и дружин. Большинство предводителей (князей и воевод), возглавлявших эти формирования при их отправке на Балканы в августе 968 года, погибли в ходе боев во Фракии, Македонии, в сражениях за Преслав и Доростол. Выше мы уже говорили о судьбе наиболее видных из них – Икмора, Сфенкела и еще нескольких, неизвестных по именам «знатных скифов», превосходивших «прочих воинов большим ростом и блеском доспехов». Несомненно, число убитых вожаков русов было гораздо больше. Но кое-кто оставался жив, и вот их-то Святослав созвал на совет, который состоялся после битвы – на рассвете следующего дня. «Одни высказали мнение, что следует поздней ночью погрузиться на корабли и попытаться тайком ускользнуть, потому что невозможно сражаться с покрытыми железными доспехами всадниками, потеряв лучших бойцов, которые были опорой войска и укрепляли мужество воинов. Другие возражали, утверждая, что нужно помириться с ромеями, взяв с них клятву, и сохранить таким путем оставшееся войско. Они говорили, что ведь нелегко будет скрыть бегство, потому что огненосные суда, стерегущие с обеих сторон проходы у берегов Истра (Дуная. – А. К.), немедленно сожгут все их корабли, как только они попытаются появиться на реке»{533}. Выслушав мнения всех, речь произнес Святослав, и его слово оказалось решающим. Согласно рассказу Льва Диакона, князь «глубоко вздохнул и воскликнул с горечью: „Погибла слава, которая шествовала вслед за войском росов, легко побеждавшим соседние народы и без кровопролития порабощавшим целые страны, если мы теперь позорно отступим перед ромеями. Итак, проникнемся мужеством, которое завещали нам предки, вспомним о том, что мощь росов до сих пор была несокрушимой, и будем ожесточенно сражаться за свою жизнь. Не пристало нам возвращаться на родину, спасаясь бегством; мы должны либо победить и остаться в живых, либо умереть со славой, совершив подвиги, достойные доблестных мужей!“»{534}.
Эта пафосная речь в духе героев классической древности, явно вложенная в уста русского князя любителем подобных сюжетов Львом Диаконом, удивительным образом напоминает речь, включенную в «Повесть временных лет», которую Святослав якобы произнес после вторичного покорения Переяславца, во время наступления на греков. (Помните: «Нам некуда уже деться», «не посрамим земли Русской» и т. д.) Высказывалось даже предположение, что помещенную в летописи речь следует связывать не с переяславецкой, как в летописи, а с доростольской битвой{535}, хотя ни о какой доростольской битве летописец даже не подозревал, впрочем, как и о самой героической обороне Доростола (но об этом позже). Можно, конечно, попытаться объяснить сходство тем, что в распоряжении русского книжника был некий иностранный источник (например, болгарский, как считал А. А. Шахматов). Но его существование сомнительно, учитывая то, насколько летописный рассказ о балканском походе Святослава в целом отличается от повествования византийских авторов. А можно согласиться с Н. И. Костомаровым, считавшим, что сходство это «вовсе не зависит от какого бы то ни было заимствования или исторического признака. Содержание этой речи до того банально, до того общеходячее, что в описаниях битв во всех частях земного шара можно встретить подобное»{536}. (Впрочем, в этих словах человека XIX века слышится раздражение в отношении летописной фразы, которой в нем «в детстве возбуждали патриотические чувства».) Достоверным же, по всей вероятности, является лишь то, что в ходе возникших споров Святослав, желавший продолжения войны с ромеями, остался в одиночестве, но ему все же удалось убедить своих товарищей решиться на еще одну битву с византийцами и либо победить врагов, либо умереть со славой.
На следующий день (21 июля) все русы, еще способные носить оружие, во главе со Святославом вышли из города. Лев Диакон говорит, что это произошло ближе «к заходу солнца», а Скилица считает, что битва началась на рассвете. Он же добавляет любопытную деталь: «Чтобы никому не было возможности спастись бегством в город, они заперли за собой ворота и бросились на ромеев»{537}. И в предыдущих сражениях с ромеями русы проявляли немалое мужество, но то, что они творили в тот день, не поддается никакому описанию. Был жаркий день, и византийцы в тяжелых доспехах начали поддаваться неукротимому натиску русов. Для того чтобы спасти положение, император лично примчался на помощь в сопровождении отряда «бессмертных». Пока он отвлекал на себя удар неприятеля, на поле боя удалось доставить мехи, наполненные вином и водой. Приободрившиеся ромеи с новыми силами начали наступать на русов, но – безуспешно. И это было странно, ведь преимущество было на их стороне. Наконец Цимисхий понял причину. Потеснив русов, его воины попали в тесное место (все вокруг было в холмах), отчего «скифы», уступавшие им по численности, выдерживали атаки. Стратигам было приказано начать притворное отступление, чтобы выманить «варваров» на равнину. Увидев бегство ромеев, русы радостно закричали и устремились за ними. Добравшись до условленного места, воины Цимисхия остановились и встретили догонявших их русов. Натолкнувшись на неожиданную стойкость греков, русы не только не смутились, но стали нападать на них с еще большим остервенением. Иллюзия успеха, которую создали своим отступлением ромеи, только распалила измученных доростольских сидельцев. Взаимное ожесточение сторон характеризует следующий эпизод сражения. Среди стратегов, командовавших отступлением византийской конницы, был некий Феодор из Мисфии. Конь под ним был убит, Феодора окружили русы, жаждавшие его смерти. Стараясь подняться, стратиг, человек богатырского телосложения, схватил кого-то из русов за пояс и, поворачивая его во все стороны, как щит, сумел защититься от ударов мечей и летящих в него копий. Тут подоспели воины-ромеи, и на несколько секунд, пока Феодор не оказался в безопасности, все пространство вокруг него превратилось в арену схватки между теми, кто во что бы то ни стало хотел его убить, и теми, кто хотел его спасти.
Цимисхий был крайне раздосадован и большими потерями, которые несло его войско, и тем, что исход сражения, несмотря на все усилия, оставался неясен. Скилица рассказывает даже, что император «задумал решить дело поединком. И вот он отправил к Свендославу (Святославу. – А. К) посольство, предлагая ему единоборство и говоря, что надлежит решить дело смертью одного мужа, не убивая и не истощая силы народов; кто из них победит, тот и будет властелином всего. Но тот не принял вызова и добавил издевательские слова, что он, мол, лучше врага понимает свою пользу, а если император не желает более жить, то есть десятки тысяч других путей к смерти; пусть и изберет, какой захочет. Ответив столь надменно, он с усиленным рвением готовился к бою»{538}. Весь этот эпизод выглядит странно. Сложно представить и то, как к Святославу, яростно рубившемуся рядом с простыми воинами, пробирается византийский посол, и то, как князь посылает его с ответом к василевсу. А замечание хрониста о том, что, отправляя Цимисхия) отказ, князь «готовился к бою», вообще относит весь эпизод ко времени до выхода русов из крепости и в этих условиях выглядит еще более неестественным.
Гораздо достовернее сообщение источника о другом решении императора – направить магистра Варду Склира, патрикиев Петра и Романа (последний приходился внуком императору Роману Лакапину) обойти неприятеля. Они должны были, отрезав «скифов» от Доростола, ударить им в спину. Маневр этот был выполнен успешно, но и он не привел к перелому в сражении. Среди тех, кто устремился на русов с тыла, был и сын критского эмира Анемас, незадолго перед тем убивший Икмора. Ему страстно хотелось прибавить к этому подвигу новый, еще более яркий, – расправиться с самим Святославом. Когда внезапно напавшие на русов ромеи ненадолго внесли дезорганизацию в их строй, отчаянный араб подлетел на коне к князю и ударил того мечом по голове. Святослав повалился наземь, он был оглушен, но остался жив. Удар араба, скользнув по шлему, лишь сломал князю ключицу. Кольчужная рубаха защитила его. Нападавшего вместе с его конем пронзило множество стрел, а затем упавшего Анемаса, все еще пытавшегося драться, изрубили окружившие его русы. Между тем они вновь начали теснить ромеев. И опять императору с копьем наперевес пришлось повести в бой гвардию. Увидев Цимисхия, его воины приободрились. В сражении наступал решительный момент. И тут случилось чудо. Сначала из-за спины наступавшего византийского войска задул сильный ветер, начался настоящий ураган, принесший с собой тучи пыли, забивавшей глаза русам. А затем пошел страшный ливень. Наступление русов остановилось, закрывавшиеся от песка воины стали легкой добычей для неприятеля. Потрясенные вмешательством свыше ромеи уверяли потом, что видели скакавшего впереди них всадника на белом коне. При его приближении русы якобы падали, как скошенная трава. Позднее многие «опознали» в чудесном помощнике Цимисхия святого Феодора Стратилата.
Если же обратиться к явлениям объяснимым, то можно признать, что наступление ромеев, совпавшее с началом урагана, опрокинуло русов. С тыла на них давил Варда Склир. Растерявшиеся русы оказались в окружении и побежали к городу. Прорываться сквозь ряды противника им не пришлось. Судя по всему, византийцы использовали широко известную в их военной теории идею «золотого моста». Суть ее сводилась к тому, что для разбитого неприятеля оставлялась возможность для спасения бегством. Понимание этого ослабляло сопротивление противника и создавало максимально благоприятные условия для его полного разгрома{539}. Как водится, ромеи гнали русов до самых городских стен, безжалостно рубя. Среди тех, кто сумел спастись, оказался и Святослав. Он был сильно изранен – кроме удара, который ему нанес Анемас, в князя попало несколько стрел, он потерял много крови и едва не попал в плен. От этого его спасло только наступление ночи.
Сражение закончилось ужасающим разгромом русского войска. Согласно Льву Диакону, «в этой битве полегло пятнадцать тысяч пятьсот скифов, на поле сражения подобрали двадцать тысяч щитов и очень много мечей»{540}. Известно, что византийские хронисты были склонны преувеличивать потери русов, но эта цифра, основанная на подсчете щитов и мечей, кажется вполне достоверной. Чуть ниже Лев Диакон пишет, что после заключения мира с греками Иоанн Цимисхий выделил русам хлеб – «по два медимна на каждого. Говорят, что из шестидесятитысячного войска русов хлеб получили только двадцать две тысячи человек, избежавшие смерти, а остальные тридцать восемь тысяч погибли от оружия ромеев»{541}. Последние цифры находят себе подтверждение в «Повести временных лет», где сказано, что на вопрос греков о численности его войска Святослав ответил: «Нас двадцать тысяч», но «десять тысяч он прибавил, ибо было русских всего десять тысяч». Получается, что Святослав, не согласившись с мнением большинства и взяв на себя ответственность перед русскими вождями, погубил в сражении под Доростолом большую часть войска русов (более 15 тысяч против 10 тысяч, оставшихся в живых). И это притом что поведение самого Святослава в этом сражении кажется не безупречным. Дело даже не в отказе князя от поединка с Цимисхием (как уже говорилось, этот эпизод скорее всего просто вьщуман греками, желавшими унизить предводителя русов). Важнее другое – русы приняли решение в случае поражения не возвращаться в Доростол, а погибнуть с честью. Инициатором этого решения был, судя по всему, сам Святослав. И большинство русов – и простых воинов, и их вожаков, сражавшихся в первых рядах, увлекая за собой остальных, – с честью выполнили данное обещание. Какие же чувства могли испытывать немногие чудом уцелевшие вожди русов (если из них вообще кто-то уцелел) и рядовые бойцы к Святославу, не принявшему мнение совета, погубившему огромное число русов и спасшемуся вместе с беглецами, хотя его место было среди убитых, там, где он и обещал остаться в случае поражения?!
Видя невозможность продолжать сопротивление дальше и, вероятно, не желая раздражать своих людей, Святослав решил заключить с греками мир.
И византийские источники, и «Повесть временных лет» отмечают, что именно русская сторона выступила инициатором мирных переговоров. Лев Диакон сообщает об условиях, предложенных Святославом: русы уступят ромеям Доростол, освободят всех пленных и покинут Болгарию. Взамен князь просил, чтобы его войско снабдили продовольствием на дорогу, а византийский флот позволил ему отплыть домой. Для Святослава было также важно выговорить условие, чтобы в будущем византийские власти пускали в свои земли русских купцов и содержали их в Константинополе на прежних условиях. Иоанн Цимисхий с радостью согласился вести переговоры – осада шла уже более трех месяцев, ромеи понесли большие потери (хотя византийские хронисты дают столь смехотворные цифры потерь со своей стороны, что приводить эту тенденциозную статистику просто неприлично), а трехмесячное стояние под Доростолом утомило оставшихся в живых. Императора ждали дела на востоке, неопределенными оставались отношения с немцами. И он отказался от своего первоначального плана не выпускать русов из Болгарии живыми. Поэтому, признавая ромеев победителями в войне, не следует говорить о полной капитуляции русов{542}.
Византийские источники, повествующие о ходе войны, несомненно, весьма тенденциозны. Однако, отмечая это обстоятельство, нельзя не признать, что их тенденциозность блекнет в сравнении с летописным рассказом. По летописи выходит, что Святослав победил греков, но, видя недостаточность своих сил, решил вернуться восвояси, за большей дружиной. «И послал послов к царю в Доростол, где в это время находился царь, – читаем в „Повести временных лет“, – говоря: „Хочу иметь с тобой твердый мир и любовь“. Царь же, услышав это, обрадовался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял дары и стал думать со своей дружиной, говоря: „Если не заключим мир с царем и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А Русская земля далеко, печенеги с нами воюют, и кто нам тогда поможет? Заключим же с царем мир: ведь они уже обязались платить нам дань, – этого с нас и хватит. Если же перестанут платить нам дань, то снова, собрав множество воинов, пойдем из Руси на Царьград“. И была люба речь эта дружине, и послали лучших людей к царю, и пришли в Доростол, и сказали о том царю. Царь же на следующее утро призвал их к себе и сказал: „Пусть говорят послы русские“. Они же начали: „Так говорит князь наш: ‘Хочу иметь полную любовь с греческим царем на все будущие времена’“. Царь же обрадовался и повелел писцу записывать все сказанное Святославом на хартию…»
Перед нами патриотическое по духу, но содержащее мало исторических реалий сообщение, к тому же крайне противоречивое. Князь посылает к царю послов, царь радуется и отправляет русам дары, но Святослав, как бы позабыв о своих предложениях, начинает думать – заключать ему мир или нет. Летописцу очень важно доказать, что и в этот раз греки добились мира с трудом. Наконец князь вновь отправляет послов к императору и они заключают с окончательно обрадованным царем мир «на все будущие времена». Особенно поражает в летописном рассказе сообщение о том, что это царь, а не Святослав, во время переговоров находился в Доростоле (что подчеркивается дважды). Доростол упоминается летописцем в весьма странном контексте. Впрочем, понять, почему так произошло, позволяет русско-византийский договор, вставленный в летопись сразу после рассказа про мирные переговоры. Перед нами юридический документ (поздняя копия, сделанная с грамоты X века), извлеченный из какого-то архива, переведенный на русский и, без существенных изменений, переписанный летописцем{543}. По своей форме он не только ярко выделяется на фоне преданий о балканской войне Святослава, которые содержатся в «Повести временных лет», но даже и противоречит им. Именно этот договор делает летописный текст важнейшим нашим источником, даже сравнительно с историями византийских писателей. Приведу текст договора полностью.
«Список с договора, заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде, писано при Феофиле синкеле{544} к Иоанну, называемому Цимисхием, царю греческому, в Доростоле, месяца июля, 14 индикта, в лето 6479. Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором этим клятву мою: хочу вместе со всеми подвластными мне русами, с боярами и прочими иметь мир и истинную любовь со всяким великим царем греческим, с Василием и с Константином, и с боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не поведу иноплеменников на страну вашу, ни на ту, что находится под властью греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну Болгарскую. И если иной кто замыслит против страны вашей, то я буду ему противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим царям, и со мною бояре и все русы, да соблюдем мы неизменным договор. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от Бога, в него же веруем, в Перуна и в Волоса, скотия бога, и да будем желты, как это золото, и пусть посечет нас собственное оружие{545}. Не сомневайтесь в искренности того, что мы обещали вам ныне и написали в хартии этой и скрепили своими печатями».
При чтении первых строк договора становится понятным, почему летописец поместил Иоанна Цимисхия в Доростоле. Книжник выстроил предшествующее повествование, основываясь на фольклорных материалах, в которых русский герой побеждает всех своих врагов, а главным городом Болгарии оказывается известный на Руси Переяславец на Дунае. Но получив в свое распоряжение юридический документ (договор 971 года), летописец наткнулся в нем на упоминание о Доростоле{546}. Возник вопрос: если Святослав находился в «Переяславце», то почему текст договора русы составляли в Доростоле? Вывод напрашивался сам собой – значит, в Доростоле находился Цимисхий! Чтобы согласовать свое предыдущее повествование с договором, книжник и вставил в текст путаный рассказ о неожиданном решении Святослава помириться с греками, об отправлении русами послов к царю в Доростол (а куда же еще, раз так и написано в договоре?). Год, обозначенный в договоре, позволил сводчику датировать факты летописной биографии нашего князя, откладывая по одному году на каждое событие.
Этот договор по форме и объему сильно отличается от предыдущего соглашения, заключенного русами и ромеями в 944 году. В договоре 971 года говорится, что он составлен в присутствии самого Святослава и воеводы Свенельда. Правда, далее по тексту видно, что договор заключен от имени одного Святослава и все условия для русской стороны составлены в единственном числе. Имя Свенельда, известного нам по событиям 945 года, поставленное в заголовке, но ни разу не упомянутое в тексте договора, попало туда не совсем понятным образом. Скорее всего, это поздняя вставка, сделанная одним из летописцев в готовый текст. Позднейшей вставкой является и прозвище императора Иоанна – Цимисхий, вряд ли имевшееся в оригинале договора 971 года, но появившееся или в греческой копии второй половины XI – начала XII века, или в русском переводе{547}. Напомню, что договор 944 года заключен от имени двадцати пяти князей, которые сообща управляли Русью. Лишь в самом конце текста договора 971 года сообщается, что в его подписании участвовала некая группа русов (имеется в виду множественное число – «мы обещали», «написали в хартии», «скрепили своими печатями»). Кто же оставил оттиски со своих печатей-перстней в договоре 971 года? Кроме Святослава в тексте соглашения упоминаются еще какие-то русские бояре – скорее всего, оставшиеся в живых воеводы русского воинства, все еще занимавшего Доростол. Возможно, к договору были приложены их печати. Но вероятнее всего, это были печати русских послов, прибывших на переговоры в византийский лагерь, со слов которых греки записали обещания Святослава{548}.
Содержание договора 971 года также контрастирует с договором 944 года. Договор, заключенный после нападения русского войска во главе с Игорем на Константинополь, подробно регламентировал условия пребывания русских послов и купцов в столице Империи ромеев, предписывал им определенные правила поведения, оговаривал наказания, которые должны были понести русы в случае нарушения этих правил, и т. д. Договор же Святослава сводится к трем положениям: князь клянется, во-первых, соблюдать мир с греческими царями; во-вторых, не нападать на их страну самому и не наводить других; в-третьих, помогать грекам воевать с их врагами. Любопытно, что Святослав отделяет от Византии не только «страну Болгарскую», но и «Корсунскую страну и все города тамошние». Очевидно, слабо контролировавшаяся из центра империи родина мятежного Калокира казалась князю особой страной. Вот, собственно, и всё. Один историк права конца XIX века даже высказался в том смысле, что договор 971 года «не имеет никакого значения в смысле памятника права»{549}. Впрочем, большая часть исследователей с ним не согласилась, обратив внимание на сообщение Льва Диакона и Скилицы о том, что в ходе русско-византийских переговоров затрагивались вопросы, касающиеся еще и русской торговли в империи. Как видим, в договоре 971 года нет ничего по этому вопросу. Отсюда следовал вывод, что договор отражал только обязательства русской стороны не воевать, по существу – клятву Святослава, данную им в походных условиях, можно сказать, на «поле боя». А в остальном якобы возобновлялись положения договора 944 года{550}. С последним можно согласиться лишь отчасти. Несомненно, что русский вариант договора 971 года не отражает обязательства, взятые на себя ромеями, а таковые были (обещание выпустить русов из Доростола, снабдить их продовольствием и т. д.). Однако непонятно, почему не дошедший до нас византийский вариант договора 971 года должен обязательно содержать условия договора 944 года? Ведь прошло уже без малого 30 лет, сменилось целое поколение государственных деятелей, в 950-960-х годах отношения Киева и Константинополя развивались весьма динамично, при Ольге и Константине Багрянородном в них были периоды улучшения и ухудшения, многое за эти годы изменилось. Кстати, то, что Святослав не соблюдал условия, подписанные когда-то его отцом, видно из следующего факта – возвращаясь на Русь, князь зазимовал в Белобережье, а это было запрещено по условиям договора 944 года. Думать, что князь мог сразу же после поражения нарушить одно из только что подписанных условий договора, вряд ли правильно{551}. Он ведь не вернулся к Керченскому проливу, что было выходом из того сложного положения, в котором он оказался на обратном пути, – это противоречило данному русами обещанию не появляться вблизи «Корсунской страны». Кроме того, в договоре 971 года нет ссылок на какое-то другое соглашение русов с греками. Не стоит забывать, что условия пребывания русов, являвшихся по торговым делам в Константинополь, гарантировались не только византийской, но и русской стороной. Поэтому если бы Святослав брал в этом отношении на себя какие-то обязательства, они были бы отражены в договоре. Почему их нет? Потому, что тут Святослав ничего обещать не мог. Ведь он покинул Киев навсегда, оставив вместо себя Ярополка. И потому в его договоре нет ни одного положения, которое касалось бы Киевской Руси – Поднепровья. Князь оказался вне этой Руси, и потому он мог только пообещать за себя, за своих уцелевших бояр-воевод и русов-воинов никогда не воевать с империей. Договор ромеи заключали со Святославом лишь как с вождем десяти тысяч удальцов, все еще сидевших в Доростоле, по существу – с предводителем бродячей дружины, но никак не с правителем Руси{552}. Что касается Поднепровья, то там, вероятнее всего, «политическая» жизнь шла прежним чередом – Ярополк как-то выстраивал отношения с русскими князьями-союзниками. Относительно же сообщения византийских историков о попытке князя обсудить возможность появления русов в Константинополе по торговым делам скажу, что и оно могло волновать воинов Святослава, – ведь сегодня они воевали и грабили, а завтра вполне могли начать торговать (тем же награбленным). На то они и русы X века!
Византийцы снабдили войско Святослава продовольствием на дорогу – по два медимна на человека (около 20 килограммов). Если верить «Повести временных лет», в ходе переговоров Святослав обманул греков, преувеличив численность своих людей вдвое. Так логичнее всего было поступить, уже уходя из Болгарии. Судя по всему, об этом «подвиге» нашего князя (напомню: обмануть врага, по мысли летописца, – подвиг) также было сложено предание, которое книжник вставил в летопись, но поместил не совсем к месту – в рассказе о периоде максимальных успехов Святослава. Но если в предании отразился все же имевший место исторический факт, то на каждого из воинов Святослава, покидавших Доростол, пришлось по 40 килограммов припасов. Такого запаса им могло хватить примерно на три месяца – вполне достаточно для самого тяжелого путешествия. Византийцам очень хотелось, чтобы Святослав побыстрее убрался из Болгарии.
Напоследок князь захотел лично встретиться с василевсом ромеев. Лев Диакон помещает в своей «Истории» описание этой встречи: «Государь не уклонился и, покрытый вызолоченными доспехами, подъехал верхом к берегу Истра, ведя за собою многочисленный отряд сверкавших золотом вооруженных всадников. Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос – признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал»{553}. Все описанные детали во внешности Святослава противоречили византийским нормам самым вопиющим образом – «ромеи стригли волосы только по случаю траура или судебного осуждения. Ходить стриженым представлялось уделом шута или фокусника. Усы мужчины, видимо, брили, зато бороды отпускали. Наконец, серьги среди мужчин носили только дети и моряки»{554}. Неоднократно исследователями подчеркивалось, что во внешности князя нет ничего норманнского. В ней, скорее, чувствуется влияние степи{555}. Этот облик Святослава неоднократно воспроизведен на картинах и скульптурных изображениях князя. Таким Святослав представлен и в кинематографе («Легенда о княгине Ольге», киностудия им. А. П. Довженко, режиссер Ю. Ильенко, 1983 год). Однако не следует забывать, что Лев Диакон не был участником похода Иоанна Цимисхия в Болгарию и видеть Святослава не мог. Скилица, например, ничего не говорит о внешности русского князя, хотя тоже сообщает, что тот встретился с императором. Можно, конечно, предположить, что описание Святослава Лев Диакон сделал со слов участников похода или взял из некого источника, которого не было в распоряжении его коллеги. Но возможно и другое объяснение. Приведу любопытное сообщение, которое оставил монах-доминиканец Юлиан в 1237 году, незадолго перед нашествием татар проезжавший через Тамань в Поволжье. Он сообщил, что из Константинополя он и его спутники «прибыли в землю, которая называется Зихия, в город, именуемый Матрика, где князь и народ называют себя христианами, имеющими книги и священников греческих». Далее Юлиан помещает сведения о том, что у знатных людей «Матрики» (бывшей Тмутаракани) существует обычай «в знак знатности оставлять немного волос над левым ухом, обривая всю голову»{556}. Учитывая известное стремление Льва Диакона показать свою ученость, а также то, что он помещал родину русов в районе Керченского пролива, можно предположить, что византийский автор, зная, как должны были выглядеть местные знатные русы, использовал эту информацию при описании Святослава. Лев думал, что русский князь мог выглядеть только так. В какой степени Святослав был похож на этот портрет, сказать сложно. Но и это еще не все. Историки давно обратили внимание на то, что описание наружности Святослава напоминает описание Приском Панийским (V век) Аттилы, вождя гуннов{557} Лев Диакон во многом подражал этому древнему автору, а Приск называл гуннов «скифами», так же как Диакон – русов. Думая, что всякий предводитель «скифов» должен выглядеть, подобно Аттиле, Лев мог перенести это описание на Святослава. Сомнение вызывает и то, что Святослав вскоре после полученных в бою ранений мог вообще грести наравне со своими «приближенными»… Впрочем, все это только предположения{558}.
После встречи Святослава с Цимисхием русы погрузили в ладьи свою добычу и покинули Доростол, оставляя Болгарию ромеям. Невеселым было возвращение Святослава в Киев. С потерей владений на Дунае рухнула его надежда обрести здесь «середину» своей земли. Нужно было возвращаться в Поднепровье, где его никто не ждал.
Мы приближаемся к финалу нашего повествования. Скилица сообщает, что Святослав попросил Иоанна Цимисхия отправить посольство к печенегам, чтобы те пропустили русов, возвращавшихся восвояси, через свои владения. Для этого к кочевникам был направлен Феофил, епископ Евхаитский (вышеупомянутый синкел Феофил, который участвовал в составлении русско-византийского договора). Посол успешно выполнил свою миссию, в том смысле, что он заключил с печенегами договор о союзе. Однако пропустить Святослава в Киев печенеги отказались, якобы обижаясь на него за то, что князь подписал мир с Византией. В результате кочевники устроили русам засаду. Объяснение странное – ведь сами-то печенеги помирились с ромеями. Поэтому в литературе встречается утверждение, что епископ Евхаитский как раз и натравил печенегов на князя, выполняя тайное задание своего государя{559}. Святослав кажется простаком, не понимающим, что от неприятеля всего можно ожидать. Между тем «Повесть временных лет», в общем, не упускающая возможности отметить коварство греков, ничего не знает о византийском посольстве к печенегам, зато знает о засаде, которую устроили кочевники Святославу на днепровских порогах, и обвиняет во всем болгар («переяславцев»), якобы пославших сказать печенегам: «Идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа». И вот тогда-то враги обступили пороги. Несомненно, что в летописном рассказе есть неточности – пленных ведь Святослав отпустил, – но в целом эта версия также имеет право на существование.
В окружении русского князя нашелся человек, который попытался его спасти. «Сказал ему воевода отца его Свенельд: „Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги“». Но князь не послушался старика – ему было жаль бросать добычу, находившуюся в ладьях. Упоминание в летописном предании Свенельда объясняет то, как он появился в тексте договора 971 года. До эпизода с возвращением русов через печенежскую засаду летопись ничего не сообщает о Свенельде как об участнике балканского похода русов. Здесь же он возникает сразу в роли ближайшего советника Святослава. Правда, в повествованиях византийских историков упоминается Сфенкел (Сфангел), погибший в сражении под Доростолом. Учитывая сходство имен этих предводителей русов, многие исследователи признают тождество Свенельда и Сфенкела (Святослава византийцы именуют «Сфендославом», могли и Свенельда переделать в «Сфенкела»). Историю героической гибели русского воеводы в бою с ромеями они считают вымыслом или ошибкой Льва Диакона и Скилицы – Сфенкел-Свенельд мог быть только тяжело ранен. Впрочем, другие историки различают этих двоих, ссылаясь на убедительность рассказа о гибели Сфенкела и на явное отличие в возрасте между стариком Свенельдом (воеводой Игоря) и богатырем Сфенкелом. Приходится признать, что обе стороны одинаково убедительны, и отнести этот вопрос к разряду неразрешимых…{560}
Не послушавшись Свенельда, Святослав пошел дальше, но вскоре понял, что через пороги, где засели печенеги, пройти нельзя. Тогда князь «остановился зимовать в Белобережье. И кончилась у них пища, и настал великий голод, так что по полугривне стоила конская голова. И тут перезимовал Святослав»{561}. Наступила весна 972 года. Не имея больше возможности оставаться в устье Днепра, русы сделали отчаянную попытку пробиться через засаду печенегов. Кажется, измученные люди были поставлены в безвыходное положение – весной, даже если бы они захотели обойти опасное место, бросив ладьи, они уже не могли этого сделать из-за отсутствия коней (которые были съедены). Возможно, князь ждал весны, рассчитывая, что во время весеннего половодья пороги сделаются проходимыми и ему удастся проскочить засаду, сохранив при этом добычу{562}. Итог оказался печальным – большая часть русского войска была перебита кочевниками, в бою пал и сам Святослав. На одной из миниатюр Радзивиловской летописи изображена сцена гибели русов. Мы видим какое-то узкое место, то ли между двумя берегами, то ли между берегом и порогом (очертания берега прописаны художником очень отчетливо, но, возможно, это просто символическое изображение порогов); на обоих берегах стоят печенеги (слева – пешие, справа – конные) и забрасывают ладью каменьями (это может быть символическое изображение русского флота или одной конкретной ладьи, на которой размещался Святослав). Они рубят русов саблями, над их головами возвышается много копий. Нападающих явно больше, чем русов. А над русской ладьей развевается знамя красного цвета; видно рулевое весло, которое сжимает в руках кормчий. В центре ладьи – фигура человека в княжеской шапке. Это Святослав. Его окружает дружина в шлемах, они закрываются длинными щитами и защищаются мечами. Средневековому художнику удалось замечательно передать отчаянную схватку, исход которой, в общем-то, был предрешен изначально{563}. Всех этих деталей нет в летописном тексте, и мы можем предположить, что у автора была какая-то дополнительная информация, послужившая материалом для миниатюры.
«Повесть временных лет» сообщает, что печенежский князь Куря взял себе отрубленную голову князя, «сделал чашу из черепа, оковав его; и пили из него (печенеги. – А. К.). Свенельд же пришел в Киев к Ярополку». «История» Льва Диакона содержит сообщение, аналогичное летописному: печенеги «перебили почти всех росов, убили вместе с прочими Сфендослава, так что лишь немногие из огромного войска росов вернулись невредимыми в родные места»{564}. Судьба черепа князя заинтересовала летописца не случайно. В некоторых поздних летописях – Ермолинской (вторая половина XV века), летописных сводах 1497 и 1518 годов – не только сообщается, что печенеги сделали золотую чашу из черепа князя, но и приводится надпись на ней: «Чужих ища, своя погуби»{565}. Львовская летопись (XVI век) еще больше «удлиняет» эту надпись: «Чужих паче силы жалая, и своя си погуби за премногую его несытость»{566}. В Тверском летописном сборнике XVI века соответствующее место утрачено (вырезаны два листа), но в другой летописи, сходной с Тверской, к фразе «чужих ища, своя погуби» добавлен комментарий: «…и есть чаша сия и доныне хранима в казне князей Печенезских, пиаху же из нее князи со княгинею в чертозех, егда поимаются, глаголющее сице: каков был сии человек, его же лоб (череп. – А. К.) есть, таков буди и родившее от нас. Тако же и прочии вой его лби изоковаше сребром и держаху у себя, пиящю з них»{567}. Как видим, какой-то поздний книжник решил, что не только череп Святослава, но и черепа всех его воинов-героев печенеги разобрали на сувениры. Но к чему все эти книжные игры с черепами? Фольклорист Р. С. Липец, разбирая указанный эпизод, отметила имеющееся в нем противоречие. В летописях сообщается, что «из черепа Святослава печенежский князь вместе с княгиней пили перед соитием, чтобы зачатый ребенок получил свойства хотя поверженного, но могучего и славного врага». Здесь, «в воинских обычаях и военной магии», слились воедино стремление «подчеркнуть свою победу, воспользоваться посмертно свойствами врага и почитание его храбрости». При этом, «так как ценилась голова именно храбрых воинов, то есть обладающих наиболее нужным в воинской среде качеством, нередко и пить из такой чаши давали только „хорошим воинам“»{568}. А потому надпись, которую придумали поздние летописцы, здесь явно лишняя: «Везде эти надписи делаются с целью поношения. В летописном сказании надпись на чаше также носит отпечаток жестокой иронии и мало гармонирует с магическим использованием чаши Курей, как сакрального и благодательного сосуда»{569}. Впрочем, даже и без унизительной надписи летописная история гибели Святослава выглядит как событие закономерное и неизбежное – расплата за грехи князя. Ведь оценка, данная Святославу летописцами, в целом отрицательная. В походах князя книжники видели лишь разорение, ущерб земле и людям. Не случайно летописец особо подчеркивал, что Святослав совершал подвиги с помощью одной своей дружины, а не во главе объединенных сил всех подвластных Руси племен, как его предшественники и преемники. Основная масса русов оказывается непричастной к далеким предприятиям князя. А после отказа князя креститься все последующие его поступки – лишь очередные шаги, которые приближают Святослава к расплате. Язычник, ругавший христиан и грубивший своей святой матери, «лютый муж», променявший Русь на чужую землю и находивший упоение в войнах, сребролюбец, рискующий своей жизнью ради приобретенного богатства, просто не мог закончить свои дни иначе{570}. И потому каждое новое поколение летописцев, переписывая в свой свод «Повесть временных лет», старалось еще раз уколоть Святослава. В результате и появлялись «надписи на черепах», процитированные выше.
На этом можно было бы и закончить, если бы не последний вопрос, возникающий при чтении летописной статьи о гибели Святослава на днепровских порогах. Каким образом сумел спастись Свенельд? М. М. Щербатов считал, что Свенельд «спасся в нещастном бою, бывшем в порогах, и пришел уведомить Ярополка о смерти его отца»{571}. Это положение находит подтверждение в словах Льва Диакона о том, что «немногие» русы все же вернулись домой. Конечно, если бы Свенельд погиб рядом со своим князем, это более соответствовало бы дружинному идеалу его времени. Но он, видно, решил иначе. Более неприглядную картину поведения воеводы рисует Устюжский летописный свод (составленный в первой четверти XVI века), в котором прямо говорится, что Свенельд «убежа з бою»{572}. Однако выразительность даже этой информации меркнет в сравнении с выводами, сделанными историками из слов В. Н. Татищева, сообщившего в своей «Истории Российской», со ссылкой на загадочную Иоакимовскую летопись, что Святослав «вся воя отпусти полем ко Киеву, а сам не со многими иде в лодиах»{573}. Поскольку Свенельд остался жив, из слов историка XVIII века следовало, что русское войско, собираясь домой, еще в Болгарии разделилось на две части, из которых одна пошла посуху с осторожным воеводой, который это предлагал сделать и самому князю, а другая, меньшая, со Святославом отправилась в ладьях к Днепру. Б. А. Рыбаков даже писал, что Свенельд бросил своего князя, изменил ему и т. д.{574} Действительно, получается, что Свенельд отправился в Киев вовсе не для того, чтобы привести Святославу помощь. Для этого не нужно было уводить у Святослава большинство воев. Разбираясь в отношениях князя и воеводы, не стоит забывать, что Свенельд входил в ближайшее окружение Ольги и имел собственную дружину. В Болгарии он, вероятно, сохранял, как и большинство предводителей русского воинства, независимость от князя. Не случайно «Повесть временных лет» называет Свенельда воеводой отца Святослава, но не самого князя. Поражение в войне могло привести к развалу балканской армии русов, и до того не представлявшей из себя единого целого{575}. Свенельд в этих условиях освобождался от любых обязательств в отношении Святослава. Большая часть русов, оставив потерявшего их поддержку Святослава зимовать в Белобережье, действительно могла направиться во главе с воеводой в Киев.
В общем, поведение Свенельда объяснить можно. Видимо, перед «Рюриковичами» воевода не особенно благоговел. В 40-х годах X века он был как-то причастен к гибели Игоря, а после смерти Святослава, в 70-х годах X века, – к гибели Олега Святославича. Гораздо менее понятно отношение к происходящему Ярополка Святославича. Если Свенельд бежал с поля боя, бросив тело Святослава на поругание, то Ярополк ни в коем случае не должен был брать его к себе на службу. Если Свенельд увел от Святослава большую часть армии, оставив последнего голодать в Белобережье, то Ярополк, при первой возможности, должен был схватить Свенельда. Если же Свенельд был послан в Киев за помощью, то непонятно, почему Ярополк ее не отправил. Любопытно, что у молодого киевского князя был свой воевода Блуд, а Свенельд, судя по рассказу летописи, продолжал возглавлять дружину, приведенную им в Киев, сохраняя самостоятельность.
Можно, конечно, предположить, что Ярополк просто не успел помочь отцу или дела его после ухода Святослава на Дунай были в таком расстройстве, что и сил-то помочь у него не было. Однако еще С. М. Соловьев высказал иное предположение, обратив «внимание на характер и положение Святослава, как они выставлены в предании. Святослав завоевал Болгарию и остался там жить; вызванный оттуда вестью об опасности своего семейства нехотя поехал в Русь; здесь едва дождался смерти матери, отдал волости сыновьям и отправился навсегда в Болгарию, свою страну. Но теперь он принужден снова ее оставить и возвратиться в Русь, от которой уже отрекся, где уже княжили его сыновья; в каком отношении он находился к ним, особенно к старшему Ярополку, сидевшему в Киеве? Во всяком случае ему необходимо было лишить последнего данной ему власти и занять его место; притом, как должны были смотреть на него киевляне, которые и прежде упрекали его за то, что он отрекся от Руси? Теперь он потерял ту страну, для которой пренебрег Русью, и пришел беглецом в родную землю. Естественно, что такое положение должно было быть для Святослава нестерпимо; не удивительно, что ему не хотелось возвратиться в Киев, и он остался зимовать в Белобережье, послав Свенельда степью в Русь, чтоб тот привел ему оттуда побольше дружины, с которой можно было бы снова выступить против болгар и греков, что он именно и обещал сделать перед отъездом из Болгарии. Но Свенельд волею или неволею мешкал на Руси…»{576}. Если отставить предположение о желании Святослава вновь начать войну в Болгарии как маловероятное, в остальном с Соловьевым можно, кажется, согласиться – Святослава в Киеве никто не ждал. Более того, он всем только мешал. А вот убийство отца печенегами вовсе не помешало установлению Ярополком хороших отношений с ними вскоре после (а может быть, и до?) расправы со Святославом на днепровских порогах. Недаром в ходе последовавшей вскоре борьбы Ярополка и Владимира Святославичей приближенные советовали Ярополку бежать к печенегам и собрать там армию. Ряд авторов, считая Ярополка и Свенельда причастными к гибели Святослава, пытались выяснить причины их поступка. Л. Н. Гумилев усмотрел в этом происшествии происки киевских христиан, возглавляемых Ярополком и Свенельдом и не желавших возвращения в Киев язычника Святослава «с озверелой солдатней»{577}. И. Я. Фроянов признает основным мотивом поведения молодого князя и старика-воеводы не религиозный, а политический интерес. Они сознательно обрекли Святослава на гибель, боясь потерять власть{578}.
Вот как много выводов можно сделать всего из нескольких строчек, помещенных в «Истории Российской». Но со ссылкой на все ту же Иоакимовскую летопись В. Н. Татищев приводит еще более любопытный сюжет, как бы дополняя картину кризиса, охватившего измученное русское войско на завершающем этапе кампании на Балканах. Оказывается, что Святослав, проиграв войну с греками, обвинил в поражении русов-христиан, бывших в его воинстве, во главе со своим братом Глебом. Все они были убиты язычниками. Но христиане шли на мучения с такой радостью и таким весельем, что окончательно разъярили Святослава, который даже отправил в Киев приказание разорить и сжечь христианские храмы. Князь сам спешил в Киев, намереваясь истребить здесь всех христиан{579}. Лишь нападение печенегов помешало привести эти замыслы в исполнение. В другом месте своего труда Татищев уточняет, что Глеб был убит в 971 году{580}. Известие о мученической гибели брата Святослава не находит себе параллели более ни в одной русской летописи. Оно противоречит «Повести временных лет», в которой сообщается лишь о насмешках Святослава над христианами, но не о их преследовании. Наконец, ничего не известно и о разрушении войсками Святослава храмов в христианской Болгарии, что было бы логично сделать до того, как приступить к уничтожению киевских церквей. Или Святослава раздражали только русские христиане?!{581} Верить этому татищевскому известию или нет?
Надо сказать, что из всех источников Татищева Иоакимовская летопись всегда вызывала наибольшее количество споров среди исследователей{582}. Сторонники достоверности «татищевских известий» верили, что в его распоряжении такая летопись, но, в большинстве своем, не соглашались считать ее, подобно самому Татищеву, произведением XI века. Сравнение отрывков, помещенных в «Истории Российской», с манерой изложения поздних русских летописей позволяло видеть в летописи «Иоакима» памятник конца XVII или начала XVIII века. Поэтому даже среди защитников доброго имени Татищева находились исследователи, считавшие Иоакимовскую летопись фальсификацией, хотя и состряпанной не им самим{583}. Во второй половине XX века скепсис в отношении Иоакимовской летописи все более нарастал. Несколько лет тому назад на русском языке была опубликована книга украинского историка А. П. Толочко, посвященная проблеме «татищевских известий». Выводы автора кажутся радикальными даже в сравнении с тем, что раньше писали о Татищеве его недоброжелатели. Толочко не верит в историю с пожаром в татищевской библиотеке. Более того, в ходе пятисотстраничного исследования выясняется, «что подавляющее большинство летописей, которыми располагал Татищев, не только не погибло, но сохранилось в виде тех же рукописей, которыми пользовался и сам историк. Только для нескольких не удается указать реальную рукопись». Таким образом, оказывается, «что в распоряжении Татищева не было никаких источников, неизвестных современной науке. Вся информация, превышающая объем известных летописей, должна быть отнесена на счет авторской активности самого Татищева»{584}. Но зачем же Татищев «выдумывал» свои известия? По мнению Толочко, «вымысел играл для Татищева весьма существенную роль „объяснительного устройства“. Скованный летописной формой изложения, историк прибегал к вымыслу, чтобы конструировать связный и логически последовательный нарратив. Таким образом, удалось найти единый для всех известий и, что особенно важно, „серьезный“ (то есть связанный с самой техникой письма и манерой мышления) мотив для татищевского вымысла. Мистификации „Истории“ оказываются не безответственной и беспричинной „ложью“, но одним из технических приемов историка»{585}.
Далеко не всё в книге Толочко выглядит окончательно и бесповоротно доказанным. Проанализированы не все источники, на которые ссылался Татищев, сходство летописей, которыми пользовался историк XVIII века, с ныне существующими устанавливается Толочко в ряде случаев лишь предположительно, а ненайденные летописи легко объявляются мистификацией самого Татищева. Гораздо увереннее украинский исследователь чувствует себя при выявлении отдельных известий, сфальсифицированных Татищевым. И, надо признать, именно этой частью труда он наносит серьезный удар по репутации первого русского историка. Судя по реакции научной общественности, приходится признать, что монография Толочко, в целом, достигла поставленной ее автором цели: «Едва ли ей удастся обратить уже верующих, но, быть может, она предостережет тех, кто готов пополнить их ряды в будущем»{586}.
Проблеме Иоакимовской летописи Толочко посвятил целую главу и пришел к выводу (надо сказать, не особенно его расстроившему) о том, что эта летопись – фальсификация, изготовленная самим Татищевым: «Псевдо-Иоаким работал на основании той же библиотеки, что и Татищев. Его текст самым тесным образом связан с проблемами, которые Татищев решает в других разделах „Истории“. Более того, псевдо-Иоаким владел уникальной информацией, доступной в 1740-х годах только Татищеву, и притом делал идентичные татищевские ошибки, спровоцированные ошибочной орфографией доступных Татищеву летописей. Каждая из этих особенностей по отдельности может быть объяснена совпадением. Все вместе они не оставляют сомнений в том, что автором „Истории Иоакима“ был сам Татищев»{587}.
В общем-то, аргументация, приведенная Толочко, выглядит убедительно. Можно даже предположить, откуда Татищев взял своего Глеба. В русско-византийском договоре 944 года среди знатных русов упоминается Сфандра, жена некоего Улеба, которая отправляет в Византию своего посла Шихберна. Кто этот Улеб? За несколько имен до Сфандры упомянуты другой представитель русской знати Володислав и его посол Улеб. Может быть, это муж Сфандры? Но тогда выходит, что Сфандра осчастливила браком человека более низкого социального статуса, чем она, – дружинника князя Володислава.
И в этом случае словосочетание «жена Улеба», которым обозначается положение Сфандры при заключении договора, унижает ее. А между тем Сфандра в договоре располагается очень близко к семье Игоря. Сомнительно, что она жена посла. Но среди княжеских имен договора Улеба нет. Может быть, Улеб уже умер? Но тогда незачем было бы на него ссылаться для пояснения того, кто такая Сфандра. Улеб, муж Сфандры, – не посол, упомянутый в договоре, а знатный рус, князь, живший во время заключения договора, но почему-то не упомянутый в нем или исключенный позднее сводчиком. Можно предположить, что Татищев, с большим вниманием отнесшийся к тексту договора и постаравшийся максимально его использовать как источник{588}, решил объяснить, кто такой этот Улеб, и придумал ему историю. Для этого он мог взять на вооружение историю гибели святого князя XI века Глеба, и в русской истории появился еще один князь-мученик с тем же именем, но пострадавший за веру на полвека раньше сына Владимира Святославича. Впрочем, все это только предположения.
Во многом соглашаясь с выводами А. П. Толочко, замечу все же, что татищевская «История Российская» – не единственное историческое произведение, претендующее на роль источника, в котором Святослав изображен грозным гонителем христиан. В ряде поздних летописей, которыми пользовался Ф. А. Гиляров, содержится следующее известие: «Великая же княгиня Елена (Ольга. – А. К), пришед во град Киев, повеле сыну своему Святославу креститися, оному же матери своей блаженные Елены не послушавшу, креститися не восхотешу и многих христиан изби»{589}. Не менее любопытную информацию к размышлению дают результаты археологических раскопок. Надо сказать, что «Псевдо-Иоаким» вообще более всего уделяет внимание истории борьбы христианства с язычеством. Из летописей мы знаем, что в 989 году киевский князь Владимир Святославич поручил крещение новгородцев архиепископу Иоакиму Корсунянину (авторству которого Татищев и приписывал разбираемую здесь летопись), который уничтожил языческие «требища» и сбросил идол Перуна в Волхов{590}. Иоакимовская же летопись сообщает сведения, которых в других летописях нет: в Новгород вместе с Иоакимом Корсунянином был направлен Добрыня, дядя Владимира Святославича, во главе сильной дружины. Когда жители города узнали о их приближении, то созвали вече, где поклялись не впускать их в город и не дать сокрушить идолы языческих богов. Затем они укрепились на Софийской стороне, уничтожив мост, соединявший ее с Торговой стороной, где уже появились незваные гости. Посланцы Владимира начали крестить жителей Торговой стороны, но обратить в новую веру им удалось немногих. А между тем на Софийской стороне народ разграбил находившийся здесь дом Добрыни и убил его жену. Тогда княжеский тысяцкий Путята переправился ночью в ладьях с отрядом в 500 воинов на противоположный берег. Здесь на него напали пять тысяч новгородцев-язычников. Начался бой, который, впрочем, не помешал язычникам разрушить церковь Преображения и разграбить дома христиан. На рассвете Добрыня подошел на помощь Путяте. Но перевес, судя по всему, все еще оставался на стороне язычников. Тогда, чтобы отвлечь новгородцев от битвы, Добрыня приказал поджечь дома на берегу Волхова. Жители бросились тушить пожар, прекратив сражение. Добрыня победил, идолы были сокрушены, а новгородцы крещены{591}. Повторяю, ни в одной летописи этих подробностей нет. Верить им или нет? По логике А. П. Толочко – однозначно нет. Однако исследования археологов подтвердили достоверность рассказа Иоакимовской летописи в этой его части. В ходе раскопок в Новгороде были обнаружены следы пожара береговых кварталов Софийской стороны, который уничтожил все сооружения на очень большой площади, превышающей только в пределах раскопанной территории девять тысяч квадратных метров. Известный археолог, крупнейший специалист по истории Новгорода В. Л. Янин пришел к следующим выводам: «До 989 года в Новгороде существовала христианская община, территориально локализуемая близ церкви Спас-Преображения на Разваже улице. В 989 году в Новгороде, несомненно, был большой пожар, уничтоживший береговые кварталы в Неревском и, возможно, в Людином конце. События этого года не были бескровными, так как владельцы сокровищ, припрятанных на усадьбах близ Преображенской церкви, не смогли вернуться к пепелищам своих домов». Янин заключает: «Думаю, что эти наблюдения подтверждают реалистическое существо повести о насильственном крещении новгородцев»{592}.
Если попытаться обойтись без «татищевских известий», то у нас выпадет из повествования не только история преследования Святославом христиан во главе с Глебом, но и сюжет о возвращении Свенельда в Киев отдельно от князя. Хотя что, собственно, изменится в сделанном нами наброске истории взаимоотношений Святослава, Свенельда и Ярополка? Почти ничего. Святослав по-прежнему проводит голодную зиму в Белобережье, Ярополк не посылает ему помощь, Свенельд после гибели князя является к его сыну со значительным отрядом дружинников (значит, бился он рядом со Святославом не до последнего), Ярополк делает его одним из главных людей в своем окружении. Поведение Ярополка и Свенельда по-прежнему выглядит скверно. Нельзя отмахнуться и от летописного сообщения о союзных отношениях Ярополка с печенегами. Представленную картину можно дополнить информацией, содержащейся в «Польской истории» Яна Длугоша (составленной в 60-е годы XV века). Длугош имел в своем распоряжении русские источники – летописи, идентификация которых до сих пор вызывает споры{593}. Среди информации о Руси, имеющейся в его труде, есть сообщения, которые не находят параллели в известных нам русских летописях. В частности, о гибели Святослава польский историк пишет: «В то время как князь Руси Святослав возвращался из Греческой земли, куда вражески вторгся, и вез греческие трофеи, его враги печенеги, извещенные некоторыми русскими и киевлянами, выступают со всеми силами и легко побеждают Святослава и его войско, как потому что оно было обременено добычей, так и потому что сражалось в неудобном месте. Сам Святослав, пытаясь продолжить сражение и остановить позорное бегство своих воинов, живым попадает в руки врагов. Князь печенегов по имени Куря, отрезав ему голову, из черепа, украшенного золотом, делает чашу, из которой имел обыкновение пить в знак победы над врагом, ежедневно вспоминая свой триумф»{594}. Как видим, в рассказе Длугоша имеются две детали, отличающие его повествование от «Повести временных лет». Во-первых, не болгары-переяславцы, а «некоторые русские и киевляне» извещают печенегов о приближении Святослава. Судя по всему, этих «некоторых» не устраивало возвращение князя в Киев. Во-вторых, Святослав живым попадает в плен к печенегам и затем только лишается головы – деталь, усиливающая трагизм происходящего. Однако мы не можем исключать и того, что эта эксклюзивная информация вымышлена самим Длугошем.
Осенью 971 года, не зная, куда ему двигаться дальше, Святослав остановился в Белобережье. Его люди были измучены сидением в Доростоле, сам князь вряд ли вполне оправился от полученных в бою ран. Впереди были поджидавшие ладьи русов печенеги, жаждавшие отобрать у ослабленных и немногочисленных русов их добычу. Несомненно, кочевников предупредили недруги Святослава (ромеи? болгары? «некоторые русские»?). Не было князю и дороги назад – враждебная теперь Болгария стала владением Византии. Нельзя было повернуть ладьи и в сторону Крыма – не хватало сил для того, чтобы, даже нарушив договор с Цимисхием, закрепиться на Керченском проливе. Этого не потерпели бы ни Империя ромеев в целом, ни херсониты в частности. Оставалось ждать помощи из Киева. От князя отвернулись русы, жившие в Белобережье, его оставшееся в живых воинство голодало и роптало (а возможно, и разбегалось). Загнанный обстоятельствами в угол, преданный собственным сыном князь оказался в отчаянном положении. Когда наступила весна и появилась возможность двинуться на ладьях в путь, русы, используя большую воду, предприняли попытку пройти мимо карауливших их печенегов. Части воинов это удалось, однако сам Святослав был убит (или попал в плен, и только затем с ним расправился Куря). Это не остановило Свенельда. Спасая свою жизнь, воевода оставил тело князя (или даже самого Святослава) в руках врагов на поругание. И был с честью встречен киевским князем Ярополком. Возможно, поступок молодого князя и старого воеводы вызвал возмущение у другого сына Святослава – Олега, князя Древлянской земли. Через несколько лет древлянский князь убил сына Свенельда Люта, заехавшего в его земли, узнав, что тот Свенельдич. Эта расправа стала поводом для войны между Святославичами. Олег погиб, и, рыдая над его телом, Ярополк кричал Свенельду: «Смотри, этого ты и хотел!» Неизвестно, что на это отвечал молодому человеку старик Свенельд. Более воевода на страницах летописей не упоминается.
Константин Багрянородный при своей территориальной удаленности и присущем ему презрении к «варварам» удивительно верно отразил в трактате «Об управлении империей» процессы, происходившие во второй трети X века в Поднепровье. Возникшие по течению реки города начали подминать под себя окружающие восточнославянские земли с их племенными князьями и городскими центрами. При всей этнической пестроте населения, присущей городам, возникающим на «бойком месте», их жители называли себя русами. Ядром русских городов стал Киев – центр «утонувших» в потоке переселенцев полян, «Русская земля». У живших здесь русов были свои князья – вожаки дружин, заключившие между собой союз. Под их предводительством русы брали со славян дань, определенную договором, в остальном не вмешиваясь в их дела. А еще русы торговали – их купцов можно было видеть в городах волжских болгар и хазар, во владениях Византии. На Руси ромеи и хазары всегда могли найти желающих наняться на военную службу, корабли русов плавали и в Каспийском и Средиземном морях. «Русский» образ жизни привлекал молодежь из славянских племен-данников, сюда же тянулись варяги с севера, в Поднепровье оседали кочевники с юга. И каждый из них, становясь русом, привносил традиции своего племени и одновременно переставал быть его представителем, подчиняясь новому укладу жизни. Иногда число новых пришельцев было избыточно, и они искали вождя, который бы нашел применение их силам. Бывало, наоборот, русские князья призывали к себе толпы искателей приключений, суля им возможность «попить-погулять». И тогда, собрав войско, русы устремлялись в военный поход, страшный по последствиям для тех, против кого он был направлен. В начале 940-х годов такой всплеск активности привел к опустошению русами окрестностей Константинополя, разграблению малоазийских провинций Византии и города Бердаа с округой в Закавказье. А во второй половине 960-х годов русы ударили по владениям Хазарского каганата (сначала – на Дону, а позднее – на Волге и Каспии), вышли к Керченскому проливу, затем обрушились на дунайские земли болгар. И в 940-х, и в 960-х годах, предавая на своем пути огню и мечу все живое, русы (по крайней мере, значительная их часть) не предполагали, что их движение закончится возвращением в Киев. Они искали себе новое пристанище – в Бердаа, Тмутаракани, Доростоле, Итиле и Самандаре – ведь главной причиной участия русских удальцов в этих предприятиях было то, что им стало «тесно» на Руси. Неким подобием русского общества X века является позднейшее казачество, также принимавшее в свою среду всевозможных беглецов и выбрасывавшее лишних, как в период Смуты и Разинщины.
Что же осталось после всплеска русской буйной силы конца 960-х годов? Как видим, судьба русов, избравших в качестве «середины своей земли» Добруджу, сложилась трагично. Наверное, не уцелели и гарнизоны (если таковые имелись), оставленные Святославом на берегах Керченского пролива. Южное Приазовье после гибели князя перешло под власть Херсона. Потеснили русов херсониты и в устье Днепра{595}. Кажется, больше повезло тем русам, что направились на Нижнюю Волгу и Кавказ. Их удар по ослабевшему Хазарскому каганату оказался последним, поставившим точку в его истории. Русы осели в Хазарии и оставались здесь еще в конце 970-х годов. Хазары постепенно вернулись в свои разоренные города. Дальнейшая судьба «волжских» русов неизвестна, они могли быть вытеснены из своих новых владений могущественными соседями или раствориться в местном населении. Какое-то время здесь хозяйничали огузы, наряду с русами сокрушившие каганат. Чуть позже к Поволжью начал проявлять интерес княживший в Киеве сын Святослава Владимир. В 985 году он в союзе с торками (огузами) ходил походом на волжских болгар. Видимо, русы вновь попытались закрепиться на Волге. В 987 году эмир Дербента Маймун, борясь с городской знатью, просил помощи у русов, и они быстро прибыли в город на восемнадцати судах. Скорость их появления показывает, что они находились где-то неподалеку. Но в конечном итоге хазары перешли в ислам, а хозяином положения на Нижней Волге стал Хорезм{596}. Со временем от хазар остались лишь отдельные локальные сообщества, концентрировавшиеся на окраинах бывшей территории каганата: на Тамани, в Крыму, в низовьях Терека и Сулака, вблизи Самандара и в районе разрушенного Итиля в дельте Волги. Последний раз хазары как существующий народ упоминаются в источниках в 1064 году{597}. Если русы и сломили препятствие в лице хазар, закрывавшее дорогу на Каспий, то явно не они воспользовались результатами этого. Ведущее положение в поволжской торговле заняла Волжская Болгария, которая процветала вплоть до нашествия монголов. Роль, которую на Кавказе играл Самандар, перешла к Дербенту{598}. Больше русы не делали попыток закрепиться так далеко от Киева.
А что происходило в самой Русской земле после ухода отсюда войск на Дунай и Волгу, смерти Ольги и утверждения в Киеве Ярополка? Все эти события привели к ослаблению контроля русов над славянскими землями и распаду союза князей. Ярким проявлением начавшегося в 970-х годах кризиса стала междоусобица, вспыхнувшая между Святославичами. В этой связи любопытно сообщение «Повести временных лет» о княжении в Полоцке Рогволда, который «пришел из-за моря». Кем был этот Рогволд, неясно. Исследователи то видят в нем потомка одного из дружинников Рюрика, получившего в управление Полоцк, то считают, что он появился в Полоцке ближе к 60-м годам X века, то уверены, что Рогволд происходил из местной племенной знати, то, наконец, твердо убеждены, что он был связан тесными узами родства с киевской династией. Но кем бы ни был Рогволд, он чувствовал себя хозяином Полоцка и держался по отношению к Киеву весьма независимо. Союза с ним ищут враждующие после смерти отца князья – киевский Ярополк и новгородский Владимир. Вероятно, и в Чернигове, Смоленске и других городах, которые не упомянуты «Повестью временных лет» в рассказе о распределении уделов между сыновьями Святослава, правили столь же независимые от Киева князья, как и полоцкий владетель. Не случайно и то, что Владимиру после захвата Киева и убийства Ярополка (в 980 году) пришлось два года воевать с вятичами, вроде бы покоренными его отцом. И дальше князь продолжал решать внешнеполитические задачи, которые стояли перед русами еще во времена Ольги, – покорение славянских племен, движение на Волгу, в Подонье и Приазовье. Как известно, Владимир совершил в Азовско-Черноморском регионе то, на чем остановился Святослав – захватил Херсон, правда, возвратив его затем ромеям. Но и цену те дали хорошую – византийскую принцессу. Русскими колониями при Владимире стали и Саркел (Белая Вежа), и Таматарха (Тмутаракань). Русы владели ими еще более века. В 1117 году под давлением половцев беловежцы переселились на Русь. Примерно в это же время и по той же причине Киев утратил связь с Тмутараканью{599}. Как Ольга и Святослав, Владимир воевал с печенегами, резко усилившими в его время давление на Русь{600}. И, наконец, сближение с Византией и принятие крещения – это ли не явное доказательство того, что внук стремился продолжать политику бабки? Дунай же Владимира (в отличие от его отца) не привлекал.
Упомянув здесь о Дунае, я считаю уместным рассказать читателю о судьбе некоторых участников событий на Балканах 960-970-х годов, которые играли заметную роль в предыдущем повествовании. После ухода русов Восточная Болгария стала частью Византийской империи. Город Доростол получил новое имя Феодорополь (то ли в память поспособствовавшего ромеям святого Феодора Стратилата, то ли в честь жены Иоанна Цимисхия Феодоры) и стал центром новой византийской фемы. Василевс ромеев с огромными трофеями вернулся в Константинополь, и при въезде в город жители устроили своему императору восторженную встречу. После триумфа к Цимисхию привели царя Бориса II, и тот, подчиняясь воле нового правителя болгар, прилюдно сложил с себя знаки царской власти – тиару, отороченную пурпуром, вышитую золотом и жемчугом, багряницу и красные полусапожки. Взамен он получил сан магистра и должен был начать привыкать к положению византийского вельможи. В отношении его младшего брата Романа византийский император не был столь милостив – царевича кастрировали. До Западной Болгарии у Цимисхия так и «не дошли руки» – нужно было урегулировать затянувшийся конфликт с немцами, продолжать победоносные войны против арабов, на этот раз в Месопотамии, Сирии и Палестине. Из последнего похода василевс вернулся совсем больным. По симптомам, это был тиф, но, как всегда, в народе приобрела большую популярность версия, что Цимисхия отравили. После его смерти в 976 году к власти, наконец, пришел сын Романа II – Василий. Из ссылки вернулась Феофано, но ее восемнадцатилетнему сыну уже были не нужны опекуны. Ей оставалось одно – тихо доживать свой век.
А вот жизнь Василия II спокойной назвать нельзя. Взбунтовались болгары. Бывший болгарский царь Борис бежал к повстанцам, но погиб в пути по нелепой случайности. Война с болгарами продолжалась еще более сорока лет. Начались бесконечные мятежи в самой империи. Вызывавший подозрение нового императора прославленный полководец Варда Склир был отстранен от должности (при Иоанне Цимисхии он занимал высший военный пост – доместика схол) и назначен стратегом на далекую византийскую окраину – в Месопотамию. Возмущенный герой всех последних войн, которые вели ромеи, поднял мятеж и провозгласил себя василевсом. Против Склира направили войска под командованием не менее знаменитого патрикия Петра. В сражении двух враждебных византийских армий, которые возглавляли два самых прославленных полководца империи, победили мятежники, но только потому, что на сторону Склира перешел Михаил Вурца. После этого вся Малая Азия попала под власть Варды, а вскоре в одной из битв пал патрикий Петр. Найти ему замену было крайне трудно, особенно в условиях, когда Варда Склир наступал на Константинополь. И тогда советники Василия II подсказали императору неожиданный ход – освободить из ссылки Варду Фоку, племянника императора Никифора Фоки, осужденного за мятеж против Иоанна Цимисхия, и назначить его доместиком схол. Варда Фока, несмотря на то что перевес был на стороне бунтовщиков, развил бурную деятельность. В решающем сражении, произошедшем в марте 979 года, когда оба Варды встретились, Фоке удалось нанести своему противнику удар в голову и оглушить его. Воины Склира решили, что их предводитель убит, и побежали. Так закончилась смута, растянувшаяся почти на три года. Склир нашел пристанище в Багдаде. Ему удалось вернуться в Византию лишь в начале 987 года, и сразу же он объявил себя василевсом ромеев и даже собрал значительную армию. Против него вновь направили Варду Фоку, но тот, захватив Склира во время переговоров, объявил императором себя. И вот тогда-то Василий II решил обратиться за помощью к киевскому князю Владимиру, сыну Святослава, который, помнится, покидая Болгарию, обещал помогать императору в случае нападения неприятеля. При поддержке русов Василию удалось поразить мятежников. В апреле 989 года был отравлен Варда Фока, скончавшийся в разгар решающего сражения. Как известно, следствием русско-византийского союза стала женитьба принявшего крещение Владимира Святославича на сестре Василия II Анне. Между тем Варде Склиру удалось выбраться из заключения и вновь объявить себя императором. К нему присоединились остатки войск Фоки, мятеж был опасен тем, что отношения с русами к тому времени испортились – Владимир захватил Херсон. Но Склир, чувствуя наступление старческих немощей, согласился помириться с Василием II. Беспокойный старик получил земли и титул куропалата. Через год с небольшим, в марте 991 года, он умер.
Настоящей загадкой для историков стала судьба патрикия Калокира – «заводчика» всей пролившейся на Дунае крови. После своего прибытия из осажденного Преслава в Доростол к Святославу херсонит исчезает со страниц источников. Что с ним стало? Может быть, он пал в одном из сражений рядом со Сфенкелом или Икмором? Впрочем, на него это не очень похоже. Скорее, его убило в Доростоле камнем, пущенным машиной Иоанна Куркуаса, или же он погиб при возвращении русов – от печенежской сабли. Даже такой финал почему-то кажется для «хитрого грека» слишком героическим. Поэтому историки больше склоняются к версии, что Калокир вывернулся и из этой сложнейшей ситуации, умудрившись выбраться из Болгарии. Более того, некоторые авторы считают, что он даже не покинул пределов империи, а продолжил играть в политику. Вот, например, во время последнего мятежа Варды Фоки среди его сподвижников упоминается некий патрикий Калокир, по прозвищу «Дельфин», посаженный в 989 году по приказу Василия II на кол{601}. Чем не наш старый знакомый? Или – в 996 году Василий II отправил к германскому императору Оттону III посольство для ведения переговоров о брачном союзе двух императорских дворов; во главе миссии названы некие Леон и Калокир. Может быть, наш патрикий добился у нового императора прощения и вновь начал выполнять щекотливые дипломатические поручения?{602} Увы, оба вышеуказанных Калокира не более чем тезки херсонита. Имя Калокир вообще часто мелькает в византийской истории X века. Остается признать, что мы ничего не можем сказать о судьбе сына херсонского протевона…
К началу XI века все главные герои (или антигерои?) описываемых событий уже покоились в могилах. Русь изменилась, давнишние подвиги язычника Святослава должны были, кажется, мало кого интересовать. Однако и спустя еще 100 лет события на Дунае привлекали к себе внимание тогдашней русской интеллектуальной и политической элиты. «Повесть временных лет» не случайно отмечала, что когда-то славяне жили на Дунае, «где теперь земля Венгерская и Болгарская», и с большим сочувствием рассказывала о судьбе основателя Клева, легендарного Кия, который, после встречи с византийским императором, удостоившись «великих почестей» и возвращаясь восвояси, пришел «к Дунаю, и облюбовал место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему живущие окрест; так и доныне называют придунайские жители городище то – Киевец». Среди дунайских сюжетов в летописи выделяется своей красочностью история Святослава, составленная из дружинных преданий, пропитанных восторгом русских полуязычников по отношению к храброму князю. Летописцам было важно показать – Дунай исторически входит в сферу влияния Руси. Поэтому в дело шли даже не вполне приличествующие для христианина истории про язычника Святослава.
Историки объясняют столь пристальное внимание летописцев к Подунавью интересом к этому региону одного из крупнейших и могущественных деятелей своего времени – князя Владимира Мономаха. Дочь Мономаха Мария была замужем за неким Леоном (Львом), выдававшим себя за сына византийского императора Романа IV Диогена (1068-1071), который попал в плен к туркам и лишился престола. Власть в Империи ромеев перешла к династии Комнинов. Византийские источники ничего не знают о Леоне «Диогеновиче». Есть только упоминание о Константине Диогеновиче, убитом в сражении с турками, и о появлении потом самозванца под тем же именем, который бежал к половцам, воевал с их силами против империи, был захвачен ромеями в плен и ослеплен. Произошло все это, правда, еще в 1095 году. А за кого выдал свою дочь Мономах, вообще неизвестно. Скорее всего, этот Леон также был самозванцем, обманувшим русского князя, которому не давали покоя его собственные императорские «корни». Мария родила от «царевича» сына Василия – внука Мономаха. В 1116 году Леон, одержимый идеей добыть себе какую-нибудь византийскую область, захватил несколько дунайских городов. Но император Алексей Комнин подослал к нему двух наемных убийц, которые и убили самозванца в Доростоле (какое совпадение!). Владимир Мономах попытался удержать за собой захваченные зятем города, послал в них своих посадников, но в конце концов не преуспел в этом предприятии{603}.
Летописцами формировался замечательно противоречивый образ Святослава. С одной стороны, он – одержимый гордыней язычник, презревший ради своих планов даже Русскую землю, с другой – широко мыслящий политик, верно сформулировавший главный геополитический интерес Руси. Любопытно, что примерно таким же виделся Святослав и многим исследователям XIX-XX веков, жившим в Российской империи. Вот несколько тезисов о нашем князе на пробу: «корысть представляется единственною целью походов» (И. Ф. Г. Эверс, 1826 год); «имел в виду только один грабеж за условленную плату» (А. Чертков, 1843 год); «не государственные виды руководствовали Святославом; он был исключительно вождь дружины», «то было личное предприятие Святослава, как вождя дружины» (А. Ф. Гильфердинг, 1850-е годы); «искатель приключений с пылким воображением» (М. П. Погодин, 1871 год); «не думал нисколько о государстве и, совершенно бросив его на произвол судьбы, он мечтал только о том, чтобы сравняться в славе с своими норманнскими предками, чтобы искать единственно военных приключений и военных доблестей» (Е. Е. Голубинский, 1880 год); «предпринимал войны и походы по самым разнообразным поводам, иногда в целях наживы, иногда в видах завоевательных, иногда благодаря просто тому, что ему „не сиделось“» (С. А. Корф, 1908 год); «maximum дружинности» (М. С. Грушевский, 1911 год); «двигателями оказываются не государственные интересы, а хищнические инстинкты» (А. А. Шахматов, 1916 год). И все эти характеристики зачастую уживались с восторгом от размаха деятельности Святослава. Вот, например, как А. Чертков – создатель свода источников о балканской кампании русов, видевший в Святославе грабителя и наемника, далекого от государственных видов, – фантазировал о возможном дальнейшем ходе мировой истории, победи наш герой Иоанна Цимисхия:
«1) Россия из державы почти Азиатской X века превратилась бы уже при Святославе и его наследниках в Европейское государство. Все элементы Эллинской образованности, таившиеся в разных углах Восточной империи, особенно в Греции, были бы переданы очень рано Руссам и Славянам, и что всего важнее, народу новому, восприимчивому и не растленному нравственно, подобно византийцам. Эти начала просвещения посредством Чехов и Моравов перешли бы, вероятно, весьма скоро от Полабов к Поморянам, и тогда миллионы Прибалтийских славян не были бы навсегда онемечены и исключены из числа великого славянского народа.
2) К Руссам, утвердившимся в Задунайских областях, присоединились бы, конечно, все прочие южные славяне, как случилось несколько лет спустя, при болгарском царе Самуиле, владения которого простирались от Драча (Дураццо) на Адриатическом море до Понта, и от пределов Северной Греции до Подкарпатских стран. Можно предполагать также, что впоследствии Германские славяне, Моравы, Чехи, Поляки и другие, все говорившие одним языком и имевшие в X и XI веках и одну восточно-русскую веру, устремились бы к воссоединению в громадную целую массу 90 миллионов одного народа, одинаковой веры и тех же обычаев и нравов. Средоточие и огромная сила всего славянского народа была бы тогда в середине Европы, а не на крайнем востоке-севере.
3) Такая монархия занимала бы две трети Европы, и тогда не славяне были бы онемечены, а напротив, немцы ославянены. Многие и многие миллионы людей сохранились бы в Европе, и многие потоки крови не были бы пролиты; ибо папы не могли бы влагать меч в руки фанатиков в продолжении веков для расширения своей власти, ни проповедовать убиение Альбигойцев, Валдейцев, Гусситов и проч. Летописи Восточной церкви не представляют и тени ничего подобного. Из племен чисто славянских состояли Задунайские области; Болгария, Фракия, Македония, Северная Греция, Иллирия, Далмация, Истрия, Херцеговина, Крайна, Хорватия, Хорутания и Штирия.
4) В отношении же самих славян, последствия основания державы Русской, на берегах Дуная, неисчислимы. Они бы не принадлежали, как теперь, четырнадцати разным властям, из которых восемь смотрят на них как на неприятелей и более или менее стараются уничтожить их народность, обычаи, Русскую веру и даже самый язык.
5) Немецкая империя, составившаяся впоследствии наполовину из славянского народонаселения, никогда бы, вероятно, не существовала, и императоры не могли бы низложить и уничтожить огромного количества славян.
6) Руссы, укоренившись в Задунайских странах, не допустили бы, конечно, перехода Турков из Азии в Европу, и опять сколько миллионов людей, в особенности славян, не погибло бы от фанатического меча осмаилитов?
7) Если предположение наше справедливо, то огромная славянская империя занимала бы большую часть Европы – от устьев Ельбы, границ Баварии, Тироля, Италии, Адриатики, Морей, Егейского моря, Воспора – до Камчатки, Америки, Монгольских и Киргизских степей. Никогда и Римский колосс не занимал такого пространства, но, главное, эта громадность состояла бы из одних элементов, одного говора и, вероятно, одной веры.
8) И Малая Азия могла прибегнуть под защиту Великой Славянской монархии, для ограждения себя от Арабов и других народов…»{604}
Вот так, ни больше ни меньше! Черткова, как и многих его современников, вдохновляли нерешенный «восточный вопрос» и идеи панславизма. От смелых исторических параллелей тогда не остались в стороне и далекие, кажется, от древней Руси Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Вот что они писали в августе 1853 года: «Желая продемонстрировать традиционную политику России вообще и ее виды на Константинополь в частности, политики обычно ссылаются на завещание Петра I. Но они могли бы отправиться еще и дальше вглубь истории. Более восьми веков тому назад Святослав, бывший тогда еще языческим великим князем России, заявил на собрании своих бояр, что „под владычество России должны попасть не только болгары, но и Греческая империя в Европе вместе с Богемией и Венгрией“. Святослав завоевал Силистрию и угрожал Константинополю в 967 г. от Рождества Христова, так же как это делал Николай в 1827 г.»{605}. Все-таки своеобразное представление о русской истории и России было у классиков!
Советские историки, стоявшие на «правильных методологических позициях», выявили и преодолели противоречие, содержавшееся в трудах их буржуазных предшественников. Как же так?! Святослав в ходе своих стремительных походов потряс до основания Европу от Волги до Дуная, а им якобы двигали только корысть и тяга к приключениям?! Это нелогично! И из нашего князя начали лепить великого государственного деятеля. Только такие «отсталые» историки, как С. В. Бахрушин и В. А. Пархоменко, еще в конце 1930-х – начале 1940-х годов продолжали что-то повторять про «вождя бродячей дружины, постоянно ищущего добычи и славы», «блуждающего по торговым путям». Передовые ученые писали о Святославе как о великом полководце, «военный гений которого не уступал гению прославленных полководцев древности: Александра Македонского, Цезаря и Ганнибала» (И. Лебедев, 1938 год), войны которого были «походом не дружины, а войска, даже больше того, вооруженного народа», народа, который под руководством своего князя чуть было не создал «колоссальное русское государство от Ладоги до Эгейского моря и от Балканских гор до Оки и Тмутаракани» (В. В. Мавродин, 1945 год). Святослав, наконец, «является одним из участников крупнейших международных событий, причем часто действует не по собственной инициативе, а по соглашению с другими государствами, участвуя, таким образом, в разрешении задач европейской, а отчасти и азиатской политики» (Б. Д. Греков, 1949 год). Князь выполняет, так сказать, союзнические обязательства!
При всей последовательности этого взгляда на Святослава мы так и не получаем ответов на вопросы, часть из которых была сформулирована мной во введении к настоящему изданию. Отрешившись от излишней политизации проблемы, я постарался на страницах книги прояснить некоторые обстоятельства жизни Святослава. Для этого мне пришлось отойти от стереотипов, сложившихся в науке XIX-XX веков, а также под несколько иным углом зрения взглянуть и на Киевскую Русь X века в целом, и на организацию в ней княжеской власти в частности. Насколько предложенное мной видение проблемы убедительно – судить читателям, насколько оно справедливо – покажет время. Не исключаю, что, подобно написанному о Святославе в имперский и советский периоды, вышеизложенная биография лишь отражает взгляд историка, живущего на рубеже XX-XXI веков. Как известно:
…А то, что духом времени зовут,
Есть дух профессоров и их понятий.
Который эти господа некстати
За подлинную древность выдают…{606}
Бибиков М. В. Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. Нарративные памятники. II. М., 2009.
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, А. В. Подосинова. Т. III: Восточные источники. М., 2009.
Константин Багрянородный. Об управлении империей / Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 1991.
Латиноязычные источники по истории Древней Руси. Германия IX – первая половина XII в. Сост., пер., коммент. М. Б. Свердлова. М.; Л., 1989.
Лев Диакон. История / Пер. М. М. Копыленко; ст. М. Я. Сюзюмова; коммент. М. Я. Сюзюмова, С. А. Иванова; отв. ред. Г. Г. Литаврин. М., 1988.
Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Пер. с лат., коммент. И. В. Дьяконова. М., 2006.
Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IX-XI веков. М., 1993.
Повесть временных лет / Подг. текста, пер., статьи, коммент. Д. С. Лихачева; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. СПб., 1996.
Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Изд. подг. Я. Н. Любарский. СПб., 1992.
Се Повести временных лет (Лаврентьевская летопись) / Сост., прим., указ. А. Г. Кузьмина, В. В. Фомина; вступ. ст., пер. А. Г. Кузьмина. Арзамас, 1993.
Чертков А. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967-971. М., 1843.
Артамонов М. И. Воевода Свенельд // Культура древней Руси. М., 1966.
Гадло А. В. Восточный поход Святослава: (К вопросу о начале Тмутороканского княжения) // Проблемы истории феодальной России. Л., 1971.
Знойко Н. О посольстве Калокира в Киев // ЖМНП. 1907. Апрель.
Знойко Н. О походах Святослава на Восток // ЖМНП. 1908. Декабрь.
Калинина Т. М. Сведения Ибн Хаукаля о походах Руси времен Святослава//ДГ. 1975 г. М., 1976.
Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. М., 1986 (серия «ЖЗЛ»).
Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 1997 (серия «ЖЗЛ»).
Карпов А. Ю. Княгиня Ольга. М., 2009 (серия «ЖЗЛ»).
Карышковский П. О. К вопросу о первоисточниках по истории походов Святослава // КСИС. Вып. 9. М., 1952.
Карышковский П. О. К истории Балканских войн Святослава //ВВ. Т. 7. М., 1953.
Карышковский П. О. О хронологии русско-византийской войны при Святославе // ВВ. Т. 5. М., 1952.
Королев Л. С. Загадки первых русских князей. М., 2002.
Королев Л. С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-70-е годы X века. М., 2000.
Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986.
Липец Р. С. Отражение этнокультурных связей Киевской Руси в сказаниях о Святославе Игоревиче (X в.) // Этническая история и фольклор. М., 1977.
Мошин В. А. Русь и Хазария при Святославе // Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый институтом им. Н. П. Кондакова. Т. 6. Прага, 1933.
Мутафчиев П. Русско-болгарские отношения при Святославе // Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый семинарием им. Н. П. Кондакова. Т. 4. Прага, 1931.
Никитин А. «Аз, Святослав, князь русский…» // Наука и религия. 1991. №9.
Рапов О. М. Когда родился великий киевский князь Святослав Игоревич // Вестник МГУ. Серия 8: история. 1993. № 4.
Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1991.
Успенский Ф. И. История Византийской империи: Период Македонской династии (867-1057). М., 1997.
АН – Академия наук.
ВВ – Византийский временник.
ВДИ – Вестник древней истории.
ВИ – Вопросы истории.
ВИД – Вспомогательные исторические дисциплины.
ДГ – Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования (с 1994 г. – Древнейшие государства Восточной Европы: Материалы и исследования).
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения.
ИЖ – Исторический журнал.
ИЗ – Исторические записки.
ИМ – Историк-марксист.
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности АН.
ИСССР – История СССР.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР.
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР.
КСИС – Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР.
ЛГУ – Ленинградский государственный университет.
МГУ – Московский государственный университет.
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.
СА – Советская археология.
СЭ – Советская этнография.
ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).
Начало 940-х годов – Святослав княжит в «Немогарде».
941, июнь-сентябрь – нападение русского войска на окрестности Константинополя, разорение берегов Малой Азии.
944 – посол Святослава участвует в подписании русско-византийского мирного договора.
Вторая половина 940-х годов – киевский князь Игорь убит древлянами. Начало княжения в Киеве Ольги.
957, лето-осень – русское посольство во главе с Ольгой посещает Константинополь.
Около 964-966 – восточный поход Святослава: после столкновения с вятичами русское войско на кораблях спускается по Дону к хазарской крепости Саркел и, разорив ее, двигается по течению реки и вступает в Азовское море. Русы достигают Керченского пролива, захватывают город Тамйтарху и наносят поражения ясам и касогам.
967 – встреча Святослава с византийским послом Калокиром.
968, август – нападение русов во главе со Святославом на Дунайскую Болгарию.
969, весна – набег печенегов и прибытие Святослава на Русь.
11 июля – смерть Ольги.
Конец лета – осень – возвращение Святослава в Болгарию.
11 декабря – убит византийский император Никифор Фока.
970, 30 января – смерть болгарского царя Петра.
Зима – переговоры нового византийского императора Иоанна Цимисхия со Святославом.
Весна и начало лета – поход русов в союзе с печенегами, венграми и болгарами во Фракию. Бои под Аркадиополем.
Осень – русы опустошают Македонию.
971, весна и лето – поход византийской армии под предводительством Иоанна Цимисхия в Болгарию.
12-14 апреля – ромеями захвачен Великий Преслав.
23 апреля – первое сражение ромеев с русами близ Доростола.
24 апреля – 21 июля – осада византийской армией Доростола. Конец июля – заключение мира.
Зима 971/72 года – ожидание в Белобережье.
972, весна – Святослав убит у днепровских порогов печенегами.