Сергей Хмельницкий
Пржевальский
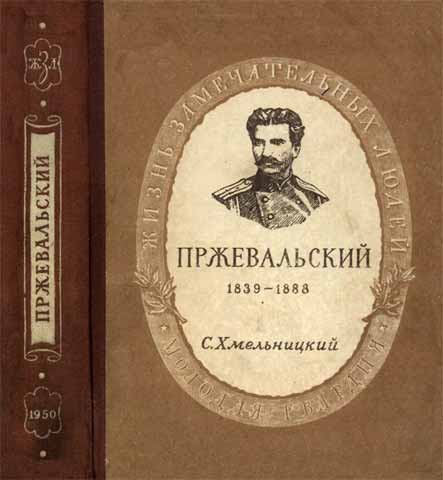
В Ленинграде, в саду перед Адмиралтейством, стоит бронзовый бюст генерала. С высокого гранитного постамента бронзовый генерал смотрит вдаль, на восток, куда через горы и пески пустынь лежит его путь. У каменного подножья отдыхает, стоя на коленях, верблюд. Он поднял голову и прислушивается, ожидая знака хозяина, чтобы двинуться дальше по бескрайним пескам.
На постаменте высечено:
Памятник Пржевальскому в Ленинграде.
За что же чтит его Родина?
Он открыл неведомые области земного шара, он первым из путешественников-исследователей пересек великие пустыни Центральной Азии, он прославил русскую науку.
С ружьем за плечами, с бусолью в руках, Пржевальский прошел путь, почти равный по длине земному экватору. И там, где раньше на карте было обширное белое пятно, появились штрихи открытых им горных хребтов, волнистые контуры неведомых прежде озер. Менялся на листах географических атласов извилистый рисунок рек, вдоль которых он двигался. А там, где его караван пересек голые сыпучие пески, сетка долгот и широт покрылась густой рябью крапин. И вот безграничные пустыни приобрели географические границы.
То в седле, то в походной палатке, в странствиях по горам и безводным степям, Пржевальский провел более десяти лет. В глубине пустынь он нашел множество видов растений и животных, до него неизвестных науке. Страстный натуралист и замечательный охотник, он привез из своих экспедиций огромные ботанические и зоологические коллекции, содержавшие около 35000 экземпляров!
Сам Пржевальский не раз объяснял свои успехи «удивительным счастием», которое всегда сопутствовало ему в путешествиях. Но такое объяснение свидетельствует только о скромности Пржевальского.
«Для успеха великого предприятия, — говорит современник Пржевальского — известный русский путешественник Семенов-Тян-Шанский, — нужно, чтобы лицо, его исполняющее, обладало известной совокупностью качеств, которые редко встречаются соединенными в должной гармонии в одном человеке».
Пржевальский был одним из тех редких людей, в которых соединялись черты, наиболее ценные для путешественника.
О том, какие именно качества должен сочетать в себе путешественник-исследователь, лучше всего сказал сам Пржевальский. В последней из своих книг он перечисляет личные свойства, знания и навыки, необходимые человеку, «для которого выпадает завидная доля исследователя далеких стран».
Призвание — «путешественником нужно родиться». «Прирожденная страсть к путешествию и беззаветное увлечение своим делом явятся могучими рычагами успеха, ибо будут поддерживать и согревать в те трудные минуты, которые придется переносить не один раз».
«Научная подготовка», «достаточное знакомство с различными отраслями предстоящих исследований».
Высокое чувство национального достоинства. Путешественник, «помимо научных исследований, нравственно обязан высоко держать престиж своей личности, уже ради того впечатления, из которого слагается в умах туземцев общее понятие о характере и значении целой национальности».
«Сильный характер, энергия, решимость».
«Цветущее здоровье, крепкие мускулы и еще лучше атлетическое сложение».
«Путешественник должен быть отличным стрелком и еще лучше страстным охотником».
Трудолюбие и выносливость. Решая посвятить себя исследованию далеких пустынных стран, путешественник должен знать, что «не ковром там будет постлана ему дорога, не с приветливой улыбкой встретит его дикая пустыня, и не сами полезут ему в руки научные открытия. Нет! Ценою тяжелых трудов и многоразличных испытаний, как физических, так и нравственных, придется заплатить даже за первые крохи открытий». Путешественник «не должен гнушаться никакой черной работы, как, например, вьюченья верблюдов, седланья лошадей, укладки багажа»; «не должен иметь избалованных вкуса и привычек, ибо в путешествии придется жить в грязи и питаться чем бог послал; не должен знать простуды, так как зиму и лето станет проводить на открытом воздухе; должен быть отличным ходоком».
Для путешественника, возглавляющего экспедицию в далекие страны, «на первом плане должна стоять забота об удачном выборе спутников». Но задача не только в том, чтобы выбрать людей, — нужно еще и сплотить их вокруг задуманного дела. «Весь отряд должен жить одною семьею и работать для одной цели под главенством своего руководителя».
Пройти через все опасности и лишения, с которыми связана научная экспедиция в недоступные, неведомые области земного шара, — по силам только людям особенно закаленным, привыкшим подчиняться самой суровой дисциплине, связанным узами наиболее надежного товарищества. Естественно, что таким отрядом мог быть именно военный отряд. «Состав экспедиции из статских людей едва ли возможен, — пишет Пржевальский. — В таком отряде неминуемо воцарится неурядица, и дело скоро рушится само собой. При том же военный отряд необходим, чтобы гарантировать личную безопасность самих исследователей». «Начальник экспедиции и его помощники также будут надежнее из людей военных». «Дисциплину в отряде следует ввести неумолимую, рядом с братским обращением командира с своими подчиненными».
Горячая любовь к Родине и страсть к дальним странствованиям проявились у Пржевальского еще в ранней юности. Из года в год, неутомимой работой, он развивал в себе все качества, необходимые путешественнику-исследователю.
Замыслы путешествий, тщательная подготовка к ним, длительные экспедиции с их ежедневным тяжелым трудом, лишениями, опасностями и радостью научных открытий, — в это Пржевальский вложил себя целиком. Он смотрел на свои путешествия как на «службу для науки и для славы русского имени». Рассказ о его жизни — это рассказ о том, как он стал путешественником и как он путешествовал.
Иной жизни у него не было. Иной страсти он никогда не знал. Даже годы детства, отрочества и ранней юности были школой его будущих странствий.
Пржевальский жил в ту эпоху, когда русская культура утверждала свое мировое значение.
Годы жизни и деятельности Пржевальского — это те годы, когда творили Толстой и Чайковский, когда русская наука подарила миру периодическую систему элементов Менделеева, эмбриологические открытия Ковалевского, учение о рефлексах головного мозга Сеченова, теорию фагоцитоза Мечникова, физиологию растений Тимирязева.
Столь же велики в это время заслуги русских перед географической наукой.
На протяжении девятнадцатого века Россия проторяла новые торговые пути, завоевывала новые рынки, расширяла свои владения. Ход развития России требовал разнообразных и обширных географических исследований. И через весь девятнадцатый век тянется длинный ряд замечательных открытий, сделанных русскими путешественниками.
История русских путешествий уже насчитывала к этому времени ряд столетий. Еще в пятнадцатом веке тверской гость Афанасий Никитин ходил в Индию, в шестнадцатом — казаки Петров и Ялычев проникли в Китай, в семнадцатом — казаки Поярков, Хабаров, Дежнев, Атласов проложили путь через Восточную Сибирь, в восемнадцатом — моряки Малыгин, Челюскин, Лаптевы исследовали северные берега Азии.
В конце восемнадцатого века, отправясь «на знаемые и незнаемые острова для производства пушного промысла и всяких поисков и заведения добровольного торга с туземцами», небогатый рыльский купец Шелехов водрузил флаг России в Новом Свете. И русские корабли, которым победы Ушакова и Сенявина открыли путь в дальние моря, двинулись вокруг всей земли к русским поселениям на северо-западных берегах Америки.
Весь земной шар обошли в первые три десятилетия девятнадцатого века корабли Крузенштерна и Лисянского, Беллинсгаузена и Лазарева, Головнина, Литке, Станюковича. На карте мира, от Антарктиды до Аляски, появились русские названия, — названия вод и земель, открытых моряками России. За много тысяч километров от русских границ — во льдах Антарктики — есть остров Петра I. Из вод Тихого океана поднимаются острова Бородино, Смоленск, Малоярославец. Пролив Головнина между двумя островами Курильского архипелага, мыс Литке в Беринговом проливе, острова Прибылова и Баранова у берегов Америки и множество других имен на карте земного шара рассказывают нам славную историю русских открытий.
Однако географические исследования русских были направлены главным образом не за океаны, а на прилегающие к России области суши.
В девятнадцатом веке Россия овладевала обширными территориями в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Не только для правительства, но и для ученых новые русские владения и соседние с ними страны были неведомой областью. Изучение их природных богатств, путей сообщения, населения было важно и для науки и для русского государства.
Размах начавшихся географических исследований вскоре же потребовал создания всероссийской организации, которая располагала бы средствами для снаряжения многочисленных экспедиций и руководила бы деятельностью исследователей. В 1845 году по инициативе виднейших русских ученых было создано Русское географическое общество.
Руководителем этой замечательной организации стал выдающийся русский гидрограф и исследователь Арктики — адмирал Ф. П. Литке. Среди основателей общества мы видим и других известных русских мореплавателей-ученых — адмиралов И. Ф. Крузенштерна и Ф. П. Врангеля, а среди деятелей его — знаменитых путешественников-исследователей П. П. Семенова-Тян-Шанского, адмирала Г. И. Невельского, Н. А. Северцова и других представителей передовой русской науки.
Правительство было весьма заинтересовано в создании общества: ведь его исследовательская деятельность должна была способствовать освоению новых русских территорий и доставлять разнообразные сведения о соседних азиатских странах. К тому же правительство радо было «разделить» с русскими учеными славу их открытий. Поэтому официально оно взяло Географическое общество под свою «опеку», но средства на экспедиции отпускало ему крайне скаредно. Только дарованиям русских ученых, их самоотверженной преданности отечественной науке, их неутомимой энергии обязано Русское географическое общество своими исключительными успехами.
В истории исследований и открытий создание Русского географического общества сыграло важную роль. Общество объединило все силы русской географической науки и содействовало блистательному ее развитию. Один географ девятнадцатого века метко назвал Русское географическое общество «министерством географических исследований и открытий».
Создание «географического министерства» положило начало эпохе замечательных путешествий Семенова-Тян-Шанского, Северцова, Пржевальского, Миклухо-Маклая, Воейкова, Потанина, Козлова, Грум-Гржимайло, Обручева. Эта великая эпоха путешествий выдвинула русскую географическую науку на одно из первых мест в мировой науке о земле и на первое место в области исследования Центральной Азии.
Именно в первые годы этой эпохи воспитывался Пржевальский, определялись его интересы, складывалось его мировоззрение. Научные путешествия в те времена уже приковывали к себе внимание широких общественных кругов. В обществе уже выработалось понятие о «призвании путешественника», подобном призванию воина, ученого, поэта, художника, — столь же почетном и заслуживающем того, чтобы посвятить ему жизнь.
«Сильная, с детства взлелеянная страсть к путешествию» (этими словами Пржевальский начинает первую свою книгу) была посеяна и взращена в его душе современным ему русским обществом.
Предок Пржевальского по отцу был запорожский казак. Предания об отважном запорожце Корниле Анисимовиче с детства запечатлелись в душе Пржевальского, и в русском казаке он всегда видел воплощение драгоценных человеческих свойств — отваги, выносливости, предприимчивости. Именно казаков выбирал он себе в спутники во всех путешествиях. Многолетняя дружба связывала Пржевальского с казаками Иринчиновым и Телешовым.
В одном письме к другу, написанном перед выступлением в первое путешествие по Центральной Азии, Пржевальский сравнил себя с «самим Ермаком Тимофеевичем». Это сравнение не случайно: путешествия Пржевальского явились как бы историческим продолжением походов знаменитых казаков-«землепроходцев» — Ермака, Пояркова, Дежнева, Хабарова, Атласова, открывших громадные области Азии, неведомые до них ни одному европейцу.
Дед Николая Михайловича по матери был безземельным крепостным крестьянином — «дворовым человеком». Взятый на военную службу, Алексей Каретников, благодаря исключительным способностям, быстро сделал карьеру, небывалую для рекрута из крепостных, и выслугой чина приобрел не только вольность, но и дворянство. Поступив на гражданскую службу, Алексей Степанович составил себе небольшое состояние и, выходя в отставку, купил в Смоленской губернии имение Кимборово.
Здесь, 31 марта 1839 года[1], и родился его внук — Николай Пржевальский.
Отец Пржевальского, офицер-инвалид, имевший лишь скудную пенсию, умер, когда Коле было семь лет, а его брату Володе — шесть. Мать, получив по завещанию ничтожное наследство, отстроила неподалеку от Кимборова небольшую усадьбу — Отрадное. Средств, которые доставляло отрадненское хозяйство, едва хватало Елене Алексеевне для того, чтобы воспитывать двух детей.
Усадьбу окружала дикая глушь смоленских лесов. Медведи бродили в брусничниках и малинниках, а ночью забирались в отрадненские овсы. Кабаны по тростниковым заводям охотились за раками в тине. Рыси, притаившись в ветвях над кабаньими тропами, подстерегали добычу. Глухари, ощипав ягоду в чащах, летали на хлеба.
«Рос я в деревне дикарем, — рассказывает Пржевальский. — Воспитание было самое спартанское».
Коля и его меньшой брат Володя привыкли выходить из дому во всякую погоду, в одной рубашке выбегали под проливной дождь или на снег. Целые дни проводили они в лесу, пускали стрелы из самодельных луков, лазали по деревьям, отыскивая птичьи гнезда. «Розог немало досталось мне в ранней юности, — вспоминал впоследствии Пржевальский, — потому что я был препорядочный сорванец».
В годы раннего детства сказки няни Макарьевны заменяли Коле чтение. Книг в Отрадном почти не было. Только офени-коробейники вместе с «ситцами и парчой», вместе с «мылами пахучими — по две гривны за кусок» приносили в Отрадное и книги, — все больше лубочные издания вроде знаменитой «Битвы русских с кабардинцами» и «Страшного клада или татарской пленницы». Но иногда в коробах офеней попадались и разрозненные номера литературных журналов, чаще всего — многолетней давности: номера «Отечественных записок», где в сороковые годы сотрудничали Белинский и Т. Грановский, некрасовского «Современника», «Библиотеки для чтения» Сенковского.
Лет с восьми Коля Пржевальский жадно читал все, что попадалось в руки, и прочитанное врезывалось ему в память на всю жизнь. В журналах Коля находил описания путешествий. Рассказы о странствованиях в далеких странах производили на мальчика неизгладимое впечатление.
Когда Коле минуло десять лет, а его брату Володе девять, их отвезли в Смоленскую гимназию.
Это учебное заведение было совершенно в духе того времени. Здесь больше секли, чем обучали. Дворянские сынки по нескольку лет оставались в одном классе. Рядом с десятилетними мальчуганами, только что сменившими короткие штаны на длинные гимназические, сидели двадцатилетние ленивцы, у которых уже густо росла борода.
«Подбор учителей, — вспоминал впоследствии Пржевальский, — за немногими исключениями, был невозможный; они пьяные приходили в класс, бранились с учениками, позволяли себе таскать их за волосы. Из педагогов особенно выделялся в этом отношении один учитель. Во время его класса постоянно человек пятнадцать было на коленях». Инспектор, как рассказывает Пржевальский, каждую субботу сек воспитанников «для собственного удовольствия».
Среди своих одноклассников Коля Пржевальский оказался самым юным, но самым сильным и способным. Вскоре же он стал вожаком своего класса, никто не смел задирать его или при нем обижать новичков, за которых он всегда заступался.
Как-то один из невежественных и пьяных самодуров-учителей несправедливо поставил всему классу плохие отметки. Возмущенные гимназисты решили уничтожить классный журнал. Дело было поручено Коле Пржевальскому. В тот же день журнал исчез в волнах Днепра.
Четыре дня начальство искало виновного, четыре дня весь класс сидел на хлебе и воде. Гимназисты молчали. Начальство пригрозило им исключением из гимназии. Тогда Коля взял всю вину на себя, и его одного наказали — жестоко высекли розгами.
Учился Коля прекрасно. Память у него была такая, что, прочитав урок один раз, он отвечал отлично. И все-таки, вспоминая годы, проведенные в гимназии, Пржевальский говорил: «Скажу поистине, слишком мало вынес оттуда… Дурной метод преподавания делал решительно невозможным, даже при сильном желании, изучить что-либо положительно».
Гораздо больше, чем школьные наставники, сделал для воспитания будущего путешественника дядя его — Павел Алексеевич Каретников. Этот страстный охотник и знаток природы помог развиться наклонностям, которые Коля обнаруживал с малых лет. Еще в самом раннем детстве Коля больше всех других сказок Макарьевны любил слушать про «Ивана — великого охотника», часами он мог следить за вознею птиц в гнезде. Когда мальчик подрос, Павел Алексеевич стал брать его с собой на охоту. Коля учился наблюдать жизнь леса и его обитателей.
В двенадцать лет Коля получил от дяди драгоценный подарок — охотничье ружье. Коля тогда проводил в Отрадном пасхальные каникулы. Мальчик так увлекался охотой, что когда ручей преграждал ему путь, он — в эту холодную пору ранней весны — раздевался донага, переходил вброд ручей и продолжал преследовать дичь.
Вскоре он в первый раз выследил и убил лисицу и, гордый своею добычей, прибежал показать ее матери. Впоследствии его пули разили медведей в лесах Уссурийского края и диких яков в горах Тибета, но ни одна даже самая диковинная добыча не порадовала его так, как эта первая его лисица!
На рождество, на пасху и на летние каникулы Коля приезжал из Смоленска в Отрадное. Охота тут была богатая, и он почти ежедневно приносил к столу дичь.
В стужу, в жару, в метель, в дождь бродил юный охотник по лесам и болотам Смоленщины. Эти продолжительные прогулки с ружьем закаляли здоровье, развивали наблюдательность. Коля ближе знакомился с природой, приобретал охотничьи навыки. Он стал неутомимым ходоком. В зрелые годы он не привез бы из своих экспедиций тысячи экземпляров птиц, рыб и зверей, если бы гимназистом, во время каникул, не пропадал на охоте и на рыбной ловле от предрассветной темени до вечерних потемок. Смоленские леса были первой школой его будущих странствий.
Весною и осенью над его головой пролетали стаи дергачей, куликов, журавлей, и у мальчика, провожавшего их глазами, рождалось желание лететь вместе с ними — туда, где в знойных пустынях синеют озера и медленно движутся пересыпаемые ветром песчаные холмы. Увидеть то, чего еще никто не видел! Добраться до тех мест, где еще не побывал человек! Первым вступить в неведомую страну!
Пржевальский был в шестом классе гимназии, когда началась Крымская война.
Рост могущества России в девятнадцатом веке, в частности усиление ее позиций на Ближнем Востоке, стремление России открыть себе свободный путь через Босфор и Дарданеллы, — все это вызывало яростное противодействие соперничавших с ней мировых держав — Англии и Франции. Орудием в руках этих держав служила Турция. На стороне России были симпатии славянских и других народов Балкан, томившихся под турецким владычеством.
Войну против России вначале вела одна Турция. В ноябре 1853 года русские войска в Закавказье разгромили главные силы турецкой армии, превосходившие их численно более чем в три раза. В это же время отряд русских кораблей под командованием Нахимова уничтожил на Синопском рейде турецкий черноморский флот.
Разгром турецкой эскадры ускорил вступление в войну Англии и Франции.
Высадив в Крыму большой десант, неприятель в ночь на 28 сентября 1854 года приступил к осаде Севастополя. Началась 11-месячная героическая Севастопольская оборона.
В городах России, «в каждом доме на вечерах щипали корпию», — вспоминает один современник Пржевальского. «Рекрутские наборы следовали один за другим. Мы постоянно слышали причитания крестьянок».
В 1855 году Пржевальский с отличием окончил Смоленскую гимназию. В это время, далеко на юге, пороховой дым окутывал изрытые ядрами севастопольские бастионы. «Геройские подвиги защитников Севастополя, — вспоминал впоследствии Пржевальский, — постоянно разгорячали воображение 16-летнего мальчика, каким я был тогда. Не имея ни малейшего понятия о действительной обстановке этой (военной —
Но вступить в ряды армии Пржевальскому удалось только к осени, когда севастопольская эпопея уже окончилась. 27 августа русские войска оставили дымящиеся развалины города, под которыми были погребены восемьдесят тысяч героев и среди них — Корнилов, Истомин, Нахимов.
Неудачная война усилила в широких кругах русского общества недовольство всем укладом крепостной России. Громче, чем прежде, стали раздаваться требования реформ, — прежде всего отмены крепостного права, но также и всестороннего преобразования государства, включая и армию.
Пржевальскому, при его наблюдательности и впечатлительности, пороки николаевской армии не могли не броситься в глаза, а армейская служба, нисколько не походившая на его мечты о геройских подвигах, должна была показаться особенно тягостной.
Определенный на службу в Рязанский пехотный полк, Пржевальский в своих письмах к матери, в первом своем литературном опыте — «Воспоминания охотника» (1862) и позднее в своей автобиографии рассказал о глубоком разочаровании, которое он испытал, попав в армейскую обстановку тех лет.
Офицеры в полку решительно ничего не делали, все время проводили в попойках и за игрою в карты. Для своих обедов они заставляли солдат воровать у — населения птицу. На юнкеров офицеры просто не обращали внимания, с солдатами обращались жестоко.
Пржевальский с отвращением писал матери о юнкерах, с которыми ему пришлось служить в одной команде: «Бóльшая часть из них негодяи, пьяницы, картежники». Пржевальский сторонился их разгульной компании.
Ротный командир — пропойца и самодур — не раз вызывал к себе Пржевальского и приказывал ему пить, чтобы «не порочить чести мундира». Ротный всячески грозил Пржевальскому, высмеивал его. Ничего не добившись ни насмешками, ни угрозами, ротный в конце концов проникся уважением к твердой, воле молодого офицера: «Из тебя, брат, прок будет!»
После года службы, 24 ноября 1856 года, Пржевальский был произведен в прапорщики и переведен в Полоцкий пехотный полк, стоявший в городе Белом, Смоленской губернии. Брат Пржевальского, Владимир Михайлович, передает следующий его рассказ:
«Офицеров этого полка никто не хотел пускать на квартиру. На площадке среди города был нанят особый дом. Посреди комнаты стояло ведро с водкой и стаканы. День начинался и кончался пьянством вперемежку со скандалами. Местные жители обходили этот дом далеко, чтобы не попасть на глаза офицерам и избежать скандала»… В Белом, а затем в Кременце, куда в 1860 году был переведен полк, Пржевальский с волнением прислушивался к толкам о предстоящих реформах, о долгожданном освобождении крестьян.
Царское правительство и помещиков вынуждала вступить на путь реформ создавшаяся в России в 1859–1861 годах политическая ситуация, которую Ленин охарактеризовал как «революционную»[2]. Эту ситуацию в России создали неуклонно учащавшиеся и ширившиеся крестьянские волнения и сопровождавший их революционный подъем в передовых кругах интеллигенции.
Широкий общественный подъем в значительной степени был подготовлен деятельностью великих русских революционных демократов — Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова.
Революционные демократы, боровшиеся за реалистическое мировоззрение, за материализм, за революционное переустройство государственного и общественного строя России, оказали огромное влияние на русскую интеллигенцию. Они воспитали поколение «шестидесятников» — людей передовых общественных и научных взглядов.
Демократические идеи Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова проникали во все слои русского общества, даже и в ту среду, которая являлась опорой самодержавно-помещичьего строя, — в среду офицерства, к которому принадлежал и Пржевальский.
Во флоте, в армии, во всех родах войск нашлись офицеры, пожелавшие служить народу, а не царю. Одни, как лейтенант Станюкович, сын влиятельного адмирала, отказывались от блестящей офицерской карьеры, чтобы стать народными учителями. Другие, как полковник корпуса лесничих Шелгунов, выходили в отставку, чтобы посвятить себя пропаганде демократических взглядов. Отдали жизнь в борьбе с самодержавием офицеры Потебня, Черняк, Иваницкий, Станкевич.
Недовольство существующими порядками чувствовали многие молодые офицеры. К числу их принадлежал и Пржевальский. «Я невольно, — писал он впоследствии, вспоминая то время, — задавал себе вопрос: где же нравственное совершенство человека, где бескорыстие и благородство его поступков, где те высокие идеалы, пред которыми я привык благоговеть с детства? И не мог дать себе удовлетворительного ответа на эти вопросы, и каждый месяц, можно сказать, каждый день дальнейшей жизни убеждал меня в противном, а пять лет, проведенных на службе, совершенно переменили мои взгляды на жизнь и человека… Я хорошо понял и оценил то общество, в котором находился».
Эта отрицательная оценка господствовавшего сословия и общественных порядков того времени характерна для передовой русской интеллигенции шестидесятых годов.
Впоследствии, как мы увидим, Пржевальский, описывая положение русских переселенцев на Дальнем Востоке, разоблачал акты насилия царских властей и спекулятивные аферы дальневосточного купечества. В своих книгах о Центральной Азии он критиковал отсталый феодальный строй центрально-азиатских стран.
Однако связь Пржевальского с передовыми идеями пятидесятых-шестидесятых годов ярче всего проявилась в его деятельности натуралиста и географа, которой он посвятил себя целиком.
В середине XIX века в формировании мировоззрения передовой русской интеллигенции громадную роль играли успехи естественных наук. Энгельс писал, что естествознание в XIX веке стало «системой материалистического познания природы»[3], что именно благодаря замечательным открытиям в этой области «материалистическое мировоззрение, в наше время несомненно более обосновано, чем в прошлом столетии»[4].
К естественно-научному материализму пришли русские революционные демократы — Герцен и Чернышевский.
Их материалистические взгляды, а также пропаганда изучения естественных наук, которую вел Писарев, оказали большое влияние на молодое поколение русской интеллигенции. Тургенев в романе «Отцы и дети» (1862) отметил распространившийся среди молодежи страстный интерес к естествознанию.
В числе многих молодых людей, глубоко захваченных этим интересом, был и Пржевальский. Утоления той умственной и нравственной неудовлетворенности, от которой он начал страдать с самого начала своей военной службы, Пржевальский стал искать прежде всего в изучении природы. Передвигаясь вместе со своим полком, Николай Михайлович собирал гербарий растений тех местностей, в которых он бывал. Все свободное от службы время он бродил с ружьем по болотам или собирал травы.
«Это, — вспоминал он впоследствии в своей автобиографии, — навело меня на мысль, что я должен непременно отправиться путешествовать». Теперь это уже были не детские мечты о странствиях, но зрелое решение стать путешественником-исследователем.
Служа в полку, Пржевальский усердно изучал труды по ботанике, зоологии, географии.
Именно в это время, в пятидесятых-шестидесятых годах, начинался расцвет русского естествознания. Представленное трудами одного из русских предшественников Дарвина — К. Ф. Рулье, замечательными исследованиями Сеченова, Ковалевского, Мечникова, Тимирязева, — передовое русское естествознание стояло на позициях материализма и эволюционного учения.
Дарвин, утвердивший в науке это учение, по определению Ленина, «положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, «богом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними…»[5]
Пржевальский усвоил принципы этого учения и впоследствии постоянно исходил из них при исследовании животного и растительного мира. Причины сходства и различия в признаках между тем или иным новооткрытым им видом и ближайшими представителями того же рода, — например, между дикой «лошадью Пржевальского» и домашней лошадью, — Пржевальский искал в истории развития этих видов от общего предка при различных условиях (пища, климат, местность, образ жизни).
В целом свою задачу путешественника-исследователя Пржевальский понимал как ученый, стоящий на позициях естественно-научного материализма: строение земной поверхности изучаемой страны, ее климат, растительный и животный мир он постоянно рассматривал в их взаимной тесной связи.
Рано пробудившаяся в Пржевальском страсть к изучению природы вполне объясняет нам, почему из элементов прогрессивной идеологии пятидесятых-шестидесятых годов он успешно усвоил и развил в своей деятельности именно естественно-научный материализм, в частности — материалистическое учение об эволюции видов.
Страстный патриотизм заставил Пржевальского смотреть на свои научные исследования как на дело национальное, как на «службу для науки и для славы русского имени». Поэтому повсюду в тех далеких странах, куда он проникал, Пржевальский, как мы увидим, чувствовал себя не только ученым, но и представителем своей нации, престиж которой он «нравственно обязан высоко держать».
«Прослужив пять лет в армии, — рассказывает Пржевальский, — протаскавшись в караулы и по всевозможным гауптвахтам, и на стрельбу со взводом, я, наконец, ясно сознал необходимость изменить подобный образ жизни и избрать более обширное поприще деятельности, где бы можно было тратить труд и время для разумной цели».
Итак, решение стать путешественником принято окончательно. Какую же часть света отправиться исследовать?
В начале шестидесятых годов внимание европейских географов приковано к Африке. Экспедиции, одна за другой, отправляются вглубь Черного материка. В исследовании его соревнуются все страны Европы.
Не отправиться ли и Пржевальскому в Африку?
Но столь же неисследованная область земного шара расстилается и у самой русской границы, у рубежей недавно присоединенных к России среднеазиатских и дальневосточных территорий. Эта область — Центральная Азия. Ее исследование для России и для русской науки — задача несравненно более важная, чем исследование Африки!..
«Сильная, с детства взлелеянная страсть к путешествию», жажда научных открытий — сочетались в Пржевальском с любовью к отечеству, с горячим желанием потрудиться ему на пользу. Естественно, что Пржевальский решил посвятить свою жизнь исследованию не Африки, но Азии.
Рассчитывая, что экспедицию в Центральную Азию легче будет организовать в граничащей с нею Сибири, молодой офицер подал по начальству прошение о переводе его на Амур.
Начальство не оставило прошение без ответа: Пржевальского посадили под арест на трое суток.
Но Пржевальский был не таким человеком, которого могла остановить неудача. «Я верю в свое счастье», — писал Николай Михайлович. Он стал готовиться в Академию генерального штаба, чтобы, окончив ее, добиться назначения в Восточную Сибирь.
Как ни тяготился Пржевальский службой в полку, но и она была полезной школой для будущего путешественника. Военная выучка пригодилась ему впоследствии, когда в глубине азиатских пустынь он с кучкой отважных спутников обращал в бегство многолюдные разбойничьи шайки, рассчитывавшие поживиться вьюками его каравана.
Служа в полку, Пржевальский по шестнадцать часов в сутки занимался подготовкой к экзаменам в Академию. Однополчане прозвали его «ученым».
Стояло лето 1861 года. Несколькими месяцами ранее, 19 февраля, царь подписал манифест, в котором объявлялось, что «крепостное право на крестьян отменяется навсегда».
Отмены крепостного права настоятельно требовало экономическое развитие России. «И после 61-го года, — пишет Ленин, — развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века»[6]. «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка».[7]
Однако Ленин подчеркивал, что «крестьян «освобождали» в России сами помещики…»[8] Поэтому «пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними»[9].
Крестьяне встретили «Положение» 19 февраля 1861 года массовыми волнениями. Власти подавляли их вооруженной силой.
Широкому движению крестьянских масс сопутствовал также революционный подъем в передовых кругах интеллигенции. Революционные демократы Чернышевский, Герцен, Огарев, Шелгунов выступили с резкой критикой реформы.
Чернышевский писал, что из «освобождения» крестьян «выйдет мерзость». Он говорил о крестьянской реформе: «Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение!» «Освобождение — обман», — писал Герцен в своем «Колоколе». Огарев заявлял: «Старое крепостное право заменено новым… Народ царем обманут».
Революционные настроения интеллигенции — в особенности молодежи — проявлялись сильнее всего в Петербурге. После студенческих беспорядков 1861 года власти даже сочли необходимым закрыть Петербургский университет.
Именно в это время (летом 1861 года) Пржевальский «с тощим кошельком и большими надеждами на будущее», — как пишет один из его биографов, — приехал в Петербург, чтобы держать экзамен в Академию генерального штаба.
До нас не дошло ни одного прямого свидетельства о том, как откликнулся Пржевальский на события 1861 года, о том, как отнесся он к реформе, сократившей крестьянские наделы и заменившей крепостную зависимость крестьянина трудовой и денежной повинностью за пользование наделом. Нет свидетельств и о том впечатлении, которое произвели на Пржевальского акты насилия, сопровождавшие введение реформы. Но зная — позднейшие его высказывания о положении земледельцев, невозможно допустить, чтобы он мог быть удовлетворен реформой.
Так в своем «Путешествии в Уссурийском крае» (1870), описывая бедствия земледельцев (казаков и крестьян) на Дальнем Востоке, Пржевальский осуждал «принудительную барщинную систему и суровые меры, ее сопровождавшие». Он возмущался таким положением, при котором земледельцы «бóльшую часть своих заработков должны были отдавать теперь в уплату прежде сделанного долга». «Все это в долг и в долг! — с горечью писал Пржевальский. — Когда же он будет выплачен?.. Быть может, все еще надеются на лучшее будущее?.. Но увы! едва ли это будущее может быть лучшим. Без коренных изменений в самом устройстве населения нет никакой вероятности надеяться на что-либо более отрадное против настоящего».
В своей книге «От Кяхты на истоки Желтой реки» (1888) Пржевальский с большим сочувствием рассказал о положении земледельцев в Восточном Туркестане: «На семью в 5–6 душ едва ли придется 1½ — 2 десятины земли; обыкновенно земельный надел еще меньше… К столь незавидной доле следует еще прибавить полную деспотию всех власть имущих, огромные подати, эксплоатацию кулаков, чтобы понять, как не сладко существование большей части жителей».
Невозможно предположить, чтобы страдания родного народа вызывали у Пржевальского меньше сочувствия, чем страдания чужеземцев…
ß бурное лето 1861 года Пржевальский усиленно готовился к экзаменам, потом блестяще сдал их и осенью приступил к занятиям в Академии. Сильно нуждаясь, живя впроголодь, Николай Михайлович обучался здесь военным наукам, а все свободное время посвящал изучению трудов по географии, ботанике, зоологии.
Сохранилось много рассказов о замечательной памяти Николая Михайловича. По словам его товарища по Академии — Фатеева, Пржевальский часто предлагал раскрыть знакомую книгу на любой странице и прочитать вслух одну-две строки, а затем уже сам продолжал наизусть целые страницы, нисколько не отступая от текста.
Только по одному предмету Пржевальский получил в Академии плохую отметку. Будущий великий географ, определивший впервые десятки пунктов в Центральной Азии, заснявший глазомерной съемкой тысячи километров неведомых до него пространств и прославившийся точностью своих карт, получил такой низкий балл за практическую съемку местности, что его едва не исключили из Академии!
Произошло это потому, что Пржевальского послали на съемку в Боровичский уезд, не представлявший для него ни малейшего географического интереса. Зато охота здесь была отличная, и она настолько захватила страстного охотника, что съемке он не уделял почти никакого внимания.
Весной 1863 года Пржевальский окончил Академию и был произведен в поручики.
Один из его товарищей так описывает его в эту пору: «Он был высокого роста, хорошо сложен, худощав, симпатичен по наружности и несколько нервен. Прядь белых волос в верхней части виска при общей смуглости лица и черных волосах привлекала к себе невольное внимание».
В конце 1864 года мы видим Николая Михайловича преподавателем географии в Варшавском юнкерском училище.
В Варшаве он познакомился с известным зоологом В. К. Тачановским, большим знатоком орнитологической фауны Азии. Много нужных сведений почерпнул у него Николай Михайлович, а главное — научился прекрасно препарировать птиц и набивать чучела. Драгоценным приобретением оказалось впоследствии это искусство для путешественника, собравшего замечательные коллекции, обогатившие науку.
Для юнкеров Варшавского училища Пржевальский написал превосходный «Учебник всеобщей географии», который долгое время служил руководством не только для многих учебных заведений России, но получил распространение далеко за ее пределами.
Не один еще год пройдет, прежде чем Пржевальский отправится в первое свое путешествие. Сейчас он только преподаватель географии. Нo русские путешественники уже приняли его в свою семью. Русское географическое общество, прославленное именами Беллинсгаузена, Семенова-Тян-Шанского, Невельского, избрало молодого, еще безвестного Пржевальского своим действительным членом.
Этой чести Пржевальский удостоился за первую свою географическую работу — «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», написанную еще в Академии. По отзыву Семенова-Тян-Шанского эта работа «основана была на самом дельном и тщательном изучении источников, а главное на самом тонком понимании страны».
Избрание произошло 5 февраля 1864 года. Это было как бы посвящение Пржевальского в путешественники.
В Варшаве Пржевальский снова подал по начальству прошение о переводе его в Сибирь. В ожидании удовлетворения своего ходатайства он деятельно готовился к будущим путешествиям.
В тиши своего рабочего кабинета в юнкерском училище Пржевальский странствовал по картам Азии, переваливал через горные хребты, углублялся в песчаные и солончаковые степи. Книги, написанные предшественниками Пржевальского, рисовали ту отрывочную и искаженную картину Центральной Азии, которую ему предстояло вскоре заново переписать с натуры.
И вот, наконец, пришел долгожданный приказ о переводе в Восточную Сибирь!
В конце января 1867 года, на пути в Сибирь, Пржевальский, молодой офицер, еще не совершивший ни одной экспедиции, впервые встретился в Петербурге со знаменитым путешественником Семеновым-Тян-Шанским. Пржевальский изложил ему свой замысел путешествия в Центральную Азию и просил содействия Русского географического общества, в котором Семенов занимал видное положение.
Вполне понятно, почему Николай Михайлович обратился не к руководителю общества Литке, ученому океанографу и исследователю Арктики, а именно к Семенову, за несколько лет до того совершившему замечательное путешествие в недоступные горные области Центральной Азии. Кому мог быть ближе, чем Семенову, заветный замысел Пржевальского?
Снарядить дальнюю экспедицию под руководством человека, который еще не проявил себя как путешественник и был неизвестен в научном мире, отпустить ему для этой цели средства общество не решилось. Но из знакомства с Пржевальским Семенов, по собственным словам, вынес впечатление, «что из талантливого молодого человека может выйти замечательный путешественник».
Сам Пржевальский был уверен в том, что его путешествие в Центральную Азию должно привести к важным научным открытиям. Нужно сказать, что он с такой прямодушной наивностью выражал эту уверенность, что и Семенов и другие географы старшего поколения при первом знакомстве с Пржевальским приписали ее излишней «самонадеянности молодого человека».
«Последствия показали, однако же, — пишет один из них, В. Липинский, — что в уверенности этой оказывалась сила гения, проявление которого весьма рельефно обнаружилось в труде, к которому он готовился».
В воспоминаниях о Пржевальском Семенов так рассказывает об окончании их разговора:
«Я обещал Николаю Михайловичу, что если он на собственные средства сделает — какие бы то ни было интересные поездки и исследования в Уссурийском крае, которыми докажет свою способность к путешествиям и географическим исследованиям, то, по возвращении из Сибири, он может надеяться на организацию со стороны Общества под его руководством более серьезной экспедиции в Среднюю Азию».
Таким образом, для того, чтобы открыть себе заветный путь в далекие неведомые страны, Пржевальскому нужно было прежде «сдать экзамен на путешественника», совершить пробное путешествие по неисследованной окраине самой России — по присоединенному к русскому государству всего лишь за несколько лет до того Уссурийскому краю.
С рекомендательными письмами Семенова Пржевальский в конце марта 1867 года прибыл в Иркутск к начальнику штаба сибирских войск и председателю Сибирского отдела Русского географического общества — генералу Б. К. Кукелю.
Незадолго до того генерал Кукель, умеренный либерал, которого правительство подозревало «в связях с революционерами», был смещен c поста губернатора Забайкальской области. Два жандарма ждали его в Иркутске, чтобы везти в Петербург. В Петропавловской крепости для него уже был приготовлен каменный гроб. Но заступничество его покровителя — члена Государственного совета H. H. Муравьева-Амурского — спасло Кукеля.
Пржевальского генерал Кукель принял ласково и обещал вскоре командировать его в Уссурийский край для исследования этой обширной и неизученной окраины Российской империи. Николай Михайлович стал готовиться к путешествию. Он по целым дням просиживал в библиотеке Сибирского отдела Общества, читая рукописи и книги, в которых можно было почерпнуть сведения об Уссурийском крае.
В мае 1867 года Пржевальский дождался, наконец, командировки, о которой мечтал.
Едва ли какой бы то ни было путешественник-исследователь того времени был лучше подготовлен к первому своему путешествию, чем Пржевальский. Отправляясь на Уссури, Николай Михайлович знал все, что уже было известно об этом крае, благодаря нескольким экспедициям предшествующих лет. Он знал, какие его местности еще никем не исследованы, какие географические задачи, связанные с его изучением, еще не решены. Пржевальский обладал всеми нужными знаниями, навыками и способностями для того, чтобы произвести эти исследования, решить эти задачи. Не менее подготовлен он был также и в области зоологии и ботаники. Взглянув на растение, животное или птицу, он легко мог бы определить — водятся ли они и в Европейской России, или принадлежат исключительно к растительно-животному царству Восточной Сибири, упоминают ли о них исследователи, путешествовавшие по Уссури до него. К тому же Николай Михайлович был опытным охотником, умел искусно препарировать шкурки и высушивать растения.
Тем не менее, в многочисленных работах экспедиции путешественнику необходим был помощник. В своей автобиографии Пржевальский рассказывает: «Тут случайно зашел ко мне из штаба Ягунов, только что поступивший в топографы. Мы разговорились. Ягунов настолько понравился мне, что я предложил ему ехать со мной на Уссури, тот согласился».
Знакомство с Ягуновым завязалось случайно, но не случайно Пржевальский выбрал его своим спутником. Впоследствии Пржевальский не раз говорил о том, какими именно качествами должны обладать участники экспедиции. «Посоветовать же можно при выборе помощников не исключительно гоняться за их специальными знаниями, но обращать также большое внимание и на нравственные качества человека; притом брать людей молодых, сильных и энергических». «Желательно было бы, чтобы юноша поехал по увлечению, а не из-за денег».
Шестнадцатилетний Ягунов, сын бедной ссыльной поселянки, юноша здоровый, способный и усердный, которого очень привлекала мысль пуститься в далекие странствия, был именно таким спутником, в каком нуждался Пржевальский.
Николай Михайлович стал обучать Ягунова снимать и препарировать шкурки животных, сушить растения.
Для снаряжения экспедиции не потребовалось много хлопот: термометр, компас, маршрутные карты да четыре пуда охотничьей дроби, — вот все и готово к отъезду.
23 мая 1867 года Николай Михайлович писал в Варшаву своему другу Фатееву: «Через три дня я еду на Амур, оттуда на реку Уссури, озеро Ханка и на берега Великого океана, к границам Кореи… Да! На меня выпала завидная доля и трудная обязанность — исследовать местности, в большей части которых еще не ступала нога образованного европейца. Тем более, что это будет первое мое заявление о себе ученому миру, следовательно, нужно поработать усердно».
Перед отъездом из Иркутска Пржевальский обещал друзьям: «На Уссури встречу тигра и непременно поохочусь, а может быть и убью его».
А 26 мая Николай Михайлович и его юный спутник Ягунов уже находились в пути.
«Дорог и памятен для каждого человека тот день, — писал впоследствии в своей книге Пржевальский, — в который осуществляются его заветные стремления, когда после долгих препятствий он видит, наконец, достижение цели, давно желанной.
Таким незабвенным днем было для меня 26 мая 1867 года, когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкалу и далее через все Забайкалье к Амуру».
По поручению своего начальства Пржевальский должен был собрать все сведения о живущих на Уссури маньчжурах и корейцах, о путях, ведущих к границам Маньчжурии и Кореи.
Сам же Пржевальский поставил себе целью исследовать строение земной поверхности Уссурийского края, изучить его климат, растительный и животный мир, ознакомиться с бытом и промыслами населения.
«Таким образом, — замечает Пржевальский, — на моих плечах лежали две ноши».
Роскошь и разнообразие уссурийских лесов, где растения теплых и холодных стран растут рядом, как братья, — открывались глазам молодого исследователя. В особенности поражали его ели, обвитые виноградом, пробковое дерево и грецкий орех, которые росли в соседстве с кедром или пихтой, и след медведя или соболя рядом со следом тигра.
Пржевальский плыл в лодке вверх по Уссури. Лодку он купил на Хабаровской пристани, а гребцов брал посменно в каждой станице[12]. В то время, как лодка медленно подвигалась вперед против сильного течения, Пржевальский и Ягунов шли берегом, собирая растения и стреляя попадавшихся по пути птиц. Придя в станицу, они сушили травы, препарировали птиц и набивали чучела. Пржевальский делал заметки в путевом дневнике.
Казакам цель этих занятий Пржевальского была непонятна, а трудолюбие офицера-«барина» их удивляло. Однажды старик-казак, видя, что Николай Михайлович долго не спит и сушит растения, вздохнул и с участием сказал:
— Ох, служба, служба царская, много она делает заботы и господам!
Чуть свет Пржевальский и Ягунов вставали и, наскоро напившись чаю, пускались в путь. Если утро выдавалось тихое, Уссури была гладка, как зеркало. Но зоркий глаз Николая Михайловича замечал, как здесь или там всплескивала рыба, взволновав на мгновенье поверхность воды.
Жадно наблюдал путешественник дикую жизнь, которая его окружала, и ничто не укрывалось от его взгляда. Он видел, как беспокойные морские ласточки — «крачки» — снуют по реке, часто бросаясь на воду, чтобы схватить серебристую рыбу. Как серые цапли важно расхаживают по берегу. Как мелкие кулички проворно бегают по песчаным откосам. Он слышал, как сороки, не умолкая, кричат на островах, где уже поспела их любимая ягода — черемуха. А вот высоко в воздухе носится большой стриж, который то поднимается — к облакам, так что Николай Михайлович совсем теряет его из виду, то, мелькнув молнией, падает на воду, чтобы схватить мотылька.
Лодка вплывает в узкую протоку, берега которой обросли, как стеною, густыми зелеными ивами. На длинном суку, протянувшемся над водой, сидит, как истукан, голубой зимородок, подстерегая мелких рыбешек, но, встревоженный появлением людей, поспешно улетает прочь…
Выше поднималось солнце, наступала жара, и голоса птиц смолкали. Над высокими травами уссурийских лугов появлялось множество комаров, мошек и оводов. Они облепляли путников со всех сторон. Нельзя было даже ненадолго присесть на уссурийском лугу, не разведя дымного костра.
Дневной жар сменялся прохладным вечером. Наступало время сделать привал, чтобы просушить собранные растения, приготовить чучела птиц и набросать заметки обо всем виденном в течение дня. Если до станицы было еще далеко, то, выбрав где-нибудь сухой песчаный берег, Пржевальский приказывал казакам устраиваться на ночлег.
Живо разбивали бивуак, разводили костер. Пржевальский и Ягунов принимались за свои работы, а в это время казаки варили чай и готовили незатейливый ужин.
Заходило солнце, быстро ложились сумерки. В наступающей темноте мелькали, как звездочки, светящиеся насекомые. Скоро уже ничего нельзя бьпо разглядеть кругом, можно было только слушать, и Николай Михайлович жадно прислушивался к каждому звуку ночной жизни. Где-нибудь неподалеку равномерно постукивал японский козодой. С болота доносился дребезжащий, похожий на барабанную трель, голос водяной курочки и раздавался звонкий свист камышевки.
Мало-помалу смолкали все голоса и наступала полная тишина, — разве изредка всплеснет рыба или крикнет ночная птица.
Окончив, иногда уже поздно ночью, свои работы, путешественники ложились у костра и скоро засыпали крепким сном. А уже на рассвете холод заставлял их просыпаться и спешить в дальнейший путь.
Вперед! Великий неведомый мир лежит перед путешественником. Этот мир ждет его зоркого глаза, его проницательного ума. Сколько нужно сделать наблюдений! Сколько нужно собрать и высушить трав, настрелять птиц, изготовить чучел! Сколько нужно исходить, изъездить, переплыть! Вперед!
В утренних сумерках, по пустынному берегу Уссури, через лесные дебри идет путешественник.
Исследуя берега Уссури, Пржевальский познакомился с бытом и нравами старожилов этого края — гольдов. Все интересовало Николая Михайловича — и жилища их, и охота, и рыбная ловля.
Пржевальский входил в дымные глиняные фанзы гольдов. Он внимательно разглядывал их быстро скользившие по реке оморочки — длинные, узкие и удивительно легкие берестяные лодки, послушные малейшему движению весла. Вот гольд в оморочке, с острогой в руках, выехал на рыбную ловлю. Заметив большую рыбу, гольд сразмаху ударяет ее своей острогой. Железный трезубец глубоко вонзается в мясо. Метнувшись, рыба срывает наконечник с копья. Но трезубец прикреплен к древку длинной бичевкой, и добыче не уйти.
Пржевальский познакомился и с другим промыслом гольдов — с охотою на диких коз. В том месте, где козье стадо обычно переправляется через реку, гольды устраивали засаду и ждали, пока начнется переправа. Охотились целыми семьями, с женами и детьми.
С копьем в руках несся гольд к плывущей козе и поражал ее одним ударом. Жены и дети гольдов спешили подплыть к ней и тащили к берегу свою добычу. Выйдя на берег, охотники снимали с убитых коз шкуры, резали и сушили на солнце мясо…
Через три месяца после отъезда из Иркутска молодой путешественник изменился до неузнаваемости. «Если бы могли меня теперь видеть, — писал Николай Михайлович другу, — то наверно бы не узнали, потому что вот уже почти два месяца, как я все живу в лесах; борода выросла на вершок, а одеяние сделалось таким, что, пожалуй, не надел бы и нищий».
Поднявшись по Уссури и по ее притоку Сунгаче, лодка Пржевальского выплыла на широкую водную гладь озера Ханка, и вскоре на противоположном, западном, его берегу путешественник увидел избы, поля и огороды крестьян-переселенцев из европейских губерний.
От нищей тесноты крестьянских наделов эти люди ушли из родных мест на восток, где земля была в изобилии — бери сколько хочешь. Правительство, которому нужно было заселить уссурийскую окраину, чтобы укрепиться на Дальнем Востоке, ссужало переселенцев в долг деньгами и продовольствием. Переселенцы шли на восток два года, три года, в пути теряли скот, телеги и скарб. До новых мест они добирались вконец истощенные и разоренные. Да еще висел петлей на шее долг казне.
Но отрадно было видеть Николаю Михайловичу, что выносливость и трудолюбие русского крестьянина преодолевают все невзгоды. Своим упорным трудом переселенцы создали среди моря лесов и болот маленькие островки человеческой культуры. Когда Пржевальский посетил западный берег озера Ханка, на нем уже раскинулись три русских деревни: Турий Рог, Троицкая, Астраханская. С полей снимали большой урожай. В огородах зрели арбузы и дыни. На лугах паслись овцы, быки. Рыбаки вытягивали неводом за одну тоню до десяти пудов разной рыбы. В праздничные дни после обеда парни и девушки, нарядившись, прогуливались по улице или сидели на завалинках у своих домов. Об оставленных навсегда родных местах крестьяне уже нисколько не тосковали.
«Правда, сначала, особенно дорóгой, было немного грустно, — рассказывали они Пржевальскому. — Но что там? Земли мало, теснота, а здесь — видишь, какой простор: живи где хочешь, паши где знаешь, лесу тоже вдоволь. Рыбы и всякого зверя множество. Чего же еще надо? А даст бог пообживемся, поправимся, всего будет вдоволь, так мы и здесь Россию сделаем!»
Весь август провел Пржевальский на берегах озера Ханка — собирал растения, охотился. Он проникал в места, куда до него еще не ступала нога европейца. С ружьем в рукак он целые часы проводил в засадках на песчаных косах и наблюдал жизнь птиц, никогда не видевших человека.
Он следил, как в нескольких шагах от его засадки, не подозревая о присутствии охотника, ловит рыбу тяжеловесная скопа, — как она камнем падает на воду и от удара брызги взлетают фонтаном. Он замечал, как на берег вылезает из воды черепаха и, осторожно оглянувшись, ползет по песку. Как вороны пожирают выброшенную на берег рыбу.
Этот пир не укрылся от зорких глаз парящего в вышине орлана-белохвоста. Описывая большие круги, он спускается из-под облаков и, отняв у ворон их добычу, принимается доедать ее сам. Вороны сидят вокруг, каркают, не смея подступить к орлу, и только изредка урывают украдкой небольшие куски.
Все это наблюдал из своей засады Пржевальский. Наконец он вспомнил о своем ружье, прицелился, выстрелил. Мигом всполошилось все вокруг: утки закрякали и поднялись с воды, кулички с разнообразным писком и свистом улетели, черепаха бросилась в воду. И только один орел, сраженный метким выстрелом, бился на песке…
Неведомый край, и среди его диких просторов — одинокий охотник Пржевальский. Это происходило восемьдесят лет назад в Приморье, где теперь выросли многочисленные колхозы, районные центры и крупные города, проложены железные и шоссейные дороги. Но тогда даже названия этих мест почти никому в России еще не были известны.
Пржевальский — молодой офицер.
В Уссурийском крае. Берег залива Владимира.
В начале сентября Пржевальский двинулся на юг. На деревьях уже пожелтели листья, стрижи и ласточки большими стаями тянули на юг, когда он прибыл в Гавань Новгородскую на берегу Тихого океана, вблизи границы с Кореей.
Спасаясь от жестокого произвола вана[13] и его чиновников, многие корейцы бросали свои фанзы и, переправившись в ночной темноте через реку Тумангу, отделяющую Корею от России, находили себе убежище в окрестностях Новгородской гавани.
Пржевальский застал здесь уже три больших деревни корейских переселенцев. «Услужливость, вежливость и трудолюбие составляют, сколько я мог заметить, отличительную черту характера корейцев», — пишет Пржевальский.
Николай Михайлович хотел ознакомиться с бытом и нравами корейцев также и на их родной земле. К тому же в его задачи входило исследование путей, ведущих к границам Кореи. Он решил проникнуть в пограничный корейский город Кыген-Пу.
Октябрьским утром, в лодке с тремя гребцами и переводчиком, Пржевальский отплыл с русского пограничного поста вверх по реке.
И вот, впервые в жизни покинув пределы Родины, вступил он на чужую землю. Большая толпа корейцев в белых халатах и черных шляпах тесно окружила русских и разглядывала их с жадным любопытством.
Растолкав толпу, к Пржевальскому подошли несколько полицейских и потребовали, чтобы он и его спутники вернулись обратно. Пржевальский объяснил через переводчика, что он желает видеться с начальником города. Корейские блюстители порядка ответили решительным отказом, но Пржевальский заявил, что не уедет, не повидавшись с начальником. Тогда корейцы спросили, имеет ли русский офицер, по крайней мере, бумагу к их начальнику, без чего уже никоим образом нельзя его видеть.
Пржевальский сунул руку в карман и с невозмутимым видом протянул корейцу… подорожную: предписание из Иркутской генерал-губернаторской канцелярии атаманам станиц и начальникам почтовых станций предоставлять штабс-капитану Пржевальскому почтовых лошадей! На подорожной стояла большая красная печать.
Взяв бумагу, корейский блюститель порядка почтительно взглянул на печать, но, увидев знаки незнакомого ему алфавита, с сомнением спросил, почему же бумага написана не по-корейски? Пржевальский отвечал, что в Новгородской гавани не было переводчика, чтобы написать бумагу.
Не найдя возражений против этого довода, кореец отправился, наконец, доложить начальнику, а русских повели в особый дом, назначенный для приема иностранцев. Дом имел только три стены, покрытых навесом.
Через несколько минут появился сам начальник. Четыре носильщика с пением несли его на деревянном кресле, покрытом тигровой шкурой. Это был корейский капитан. Взойдя на ступеньки дома, носильщики опустили кресло, капитан встал и, сделав несколько шагов к Пржевальскому, пригласил его сесть на тигровую шкуру.
Корейский начальник был в белом халате с широкими рукавами, в белых панталонах и черной шляпе с большими полями и узкой верхушкой. Звали капитана Юнь Хаб.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Юнь Хаб интересуется географией. Он приказал принести изданный в Корее географический атлас и стал показывать свои познания: называть части света, различные государства, города.
Пржевальский с любопытством рассматривал атлас. Карты, как он рассказывает, «были самой топорной работы», и в них попадались грубые ошибки.
Дойдя до России, Юнь Хаб показал Уральские горы, Петербург, Москву. Желая, видимо, показать, что историю России он знает не хуже ее географии, Юнь Хаб взял пеплу из горшка, в котором он закуривал трубку, насыпал на то место карты, где была обозначена Москва, и сказал: «французы».
Пржевальский перевел разговор на Корею. Но здесь капитан выказал большую осторожность и отвечал чрезвычайно уклончиво. На все вопросы Пржевальского — сколько в Кыген-Пу жителей, далеко ли отсюда до корейской столицы, много ли в Корее войска? — капитан давал один ответ: «Много».
В конце беседы капитан наивно попросил Пржевальского передать русским властям, чтобы выдали обратно всех переселившихся в Россию корейцев, и он тотчас же прикажет отрубить им всем головы.
Наконец Пржевальский объявил, что желает уйти. Юнь Хаб встал и вежливо раскланялся. На прощанье он пожелал, чтобы его гость выстрелил из штуцера, и приказал поставить в ста шагах небольшую доску.
Пржевальский выстрелил, и пуля, пробив доску, взметнула пыль далеко в поле. Вся толпа одобрительно крикнула. «А Юнь Хаб, — рассказывает Пржевальский, — тонко улыбнулся и вторично раскланялся».
Вернувшись со своими солдатами в лодку, Пржевальский отчалил от корейского берега — первой чужой земли, которую ему привелось посетить, и отправился обратно в Новгородскую гавань, в Россию.
До сих пор, плывя в лодке по Уссури, по Сунгаче, по Суйфуну, бродя с ружьем в руках по берегам Ханка, Пржевальский видел вокруг себя только узкую полосу речного или озерного побережья. «Что же там, в глубине неведомой страны? Когда я узнаю это?» — с нетерпением думал молодой путешественник.
И вот ему предстояло углубиться в дебри Уссурийского края по сухопутью, мало хоженными тропинками. Были куплены шесть лошадей, седла, вьючные ремни, веревки, мешки. Пржевальский взял с собою своего спутника Ягунова и двух солдат для ухода и присмотра за вьючными лошадьми, которые везли дорожные вещи, несколько пудов сухарей, мешок проса, а главное — дробь, свинец, порох и другие охотничьи принадлежности.
Охота служила Пржевальскому не только средством к ознакомлению с животным миром этой страны — к составлению зоологической коллекции, — она была и главным источником пропитания для всех участников экспедиции. «В течение менее, чем полутора лет, проведенных мною собственно в экспедициях по Уссурийскому краю, — пишет Пржевальский, — я расстрелял вместе с товарищем двенадцать пудов дроби и свинца. Такая цифра весьма наглядно говорит: каково обилие дичи и какова охота в девственных лесах Уссурийского края».
Обыкновенно, вставши с рассветом, Пржевальский приказывал вьючить лошадей и намечал маршрут, по которому должен был следовать его маленький отряд. Сам же Пржевальский отправлялся вперед. «На случай встречи с каким-нибудь врагом — человеком или зверем, — рассказывает он, — я имел при себе, кроме ружья, кинжал и револьвер, а неизменный друг — лягавая собака — всегда заранее могла предупредить об опасности». Часто, увлекшись охотой, Пржевальский уходил далеко в сторону от своих спутников и догонял их уже на ночлеге.
Особенную заманчивость всегда имели для Пржевальского одинокие странствия в лесной глуши. Тропинка чуть заметно вилась среди густых зарослей и трав в рост человека. Кругом все казалось пустынным. Только видневшийся на грязи или на песке небольшой аккуратный след козули, или похожий на него, но гораздо более крупный след изюбря, неуклюжая ступня медведя, или круглый, явственно отпечатавшийся след тигра напоминали путешественнику о зверях, водившихся в лесах и речных долинах.
На лугах Пржевальскому часто попадались дикие козы. Лежа в траве, они близко подпускали к себе охотника и вдруг выскакивали чуть не у самых его ног. Много раз его лягавая собака ловила козлят, еще не умевших хорошо бегать.
Путешествуя по Уссурийскому краю, Пржевальский много раз охотился на медведей. У реки Сучан медведь, раненный им первою пулей в грудь с расстояния в сорок шагов, в ярости бросился на охотника. К счастью, в штуцере оставался заряженным другой ствол. Быстро вскинув к плечу ружье, Пржевальский решил подпустить зверя как можно ближе, чтобы стрелять наверняка.
«Здесь уже стоял вопрос: быть или не быть, — впоследствии вспоминал в своей книге Пржевальский. — Конечно, это было дело нескольких мгновений, но эти мгновения не изгладятся из моей памяти целую жизнь, и через много лет все так же ясно, как в ту минуту, я буду помнить эту оскаленную пасть, кровавого цвета язык и громадные зубы… Когда медведь приблизился на расстояние четырех шагов, я спустил курок, и разъяренный зверь с простреленным черепом словно сноп рухнул на землю».
Много нужно было иметь мужественного самообладания для того, чтобы так искусно поразить грозного зверя!
Медведь, которого путешественнику удалось убить на берегу Сучана, имел более сажени длины и весил около двадцати пудов. Когти на передних его лапах были такого размера, как пальцы человеческой руки.
Как-то, когда Пржевальский остановился на ночлег в одной из южноуссурийских деревень, на рассвете крестьянин прибежал сказать ему, что по всей деревне видны свежие следы тигра. Наскоро одевшись, Пржевальский вышел во двор и, действительно, увидал возле самых окон знакомый круглый след. Этот след показывал, как тигр несколько раз обходил вокруг высокой и толстой изгороди, за которою стояли лошади, как зверь лежал здесь под забором, а потом отправился дальше. Переходя от одной фанзы к другой, тигр, наконец, поймал собаку и унес свою добычу в густой тростник, росший на берегу озера.
Осмотрев хорошенько свой двухствольный штуцер, заткнув за пояс кинжал, Пржевальский с солдатом, вооруженным пикою, пустился по следу. Они прошли шагов триста в береговом тростнике, как вдруг, — рассказывает Пржевальский, — «наткнулись на место, где тигр изволил завтракать собакою». «Невольно приостановился я, увидав кровавую площадку… Вот-вот мог броситься он на нас, а потому, держа палец на спуске курка моего штуцера и весь превратившись в зрение и слух, я осторожно и тихо подвигался вперед вместе с солдатом».
Однако тигра не оказалось в зарослях. Скоро след вышел из тростника и направился в горы. Охотники продолжали следить и раза три находили места, где зверь отдыхал сидя или лежа. Вдруг на небольшом холме, шагов за триста впереди них, что-то замелькало в кустах.
Это был тигр, но — увы! — Пржевальскому не суждено было исполнить обещание, данное друзьям перед отъездом из Иркутска: он не убил тигра. Зверь был сыт и настроен отнюдь не воинственно. Заметив приближение людей, он решил лучше убраться по добру, по здорову. «Напрасно, удвоив шаги, — рассказывает Пржевальский, — пустились мы вдогонку: зверь был далеко впереди, да притом и бежал довольно скоро, так что мы более его не видели…»
В охоте, в наблюдениях, в составлении подробных записей обо всем увиденном быстро проходили дни и месяцы странствования. Лето сменилось осенью, а осень зимой, но распорядок дня путешественников не изменился.
Попрежнему маленький отряд совершал изо дня в день длинные переходы. Обыкновенно за час или за полтора до заката солнца усталость и голод напоминали путешественникам, что пора отдохнуть. Пржевальский начинал высматривать по сторонам дороги удобное для ночлега место, где под рукой были бы и дрова, и вода, и пастбище для лошадей.
Если такое удобное место попадалось незадолго до заката, когда всем уже хотелось отдохнуть и согреться у костра, оно казалось особенно заманчивым. Но Николай Михайлович всегда дорожил каждым часом. До наступления темноты еще можно было пройти несколько верст, сделать новые наблюдения. И Пржевальский, с юных лет приучивший себя не считаться с усталостью, шел дальше.
Его спутник Ягунов обыкновенно начинал ворчать: «Надо остановиться, сегодня и так уже много прошли, а тебе бы все больше да больше. Другого такого места не будет, а здесь посмотри, как хорошо!»
Пржевальский чаще всего оставался глух к подобным увещаниям. Усталые солдаты шли, повесив головы. Зато какое волшебное действие оказывали слова Николая Михайловича: «Сейчас остановимся ночевать!» Все мигом ободрялись. Даже кони шли быстрее, завидя огонек костра, уже разложенного ушедшим вперед Ягуновым.
Придя на место, развьючивали лошадей, привязывали их к деревьям, чтобы дать животным остыть, прежде чем напоить их. Засветло рубили и таскали дрова на костер. Дров нужно было много — огонь приходилось держать до утра. «Иначе нет возможности хотя сколько-нибудь уснуть на морозе», — писал Пржевальский. «Тем временем я отправляюсь нарубить кинжалом веток или сухой травы, чтобы сидеть, по крайней мере, не на голом снегу». Варился кирпичный чай, жарились на палочках тонко нарезанные куски козьего или оленьего мяса.
Путешественник доставал дневник и, разогрев на огне замерзшие чернила, садился писать заметки о всех наблюдениях и событиях дня. Солдаты пускали на траву лошадей. Часа через два запись в дневнике была окончена. Поспевал и ужин. Подостлав под себя побольше травы, а сверху укрывшись шкурами, путешественники засыпали. «Несмотря даже на усталость, — писал Пржевальский, — спишь далеко не спокойно, потому что со стороны, противоположной огню, мороз сильно холодит бок и заставляет беспрестанно поворачиваться».
А часа за два до рассвета солдаты уже вставали, собирали лошадей, задавали им овса или ячменя, варили завтрак. Кончали завтракать, когда еще только светало. Пржевальский приказывал вьючить лошадей, сам же отправлялся вперед…
В дикой таежной глуши, среди глубоких снегов, встретил Пржевальский новый 1868 год.
«Во многих местах, — писал он в своем дневнике, — вспомнят обо мне сегодня в Европе и, вероятно, ни одно гаданье, самое верное, не скажет, где я теперь нахожусь. Этих мест, куда я забрался, пожалуй, не знает и сам дьявол».
7 января путники прибыли в станицу Буссе, расположенную в 55 километрах от северного берега Ханка. В этой станице Пржевальский и закончил свой зимний поход, пройдя вьючной тропой 1100 километров.
В середине февраля Николай Михайлович отправился на озеро Ханка. Здесь провел он весну.
Подсмотреть то, о чем не знал до сих пор ни один натуралист, было для Пржевальского великим счастьем. На берегу Ханка, спрятавшись в высоком тальнике, он часами наблюдал весенние любовные пляски японских журавлей.
Перед вечером несколько пар журавлей слетались на сухое место среди болота. Покричав немного, они собирались в кружок, внутри которого оставалась площадка для танцев. Сюда выходили один или два журавля, прыгали, кивали головой, приседали, подскакивали вверх, махали крыльями и всячески старались показать свою ловкость и искусство. Остальные в это время смотрели на них. Потом зрители и усталые танцоры менялись местами. Такая пляска продолжалась до наступления сумерек. Тогда, наконец, танцоры, закричав хором, разлетались.
Токованье тетеревов на рассвете, в предутренних сумерках громкий крик пролетавших журавлей, кряканье уток, гоготанье гусей, днем хриплое гоготанье бакланов, занимавшихся рыбной ловлей, перед закатом песнь жаворонков, — все эти голоса, весь этот шум привольной весенней жизни заставляли Николая Михайловича испытывать счастливое волнение, которое не могла вызвать в нем даже самая прекрасная музыка.
Наступил апрель. Валовой пролет уток, гусей, лебедей с каждым днем все усиливался. В ясные дни, в особенности ранним утром, птицы летели высоко, по большей части вне выстрела. Но зато по вечерам и в пасмурные дни пролет бывал очень низкий, так что утки, гуси и даже лебеди летели почти касаясь земли. Это было лучшее время для охоты.
Принеся с собою сотню зарядов, Николай Михайлович в береговом тальнике делал засадку из хвороста или из сухой травы и прятался в ней.
Начинался лет. Стадо за стадом неслось то справа, то слева, то высоко над головой.
Птицы на лету беспрестанно кричали, каждая по-своему: крякала утка-кряква, кыркал шилохвост, свистела косачка, хрипло пищал чирок, гоготали самцы больших гусей. Да изредка раздавался, — рассказывает Пржевальский, — «унылый, однообразный крик лебедя-шипуна, или громкий певучий голос его собрата лебедя-кликуна, услыхав который, всегда невольно заслушаешься».
Изготовившись к выстрелу, затаив дыхание, Пржевальский с волнением ждал. И вот стадо приближалось. Громким криком давала знать об опасности первая заметившая охотника птица. Но один за другим раздавались два выстрела, и убитые тяжело падали на землю. Остальные птицы бросались вверх и с неумолкаемым тревожным криком летели дальше. Собака спешила принести добычу, а охотник торопливо перезаряжал ружье, чтобы не пропустить вновь налетающих птиц.
Гром выстрелов нисколько не смущал другие птичьи стада. Через несколько минут вновь налетали утки или гуси, вновь раздавались выстрелы.
Так простаивал Николай Михайлович часа по три, по четыре. Заходило солнце, наступали сумерки, а лет не прекращался. Наконец летящих уже нельзя было разглядеть, и только по свисту крыльев и крику можно было узнать, какие пролетают птицы…
Весна на озере Ханка навсегда осталась для Пржевальского самым счастливым временем путешествия. Вспоминая через полгода о Ханка, он с восторгом писал своему дяде Павлу Алексеевичу — первому своему учителю в охотничьей науке:
«Здесь столько пород птиц, что и во сне не приснится. Каких там нет уток и других птиц! Некоторые так красивы, что едва ли таких можно сделать и на картине. У меня теперь есть уже 210 чучел этих птиц… Есть у меня журавль весь белый, только половина крыльев черная; этот журавль имеет в размахе крыльев 8 футов (2,5 м). Есть на Ханке еще кулик величиной с большого гуся и весь превосходного розоватого цвета; есть иволга величиной с голубя, ярко-желтого цвета, а свистит-то она как громко! Есть цапля, белая, как снег, черные аисты и много, много есть редкостей как между животными, так и между растениями. Между последними в особенности замечательна огромная (величиной с шапку) водяная кувшинка, родной брат гвианской виктории; она вся красная и превосходно пахнет!»
Летом 1868 года Николай Михайлович был оторван от своих занятий путешественника-исследователя. Географ и натуралист уступили место офицеру. Все лето Пржевальский участвовал в военных действиях против вооруженной банды хунхузов, которая ворвалась в Приморье, сожгла три наши деревни и два поста. Хунхузы убивали мирных жителей. За успешные действия Николай Михайлович был представлен к производству в капитаны. После того, назначенный старшим адъютантом штаба войск Приморской области, он должен был всю зиму провести в Николаевске-на-Амуре.
У офицеров николаевского гарнизона, у местных чиновников и купцов не было иных интересов, кроме водки да карт. За карточным столом николаевские купцы в один вечер выигрывали и проигрывали тысячи рублей.
Николай Михайлович очень хорошо понимал, откуда берутся эти тысячи. Впоследствии в своей книге об Уссурийском крае он писал: «Основанная исключительно на спекуляциях различных аферистов, пришедших сюда с десятками рублей и думающих в несколько лет нажить десятки тысяч, уссурийская торговля зиждется, главным образом, на эксплоатации населения, на умении «ловить рыбу в мутной воде». «Как из России, — писал Пржевальский, — так и из-за границы стараются сбыть сюда самую дрянь, которая не идет с рук дома. Притом же цены на них непомерные… В Иркутске и Николаевске цены на все, по крайней мере, двойные».
Вот откуда брались те тысячи, которые проигрывались и выигрывались длинными зимними вечерами.
Николаевск произвел на Николая Михайловича гнетущее впечатление. Зимою, из-за глубоких снегов, здесь нельзя было даже поохотиться.
«Водка и карты, карты и водка — вот девиз здешнего общества», — писал Пржевальский. «Как на воротах Дантового ада была надпись: все вошедшие сюда теряйте надежду, так может это написать в своем дневнике каждый офицер и чиновник, едущий сюда на службу… Нравственная гибель каждого служащего здесь неизбежна, будь он сначала хоть распрехороший человек. Ему предстоит одно из двух: или пойти по общей колее, т. е. сделаться таким же, как и все здесь (пьяницею, негодяем и т. д.), или стать одному против всей этой банды. Действительно, бывали примеры и последнего рода, но они обыкновенно кончались весьма печально, так как подобный человек обыкновенно через год или два втягивался сам мало по малу в общий строй, или делался крайне желчным, раздражительным и, наконец, сходил с ума, или, если это была действительно твердая, честная натура, то оканчивал самоубийством. Не думайте, что это преувеличение или выдумка; я могу представить вам сотни фактов».
Пржевальский был человеком на редкость твердым, жизнерадостным, целеустремленным. Он не покончил жизнь самоубийством, не сошел с ума, не погиб нравственно. Пржевальский остался самим собою. В свободное от службы время он занимался обработкой собранных коллекций и составлял описание своего путешествия.
Наконец в начале февраля 1869 года Пржевальский получил разрешение вернуться к своим исследованиям.
Перед отъездом из Николаевска Пржевальский отправил в Сибирский отдел Географического общества статью, в которой впервые сообщались подробные сведения о народностях Приморья. Статья вскоре была напечатана в «Известиях» Сибирского отдела.
Опять Николай Михайлович встретил весну на озере Ханка. Он оставался здесь до середины мая: наблюдал за перелетом птиц, охотился, приготовлял чучела, собирал растения.
Летом 1869 года Пржевальский исследовал долины рек, впадающих в озеро Ханка с юга и с запада. Эти три последних месяца своего пребывания в Уссурийском крае Пржевальский, то бродя пешком, то плывя в лодке, неделями не видел над собой иного крова, кроме неба, не слышал вокруг иных голосов, кроме птичьих: свистели камышевки, перекликались журавли, токовали фазаны. Громко шумел крыльями японский бекас, неутомимо кружившийся в вышине.
Далеко кругом не было ни одной человеческой души. Все здесь было еще дико, нетронуто. Густые травы и заросли стояли не измятые ничьей ногой, и только кое-где след на грязи или клочок ощипан-ной травы указывали, что здесь прошел какой-то зверь.
7 августа Пржевальский в последний раз перед отъездом вышел побродить по берегу Ханка.
Вот раскинулись болота и потянулся узкой лентой тальник, где он так часто в засадках подстерегал добычу. Налево извивалась река Сунгача, а там, далеко за болотами, синели горы на берегу Даубихэ.
Пройдя немного, Пржевальский остановился и стал медленно осматриваться, стараясь запечатлеть в памяти расстилавшуюся перед ним картину.
Прощай, Ханка! Прощай, Уссурийский край!..
Зимний уссурийский пейзаж. Поселок Фроловка на Сучане.
Страница путевого дневника Пржевальского.
8 начале октября Николай Михайлович прибыл в Иркутск. Здесь он получил приказ о переводе его в генеральный штаб.
Перед отъездом в Петербург, 29 октября 1869 года, на заседании Сибирского отдела Географического общества, Пржевальский сделал сообщение о своих исследованиях природы Уссурийского края. Лекция привлекла много слушателей. Пржевальский говорил очень увлекательно и так увлекся сам, что даже стал подражать пению разных птиц, о которых рассказывал.
Делал он это с таким искусством, что один из его слушателей, которому случилось проезжать по Амуру через несколько лет, узнавал голоса лесных птиц, вспоминая имитацию Пржевальского.
Вскоре Пржевальский был уже на пути в Петербург.
«Прощай, весь Уссурийский край! — писал путешественник. — Быть может, мне не увидать уже более твоих бесконечных лесов, величественных вод, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены воспоминания о счастливых днях страннической жизни».
В эти дни странствований, которые Пржевальский называл счастливыми, он делал утомительные переходы, страдал от стужи, мок под дождями, терпел голод и жажду, боролся с опасностями.
Таково счастье творца и героя, — счастье, которое доставляет исполнение заветного, большого и трудного дела.
Совершая долгий путь через дикие, безлюдные местности, терпя лишения и опасности, путешественник изо дня в день с жадной любознательностью приглядывается ко всему окружающему.
Путешественник — это человек, умеющий замечать и запоминать, отбирать и коллекционировать, умеющий в том, с чем он сталкивается, отличать главное от второстепенного, постоянное от случайного, делать верные общие выводы из разрозненных наблюдений.
Два года странствий Пржевальского по Уссурийскому краю были его «экзаменом на путешественника». Этот экзамен он выдержал блестяще.
Путешествие по Уссурийскому краю в 1867–1869 гг.
Пржевальский охватил своими маршрутами ряд районов, никем ранее не исследованных. Он впервые изучил и описал западное и южное побережья Ханка и долины впадающих в озеро рек Сиянхе, Лефу и Mo. В результате исследований Пржевальского озеро Ханка приобрело на карте истинные свои очертания. От залива Посьет до устья реки Тадуши путешественник прошел новым, никем до него не пройденным путем, по лесным, звериным тропам. Он дважды пересек хребет Сихотэ-Алинь, который, по его словам, «не посещался даже и нашими зверопромышленниками». Путь от бухты Находки до реки Тадуши и восточный склон хребта Сихотэ-Алинь путешественник снял на карту.
Гербарий, собранный Пржевальским на Уссури, насчитывал 2000 экземпляров, представлявших 300 видов растений. По отзыву академика К. И. Максимовича, «система и способ собирания их отличались новизною и обращали на себя особое внимание. Путешественник употреблял бумагу огромного формата, так что растения могли помещаться в ней часто во весь рост и оттого получалось о них представление более полное и гораздо лучшее, чем по тем образчикам, которые обыкновенно берутся путешественниками. Высушивание производилось на скорую руку, так сказать по-военному, в два, три приема, раскладыванием бумаги с экземплярами растений на солнце во время привала. От скорой сушки отлично сохранялась свежесть красок… К коллекции был придан реестр, содержащий довольно полные заметки о местонахождении, времени сбора, почве, росте, распространении и т. д.» Пржевальский нашел на Уссури новое пальмовидное тропическое растение — диморфант.
Путешественник собрал в Уссурийском крае, по отзыву академика А. А. Штрауха, «единственную в своем роде коллекцию, настолько полно представлявшую орнитологическую фауну этой интересной окраины нашего отечества, что последующие многократные изыскания доктора Б. И. Дыбовского лишь немного изменили и дополнили полученные H. M. Пржевальским результаты». Всего в этой коллекции было 310 чучел птиц. Некоторые из них представляли виды, впервые найденные на Уссури.
Пржевальский привез также журналы метеорологических наблюдений, позволявших сделать важные выводы относительно климата дальневосточной окраины.
Пржевальский обратил внимание на своеобразное смешение в природе Уссурийского края растительности теплых и холодных стран, северного и южного животного царства. Он, первым из исследователей, дал правильное научное объяснение этому явлению, разобравшись в климатических условиях края, зависящих от близости холодных вод Тихого океана и от расположения горного хребта Сихотэ-Алинь, проходящего вдоль всего тихоокеанского побережья.
Наконец в рукописи книги (еще не законченной), которую Пржевальский привез в Петербург, впервые была правдиво и с достаточной полнотой описана жизнь населения Уссурийского края.
В Петербурге Академия наук и Русское географическое общество встретили Пржевальского как исследователя, обогатившего науку новыми ценными наблюдениями и выводами. За статью о народностях Приморья Географическое общество присудило Пржевальскому малую серебряную медаль. Это была первая его медаль.
В зиму 1870 года, рассказывает П. П. Семенов, «Пржевальский сделался в нашем общественном кругу своим человеком». Лекции Николая Михайловича о природе и о населении Уссурийского края привлекали много слушателей и имели большой успех. «Целый взрыв рукоплесканий по окончании каждого чтения был лучшим заявлением того, что публика оставалась довольна», — писал сам Николай Михайлович.
В Петербурге Пржевальский напечатал в «Вестнике Европы» статью о населении Уссурийского края. Работая над окончанием своей книги, он сам заботился об ее издании (на собственные средства) и одновременно хлопотал о новом путешествии.
В работе над книгою об уссурийском путешествии уже проявилось характерное для Пржевальского умение в самый короткий срок обработать весь громадный научный материал, собранный экспедицией, изложить его в прекрасной литературной форме и издать его. В книге уже видна замечательная способность Пржевальского создать из разнообразных наблюдений целостную и всестороннюю картину исследованных им местностей и жизни их обитателей.
В начале августа 1870 года «Путешествие в Уссурийском крае» вышло в свет. Книга, написанная с большим литературным талантом, вскоре же сделала имя Пржевальского известным.
Теперь повсюду в нашей стране и во всем мире знают о многолюдном Приморском крае, о нашем крупнейшем тихоокеанском порте Владивостоке, о местах, прославленных победами наших войск над японскими. Но в 1870 году Приморский (Уссурийский) край представлял собой территорию неизведанную и почти безлюдную. В ее широких просторах лишь незадолго до того поселилось пять тысяч казаков и тысяча крестьян. Гарнизон и население Владивостока вместе едва насчитывали пятьсот человек. Об озере Ханка, о горах Сихотэ-Алинь, о быте гольдов и некоторых других дальневосточных народностей большинство читателей узнавало впервые из книги Пржевальского. Всего лишь через десять лет после присоединения к России Уссурийского края в печати появилось обширное исследование о природе и населении новой русской территории. Это произвело в Европе большое впечатление.
Правда, уссурийскому путешествию Пржевальского предшествовали экспедиции Максимовича, Маака, Шмидта, Будищева и других. Но академик Максимович занимался почти исключительно ботаникой, Маак — ботаникой и зоологией, академик Шмидт — геологией, капитан корпуса лесничих Будищев дал только описание лесов, и т. д. Каждый из этих исследователей изучал Приморье лишь со своей специальной точки зрения. Пржевальский явился первым всесторонним исследователем края. Он собрал сведения и о строении земной поверхности Приморья, и об его растительности, животном царстве и климате, и о численности, быте и хозяйственной жизни населения.
Пржевальский — первый исследователь, у которого мы находим обстоятельные сведения о дальневосточных племенах. Он первый нарисовал картину заселения новых владений царской России, первый описал жизнь русских переселенцев.
Пржевальский показал, как велики природные богатства Приморья и как непроизводительно, преступно они используются.
Пржевальский приводит слова одного из переселенцев: «Здесь — видишь, какой простор: живи где хочешь, паши где знаешь, лесу тоже вдоволь, рыбы и всякого зверя множество; чего же еще надо?»
Между тем посевы не только не давали хороших урожаев, но часто совсем погибали. «Хлеб с весны всегда растет хорошо: высокий, густой, а потом или его водой зальет, или дождем сгноит, или червяк поест, и в результате можно не получить никакого урожая», — рассказывали путешественнику переселенцы.
Несмотря на «множество всякого зверя», местное население для облегчения охоты прибегало к таким способам, как рытье глубоких ям или поджог подсохшей травы. Это приводило к тому, что животные часто погибали без всякой пользы для охотника.
Для разведения особого гриба, находившего сбыт в Китае, промышленники-китайцы рубили десятки тысяч дубов, на которых через год, когда начиналось гниение, появлялись слизистые наросты. «Владетель фанзы, истребив в течение 5 или 6 лет все окрестные дубы, перекочевывал на другое, еще нетронутое место, опять рубил здесь дубовый лес… Таким образом прекрасные дубовые леса истреблялись периодически». «Грустно видеть, — писал Пржевальский, — целые скаты гор оголенными и сплошь заваленными гниющими остатками прежних дубов».
Еще более хищнический характер носила торговля. «Если на 1 рубль нельзя заработать в год 3, то не стоит денег брать в руки», — таково, по наблюдениям Пржевальского, было «правило» уссурийского купечества. «Хабаровские торговцы берут в 1½ — 2 раза против того, почем они сами покупали, а мелкие купцы, торгующие по станицам, берут опять в 1½ — 2 раза против хабаровских цен».
Пржевальский верно изобразил бедственное положение первых русских переселенцев на Дальнем Востоке. «Большая часть из них не имеет куска хлеба насущного… Казаки к получаемому провианту подмешивают семена различных сорных трав, а иногда даже глину». «Рыбную и мясную пищу зимой имеют весьма немногие, едва ли и двадцатая часть всего населения». «Бледный цвет лица, впалые щеки, выдавшиеся скулы, иногда вывороченные губы, по большей части невысокий рост и болезненный вид — вот характерные черты физиономии этих казаков… Дети казаков какие-то вялые, неигривые».
Удивительный контраст этой картине нищеты и дикости, которую наблюдал Пржевальский, представляет Приморье наших дней!
Только при новом, социалистическом строе Приморский край стал богатым, культурным, многолюдным.
Связи примитивных способов ведения хозяйства, хищнической торговли, эксплоатации населения с общественным строем царской России Пржевальский не видел. Но он подверг достаточно смелой критике колонизаторские приемы царской администрации. Именно они, по его мнению, и «довели население до того безвыходного положения, в котором оно находится ныне».
Пржевальский с возмущением осуждал насильственное переселение в Уссурийский край забайкальских казаков «по жребию». Зажиточный казак, вытянувший жребий, нанимал вместо себя бедняка, а бедняк, не имевший средств к обзаведению хозяйством, отправлялся на новые места, где погибал с голоду. Пржевальский обличал царских колонизаторов, которые оставляли принудительно переселенных ими людей без достаточной помощи земледельческими орудиями, семенами, рабочим скотом, отягощали их непосильными государственными повинностями, беспощадно взыскивали с них казенные долги. В уплату долгов власти забирали у казаков не только мелкий скот, но продавали коров и лошадей. После этого начинался голод и повальные болезни.
«Все эти истории, — говорит Пржевальский, — повторяются из года в год, то в большей, то в меньшей степени, и сильно тормозят развитие земледелия на Уссури, отбивая у казаков всякую охоту к труду, который часто не дает никакого вознаграждения».
О бедствиях переселенцев, которые ему довелось видеть на Дальнем Востоке, Пржевальский писал еще до отъезда из Сибири — в отчете начальству: «О результатах исследования на реке Уссури и озере Ханка». Правдивый рассказ Пржевальского пришелся не по вкусу его начальнику. «Я и без вас знаю, что в этом крае скверно», — сказал он Пржевальскому.
«Эти слова произвели на меня удручающее впечатление», — вспоминал впоследствии Пржевальский.
В Петербурге, в Географическом обществе, со стороны деятелей передовой русской науки, труд путешественника получил высокую оценку.
Николай Михайлович, ободренный первым успехом, решил добиться, наконец, осуществления заветной своей мечты: он представил в Совет Географического общества план экспедиции в неведомые области Центральной Азии.
«Меня лично в особенности манят, — писал Николай Михайлович одному из членов Совета, — северные окраины Китая и восточные части южной Монголии, как местности почти еще неизведанные европейцами, но представляющие громадный интерес для географии и естествознания».
Почему обширная внутренняя часть азиатского материка, по величине превосходящая всю Восточную Европу, вплоть до семидесятых годов девятнадцатого века оставалась «белым пятном» на карте земли?
Это объясняется и географическими особенностями и обстоятельствами политической истории центральноазиатских и соседних с ними стран.
Громадная площадь — «от гор сибирских на севере до Гималайских на юге и от Памира до собственно Китая», «поднятая так высоко над уровнем моря, как ни одна из других стран земного шара», «то прорезанная громадными хребтами гор, то раскинувшаяся необозримой гладью пустыни, со всеми ужасами своих ураганов, безводия, жаров, морозов…» В таких словах Пржевальский кратко определил географические границы, охарактеризовал строение земной поверхности, природу и климат «Внутренней нагорной Азии», а вместе с тем и указал на основные физические препятствия для проникновения в ее пределы.
Гигантской оградой отделяют с трех сторон от остального мира эту часть азиатского материка величайшие горные системы. На западе вздымаются «Небесные горы» — Тянь-шань (до 7440 м высоты) и «Крыша мира» — Памир (до 7495 м), на севере — Алтай (до 4620 м), Саяны (до 3490 м) и горные хребты Забайкалья. На юге встают высочайшие горы на земле — «Обитель снегов», Гималаи (до 8840 м — высшая точка земной поверхности).
Значительную часть Центральной Азии — ее северную, срединную и восточную области — образует Монгольское нагорье. Обширная площадь (свыше 3300 тыс. кв. км), почти равная Европейской части РСФСР, поднята в среднем на высоту Машука (1000 м). На всем необъятном пространстве Монгольского нагорья живет меньше жителей, чем в Московской области, которая по размерам своей территории меньше его в сто с лишним раз. Большую часть страны занимает одна из величайших пустынь земного шара — Гоби.
Южную часть «Внутренней нагорной Азии», отделенную со всех сторон рядом высочайших горных хребтов, образует другое нагорье — Тибетское. Площадь свыше миллиона квадратных километров (две Украины!) поднята в среднем на высоту Ала-гёза (4100 м), а во многих местах — на высоту Казбека и Арарата (5000–5200 м). До наиболее низко расположенных районов речных долин Тибета едва дотянулись бы снежные вершины Пиренеев (3000–3500 м), а плато в юго-западном углу страны, где берет начало река Инд, расположено выше самой высокой вершины Кавказа — Эльбруса (5630 м). Население всей этой обширной территории, на которой уместились бы две Украины или две Франции, не больше населения Ленинграда.
Западную часть Центральной Азии образуют пустыни Восточного Туркестана с разбросанными среди них населенными оазисами, окаймленные на крайнем западе, у границ СССР, более густо населенной полосой с несколькими многолюдными городами. В Восточном Туркестане на площади в 1640 тыс. кв. км живет всего лишь 2500 тыс. человек.
В Центральной Азии расположены следующие государства и их отдельные административные районы:
нынешняя Монгольская Народная Республика, входившая в состав бывшей Китайской империи под названием «Монголии
часть нынешней Китайской Народной Республики, носившая прежде название «Монголии
прилегающие к Тибету административные районы Китайской Народной Республики — провинция Цинхай, или Куку-нор, и часть провинции Ганьсу;
Тибет (по-китайски — Сицзан, по-тибетски — Бод, по-монгольски — Тубот) — автономная область Китайской Народной Республики;
нынешняя китайская провинция Синьцзян (Восточный Туркестан).
Китайская империя во второй половине XIX века — ко времени путешествий Пржевальского.
Первым известным истории европейцем, проникшим в Центральную Азию в средние века, был русский — брат Александра Невского Константин Ярославич. Посланный своим отцом — великим князем владимирским Ярославом Всеволодовичем — к монгольскому великому хану, Константин Ярославич в 1243 году прибыл в ханскую столицу — Каракорум, расположенную на берегах Онона, в глубине монгольских степей. Лишь через два-три года мы видим в Каракоруме первого западноевропейского путешественника, проникшего в Центральную Азию, — папского посла Плано Карпини.
Распад Монгольской империи, простиравшейся от Тихого океана до Дуная, прервал ту слабую связь, которую поддерживала между Восточной Азией и Европой монгольская конная почта. В результате опустошительных войн Тимура и Тимуридов пришли в упадок караванные пути, которыми связывала Восток и Запад среднеазиатская торговля. Проторение новых, более широких и постоянно действующих путей с Запада на Восток явилось исторической заслугой русских. Среди всех европейских народов русским принадлежит приоритет проникновения в страны Центральной и Восточной Азии, приоритет установления сношений с ними и их научного исследования.
С XIV века русские неуклонно продвигаются на восток — вглубь азиатского материка. В 1364 году новгородцы дошли до низовьев Оби. В 1581–1582 годах Ермак совершил свой знаменитый поход, окончившийся присоединением Сибири к Московскому государству. В 1567 году посланные Иваном Грозным атаманы Иван Петров и Бурнаш Ялычев с казаками прошли через Монголию в Китай. В 1620 году мы видим первого русского посла в Хиве и Бухаре — Ивана Хохлова. В 1639 году Иван Москвитин с казаками достиг берегов Тихого океана. В 1643–1646 годах якутский письменный голова Василий Поярков, первым из европейцев, совершил плавание по Амуру и по Охотскому морю. В 1648 году якутский казак Семен Дежнев, впервые в истории мореплавания, прошел пролив между Азией и Америкой. В 1697 году казачий пятидесятник из устюжских крестьян Владимир Атласов открыл Камчатку. В XVIII веке Россия начала присоединение Средней Азии (Малой и Средней Казахских орд).
Сближение границ русского и китайского государств неоднократно побуждало русское правительство предпринимать попытки завязать дипломатические и торговые сношения с Китаем. В 1689 году в Нерчинске был заключен договор, устанавливавший границу между двумя государствами и условия торговли между ними. Это — первый в истории договор Китая с европейской державой.
С конца XVII — начала XVIII века начинается встречное продвижение китайцев на запад — вглубь Центральной Азии.
Еще в восьмидесятых годах XIV века богдохан Хун У присоединил к Китаю Внутреннюю Монголию. В 1691 году богдохан Кан Си овладел Внешней Монголией, в 1722 году — Тибетом. В 1757 году войска богдохана Цянь Луна заняли Джунгарию (северную часть Восточного Туркестана), в 1758 — Казахскую Большую орду, в 1759 — Кашгарию (южную часть Восточного Туркестана).
С конца XVIII века экспансия феодального Китая прекратилась: Китай был ослаблен внутренним кризисом и старался избежать конфликта с усилившимся западным соседом.
Власть богдохана, центрального бюрократического аппарата империи и местных чиновников — «мандаринов» поддерживалась военной силой и подкупом владетельной верхушки вассальных стран. Расшатывая эту власть, с конца XVIII века, одно за другим следовали восстания китайского крестьянства и национальных меньшинств, боровшихся против феодальной эксплоатации, национального угнетения и чиновничьего произвола.
Китайскую империю ослабляла разобщенность провинций, мало связанных с центром, почти неограниченная власть местных мандаринов, продажность государственного аппарата.
Слабостью Китая стремились воспользоваться для экономического закабаления китайского народа английские капиталисты. Ввозимый англичанами в Китай во все возрастающих количествах опиум разорял финансы страны и истощал силы его населения. Китайское правительство неоднократно принимало меры к ограничению ввоза опиума. Англия вооруженной силой добивалась «права» отравлять китайский народ. В результате военного поражения Китаю был навязан ряд грабительских договоров с Англией, Францией, Соединенными Штатами Америки.
Чтобы судить о кровожадности, цинизме и алчности «цивилизованных» британских грабителей, достаточно прочесть хотя бы следующие строки из статьи, опубликованной в 1859 году в одной из лондонских газет:
«Великобритания должна напасть на все морское побережье Китая, занять его столицу, выгнать императора из его дворца», — читаем мы в этой статье. — «Мы должны высечь плетью каждого чиновника с орденом Дракона[14], который вздумает подвергнуть оскорблению наши национальные символы… Каждого китайского генерала необходимо повесить, как пирата и убийцу, на реях британского военного корабля. Зрелище этих обшитых пуговицами негодяев с физиономиями людоедов и в костюмах шутов, висящих на виду у всего населения, произведет оздоровляющее влияние. Так или иначе нужно действовать террором, довольно поблажек!.. Китайцев надо научить ценить англичан, которые выше их и которые должны стать их господами… Мы должны попытаться по меньшей мере захватить Пекин, а если держаться более смелой политики, то за этим должен последовать захват навсегда Кантона. Мы могли бы удержать его за собой, так же как мы владеем Калькуттой, превратить его в центр нашей дальневосточной торговли».
Вместе с тем буржуазная европейская печать «объясняла» войну между Китаем и европейскими державами «враждой желтой расы к белой расе», «ненавистью китайцев к европейской культуре и цивилизации».
По этому поводу Ленин писал: «Да, китайцы, действительно, ненавидят европейцев, но только каких европейцев они ненавидят, и за что? Не европейские народы ненавидят китайцы, — с ними у них не было столкновений, — а европейских капиталистов и покорные капиталистам европейские правительства. Могли ли китайцы не возненавидеть людей, которые приезжали в Китай только ради наживы, которые пользовались своей хваленой цивилизацией только для обмана, грабежа и насилия, которые вели с Китаем войны для того, чтобы получить право торговать одурманивающим народ опиумом (война Англии и Франции с Китаем в 1856 г.), которые лицемерно прикрывали политику грабежа распространением христианства?»[15]
Грабительская политика европейских капиталистов естественно порождала в китайском народе ненависть к пришельцам из Европы. Вполне понятно, почему в семидесятых годах XIX века одно из основных препятствий для осуществления научных экспедиций в Восточную и Центральную Азию — вглубь Китайской империи — Пржевальский видел в том, что ее «население обыкновенно недоверчиво или враждебно встречает европейца».
«Китай никогда не имел и ныне вовсе не имеет искреннего желания вступить в близкие сношения с иностранцами», — писал Пржевальский (в 1888 году). «Отчасти это и резонно, если вспомнить, каким несправедливостям и нападкам подвергается Китай со стороны европейцев, начиная от привилегированного здесь положения всех иностранцев вообще и затем миссионеров, которые, уклоняясь от истинных принципов своей пропаганды, создают государство в государстве, до торговой эксплоатации и насильственного ввоза опиума (на 12 миллионов фунтов стерлингов[16] ежегодно), отравляющего цвет китайского населения».
В заключение этой совершенно правильной характеристики взаимоотношений европейских стран с Китаем Пржевальский не менее справедливо указывал, что роль, которую современная ему Россия играла в Азии, имела существенно иной характер. «На нас, собственно говоря, ни в чем подобном Китай не может жаловаться», — писал он в 1888 году.
Наряду с этим Пржевальский отмечал большое доверие, которое питали к русским и к России народы Центральной Азии: «При всех четырех здесь путешествиях мне постоянно приходилось быть свидетелем большой симпатии и уважения, какими пользуется имя русское среди туземцев».
В 1851 году Энгельс указывал, что «Россия действительно играет «прогрессивную роль по отношению к Востоку», что «господство России играет цивилизующую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии».[17]
В это время Россия овладевала новыми обширными территориями на азиатском материке. В 1848–1850 годах адмирал Невельской, открыв, что устье Амура судоходно, и оценив то значение, которое должен был иметь для России обильный природными богатствами край, связанный обширной речной системой с Тихим океаном, поднял над Приамурьем русский флаг. В 1858 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский заключил в городе Айгуне с местными китайскими властями договор, по которому Приамурский и Уссурийский края были признаны русскими владениями. Пекинский русско-китайский договор 1860 года подтвердил условия Айгунского договора.
К началу семидесятых годов XIX века русские владения в Средней Азии распространились до границ китайского Восточного Туркестана. Все более оживленными становились экономические связи России с ее новыми территориями в Средней Азии, с полузависимыми и независимыми среднеазиатскими ханствами (Бухарой, Хивой, Кокандом), с Китаем, в частности — с его центральноазиатскими областями.
Политическое положение и географические границы, достигнутые Россией в Азии к пятидесятым-шестидесятым годам XIX века, расцвет русской культуры, в частности — русской географической науки в это время, впервые создали необходимые политические, культурные и технические условия для научного исследования Центральной Азии. Лишь после того, как Россия завязала постоянные торговые, дипломатические и культурные сношения с Китаем и вошла в непосредственное соприкосновение с центральноазиатскими областями Китайской империи, — только с этого времени русские, первыми из европейцев, смогли приступить к систематическому изучению этих ранее недоступных и неведомых стран.
Начавшимся в XIX веке научным экспедициям во внутренние области азиатского материка предшествовало множество путешествий отважных русских пионеров, проникавших вглубь Центральной Азии с XVI столетия. Однако до путешествий Пржевальского, говоря словами П. П. Семенова, «открыта для нас в Застенной империи[18] была только проложенная вековыми торговыми сношениями большая дорога из Кяхты на Ургу в Калган. Затем немногие путешественники, да и то при весьма неблагоприятных для научных исследований условиях, пробирались в города, недалеко отстоящие от русских границ, как например Кашгар, Кульджу, Кобдо, Улясутай, на озеро Коссогол».
Тибет оставался далеко к югу от крайних южных точек, которых достигали до путешествий Пржевальского русские исследователи, проникавшие вглубь Восточного Туркестана и Монголии. Из немногочисленных же западноевропейских путешественников, которые углублялись во Внутреннюю Азию, одни, отправлявшиеся из Индии, не смогли продвинуться севернее Южного Тибета, другие же, хотя и пересекли Северный Тибет, но не оставили подробного географического описания своего пути.[19]
Таким образом, Северный Тибет до экспедиций Пржевальского представлял собою, по выражению самого путешественника «полнейшую terra incognita[20], в деталях топографии менее известную, чем видимая поверхность спутника нашей планеты».
Так же и обширные пустыни Монголии до экспедиций Пржевальского, как писал П. П. Семенов, «с научной точки зрения представляли еще совершенную terra incognita».
Открыть для науки эти неведомые страны представляло интереснейшую исследовательскую задачу.
Физические препятствия, встающие перед путешественником на пути в Тибет и вглубь пустынь Монголии и Восточного Туркестана, принадлежат к числу наиболее труднопреодолимых на земном шаре.
К физическим препятствиям присоединялись и политические. Наибольшие физические и политические трудности представляло проникновение в Тибет.
Близость Тибета к британской колонии Индии привлекала к нему интерес европейских империалистических держав. Прибрать к рукам граничащую с Индией область мечтали, прежде всего, британские империалисты, которым и удалось в начале семидесятых годов заслать из Индии нескольких разведчиков (индусов-«пандитов», обученных съемке местности) в Южный Тибет.
Богдоханское правительство вполне резонно опасалось проникновения европейского империализма в Центральную Азию, в особенности же в Тибет, отделенный от всей остальной территории Небесной империи обширными пустынями и высочайшими горными хребтами. Поэтому богдоханское правительство ревниво оберегало Тибет от проникновения в него иностранцев.
Тем больший интерес возбуждала недоступная далекая страна в Пржевальском и других путешественниках, мечтавших первыми открыть неведомые земли, заполнить белое пятно на географической карте.
Особенно разжигали любопытство Пржевальского скупо проникавшие в Европу удивительные слухи о столице Тибета — Лхассе.
Было известно, что в этом городе пребывает далай-лама — глава многомиллионного ламаистского мира Азии. Лхасса со своими кумирнями, дворцами, садами расположена на уровне вечно-снеговых горных вершин (3500 м). Говорили, что этот громадный город-монастырь имеет около 40 километров в окружности и насчитывает до 80000 жителей. Лхасса славилась искусством своих мастеров по литью и чеканке золотых, серебряных и медных изделий.
Утверждали, что стоящий на скале Будале далай-ламский дворец Побран-марбу со своей вызолоченной крышей, с пятью куполами имеет более 110 метров в вышину и что в этом дворце помещается статуя вышиной с пятиэтажный дом (22 м)! Рассказывали, что в одном из предместий города все здания возведены из бычьих и бараньих рогов.
Увидеть своими глазами запретный для чужеземцев таинственный город было заветной мечтою Пржевальского.
Предложенный Пржевальским смелый план трехлетней экспедиции в неведомые области Центральной Азии встретил большое сочувствие и со стороны ученых-географов и в правящих кругах.
Русскому правительству важно было как можно скорее начать обстоятельное изучение Центральной Азии и происходивших там событий. В это время в Восточном Туркестане, отделившемся в результате восстания (1861–1878) от Китайской империи, образовалось мусульманское государство — «Джеты-шаар». Новое государство поддерживала Англия, стремясь подчинить его своему влиянию и создавая таким образом угрозу для России, еще не успевшей укрепить свои позиции в Западном Туркестане.
А между тем русское правительство располагало скудными сведениями о Центральной Азии. Германскому ученому Гумбольдту, который составил карту Внутренней Азии, мало что было достоверно известно об этой громадной территории. Большую часть карты он заполнил на основании одних лишь догадок. И все-таки на карте осталось немало «белых пятен», то есть таких пространств, относительно которых у Гумбольдта не нашлось даже предположений. Всем было ясно, что пользоваться картой и сведениями Гумбольдта для деловых целей нельзя.
Пржевальский уже был известен по уссурийскому путешествию, как исследователь, умеющий собрать правдивую и всестороннюю информацию о неизученных прежде краях. Составленные им карты отличались большой точностью. Русское правительство имело все основания рассчитывать, что из новой экспедиции Пржевальский привезет ценные сведения о неведомых ранее местностях Центральной Азии.
Правительство всецело одобрило программу исследований, предложенную Пржевальским, и приняло решение отправить под его начальством экспедицию из четырех человек на три года в далекие страны Центральной Азии.
На расходы экспедиции правительство согласилось ассигновать по 1000 рублей в год серебром. Географическое общество могло отпустить по 1000 рублей в год кредитными билетами (700–750 рублей серебром), Ботанический сад — по 300 рублей в год. Сам Пржевальский принял на свой счет расходы в размере 1000 рублей ежегодно.
Всех этих средств вместе взятых было очень мало по сравнению с теми расходами, которых требовала трехгодичная экспедиция в далекие пустыни.
Но все-таки путешествие в неисследованные области земного шара, куда с детских лет стремился Пржевальский, становилось действительностью. Заветная мечта открыть неведомые земли начинала осуществляться.
К тому времени, когда Пржевальский стал готовиться к первому своему центральноазиатскому путешествию, его мировоззрение уже вполне сложилось.
Годы службы в Полоцком полку, в Варшаве, на Дальнем Востоке воспитали в нем ненависть к «цивилизованной, правильнее — изуродованной жизни». Жизнь путешественника-исследователя привлекала Пржевальского прежде всего потому, что в ней он нашел прекрасное сочетание научной деятельности с подвигом, труда умственного с трудом физическим и с близостью к природе.
Современная Пржевальскому «цивилизованная жизнь», в которой не было, по его словам, «ни свободы, ни воздуха», показалась ему особенно неприглядной после того, как в научных скитаниях по Уссурийскому краю ему открылась иная — «чудная, обаятельная жизнь, полная свободы», открылась возможность дружбы между людьми, которых объединяло бы совместное служение высокому делу, которые бы «жили родными братьями, вместе делили труды и опасности».
Всей душой отдался Пржевальский своей деятельности ученого. Годы исследования Приморья выработали в нем умение доводить начатый труд до полной законченности. Страстная целеустремленность исследователя сказывалась в необыкновенной энергии, с которой Пржевальский организовывал каждое очередное звено экспедиции, начиная с хлопот об ее разрешении и об отпуске на нее средств и кончая выпуском из печати полного ее описания.
Странствия по диким, безлюдным местностям приучили Николая Михайловича постоянно и тщательно обдумывать свои действия, рассчитывать каждый свой шаг. Он привык совершать путь в зной и в стужу, под дождем и в метель, сытым и впроголодь, карабкаться по голым скалам, спать под открытым небом, на земле или на снегу у костра, завернувшись в шкуры. Он научился приспособляться ко всяким условиям жизни, не нуждался ни в каких удобствах, мог спать где и как попало, есть когда и как придется. Охота развила в нем умение преодолевать препятствия, научила его применяться к повадкам той или иной птицы или зверя, проявлять находчивость, чтобы перехитрить их. Встречи с крупными хищными зверями приучили его в совершенстве владеть собой в минуты опасности, закалили его мужество.
На Уссури окончательно сложились и исследовательские приемы Пржевальского. «Вначале дело не клеилось, потому что не было привычки и системы», — рассказывает он о первых днях экспедиции. А к концу ее у Пржевальского уже выработалась та удивительная систематичность, которой всегда в дальнейшем отличалась его исследовательская работа.
Отправляясь в продолжительное путешествие по неизведанным странам Центральной Азии, где предстояло собрать обширные коллекции и произвести множество разнообразных исследований, Пржевальский нуждался в спутнике, который помогал бы ему в метеорологических наблюдениях, препарировании животных, сушении растений и других работах. Обойтись без спутника Пржевальский считал невозможным еще и по другой важной причине. «Товарищ необходим, — писал Николай Михайлович, — еще и на тот случай,
Осведомленный о смертельных опасностях, с которыми была сопряжена экспедиция, Пржевальский готов был ради заветного дела пожертвовать даже собственной жизнью. А ответственность за результаты предпринятого дела заставляла его заботиться о сохранности научных результатов экспедиции в случае его гибели.
Своего спутника по уссурийскому путешествию — Ягунова — Пржевальский, вернувшись в Россию, определил в Варшавское юнкерское училище. В письме к преподавателю этого училища Фатееву Николай Михайлович рекомендовал Ягунова «как прекрасного, доброго, честного и усердного молодого человека, который со временем будет, вероятно, одним из лучших ваших учеников».
Ягунов вполне оправдал эту рекомендацию. Впоследствии он кончил училище первым учеником.
Вместо Ягунова Пржевальскому нужно было выбрать нового спутника. Николай Михайлович написал своим бывшим ученикам по Варшавскому училищу. Один из них, его любимец Пыльцов, служивший в то время подпоручиком в Алексопольском полку, выразил желание отправиться с Пржевальским.
В середине 1870 года Николай Михайлович приехал из Петербурга в Смоленск, чтобы проститься с матерью и с няней Макарьевной. 4 сентября Пржевальский выехал из Москвы вместе с Пыльцовым и 10 октября, «прокатив на почтовых через Сибирь», как он писал, прибыл со своим спутником в Иркутск.
Задолго до приезда Пржевальского майская книжка «Вестника Европы» с его статьей, правдиво изображавшей бедственное положение уссурийских казаков и жестокие действия управителей края, дошла до Иркутска. Генерала Кукеля, державшегося передовых взглядов и оказывавшего поддержку Николаю Михайловичу, в это время уже не было в живых. Статья Пржевальского вызвала сильное недовольство иркутских властей. А эти власти возглавляли и Сибирский отдел Географического общества. Неудивительно поэтому, что в «Известиях» отдела появилась заметка, пытавшаяся скомпрометировать путешественника.
В этой заметке рецензент, рассыпаясь в комплиментах Пржевальскому как исследователю природы Уссурийского края, вместе с тем обвинял его в сообщении заведомо ложных сведений о положении уссурийских казаков и о действиях местных властей.
Приехав в Иркутск, Николай Михайлович прочел в «Известиях» эту заметку. Она глубоко его возмутила. «Таким нецеремонным образом меня обвинили в умышленной лжи», — писал он.
22 октября Николай Михайлович явился в заседание отдела и, прочитав свои возражения на заметку, потребовал поместить их в «Известиях». Но «ученые» чиновники, заседавшие в Сибирском отделе Географического общества, отказались это сделать Тогда приведенный в негодование Николай Михайлович заявил, что дважды оскорбленный Сибирским отделом, — сначала обвинением во лжи, а затем отказом напечатать возражения, — он не считает возможным оставаться членом отдела. «Прерываю всякие сношения с Сибирским отделом, — писал он председателю его, — о чем покорнейше прошу ваше превосходительство заявить в следующем общем собрании. Письмо же, адресованное в редакцию «Известий», отправлено мною в одну из петербургских газет».
В этом письме, появившемся в «Санкт-Петербургских ведомостях», Пржевальский, как он сам выразился, «перевел на более понятный язык» то, что пытался скрыть за мнимой объективностью его рецензент: раздражение управителей края, не привыкших к тому, чтобы критиковали их действия. Пржевальский так прямо об этом и пишет: «Как кажется, автор заметки держался в настоящем случае мудрого старинного правила: «не следует выносить сор из избы», тем более из таких привольных в этом отношении местностей, каковы многие окраины нашего широкого царства».
«Если бы автор библиографической заметки, — говорит Пржевальский в другом месте письма, — видел, как брали у казака продавать его последнюю корову, или как местный доктор, вскрывая трупы умерших, находил в желудке куски сапожной кожи и глины, которую несчастные страдальцы ели вместо хлеба насущного, — тогда бы он не вздумал обвинять во лжи человека, писавшего эти факты с голой действительности».
Но у мужественного исследователя были не только враги, — были у него и друзья.
В защиту путешественника горячо выступил бывший начальник штаба войск Приморской области, М. П. Тихменев, находившийся в это время в Петербурге. В письме, опубликованном в тех же «Санкт-Петербургских ведомостях», генерал Тихменев заявил, что в статье Пржевальского «нет ни одного факта, достоверность которого была бы подвержена сомнению и которого я не мог бы, в случае надобности, подтвердить или документально или свидетельством лиц, проживавших на Уссури, по служебным или частным делам, в среде казачьего населения, по нескольку лет».
«Я признавал необходимым, — писал Тихменев Пржевальскому, — напечатать заявление с своей стороны, дабы предупредить, что если они (члены Сибирского отдела Географического общества), пользуясь вашим отсутствием на три года и невозможностью отвечать, вздумают писать что-нибудь против вас, то придется уже иметь дело со мной. Я дал себе слово, что если они хоть пискнут еще, то я их разберу по косточкам».
В этом письме Тихменева содержится намек на дальнейшую травлю, которой подвергли Пржевальского иркутские власти, пытавшиеся организовать в печати поход против его книги.
Вообще Иркутск на прощание дарил путешественника одними неприятностями. Пржевальскому пришлось доказывать не только достоверность сообщенных им сведений, но и авторское право на свой труд.
Еще в 1868 году, когда Николай Михайлович служил в Николаевске-на-Амуре, к нему обратился за содействием доктор Плаксин, которому было поручено Главным военно-медицинским управлением собрать медико-статистические сведения об Амурском крае. Николай Михайлович дал ему рукопись своей статьи «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», написанной, как мы знаем, еще в Академии генерального штаба. Через некоторое время Плаксин возвратил рукопись с благодарностью.
Каково же было удивление Николая Михайловича, — когда, приехав в начале 1870 года в Петербург, он раскрыл последнюю книжку «Военного сборника»! Раскрыл он ее как раз на статье, которую доктор Плаксин дословно списал с его рукописи и выдал за свою.
По прибытии в Иркутск, в октябре 1870 года, Николай Михайлович написал доктору Плаксину письмо, в котором уличал его в присвоении чужого литературного труда. Плаксин немедленно прислал ему гонорар, полученный за статью в «Военном сборнике», выражая надежду, что после возвращения гонорара дело будет считаться улаженным.
Николай Михайлович оставил его в покое, но Плаксин стал повсюду рассказывать, что он отдал деньги только для того, чтобы отвязаться от Пржевальского, который допекал его своей жадностью. Узнав об этом, Николай Михайлович немедленно подал следующий рапорт в штаб Восточно-Сибирского округа: «Прилагая при сем квитанцию губернского казначейства на 72 рубля, жертвую оные в пользу бедных казаков уссурийского пешего батальона. Деньги эти составляют гонорар, отобранный от статского советника Плаксина за напечатанную им в «Военном сборнике» статью под заглавием: «Приморская область Восточной Сибири», заключающую дословную и без моего ведома произведенную переписку рукописного сочинения, которое я написал в 1863 году, будучи в Николаевской Академии генерального штаба».
Рапорт был подан 24 октября. Это был как бы «прощальный привет» путешественника чиновному Иркутску. Через несколько дней Пржевальский и Пыльцов уже находились в дороге.
6 ноября 1870 года путешественники прибыли в город Кяхту, расположенный у русско-китайской границы. Отсюда начинался путь через степи Монголии в столицу Небесной империи — Пекин, где Пржевальский и Пыльцов должны были получить от богдоханского правительства паспорт для путешествия по китайским владениям в Центральной Азии.
«Близость чужих краев почуялась для нас в Кяхте с первого же раза, — вспоминал впоследствии Пржевальский. — Вереницы верблюдов на улицах города, загорелые, скуластые лица монголов, длиннокосые китайцы, чуждая, непонятная речь — все это ясно говорило, что мы стоим теперь накануне того шага, который должен надолго разлучить нас с родиной и всем, что только там есть дорогого. Тяжело было смириться с такой мыслью, но ее суровый гнет смягчался радостным ожиданием близкого начала путешествия, о котором я мечтал с самых ранних лет моей юности».
17 ноября Пржевальский, его спутник Пыльцов и их общий друг, лягавый сеттер Фауст, влезли в запряженную верблюдом китайскую телегу.
Это был низкий квадратный ящик на двух колесах, закрытый со всех сторон и похожий на гроб. Только в передней его части были проделаны по бокам небольшие лазейки для входа и выхода. В этом передвижном гробу можно было поместиться только лежа. Ящик был короток, и Николаю Михайловичу приходилось лежать, поджав ноги.
Семь верблюдов были навьючены дорожными вещами, принадлежностями для препарирования, геодезическими приборами. Восьмого впрягли в телегу. Верблюды были наняты до Пекина. Перед вечером караван двинулся в путь. От малейшего камешка или кочки, которые попадали под колесо, телегу сильно подбрасывало, и тряска в дороге была невообразимая.
Впрочем, верблюды двигались медленно, и Пржевальский с Пыльцовым большую часть пути шли пешком. Склоны окружающих гор поросли лесом, а долины даже в эту студеную осеннюю пору были покрыты густой травой, которою круглый год кормятся здесь стада.
Через неделю пути Николай Михайлович увидел на берегу реки Толы глиняные фанзы и войлочные юрты главного города Монголии — Урги[21], позолоченные купола ее кумирен и зубчатые стены высокого квадратного храма Майдари.
Переправившись через Толу, путешественники простились с последней рекою, с последним лесом и вступили в пустыню Гоби.
Гоби! Сколько лет Пржевальский мечтал увидеть эту пустыню воочию, и сколько лет она оставалась только белым пятном на карте, которое он поневоле заполнял лишь образами, созданными воображением!
И вот Гоби хрустела низкой мерзлой травой под колесами его телеги, под раздвоенными копытами его верблюда. Она раскинулась необозримой волнистой равниной. В пустынных степных просторах лишь изредка виднелось стадо на пастбище, и дым вставал над юртой монгола. Вот она, Гоби! Она катила навстречу, как волны, свои пологие холмы, и иногда на вершине их мелькал силуэт быстроногого дзерена[22].
Перед путешественником открывались, наконец, те страны, которые он шел исследовать. Но исследования еще были делом будущего: сейчас Пржевальский спешил в Пекин, чтобы запастись там паспортом и всем необходимым для продолжительной научной экспедиции…
Стояли тридцатиградусные морозы. Мерно шагали тяжело навьюченные верблюды. Заходило солнце, звезды загорались в чистом безоблачном небе, и караван останавливался на ночевку. Верблюды, освобожденные от вьюков, тотчас же укладывались вокруг палатки погонщиков.
В Гоби нет ни кустарников, ни деревьев. Чтобы развести огонь, погонщики собирали в степи помет животных. Воды также не было. Приходилось растапливать снег, но и снег попадался редко. Наконец разведен огонь и варится ужин. Проходит еще час, засыпают люди и животные, и кругом опять воцаряется тишина пустыни…
Встречая на своем пути становища кочевников-монголов, Пржевальский входил в их юрты, знакомился с их бытом и нравами.
Путешественника поражало их чрезвычайное гостеприимство. Всякий путник мог смело войти в любую юрту, и его тотчас же угощали чаем или молоком. Для хорошего же знакомого кочевник не пожалел бы даже заколоть барана.
Принимая гостя или встретившись дорогой со знакомым или незнакомым, монгол тотчас же приветствовал его, угощал табаком и прежде всего спрашивал: здоров ли твой скот?
В то время скотоводство составляло единственный источник существования монгольского народа. Естественно, что для монгола здоровье скота казалось наиболее важным вопросом. Поэтому, начиная разговор, монгол из вежливости первым делом осведомлялся у своего собеседника: здоровы и жирны ли твои бараны, верблюды и лошади? Лишь после того монгол считал уместным оправиться о здоровье самого собеседника.
Монголы, которых встречал на своем пути Пржевальский, постоянно расспрашивали его, кому он оставил свой скот, отправляясь в путешествие, crолько весит курдюк у его баранов, сколько у Пржевальского лошадей и верблюдов.
Монголы ни за что не хотели поверить, что у Пржевальского, который производил на них впечатление важного чиновника, а значит, человека зажиточного, нет коров, лошадей, баранов…
Мерно шагали верблюды. И вот впереди, на краю неба, показались неясные очертания гор. С каждым переходом все отчетливее виднелись вдали их остроконечные вершины. А кругом расстилалась все та же однообразная степь. До последнего шага по Гоби путешественник видел вокруг себя волнистую равнину. И вдруг равнина круто оборвалась.
С обрыва открылось удивительное зрелище. Гряды гор, окаймляющих Гоби, отвесные скалы, пропасти и ущелья лежали под ногами путешественников.
Равнина, по которой они шли до сих пор, была нагорьем — таким высоким, что горные вершины, поднимавшиеся на полторы тысячи метров, лежали ниже его.
По горам извивалась стена необыкновенной толщины: на гребне ее, между двумя рядами зубцов, свободно могли бы разъехаться две телеги. Это была знаменитая «Великая стена в десять тысяч ли»[23]. За нею, глубоко внизу, расстилались долины, в долинах серебрились реки.
Начался спуск с высокого Монгольского нагорья на более низкое Калганское. С каждым шагом спуска становилось все теплее. Внизу, в городе Калгане, несмотря на конец декабря, путешественников встретила весенняя погода.
Пустыню сменили людные села, хорошо возделанные поля, дороги, по которым тянулись вереницы ослов, нагруженных каменным углем, и телеги с солью, запряженные мулами.
Название «Калган» произошло от монгольского слова «калка» — ворота. Город запирает собой ущелье и проход в Великой стене, ведущие из Монголии в собственно Китай. Вскоре Калганское нагорье круто оборвалось, как и Монгольское. Глубоко внизу лежала Пекинская равнина. На эту равнину — густо заселенную, теплую, зеленевшую кипарисовыми рощами, спустились теперь путешественники.
2 января 1871 года они увидели зубчатые глиняные стены столицы Небесной империи. Отсюда должна была начаться экспедиция в неисследованные области Центральной Азии.
В Пекине Пржевальскому было приятно узнать, что в китайском университете изучают географию по его учебнику. Но дни, проведенные здесь в хлопотах по снаряжению экспедиции, принесли Николаю Михайловичу много огорчений.
Подготовка к путешествию требовала больших расходов. Чтобы выступить в путь, Пржевальскому нужно было купить вьючных верблюдов, верховых лошадей, оружие, запастись патронами и продовольствием на целый год, так как он не рассчитывал закончить первую часть своей экспедиции и вернуться в Пекин ранее этого срока. Между тем царское правительство не отпустило полностью даже и те недостаточные средства, которые оно ассигновало на экспедицию.
В приготовлениях к путешествию никто из находившихся в Пекине соотечественников не мог помочь Пржевальскому даже советом, так как он отправлялся в страны, совершенно неизвестные европейцам. Найти же в Пекине проводника — монгола или китайца — Николай Михайлович не мог, как ни старался, — так подозрительно относились в Небесной империи к иностранцам. Правда, богдоханское правительство, благодаря настойчивым хлопотам русского посланника Влангали, согласилось выдать Пржевальскому паспорт для путешествия, но этим и ограничилось богдоханское гостеприимство, и Пржевальский на каждом шагу встречал недоверие и неприязнь.
Без чьей бы то ни было помощи и советов должен был русский путешественник отыскивать путь через неведомые местности.
Вскоре квартира Пржевальского была завалена грудой ящиков, кожаных сумок, верблюжьих седел, веревок, войлока. Николай Михайлович купил 10 ружей и 15 револьверов, 5500 ружейных патронов, 100 фунтов пороху, 10 пудов дроби.
«Словом, — писал Николай Михайлович, — мы снаряжены так, как, вероятно, не был и сам Ермак Тимофеевич».
Путешественники приобрели две верховых лошади и семь вьючных верблюдов, которые должны были везти оружие, патроны, порох и дробь, астрономические и геодезические приборы, паклю для набивки чучел и принадлежности для сушения растений — пропускную бумагу, прессовальные доски.
К экспедиции были прикомандированы два казака из числа состоявших при русском посольстве в Пекине.
Весь запас продовольствия на четырех человек состоял из пуда сахару, двух мешков с просом и рисом и ящика коньяку. Такого небольшого запаса сахару и крупы едва было достаточно на три месяца, но для того, чтобы закупить больше, у путешественников нехватило средств. К тому же они рассчитывали добывать себе пропитание охотой.
15 февраля маленький караван Пржевальского выступил из Пекина на север к озеру Далай-нор.
Монголия. Первое путешествие в Центральной Азии в 1870–1873 гг.
Какую цель преследовал этот первый маршрут и каковы вообще были задачи экспедиции?
Пржевальский ставил перед собой две задачи:
во-первых, исследовать горные окраины Монгольского нагорья и установить его географические границы, до того времени не установленные;
во-вторых, проникнуть вглубь совершенно неизвестного и недоступного европейцам Тибета.
Пржевальский наметил два маршрута: один — короткий — из Пекина к озеру Далай-нор, лежащему у восточной горной окраины Монгольского нагорья; другой — огромный — вдоль всей южной его окраины и дальше — вглубь Тибета.
Начал Пржевальский свою экспедицию с короткого маршрута к Далай-нору.
По пути к Далай-нору Пржевальский исследовал горную окраину Монголии в окрестностях Губейкоу. Он установил, что горы здесь достигают лишь средней высоты, особенно же выдающихся вершин и вечно-снеговой горы Печа, о которых упоминал авторитетный в то время географ Риттер, не существует. «Гора Печа», упоминаемая Риттером как высочайшая в этой части Монголии, — писал Николай Михайлович в своем сообщении Географическому обществу, — положительно не существует. Я взобрался на многие вершины, с которых горизонт открывался далеко на все стороны, но нигде не видел особенно выдающегося пика. Местные жители также единогласно отвергали существование в этих местах горы, круглый год покрытой снегом».
25 марта путешественники вышли к озеру Далай-нор, лежащему на высоте 1280 метров над уровнем моря.
Это озеро среди безводных пустынь Монголии — «большая станция» на великом воздушном пути перелетных птиц. Экспедиция провела здесь тринадцать дней. Николай Михайлович наблюдал весенний пролет птиц и охотился. От Далай-нора караван двинулся к берегам Хуанхэ — Желтой реки, протекающей вдоль южных границ Гоби.
Нелегок был путь экспедиции. В течение всей весны на нагорье держались морозы и дули ветры, нередко переходившие в сильную бурю. Тогда за тучами песку, пыли и мелкой соли солнце светило тускло, как сквозь дым, и в полдень становилось темно, как в сумерки. Ветер с такой силой бил крупным песком, что даже верблюды, привычные ко всем превратностям пустыни, не могли двигаться дальше.
Проводника не было, и приходилось расспрашивать о дороге у местных жителей, но они, по наущению властей, или просто отказывались показать дорогу, или указывали ее неверно. Случалось, что Пржевальский и его спутники делали понапрасну десяток или более километров в сторону от нужного направления.
Особенно много хлопот доставляла съемка. Местное население подозрительно следило за каждым шагом путешественников. Снимать местность при помощи бусоли и наносить снятый путь на карту Николаю Михайловичу приходилось украдкой, тайком. Когда же китайские или монгольские чиновники расспрашивали, для чего Пржевальский носит бусоль, ему приходилось прибегать ко всевозможным уловкам.
Ради съемки путешественники даже теперь, летом, должны были делать утомительные переходы в жаркие дневные часы, а не прохладными ночами.
Экспедиция двигалась на запад — к горам Муни-ула. Путешественники сумели сами отыскать туда путь, который им отказывались показать. Не раз преграждали дорогу отвесные скалы, и приходилось с досадой возвращаться обратно. Наконец, на третий день Пржевальский и его спутники поднялись вдоль русла горной реки к ее истоку близ главного гребня гор. Отсюда, с высоты, открылся великолепный вид на Хуанхэ и на раскинувшиеся за рекою пустыни Ордоса.
Появление Пржевальского и его спутников в горах Муни-ула произвело переполох между местными обитателями — монголами. Европейцев они видели в первый раз и не могли понять, что за удивительные люди перед ними. Толкам о прибытии путешественников не было конца. Ламы запретили жителям продавать загадочным иноземцам продовольствие.
В горах Муни-ула Николай Михайлович впервые испытал в полной мере все трудности горной охоты.
Взбираясь по крутым, почти отвесным скалам, охотник так устает, что в полном изнеможении останавливается чуть ли не через каждые десять шагов, чтобы набраться сил. Утомленные руки нетвердо держат ружье, и охотник не может верно прицелиться. Огромные скалы с узкими выступами, глубокие отвесные ущелья, груды обломков выветрившихся горных пород грозят гибелью.
К тому же в горах добыча очень часто ускользает из самых рук: вот охотник уже настигает ее, но мгновение — и зверь перенесется на противоположную сторону ущелья или, убитый, полетит вниз с отвесной скалы.
Но один удачный выстрел — награда за все усилия. Зоологическая коллекция обогащается новым экземпляром редкостного зверя…
Взобравшись на высокую вершину, с которой на все стороны открывался далекий горизонт, Николай Михайлович подолгу любовался расстилавшейся под его ногами панорамой.
Была дикая красота в громадных отвесных скалах, запирающих мрачные ущелья или увенчивающих вершины гор. «Я часто останавливался в таких местах, — рассказывает Пржевальский, — садился на камень и прислушивался к окружающей меня тишине… Лишь изредка раздастся воркованье каменного голубя и пискливый крик клушицы, поползет по отвесной стене краснокрылый стенолаз или, наконец, высоко из-под облаков с шумом спустится к своему гнезду гриф, а затем попрежнему кругом все станет тихо и спокойно…»
Далеко, за пустынями, лежала Родина. Сколько сил нужно было потратить, чтобы добраться до этих гор и любоваться картиною, открывающейся с их вершин! Зато радость при виде этого зрелища — радость пионера, исследователя — вознаграждала за все труды.
Под конец своего двухнедельного пребывания на Муни-ула Николай Михайлович нанял проводника-монгола по имени Джюльджига. Перевалив через горы, Пржевальский и его спутники вышли в долину Желтой реки.
Леса, горные ручьи, цветущие луга сменились безводной песчаной степью, гладкой как пол. Больше не слышно было гуканья дикого козла и клохтанья куропаток. Зато в степи мелькали дзерены, пели жаворонки и не умолкая трещали кузнечики.
На другой день, сделав большой переход, путешественники пришли в город Баотоу, расположенный при северном изгибе Желтой реки. Здесь их пожелал видеть гуань[24], начальник местного гарнизона.
Пригласив иноземцев в свою фанзу, гуань стал расспрашивать — откуда они, зачем сюда явились, куда едут? Когда Пржевальский ответил, что намерен пересечь пустыни Ордоса и Ала-шаня, заботливый гуань сказал, что это очень опасно, так как кругом бродят разбойники. Но после того, как Николай Михайлович преподнес ему часы, опасность, угрожавшая путешественникам, стала меньше тревожить гуаня, и он распорядился, чтобы Пржевальскому выдали пропуск в Ордос.
Наконец караван вышел из города и вскоре достиг перевоза Лан-хайза.
Путешественники перетащили все вещи на плоскодонный баркас и принялись загонять на него верблюдов, которые, боясь воды, сопротивлялись изо всех сил. Человек десять китайцев-перевозчиков упирали доску плашмя в зад животному и толкали его к баркасу, а другие в это же время тащили верблюда веревками за передние ноги. Верблюд злобно плевал на людей и кричал во все горло, но в конце концов все-таки попадал на баркас. Здесь его тотчас же укладывали и накрепко привязывали, чтобы он не мог встать во время переправы.
Укладка длилась два часа. Наконец баркас двинулся. Вскоре путешественники, выгрузившись на правом берегу Желтой реки, очутились в пустынях Ордоса.
Ордос составляет переходный уступ от юго-восточной окраины Монгольского нагорья к долинам Китая. От Гоби Ордос отделен горами, которые стоят на севере и на востоке от Желтой реки.
Николай Михайлович решил идти через пустыни Ордоса не кратчайшим путем, а по долине Желтой реки. «Путь этот, — писал он, — представлял более интереса для изысканий зоологических и ботанических. Сверх того, нам хотелось разрешить вопрос о разветвлении Хуанхэ на ее северном изгибе».
В результате произведенных здесь изысканий Пржевальский сделал одно из своих многочисленных открытий: «Разветвлений Хуанхэ, при северном ее изгибе, не существует в том виде, как их обыкновенно изображают на картах, и река в этом месте переменила свое течение».
В самых диких, бесплодных местах Ордоса водятся чернохвостые антилопы — харасульты. Целых два дня Пржевальский и Пыльцов охотились за этими редкостными животными. Наконец на третье утро Николаю Михайловичу удалось подкрасться к красивому самцу и подстрелить его.
Коллекции Пржевальского обогатились в Ордосе еще более ценной для науки добычей — экземпляром редчайшего растения «дзерик-лобын» (Pugionum). До путешествия Пржевальского это растение было известно науке лишь по двум веточкам, которые ботаник Гмелин привез из своего путешествия по Сибири в 1733–1743 годах. В числе экземпляров дзерик-лобына, собранных Пржевальским, оказалось два вида этого растения: один уже известный благодаря Гмелину (Pugionum cornutum) и другой — новый, получивший название: Pugionum dolabratum.
Караван двигался по безлюдной пустыне. День за днем на небе не видно было ни облачка. От раскаленной почвы дышало жаром, как из печи. Вьючные верблюды, привязанные один к другому «бурундуками»[25], шли мокрые от пота. Сеттер Фауст плелся, понурив голову и опустив хвост.
Нелегкий путь! Казаки, которые обыкновенно в пути пели песни, теперь ехали молча. Только Николай Михайлович попрежнему был неутомим. Он часто слезал с лошади и брал в руки бусоль или собирал попадавшиеся на пути растения.
В полуденное время, добравшись до какого-нибудь колодца, путешественники принимались укладывать и развьючивать верблюдов. Привычные к этому животные сами поскорее ложились на землю. Затем путешественники ставили палатку, перетаскивали в нее все нужные вещи, а посередине расстилали войлок, служивший им постелью. Потом собирали аргал и варили кирпичный чай.
«После чая, в ожидании обеда, — писал Пржевальский, — мы с товарищем укладываем собранные дорогой растения, Делаем чучела птиц или, улучив удобную минуту, я переношу на план сделанную сегодня съемку…»
2 сентября путешественники увидели на противоположном берегу Желтой реки Дэнкоу — небольшой городок, обнесенный ветхой глиняной стеной. Здесь они должны были переправиться на левый берег, чтобы идти к Ала-шань.
Китайцы в Дэнкоу еще издалека заметили караван и высыпали на городскую стену. Когда же путешественники, поравнявшись с городом, остановились, от левого берега Хуанхэ отвалила барка с солдатами. Пристав к правому берегу, они потребовали от Пржевальского паспорт.
Николай Михайлович отправился в Дэнкоу с казаком и проводником-монголом Джюльджигой.
Гуань в Дэнкоу оказался куда более наглым и жадным, чем его собрат в Баотоу.
«Мандарин, — рассказывает Пржевальский, — сидел за столом в желтой мантии и преважно спросил: кто я такой и зачем пришел в эти страны? На это я отвечал, что путешествую из любопытства, притом же собираю растения на лекарства и делаю чучела птиц, чтобы показать их у себя на родине…
«Но ваш паспорт, вероятно, фальшивый, так как печать его и подпись мне неизвестны», — вдруг возразил мандарин, не оставлявший своей прежней надутой позы. В ответ на это я сказал, что едва ли знаю по-китайски несколько десятков слов, следовательно не могу сам написать себе паспорт, а с китайскими фабрикантами подобного дела также не знаком…»
«Но вы имеете оружие?»
Николай Михайлович ответил, что ружья и револьверы служат ему и его спутникам защитой от нападений разбойников.
«Объявите, сколько у вас оружия и какое именно!»
Пришел писарь и со слов Николая Михайловича записал, сколько у путешественников штуцеров, гладкоствольных ружей, револьверов, пороху, пуль. Гуань просил Пржевальского продать ему один из штуцеров, но получил отказ.
Тем временем стемнело, и гуань велел перевезти Пржевальского и его спутников обратно через Хуанхэ.
На другое утро к Пржевальскому явился чиновник с десятком полицейских в форменных красных блузах и объявил, что он прислан гуанем осмотреть вещи путешественников.
Больше всего полицейских заинтересовал… суп, варившийся в палатке! Они усердно вытаскивали из котла говядину и были так поглощены этим занятием, что обыск производили небрежно.
После того как обыск кончился, Николай Михайлович потребовал, чтобы караван сейчас же переправили на противоположный берег. Через час явилась барка с солдатами, но гуань приказал взять только вещи, а верблюдов не брать. Пржевальский с одним из казаков и Джюльджигой снова отправился в Дэнкоу.
Когда вещи были выгружены, явился сам гуань.
«Осматривая наши пожитки, — рассказывает Пржевальский, — мандарин стал отбирать и передавать своему слуге то, что ему более понравилось, под предлогом рассмотреть все это хорошенько дома и возвратить обратно. Взято было: два одноствольных нарезных пистолета, револьвер в ящике, кинжал, две пороховницы. Видя, что ревизия превращается в грабеж, я приказал своему переводчику передать мандарину, что мы не затем пришли сюда, чтобы нас грабили; тогда китайский генерал удовлетворился забранными вещами и отказался от дальнейшего осмотра. Между тем верблюдов все еще не перевозили под предлогом, что поднялся ветер и они могут утонуть».
Наконец, после решительного требования Пржевальского, гуань приказал перевезти животных. Но верблюды не могли взойти на барку с высокими бортами, и тогда этих несчастных животных веревками привязали за головы к барке и потащили через быструю реку в полкилометра шириной.
Как только перевезли верблюдов, Николай Михайлович отправился к гуаню за паспортом и пропуском, но ему сказали, что начальник спит и нужно ждать до завтра.
Во дворе, где стоял караван, поставили солдат, — будто бы для того, чтобы охранять вещи, на самом же деле, чтобы сторожить самих путешественников. От гуаня несколько раз приходил чиновник. Гуань просил подарить все забранные им вещи, в том числе и штуцер.
«Я отказал наотрез, — пишет Пржевальский, — говоря, что не настолько богат, чтобы дарить каждому встречному генералу оружие, которое стоит несколько сот рублей».
На другой день после полудня чиновник пришел сказать, что гуань встал, а слуга принес ящик со штуцером, но в нем не оказалось пороховницы и коробки пистонов.
«Ваш начальник украл отсюда две вещи», — сказал я пришедшему чиновнику и послал своего переводчика объяснить то же самое мандарину».
Вероятно, смелость и твердость Пржевальского привели гуаня в замешательство, и он не решился прибегнуть к прямому насилию и грабежу. Начался бесконечный торг.
С казаком, который пришел от Пржевальского, гуань вернул пороховницу, — правда, пустую, — а пистонов не отдал и велел сказать, что они ему очень нужны. Пистолетов, револьвера и кинжала он тоже не отдал и просил казака уговорить Пржевальского подарить ему эти вещи. Но слуга гуаня, отправившийся за ответом, вернулся к своему господину с отказом.
Тогда гуань снова прислал слугу с объяснением, что он просит не подарить, а продать ему все эти вещи. Николай Михайлович сначала было отказал и в продаже, но потом, чтобы скорее кончить этот торг, решил согласиться. Он поставил, однако, непременным условием, чтобы гуань тотчас же прислал паспорт, пропуск и проводника.
Гуань очень скоро прислал и бумаги и проводника, но вместо назначенных за вещи 67 лан уплатил только 50, пообещав, что «остальные деньги отдаст при следующем свидании».
Пржевальский не захотел начинать новое препирательство. Он приказал сейчас же вьючить верблюдов, и, несмотря на поздний час, караван выступил из Дэнкоу в Ала-шань.
В дороге к ним присоединился один монгольский начальник, с которым Пржевальский подружился в Дэнкоу. Монгол рассказал, что, находясь у гуаня, сам слышал, как тот клялся отрубить Пржевальскому голову.
Может быть только самообладание и мужество Николая Михайловича спасли жизнь ему самому и его спутникам.
Ала-шанем называется южная, наиболее дикая и бесплодная часть Гоби.
На сотни километров раскинулись перед караваном экспедиции «голые сыпучие пески, всегда готовые задушить путника своим палящим жаром или засыпать песчаным ураганом».
Только кое-где щеткой торчал прямо из песка низкий, безлистный, твердый как камень, саксаул, или колючий сульхир. Изредка проносилась над песками птица пустыни холоджоро, или мелькала едва заметным пятном желто-серая, под цвет песка, чернохвостая антилопа — харасульта, которая может жить в безводной глубине пустынь, утоляя жажду соком сульхира. Да коршун изредка проносился над палаткой, надеясь поживиться остатками обеда.
Только у западных склонов Алашанского хребта лежит единственный в этом обширном пустынном крае город — Дынюаньин (ныне Яньяньфу).
Выйдя из Дэнкоу, Пржевальский и его спутники направились в Дынюаньин, куда прибыли 14 сентября.
Осмотрительный алашанский амбань[26], узнав о приближении иноземцев, послал трех чиновников, которые встретили их за целый переход от Дынюаньина. Монгольские чиновники спросили путешественников — кто они такие, куда и зачем едут?
Одним из первых вопросов было: «Не миссионеры ли вы?» Пржевальский ответил отрицательно. Тогда монголы пожали путешественникам руки и сказали, что если бы они оказались миссионерами, амбань не пустил бы их к себе в город.
«В числе причин, обусловивших успех нашего путешествия, — пишет по этому поводу Пржевальский, — на видном месте следует поставить то обстоятельство, что мы никому не навязывали религиозных воззрений».
Прибыв в Дынюаньин — небольшую крепость с глиняной стеной, Николай Михайлович и его спутники поселились в отведенной для них фанзе. Сыновья амбаня прислали им большие коробы арбузов, яблок и груш, а сам амбань — обед из множества блюд. Один из его приближенных, лама Сорджи, стал усердно навещать Пржевальского.
Алашанские знакомцы Пржевальского (слева — лама Сорджи).
Через несколько дней амбань пригласил путешественников к себе. Предварительно лама Сорджи осведомился у Николая Михайловича — будут ли русские приветствовать алашанского повелителя так, как это здесь принято, то есть падать перед ним на колени? Получив решительный отказ, Сорджи принялся уговаривать Пржевальского, чтобы на колени стал хотя бы один из казаков — бурят, но Николай Михайлович отказал и в этом.
Свидание происходило вечером. Фанза была хорошо обставлена, в ней даже висело большое европейское зеркало, купленное в Пекине, на столах горели в мельхиоровых подсвечниках стеариновые свечи. В дверях и в прихожей стояли сыновья и приближенные амбаня.
После обычных расспросов о здоровье и благополучии гостей амбань сказал, что с тех пор, как существует Ала-шань, здесь еще не бывало русских и что он очень рад их приезду. Он разрешил путешественникам охотиться в алашанских горах и подарил Пржевальскому и Пыльцову по лошади, а Николай Михайлович подарил ему карманные часы и барометр.
Но гостеприимство и щедрые подарки амбаня не помешали путешественнику оценить князька по достоинству. «Он взяточник и деспот самого первого разбора, — рассказывает Пржевальский. — Пустая прихоть, порыв страсти или гнева, словом — личная воля, заменяют всякие законы и тотчас же приводятся в исполнение, без малейшего возражения с чьей бы то ни было стороны… Запершись внутри своей фанзы, алашанский князь все время проводит в курении опиума».
На следующий день после приема у амбаня Николай Михайлович, Пыльцов и посланный с ними провожатый-монгол Мэрген-булыт отправились в горы. Тут была богатая охота на куку-яманов (так называются буровато-серые горные бараны).
Путешественники выходили на охоту едва лишь начинало светать. Солнце только показывалось из-за горизонта, когда они поднимались на гребень хребта.
Иногда путешественники проводили целых полдня, высматривая горных баранов, и все-таки не находили их. «Нужно иметь соколиное зрение, — писал Николай Михайлович, — чтобы отличить на большом расстоянии серую шкуру куку-ямана от такого же цвета камней».
Наконец, высмотрев зверя, охотники начинали подкрадываться к нему. Для этого не раз приходилось спускаться в почти отвесные пропасти, перепрыгивать через широкие трещины в скалах, лепиться по карнизам утесов. И вдруг все усилия оказывались напрасными. Их замечал другой куку-яман и свистом давал знать собрату об опасности, или оборвавшийся под ногами охотника камень предупреждал осторожного зверя, и он мгновенно скрывался. Но когда простреленный куку-яман падал на камень, Пржевальский мог порадоваться драгоценной для зоолога добыче.
Спустившись к убитому барану, охотники потрошили его, затем связывали ему ноги и, взвалив на спину, с этой тяжелой ношей шли к своей палатке.
Так были добыты прекрасные экземпляры редкостных животных.
В горах путешественники провели две недели. Их коллекции обогатились не только шкурами куку-яманов, но и экземплярами алашанской горной флоры, никем ранее не собранной.
С этой богатой научной добычей путешественники вернулись в Дынюаньин.
Отсюда до заветных берегов Куку-нора оставалось всего лишь 640 километров — около месяца пути. И тем не менее, вместо того, чтобы продолжать дальнейший путь к Синему озеру[27], Николай Михайлович решил возвратиться в Пекин.
«Несмотря на бережливость, доходившую до скряжничества, — писал Николай Михайлович, — у нас, по приходе в Ала-шань, осталось менее 100 рублей». Даже на обратный путь Пржевальский добыл средства только продажей кое-каких вещей.
Приходилось тратить время и силы на долгий изнурительный путь из Ала-шаня в Пекин и обратно для того, чтобы получить возможность идти дальше — в Куку-нор. Сколько напрасных трудов и лишений из-за скаредности царского правительства, отпускавшего экспедиции ничтожные средства по частям!
Итак, выполнение главной задачи путешествия — «пробраться в Куку-нор и Тибет» — откладывалось на длительный срок.
Николай Михайлович тяжело переживал эту неудачу. Не в его характере было покорно уступать обстоятельствам. Он постоянно стремился как можно плодотворней использовать каждый месяц, день и час экспедиции.
Распорядок дня маленького экспедиционного отряда был тщательно продуман и всегда строго соблюдался. Ради съемки, которую можно производить только при дневном свете, экспедиция двигалась днем даже в самый сильный зной. Через местность, уже снятую на карту, экспедиция в летнее время делала переходы по ночам. Охотничьи экскурсии Пржевальский совершал в часы наиболее благоприятные для того или иного вида охоты. Отряд постоянно соблюдал установленный Пржевальским наиболее экономный порядок сборов в путь и устройства стоянок. Отдыху Николай Михайлович отводил часы наименее благоприятные для исследований или для передвижения.
План экспедиции по месяцам был так же продуман, как и распорядок дня. Чтобы как можно лучше использовать условия времени года для изучения намеченных районов, Пржевальский тщательно рассчитывал размеры суточных переходов, даты прибытия в то или иное место. В пути Пржевальский всегда спешил, — то чтобы застать пролет птиц на озере Далай-нор, то чтобы успеть перейти Хуанхэ, прежде чем она вскроется ото льда. Каждый день и час пути были ему дороги.
Вот почему Пржевальский, терпеливо переносивший все лишения переходов через пустыни, был нетерпелив в своем рвении исследователя. Опасность, угрожавшая его жизни, никогда не лишала его самообладания, но задержка, нарушавшая задуманный ход экспедиции, приводила его в ярость или огорчала до слез.
Вынужденное возвращение в Пекин и потеря целых семи месяцев глубоко опечалили Николая Михайловича.
«С тяжелой грустью, понятной лишь для человека, достигшего порога своих стремлений и не имеющего возможности переступить через этот порог, — писал Пржевальский, — я должен был покориться необходимости и повернул в обратный путь».
Стена бывшего «Запретного (Императорского) города» в Пекине.
Пржевальский в начале 70-х годов.
15 октября путешественники вышли из Дынюаньина. Из-за недостатка денег и продовольствия им нужно было пройти 1300 километров до Калгана без остановок. К довершению всех трудностей Пыльцов в пустыне заболел тифом.
«Сильно скребли меня в это время кошки за сердце», — писал Николай Михайлович.
К счастью, здоровый молодой организм Пыльцова быстро справился с болезнью. На десятый день Пыльцов уже мог кое-как сидеть на лошади, хотя от слабости он и падал несколько раз в обморок. Но караван должен был идти вперед изо дня в день, от восхода до заката солнца.
От Ала-шаня до Ин-шаня Пржевальский избрал маршрут, отличавшийся от прежнего. Таким образом, даже возвращаясь, он исследовал новые местности.
Поднявшись по скалистым отрогам Харанарин-ула на Монгольское нагорье, путешественники из теплой осени Алашанских равнин попали в суровую зиму. Метели бушевали здесь с такой силой, что в нескольких шагах не видно было больших предметов, а против ветра невозможно было открыть глаза и перевести дух. Выпал глубокий снег, и изо дня в день стояли сильные морозы. Всем путешественникам, особенно же больному Пыльцову, приходилось очень трудно. Животные страдали от бескормицы. — Вскоре отказались идти два верблюда и одна лошадь. Их пришлось бросить и заменить запасными животными, взятыми из Ала-шаня.
В эти дни Николай Михайлович не только продолжал выполнять ежедневную научную работу, но, лишенный помощи Пыльцова, даже справлялся с нею один. При съемке под студеным ветром, держа в руках бусоль, Николай Михайлович отморозил себе пальцы обеих рук.
Вновь перевалив через горы, Пржевальский у их подножия открыл пересохшее старое русло Хуанхэ. Сыпучие пески пустыни заставили реку изменить свое течение.
Дойдя до нового русла Хуанхэ, экспедиция продолжала путь по ее теплой, густо населенной долине. По деревням были всюду расположены войска, выставленные для защиты от дунган, но в действительности только грабившие население.
Достигнув гор Муни-ула, путешественники вышли на старый путь. Дальше Николай Михайлович решил двигаться этим, уже пройденным раньше, путем. Правда, он пролегал по холодному нагорью, но зато был изучен и снят на карту, и Пржевальский со своими спутниками мог идти уже не ощупью, а по собственной карте.
Путешественники поднялись на нагорье. В тех самых местах, где летом они изнывали от жары, доходившей в тени до 40°C, теперь, в конце ноября, их донимали тридцатиградусные морозы с сильным ветром. «Климат — самый подлый, какой только можно вообразить», — писал Николай Михайлович.
«Как теперь помню я, — рассказывает Пржевальский, — это багровое солнце, которое пряталось на западе, и синюю полосу ночи, заходившую с востока». В это время путешественники обыкновенно развьючивали верблюдов и, расчистив снег, ставили свою палатку. Один из казаков ехал в ближайшую монгольскую юрту купить топлива.
Но жителям запретили продавать русским даже аргал[28]. Один раз после сорокакилометрового перехода путешественникам пришлось разрубить седло, чтобы вскипятить чай и приготовить немного пищи.
Во время ужина холодный воздух палатки наполнялся паром от супа, как густым туманом. Жир тотчас же застывал на руках и на губах. Потом его приходилось соскабливать ножом.
На ночь палатку обкладывали всеми вьюками, но все-таки в ней стоял лютый холод. Спали путешественники на войлоках, под шубами и бараньими шкурами. Пыльцов постоянно укладывал рядом с собой Фауста.
Редкая ночь проходила спокойно. Бродившие кругом волки подбирались к верблюдам и лошадям. Монгольские и киргизские собаки прибегали воровать мясо, забирались даже в палатку. Приходилось вылезать из-под шкур и стрелять в четвероногих разбойников. Вскочив, кричали перепуганные верблюды. Нужно было снова уложить их. После этого не скоро удавалось согреться.
На рассвете путешественники вставали и, дрожа от холода, принимались варить кирпичный чай. Немного согревшись, складывали палатку, вьючили верблюдов. С восходом солнца, по трескучему морозу отправлялись в дальнейший путь.
Верблюд, завьюченным ящиками с коллекциями.
На стоянке близ кумирни Пирэтэ-дзу с караваном экспедиции случилось несчастье. Все верблюды, пущенные вечером пастись, исчезли, за исключением одного, больного. Напрасно путешественники искали их несколько дней подряд и исходили все окрестности — отыскать животных не удалось. Больной верблюд издох. Лошади в степи не находили корма, а местные жители не смели продавать путешественникам даже солому. Одна из истощенных лошадей замерзла ночью. У экспедиции осталась одна единственная лошадь, да и та едва передвигала ноги. Китайцы, боясь прогневить свое начальство, ни за какие деньги не соглашались довезти путешественников.
Экспедиция была на краю гибели.
У Николая Михайловича оставалось еще 200 лан, вырученных в Ала-шане от продажи кое-каких вещей. С трудом, проходив целый день по монгольским юртам, Николай Михайлович купил новую лошадь и на другое утро отправил на ней казака с монголом в ближайший город Куку-хото приобрести там верблюдов. Наконец привели купленных верблюдов, и караван, потеряв на вынужденной стоянке 17 суток, форсированными переходами продолжал путь.
И вот желанная минута наступила. В канун нового 1872 года, поздно вечером, путешественники пришли в Калган. Русские, находившиеся здесь по делам русско-китайской торговли, встретили их с той радостью, с какой встречают на далекой чужбине соотечественников…
Первая десятимесячная часть путешествия по пустыням Центральной Азии закончилась.
В Калган Пржевальский привез обширную зоологическую и орнитологическую коллекцию — около 200 экземпляров различных видов грызунов и до 1000 птиц. Трудность перевозки крупных шкур млекопитающих заставляла Николая Михайловича отбирать только лучшие экземпляры наиболее редких животных. Он привез в Калган шкуры одиннадцати антилоп различных видов, четырех диких быков, двух аргали, трех куку-яманов, горного оленя, козули, степного волка.
По приезде в Калган Николай Михайлович привел в порядок эти коллекции, драгоценные карты пройденного пути на 22 листах, записи производившихся по четыре раза в день метеорологических наблюдений и ежедневные путевые заметки.
«Мы могли с чистой совестью сказать, — пишет Пржевальский, — что выполнили свою первую задачу, и этот успех еще более разжигал страстное желание пуститься вновь вглубь Азии, к далеким берегам озера Куку-нор».
Оставив весь состав экспедиции, ее снаряжение и имущество в Калгане, Пржевальский поспешил в Пекин, чтобы запастись там деньгами и всем необходимым для нового путешествия. Свои коллекции, карты и путевые записи он вез с собой.
Даже те небольшие деньги, которые царское правительство ассигновало экспедиции на 1872 год, оно не перевело своевременно в Пекин.
«Вы не можете себе представить, — писал Николай Михайлович в Россию М. П. Тихменеву, — сколько хлопот требует снаряжение при нищенских средствах моей экспедиции. Да и этих-то денег не высылают в срок. Так, например, на нынешний год не выслали ни копейки».
Между тем, для успеха экспедиции дорогá была каждая минута, и дожидаться присылки остальных денег из Петербурга Пржевальский не мог.
«Если я, — писал Пржевальский, — не буду в конце февраля или в первых числах марта на берегу Желтой реки, чтобы перейти ее по льду, то наверно не попаду вторично в Ордос, так как китайцы, с трудом пустившие меня туда летом прошлого года, не согласятся теперь перевезти на лодках на правую сторону Хуанхэ».
Пржевальский обратился за помощью к русскому посланнику в Пекине — генералу Влангали.
Александр Егорович Влангали сам был путешественником. Естественно, что он принял участие в судьбе экспедиции, которая уже за первые десять месяцев собрала множество сведений о районах Азии, до того времени неисследованных.
Влангали ссудил Пржевальского деньгами и просил адмирала Литке увеличить ассигнования на экспедицию. Благодаря поддержке посланника Географическое общество прибавило Пржевальскому по 500 рублей, а правительство по 800 рублей в год.
Посланник выхлопотал также Пржевальскому паспорт на право въезда в Ганьсу и в Куку-нор. Получить этот паспорт удалось лишь с большим трудом, так как богдоханские власти не допускали иностранцев в провинции, охваченные мусульманским (так называемым «дунганским»[29].) восстанием. Богдоханское правительство боялось усиления иностранного влияния в этих областях, боялось, что за границами Китая распространятся известия о неудачах правительственных войск в борьбе с повстанцами.
Согласившись в конце концов выдать паспорт, богдоханские чиновники пытались, тем не менее, запугать Пржевальского, приложив к паспорту, как он писал, «официальное уведомление, что в вышеназванных странах, объятых в настоящее время дунганским мятежом и неурядицами всякого рода, путешествовать весьма рискованно, и что поэтому китайское правительство не может поручиться за нашу безопасность».
Запугать Пржевальского было невозможно, но он благоразумно принял меры для усиления безопасности путешественников: приобрел несколько револьверов и скорострельных штуцеров.
В конце февраля Николай Михайлович вернулся в Калган. К тому же времени из русского отряда, стоявшего в Урге, прислали в Калган двух новых казаков взамен прежних, вернувшихся на родину.
«На этот раз, — рассказывает Пржевальский, — выбор был чрезвычайно удачен и вновь прибывшие казаки оказались самыми усердными и преданными людьми во все время нашего долгого путешествия. Один из них был русский, девятнадцатилетний юноша, по имени Панфил Чебаев, а другой, родом бурят, назывался Дондок Иринчинов. Мы вскоре сблизились с этими добрыми людьми самой тесной дружбой, и это был важный залог для успеха дела. В страшной дали от родины, среди людей чуждых нам во всем, мы жили родными братьями, вместе делили труды и опасности, горе и радости. И до гроба сохраню я благодарное воспоминание о своих спутниках, которые безграничной отвагой и преданностью делу обусловили как нельзя более весь успех экспедиции».
Дондок Иринчинов стал верным сподвижником Пржевальского во всех последующих путешествиях.
По возвращении в Калган Николай Михайлович стал деятельно готовиться в путь. «Теперь я занят с раннего утра до поздней ночи снаряжением в новую экспедицию», — писал он 1 марта М. П. Тихменеву.
Много времени посвящал Пржевальский практическим занятиям с казаками. «На днях, — писал Николай Михайлович в том же письме, — делал я ученье — примерное отбитие нападения на нас. В четыре минуты мы дали 68 выстрелов из ружей и револьверов, и мишени (поставленные в 300 шагах) были избиты пулями».
«Наученный горьким опытом», по собственным словам, Николай Михайлович сделал ряд приобретений, о которых он не заботился, снаряжаясь в предшествующие странствия. На этот раз он взял с собою четыре боченка для воды. Постоянный запас воды должен был избавить путешественников от мучительной жажды во время летних переходов по пустыням. Чтобы освободить себя и своих спутников от утомительной сторожевой службы по ночам, Николай Михайлович купил «большую и очень злую монгольскую собаку, называвшуюся Карза».
Карза оказался отличным сторожем. «Этот пес выходил с нами всю вторую экспедицию и оказал много услуг», — рассказывает Пржевальcкий. Однако один участник экспедиции отнесся неодобрительно к появлению нового спутника: «Фауст возненавидел Карзу с первого взгляда, и оба они были заклятыми врагами до самого конца экспедиции».
Отправляясь на Куку-нор, Пржевальский снарядился много лучше, чем в прежних странствиях. Зато багаж весил около полутора тонн, едва умещался на девяти вьючных верблюдах, и четырем путешественникам предстояло ежедневно вьючить эту кладь. Денег у Николая Михайловича осталось после всех покупок только 87 лан[30]. Но это его не смущало.
Утром 5 марта 1872 года караван Пржевальского выступил из Калгана, чтобы идти к берегам Куку-нора и дальше — в Тибет.
Пржевальский шел прежним путем.
25 мая путешественники прибыли в уже хорошо им знакомый Дынюаньин, где их радушно приняли сыновья амбаня. Здесь Николай Михайлович застал большой караван тангутов[31], возвращавшийся в кумирню Чейбсен, расположенную в пяти днях пути от озера Куку-нор. На предложение Пржевальского идти вместе тангуты согласились с большой радостью: в русских они надеялись найти хороших защитников в случае нападения дунган, которые вели себя враждебно по отношению к ламаистскому населению.
Алашанский князь.
Пржевальский, по его собственным словам, «был рад до невероятия». 3 июня, перед выступлением в путь, он писал Влангали: «25-го или 26-го я уже буду в тех горах, которые лежат на север от Куку-нора. Эти горы составляют отечество ревеня, исследованием которого я займусь подробно. По словам монголов, все горы покрыты лесами, в которых множество зверей: тигры, барсы, олени, кабарги. Ближе к Куку-нору — множество диких яков, джипатаев, длиннорогих антилоп. Вот будет где пожива для моей зоологической коллекции!»
Пржевальский и его спутники — Пыльцов, Иринчинов, Чебаев — с четырнадцатью верблюдами и двумя лошадьми присоединились к тангутскому каравану. Тангутов было тридцать семь человек. Вооруженные фитильными ружьями, пиками и саблями, с красными повязками на головах, — тангутские воины представляли своеобразное зрелище. Эти люди, решившиеся в такое опасное время идти в места, где действовали отряды дунган, слыли среди своих соотечественников отчаянными храбрецами. Под их охраною шли семьдесят два верблюда и около сорока лошадей и мулов.
Из Дынюаньина путь каравана лежал сначала на юг, потом повернул к западу.
«Переход через пустыни южного Ала-шаня, — писал Николай Михайлович в Россию, — был страшно труден. Здесь голые сыпучие пески раскидываются на огромное пространство и иногда на сотню верст нет ни капли воды».
Обыкновенно путешественники вставали около полуночи, чтобы двигаться в прохладные часы. Сделав переход километров в 30–40, они останавливались у колодца или, если его не оказывалось, сами копали яму, куда набиралась соленая вода. Тангуты превосходно знали дорогу и по приметам, известным им одним, угадывали места, где можно достать воду.
Отдохнуть как следует путешественники не могли даже и на остановках. От раскаленной почвы пустыни дышало жаром. А тут нужно было каждый раз развьючивать и навьючивать верблюдов. Водопой животных тоже отнимал много времени, так как воду приходилось таскать маленьким черпаком, а каждый верблюд выпивает за раз 2–3 ведра.
К тому же на остановках палатка Николая Михайловича постоянно наполнялась любознательными тангутами. Оружие русских, каждая, даже самая мелкая их вещица, непонятные занятия Пржевальского и Пыльцова — собирание растений, метеорологические наблюдения, писание дневника, — все это возбуждало в тангутах большое любопытство, даже подозрения. Расспросам не было конца.
Тангуты служили экспедиции незаменимыми проводниками в неведомый Куку-нор. Чтобы рассеять их подозрения, Пржевальский принужден был тратить много времени и сил на объяснения с ними.
Приспособляясь к пониманию тангутов, Николай Михайлович говорил, что записывает в книгу то, что видел, чтобы не забыть об этом по возвращении на родину, где от него потребуют отчета. Растения, по его словам, он собирал на лекарства; чучела птиц и зверей вез напоказ, а метеорологические наблюдения производил для того, чтобы «узнать вперед про погоду». После того как Николай Михайлович, по показаниям анероида, предсказал дождь, тангуты поверили всем его объяснениям. К тому же красивый мундир генерального штаба, в котором Пржевальский появлялся в Дынюаньине, внушил всем местным жителям, а также и тангутам, уверенность в том, что их спутник — важный русский чиновник, и они относились к нему почтительно.
Чтобы не лишиться доверия тангутов, Пржевальский принужден был отказаться от многих нужных исследований. Так, например, он не измерял температуры воды в колодцах: это неминуемо навлекло бы на него подозрение в отравлении воды…
Миновав голые сыпучие пески южного Ала-шаня, путешественники вскоре увидели впереди величественную цепь Наньшанских гор. Над раскаленными песчаными равнинами вздымались снеговые гряды Кулиан и Алан-чжу. Еще один переход — и Ала-шанская пустыня кончилась. Всего в двух километрах от голых песков расстилались обработанные поля провинции Ганьсу, пестрели цветами луга, густо лепились фанзы и вились кривые улицы города Дацзин.
«Культура и пустыня, жизнь и смерть, — пишет Пржевальский, — граничили здесь так близко между собою, что удивленный путник едва верил собственным глазам».
Когда путешественники проходили через Дацзин, к их удивлению китайские солдаты, стоявшие здесь, приветствовали их на ломаном русском языке: «Здаластуй, како живешь?» Эти солдаты были из тунгусского (эвенкийского) племени солонов, с берегов Амура, и кое-как говорили по-русски.
Высокое плоскогорье, огромные горы, местами достигающие линии вечных снегов, черноземная почва, чрезвычайная сырость климата, обилие воды, — вот что нашли путешественники в Ганьсу, всего в 40 километрах от раскаленных безводных равнин Ала-шаня. Голые пески сменились плодородными степями и долинами, покрытыми густой травой, леса осенили крутые горные склоны. На смену пустыне явился богатый и разнообразный животный мир. «Новые виды растений попадались на каждом шагу, чуть не каждый выстрел доставлял какую-нибудь новую птицу».
Вскоре путешественники увидели в первый раз кочевья тангутов, их черные шатры, стада длинношерстных яков. Перевалив через несколько отрогов главного хребта, караван вышел на берег Тэтунг-гола (Датун-хэ) и остановился вблизи тангутской кумирни Чортэнтан (Чжэрдиндун).
Настоятель кумирни, человек очень любознательный, узнав о прибытии русских, пригласил их к себе. На него произвело громадное впечатление знакомство с Пржевальским. Русский путешественник внушил ему необыкновенное почтение как великий охотник и герой. Будучи художником, настоятель нарисовал картину, изображавшую его свидание с Пржевальским.
Ущелье Тетунг-гола близ Чортэнтана.
Ученик Николая Михайловича — путешественник Козлов, посетивший Чортэнтанскую кумирню в 1900 году, — писал, что о Пржевальском «старейшие ламы до сих пор хранят самое лучшее воспоминание и берегут портрет моего учителя как драгоценность».
Чейбсен, куда держал путь караван, лежит по другую сторону горного хребта, стоящего к югу от реки Тэтунг-гол. По словам тангутов, перейти через этот горный хребет с вьючными верблюдами было невозможно. Простившись со своими спутниками-тангутами, Пржевальский оставил верблюдов на пастбище возле Чортэнтана и нанял китайцев перевезти вьюки в Чейбсен на мулах и ослах.
Двигаясь узкой тропинкой вдоль ущелья, путешественники видели рассыпанные на дне его черные палатки и деревянные жилища тангутов, а над собою — горы, покрытые лесами и — выше лесов — густыми кустарниками. Громадные скалы вздымались со всех сторон. На перевале тропинка вилась зигзагами по крутой, почти отвесной горе.
Но как бы ни был опасен и утомителен путь, Пржевальский внимательно наблюдал открывавшийся перед ним незнакомый мир, любовался его красотой. «Вьючным животным идти здесь чрезвычайно трудно, — говорит он, рассказывая о переходе через Южно-тэтунгские горы. — Зато с перевала открывается великолепный вид на холмистую равнину, которая раскинулась тотчас за горами».
На северной окраине этой равнины, на высоте 2700 метров, лежит кумирня Чейбсен. Прежде чем двинуться отсюда к Куку-нору, Пржевальский решил исследовать горы Нань-шаня, не изученные до того времени ни одним ученым. Оставив всю лишнюю кладь в Чейбсене и наняв здесь монгола, знавшего тангутский язык, путешественники 10 июля отправились в горы.
Участник четырех экспедиций Пржевальского — казак Дондок Иринчинов.
В Северном Тибете. Верховья Голубой реки.
В Наньшанских горах Пржевальский изучал физические условия, при которых растет лекарственный ревень, чтобы перенести культуру ревеня к себе на родину. Николай Михайлович знакомился с природой страны, измерял высоту горных вершин.
Ежедневные дожди и чрезвычайная сырость мешали работам экспедиции. Только в редкие часы ясной погоды могли путешественники сушить собранные коллекции. К тому же птицы в это время линяли, и из десяти убитых часто только одна или две годились для препарирования. «Птиц мы собрали не более 200 штук», — с досадой писал путешественник. Зато растения были в полном цвету, и гербарий Пржевальского пополнился тремя тысячами экземпляров, принадлежавших к 324 видам.
Исследуя Южный хребет, Пржевальский взошел на высочайшую его вершину — Соди-соруксум.
Чем выше мы поднимаемся, тем ниже температура, при которой закипает вода. Николай Михайлович решил измерить температурой кипения воды высоту Соди-соруксум, но только на вершине горы спохватился, что ему нечем развести огонь. «Торопясь сборами в палатке, — рассказывает Пржевальский, — я позабыл взять с собой зажигательные спички и никак не мог добыть огня выстрелами из штуцера, так что должен был отложить свое намерение до другого раза. Через день я опять взошел на Соди-соруксум, на этот раз уже со всеми принадлежностями для кипячения. «Ну, гора, сейчас твоя тайна будет открыта», — сказал я, устроив свой кипятильник, — и через несколько минут знал, что Соди-соруксум подымается на 13600 футов (4145 м) над уровнем моря».
Впервые в жизни Николай Михайлович находился на такой высоте. Глубоко внизу белели облака. Громадные горы лежали под ногами путешественника.
В августе Пржевальский и его спутники перешли на Северный хребет и разбили свою палатку на высоте более 3500 метров. К концу месяца листва наньшанских лесов везде пожелтела, грава на горных лугах выгорела, птицы улетали на юг или спускались в нижний пояс гор, более теплый и обильный пищей. «Научной добычи» в горах стало слишком мало, и 1 сентября путешественники вернулись в Чейбсен, чтобы продолжать путь к озеру Куку-нор.
На третий день их стоянки в Чейбсене три монгола пригнали сюда на продажу гурт баранов. Тайком от дунган — темными ночами, по горным тропам — пробрались монголы в эти места с верховьев реки Тэтунг-гол, из Мур-засака, находящегося на пути из Чейбсена к Синему озеру. Вскоре монголам предстояло возвращаться домой, и они согласились служить экспедиции проводниками до Мур-засака.
Пыльцов отвез ящики с коллекциями к настоятелю Чортэнтанской кумирни. 23 сентября русские путешественники вышли из Чейбсена.
Путь в Мур-засак лежал по горным тропинкам, между двумя дунганскими городами — Сенгуань (Саньчжинчжен) и Тэтунг (Датунин). Первый переход караван сделал благополучно. На другое утро нужно было проходить мимо кумирни Алтын. Проводники оказали Пржевальскому, что близ кумирни отряд богдоханского войска караулит тропинки и грабит всех проходящих — и дунган, и своих. Пржевальский отвечал, что если только грабители, кто бы они ни были, посмеют напасть, то он будет стрелять.
Едва лишь путешественники приблизились к кумирне, как, выскочив из лощины, человек тридцать всадников сделали несколько выстрелов в воздух и с воинственными криками бросились к каравану.
Монастырь Чейбсен.
Когда всадники подскакали шагов на пятьсот, Николай Михайлович приказал проводникам-монголам махать и кричать, что караван ведут не дунгане, но русские. Не обращая внимания на крики монголов, богдоханские солдаты приблизились, но к их разочарованию русские не убежали, бросив верблюдов и вьюки. Видя, что русские продолжают стоять с ружьями в руках и готовы открыть огонь, всадники остановились, спешились и подошли к путешественникам, уверяя, что по ошибке приняли их за дунган.
Через несколько километров на караван напал другой отряд, но и здесь богдоханские солдаты ушли, ничем не поживившись.
На третий день пути предстоял самый опасный переход — каравану нужно было пересечь две большие дунганские дороги из Сенгуаня в Тэтунг. Через первую путешественники перебрались благополучно, но с вершины перевала, ведущего к другой, они увидели впереди на дороге отряд дунганских всадников около сотни человек, гнавших перед собой стадо баранов. Дунгане заметили двигавшийся по ущелью караван, но издали приняли его за китайский или монгольский, а с китайцами и монголами они в то время враждовали. Дунгане сделали несколько выстрелов и столпились у выхода из ущелья на дорогу, загородив русским путь.
Проводники-монголы уговаривали Пржевальского вернуться. Но Николай Михайлович хорошо понимал, что отступление только ободрит дунган, которые на лошадях легко могут догнать путешественников. Пржевальский решил идти напролом.
Расчет оказался верен. Дунгане сделали еще несколько выстрелов, но видя, что путешественники продолжают идти вперед, пустились врассыпную. Караван вышел из ущелья, благополучно пересек большую дорогу и стал подниматься на следующий перевал.
Через пять суток Пржевальский добрался до ставки мурзасакского князя. Благодаря письму чейбсенского настоятеля, князь дал путешественникам двух проводников до следующего, тангутского, стойбища. Дорога шла долиною Тэтунг-гола, между крутых скалистых гор. У тангутов, которым Пржевальский подарил несколько аршин плису и тысячу иголок, он получил новых проводников.
Оставив долину Тэтунг-гола, караван повернул на юг, прямо к озеру Куку-нор. Вскоре путешественники вышли на степную равнину Куку-нора и 13 октября 1872 года разбили свою палатку на самом берегу озера.
«Мечта моей жизни исполнилась. Заветная цель экспедиции была достигнута, — рассказывает Пржевальский об этом дне. — Правда, такой успех был куплен ценою многих тяжких испытаний, но теперь все пережитые невзгоды были забыты, и в полном восторге стояли мы с товарищем на берегу великого озера, любуясь на его чудные темноголубые волны…»
Осенью 1872 года, в то самое время, когда экспедиция Пржевальского находилась на берегах Куку-нора, шло наступление богдоханских войск на прилегающие к озеру районы, захваченные восставшими дунганами.
Одною из задач, поставленных перед экспедицией Пржевальского, было (по выражению Литке) «пролить свет» на события дунганского восстания, о которых русское правительство не имело достоверных известий.
Сам Пржевальский считал, что в его «системе научных работ» «на первом плане, конечно, должны стоять исследования чисто географические, затем естественно-исторические».
Это не помешало Пржевальскому во время первого и последующих своих путешествий собрать многочисленные сведения о борьбе дунган за независимость. С присущей ему наблюдательностью Пржевальский нарисовал широкую картину общественных отношений в Центральной Азии.
Пржевальский выступил как непримиримый враг богдоханского строя, как друг угнетенных азиатских народов. На них, по его выражению, «лежит двойное ярмо произвола собственных правителей и китайских властей с добавлением к тому и другому всевозможных поборов духовенства». Между угнетателями существует прямой союз: богдоханское правительство и мандарины, по словам Пржевальского, «для упрочения своей власти успешно практикуют систему задабривания здешних влиятельных князей и высшего духовенства», монгольский народ они «эксплоатируют совместно с теми же князьями и ламами». Главная опора богдоханского владычества в Тибете, писал Пржевальский, «зиждется на хитром и умелом пользовании престижем далай-ламы. Его избрание, хотя и не гласно, вполне в китайских руках; утверждение же официально делается богдоханом».
Пржевальский горячо сочувствовал стремлению центральноазиатских народов освободиться от ненавистного богдоханского гнета. Он писал: «Недовольство всех классов общества растет постоянно, и нужен лишь небольшой благоприятный повод, чтобы накопившаяся злоба разрешилась всеобщим взрывом».
Пржевальский умел рассматривать явления общественной жизни в их сложности и противоречивости, не упрощая их односторонним истолкованием. В национальной розни, в областной и сословной разъединенности населения Центральной Азии Пржевальский справедливо видел препятствие для успеха борьбы за национальное освобождение. Пржевальский сочувствовал национально-освободительной борьбе мусульман, но в то же время он видел, что руководство этой борьбой захватывали в свои руки местные беки, ахуны, ходжи, действовавшие врозь и преследовавшие собственные узко-эгоистические интересы, а не интересы народа и общего дела. «Элементы восстания, — писал Пржевальский, — собраны через край, но, как неоднократно говорили нам сами туземцы, «у них нет головы, общего руководителя». «Разъединенность представляет несчастным туземцам в перспективе даже самого лучшего исхода восстания мало отрадную картину деспотического господства разных политических проходимцев и неминуемые междуусобия, словом, те же бедствия, только с иною приправою».
Пржевальский указывал, что для успеха восстания недоставало основного условия — союза между угнетенными народностями и дружных действий против общего врага: «Между тем, в случае энергических наступательных действий инсургенты имели большие шансы на успех», так как «тотчас же нашли бы себе громадную поддержку в собственных провинциях Небесной империи». «Другой важной ошибкой было то, что они не поняли, какую громадную выгоду могли бы извлечь, расположив в свою пользу монголов… Одинаковые стремления к освобождению сблизили бы номадов с дунганами, и оба эти народа могли бы рука об руку идти к достижению одной и той же цели».
Пржевальский убедился в том, что богдоханская империя и европейские державы не дадут народам Центральной Азии существовать независимой национальной жизнью. «Самостоятельная жизнь, как отдельного государства, ныне для них невозможна», — писал он в 1888 году.
Умение видеть направление, в котором развивались исторические события, позволяло Пржевальскому правильно предугадывать их дальнейший ход. Как мы убедимся, он сумел предугадать во всех подробностях роковой для мусульманского населения исход дунганского восстания.
Пржевальский был врагом отсталого общественного строя и реакционного правительства Китайской империи, он был другом народов, боровшихся за уничтожение этого строя, за свержение этого правительства. Однако при жизни Пржевальского еще не созрели условия для освобождения азиатских народов.
Путь к свободе для всех народов мира открыл великий Октябрь.
Ученик Пржевальского Козлов, доживший до победы социализма в нашей стране, уже был свидетелем блестящих успехов национально-освободительной борьбы в Азии, он находился в дружеских сношениях с руководителями освободительного движения в Монголии и Тибете.
Только после торжества социализма в СССР и всемирно-исторических побед, одержанных народами нашей страны над германским фашизмом и японским империализмом, мог добиться своего освобождения великий китайский народ.
Народные массы Китая в длительной, продолжавшейся «более столетия… непрестанной и непреклонной борьбе за свержение гнета империализма и китайского реакционного правительства… сейчас достигли своей цели»[32].
Народы Восточной и Центральной Азии, которые столетиями подвергались угнетению, теперь впервые соединены в братскую семью Китайской Народной Республикой.
Поздней осенью 1872 года синие воды Куку-нора стояли в белой рамке покрытых снегом окрестных гор. В прибрежной степи Николай Михайлович охотился за дикими ослами — куланами, посещал черные шатры тангутов, знакомился с их бытом и нравами.
Неразлучный спутник тангута — длинношерстный як. Он доставляет шерсть, молоко и мясо, перевозит тяжести, легко пробираясь со своей кладью по самым опасным узким тропинкам, вьющимся вдоль отвесных круч, где едва мог бы пройти даже горный козел.
Дикий як.
В водах озера Пржевальский нашел новый, до того времени неизвестный вид рыбы («расщепохвост Пржевальского»).
Николай Михайлович провел несколько дней на берегу Куку-нора, прежде чем двинуться дальше — в Цайдам и Тибет. Увы! Денег у него оставалось так мало, что нечего было и думать добраться до заветной, таинственной столицы далай-ламы — Лхассы.
Узнав о пребывании русских путешественников на Куку-норе, к ним приехал тибетский посланник. За десять лет до того он был послан далай-ламой к богдохану с подарками, но достиг берегов Куку-нора как раз в то время, когда началось дунганское восстание. С тех пор целых десять лет этот посланник жил на Куку-норе, не отваживаясь пробраться в Пекин и не смея вернуться в Лхассу. Услыхав, что четверо русских прошли через страну, которую он не решался пройти с сотнями своих конвойных, тибетский посланник приехал посмотреть «на таких людей», как он сам выразился.
Посланник предлагал Николаю Михайловичу свои услуги и рассказывал о Тибете. «С грустью слушали мы такие рассказы, зная, что только один недостаток материальных средств мешает нам пробраться вглубь Тибета, — пишет Пржевальский. — Вынужденные отказаться от намерения пройти до столицы Тибета, мы тем не менее решили идти вперед до крайней возможности, зная насколько ценно для науки исследование каждого лишнего шага в этом неведомом уголке Азии».
Между тем, кругом разнесся слух, что на Куку-норе появилось четверо невиданных людей, и между ними один великий святой Запада, который идет в Лхассу, чтобы познакомиться с далай-ламой — великим святым Востока.
«Поводом к такому производству меня в полубоги служили прежде всего наши хождения по Ганьсу, битком набитой разбойниками. Затем пальба из невиданных ружей, охоты за зверями, которых мы били иногда на большие расстояния, стрельба в лет птиц, препарировка их шкур, наконец, неразгаданная цель нашей поездки, — все это вместе заставляло местный люд смотреть на нас как на особенных, таинственных людей».
Тангуты и монголы толпами приходили к Пржевальскому. От желающих получить предсказание не было отбоя. Приходили в надежде узнать не только о будущей судьбе, но и о пропавшей скотине или потерянной трубке. Один тангутский князь добивался узнать средство, которое может избавить его жену от бесплодия.
«Рядом с званием святого мне навязана была профессия доктора, — рассказывает Пржевальский. — Несколько удачных лечений от лихорадки хинином окончательно убедили монголов в моих докторских способностях. Затем слава искусного врача прошла со мной через всю Монголию, Ганьсу, Куку-нор и Цайдам. В двух последних странах в особенности много являлось к нам различных больных».
Разбойники не только не решались напасть на караван Пржевальского, но даже переставали грабить в тех местах, где он проходил. Князья не раз являлись к Николаю Михайловичу с просьбой защитить их от разбоя и приказать разбойникам возвратить награбленный скот.
Далеко кругом распространилась молва, что хотя русских только четверо, но, в случае нападения, по одному слову Пржевальского является к нему на помощь тысяча воинов. Молва приписывала русскому путешественнику способность повелевать стихиями.
Идя от Куку-нора на юго-запад, Пржевальский открыл Южно-кукунорский хребет, который отделяет плодородные степи, прилегающие к Синему озеру, от пустынь Цайдама и Тибета.
Вид озера Куку-нор зимой.
Перевалив через отроги Южно-кукунорского хребта, караван вступил в бесплодные равнины Цайдама. Здесь Николай Михайлович впервые услыхал от местных жителей-монголов о лежащей на западе, за пустынями Цайдама, стране диких верблюдов и диких лошадей — Лоб-норе. Уже тогда у Николая Михайловича родился замысел следующего путешествия — на Лоб-нор, которое он и осуществил через несколько лет.
Вдали, над необозримой пустынной равниной, показался высочайший горный хребет Бурхан-будда, более высокий, чем Альпы, и не исследованный ни одним ученым до Пржевальского. В прозрачном воздухе пустыни гóры были ясно видны за 120 километров, а в бинокль можно было различить чуть не каждую скалу.
Бурхан-будда, по выражению Пржевальского, «вздымается вдруг на совершенно гладких равнинах Цайдама» и «стоит исполинским стражем высокого, холодного и пустынного нагорья Северного Тибета». Эти горы тянутся непрерывным ровным гребнем, ни одна вершина не поднимается высоко над хребтом. Обнаженные скалы и глинистые или кремнистые склоны совершенно бесплодны. Только в редких местах торчат уродливые кусты будар-ганы да желтого курильского чая.
Получив у местного князя Дзун-засака проводника в Тибет, Николай Михайлович перевалил через горы Бурхан-будда и, продолжая двигаться на юго-запад, вскоре открыл два других хребта, почти таких же высоких и бесплодных — Шуга и Баян-хара.
Тибет! Вот эта недоступная европейцам страна, куда он столько лет стремился. Какие страшные места! Абсолютная пустыня поднята на высоту 4500 метров над уровнем моря. Среди глины и песка, кое-где покрытых белым налетом соли, только изредка желто-серый лишайник прикрывает оголенную почву, да торчат твердые, как проволока, злаки, до того высушенные ветром, что под ногами они хрустят, как хворост, и рассыпаются пылью.
Никаких дорог в тибетских пустынях нет, кроме тропинок, протоптанных зверями.
«Не видавши собственными глазами, — пишет Пржевальский, — невозможно поверить, чтобы в этих обиженных природой местностях могло существовать такое громадное количество зверей, скопляющихся иногда в тысячные стада. Только бродя с места на место, эти сборища могут находить достаточно для себя корма на скудных пастбищах пустыни». «В таких негостеприимных местностях, среди самой унылой природы, но зато вдали от беспощадного человека, живет знаменитый длинношерстный бык» (як). «Другой не менее замечательный зверь, встреченный нами в Северном Тибете, был белогрудый аргалú[33]».
Як с его мощным телом, с громадными рогами, с длинной бахромой черных волос, свешивающихся почти до земли, с густым хвостом, и стройный аргалú с рогами, красиво изогнутыми, с ярко-белой грудью, с гордой поступью казались Пржевальскому одинаково прекрасными. «Я не раз задавал себе вопрос, кто красивее: як или белогрудый аргали, — пишет Пржевальский, — и лучшего ответа дать не мог, что каждый из этих зверей хорош по своему».
Ранним утром Пржевальский и Пыльцов, вооруженные скорострельными штуцерами, выходили из своей юрты и отправлялись на охоту. Громадную черную фигуру яка нетрудно заметить простым глазом даже на расстоянии нескольких километров. Николай Михайлович надевал сибирскую кухлянку, сделанную из молодых оленьих шкур шерстью вверх. Близорукие яки, приняв охотника за оленя, подпускали его шагов на четыреста.
Однако убить яка нелегко даже с такого близкого расстояния. Пржевальский посылал в зверя пулю за пулей и видел, как летят клочья шерсти, но зверь был жив. Раненый як то бросался в ярости к охотнику, то, не добежав, испуганно поворачивал назад. Один як свалился лишь после того, как в него попало восемнадцать пуль. Малокалиберная пуля, даже пронзив сердце могучего зверя, не сразу убивает его, и смертельно раненый як может еще бежать несколько минут. Кости же черепа редко пробивает даже пуля большого калибра.
К белогрудым аргали подкрадываться труднее, так как они осторожнее и зрение у них лучше, чем у яков. Взобравшись на скалу, вожак стада долго смотрит в ту сторону, откуда появилась опасность. Разглядев, наконец, приближающегося охотника, вожак пускается бежать, увлекая за собой стадо.
Но меткие пули Николая Михайловича настигали и аргали. Он удачно охотился также и за оронгó — красивыми быстрыми антилопами на тонких ногах, с черными рогами, с белой и бурой спиной.
Вьюки ежедневно пополняемой коллекции стали так тяжелы, что путешественники, продолжая путь вглубь Тибета, закопали в песок две шкуры яков и взяли их уже на обратном пути.
Ружья Пржевальского.
Об этом периоде экспедиции Пржевальский пишет: «Жизнь наша была в полном смысле «борьбой за существование», и только сознание научной важности предпринятого дела давало нам энергию и силы для успешного выполнения своей задачи».
Для защиты от сильных тибетских холодов путешественники запаслись юртой. Встав до рассвета, Николай Михайлович и его спутники завтракали поджаренной мукою — «дзамбой», запивая ее кирпичным чаем. На рассвете они разбирали юрту, вьючили ее вместе с другими вещами на верблюдов и выступали в путь. Прямо навстречу дул студеный ветер. Холод не давал усидеть на лошади, а передвижение пешком с тяжелой сумкой, ружьем и патронташем по высокому нагорью, где в разреженном воздухе каждый лишний фунт тяжести отнимает много сил, было мучительно. При малейшем подъеме учащенно билось сердце, руки и ноги дрожали, по временам начинались головокружение и рвота.
Одежда Пржевальского и его спутников изорвалась, вся пестрела заплатами и не могла достаточно защищать от холода. Сапоги вконец сносились. К старым голенищам путешественники подшивали куски шкур убитых яков.
Частые бури поднимали пыль, песок и даже камни, которые носились в воздухе, как хлопья снега в сильную метель. Продолжать путь становилось невозможно. Но даже при такой погоде путешественники выбивались из сил, сделав переход вдвое или втрое меньший, чем привыкли делать в более низких местностях.
На месте остановки путешественники прежде всего развьючивали верблюдов, и это отнимало целый час. Собирали аргал, рубили лед для воды, потом — усталые и голодные — ждали, пока сварится чай, а поев, отправлялись на охоту. Вернувшись же с охоты, Николай Михайлович садился писать свои заметки, а его спутники опять рубили лед и замерзшее мясо для обеда, чинили дырявую посуду и одежду.
В разреженном воздухе трудно было развести огонь, аргал горел плохо, и его хватало только для приготовления пищи. «Наступало самое тяжелое для нас время — долгие зимние ночи, — рассказывает Пржевальский. — Казалось, что после всех дневных трудов ее можно было бы провести спокойно и хорошенько отдохнуть, но далеко не так выходило на деле. Наша усталость обыкновенно переходила границы и являлась истомлением всего организма, при таком полуболезненном состоянии спокойный отдых невозможен. Притом же, вследствие сильного разрежения и сухости воздуха, во время сна всегда являлось удушье вроде тяжелого кошмара. (На нагорье Северного Тибета спать возможно только с самым высоким изголовьем или в полусидячем положении.) Прибавьте к этому, что наша постель состояла из одного войлока, насквозь пропитанного пылью и постланного прямо на мерзлую землю. На таком-то ложе и при сильном холоде, без огня в юрте, мы должны были валяться по 10 часов сряду, не имея возможности спокойно заснуть и хотя на время позабыть всю трудность своего положения».
Здесь, на бесплодном нагорье, обдуваемом ледяными ветрами, путешественники встретили новый 1873 год.
«Еще ни разу в жизни, — записал Николай Михайлович в своем путевом дневнике, — не приходилось мне встречать новый год в такой абсолютной пустыне, как та, в которой мы нынче находимся. И, как бы в гармонии ко всей обстановке, у нас не осталось решительно никаких запасов, кроме поганой дзамбы… Лишения страшные, но их необходимо переносить во имя великой цели экспедиции».
Четыре героя шли вперед. Пустыня расступалась перед их отвагой. 10 января 1873 года русские путешественники достигли берегов величайшей реки Центральной и Восточной Азии, одной из величайших рек земного шара — Янцзыцзяна, или Голубой реки.
«На берегах Голубой реки, — писал Николай Михайлович в Россию, — чуть не на каждой версте попадаются громаднейшие стада яков, диких ослов, антилоп и горных баранов. В день можно убить десять, даже двадцать крупных животных».
Берега Голубой реки — крайняя южная точка в глубине Центральной Азии, которой достиг Пржевальский во время первого путешествия. Еще 850 километров, всего лишь около месяца пути, и он был бы в Лхассе. Но в пустынях Тибета из одиннадцати верблюдов три издохли, а живые едва волочили ноги. Денег оставалось всего пять лан. От родины путешественников отделяли тысячи километров пути. «При таких условиях, — говорит Пржевальский, — невозможно было рисковать уже добытыми результатами путешествия, и мы решили идти обратно».
И вот караван снова подошел к Куку-нору. Там, где осенью синела вода, теперь расстилалась ослепительно белая ледяная равнина, гладкая как пол. По утрам над нею вставали миражи: казалось, что над озером, высоко в воздухе плавают звери.
На самом деле это были дзерены и куланы, бродившие в степи — далеко за чертой горизонта. На обширных равнинах, по утрам, благодаря преломлению лучей на границе нижних, еще холодных, и верхних, уже нагретых солнцем, слоев воздуха, отдаленные предметы становятся видны и кажутся приподнятыми над землей.
Всю весну Николай Михайлович провел на берегах Куку-нора и в горах Ганьсу. До путешествия Пржевальского ходили легенды о том, что в этих местах живет удивительный зверь — «хун-гуресу». Теперь оказалось, что легендарный «человек-зверь»[34] — обыкновенный медведь.
В конце мая путешественники вышли из горной области Ганьсу и вступили в пески Ала-шаня. Теперь они не имели средств нанять проводника и должны были сами отыскивать путь через пустынную равнину, лишенную путеводных примет.
На переходе между озерком Серик-долон и колодцем Сангин-далай караван сбился с пути.
В это время у путешественников уже не оставалось и трех ведер воды. Лошади, не поенные в продолжение многих часов, от сильной жары едва передвигали ноги. Нужно было как можно скорее дойти до колодца.
Путешественники знали, что колодец Сангин-далай находится у подножья горы. Справа показалась небольшая горная цепь. Может быть, одна из этих гор — Сангиндалайская? В другой стороне, прямо на севере, тоже виднелась какая-то гора. Куда же вести караван? Для путешественников это было вопросом жизни и смерти.
Николай Михайлович решил идти к северной горе, но без большой уверенности. «В томительном сомнении завьючили мы своих верблюдов и двинулись в путь».
Пройдя километров десять, путешественники увидели, наконец, примету, указывавшую на близость колодца, — кучу камней, сложенных на вершине горы. Измученные долгой жаждой, путники ускорили ход и через несколько часов подошли к колодцу…
Вскоре, на одном из переходов по Южному Ала-шаню, путешественники встретились с монгольскими богомольцами. Впервые за одиннадцать лет с начала дунганского восстания богомольцы направлялись из Урги в Лхаcсу. Даже и теперь, после занятия средней части Ганьсу китайскими войсками, путь считался опасным, и монголы шли большим караваном в тысячу палаток. Увидев посреди пустыми маленькую кучку загорелых людей в оборванной одежде, монголы приняли их сначала за своих одноплеменников. Ехавшие впереди богомольцы воскликнули: «Посмотрите, куда забрались наши молодцы!» Разговорившись с путешественниками, монголы долго не хотели верить, что русские «молодцы» вчетвером пробрались в Тибет.
В это время «молодцы», полуголодные, грязные, одетые в лохмотья, обутые в невиданные «мозаичные» сапоги из кусков шкур, кожи, остатков голенищ, по отзыву самого Пржевальского, «всего более походили на нищих». Когда они пришли в город Дынюаньин, жители, глядя на них, говорили: «Как они сделались похожи на наших людей! Совсем как монголы».
В Дынюаньине Николай Михайлович получил деньги — тысячу лан, заботливо присланных сюда из Пекина генералом Влангали. Вместе с деньгами путешественники получили письма из России и три последних номера газеты «Голос» за 1872 год. «Трудно передать, каким праздником был для нас этот день. С лихорадочной жадностью читали мы письма и газеты, где все для нас было новостью, хотя бы события, со дня которых минуло уже более года. Европа, родина, былая жизнь — все живо воскресло перед нами».
Казалось бы, что в безводных Алашанских горах путешественникам меньше всего грозила опасность от воды. «Но видно судьба хотела, чтобы мы в конец испытали все невзгоды, которые могут в здешних странах грянуть над головой путника», — пишет Пржевальский.
Внезапно хлынул ливень, какого Николай Михайлович не наблюдал ни разу в жизни.
Со страшной быстротой поток воды понесся вниз с крутых склонов гор, стремительно увлекая громадные каменные глыбы, выворачивая с корнем деревья, ломая и перетирая их в щепы. Поток наполнил дно ущелья, где была расположена стоянка экспедиции, устремился к палатке.
Это произошло мгновенно, прежде, чем путешественники могли хотя бы даже схватить первые попавшиеся вещи и броситься бежать. Еще минута, и палатку унесло бы вместе со всем, что в ней находилось.
«Выручило счастье», — говорит Пржевальский. Груда камней, которую мощный поток нагромоздил перед палаткой наподобие плотины, удержала дальнейший напор вод, и все имущество экспедиции, все ее коллекции, карты, дневники были спасены!
«По предположенному заранее плану», как пишет Пржевальский, его караван должен был идти из Дынюаньина «прямо на Ургу, срединою Гоби». Этот путь, не пройденный до Пржевальского ни одним европейцем, представлял большой научный интерес.
В Дынюаньине Пржевальский запасся всем необходимым, нанял проводника-монгола, променял с приплатой истощенных верблюдов на свежих и купил новых. Утром 14 июля караван двинулся в путь.
Опять длинный ряд изнурительных дней. Опять кругом на тысячи километров — пустыня, такая же дикая и бесплодная, как тибетская. Только вместо леденящего холода — зной, доходящий днем до 45°C в тени. А для того, чтобы производить съемку, путешественникам приходилось делать переходы как раз в дневное время.
Сверху обжигало солнце, а снизу веяло жаром от почвы, накалявшейся до 63°C. Палатка не спасала от жары — духота внутри стояла еще большая, чем на открытом воздухе. Напрасно путешественники обливали палатку и землю вокруг нее водой — через полчаса все было сухо попрежнему, и опять некуда было деться от невыносимого зноя. Росы не падало вовсе, а если изредка и собирались дождевые тучи, то дождь не долетал до земли: встречая нижний раскаленный слой воздуха, он снова превращался в пар. Даже ночью термометр не показывал ниже 23,5°C.
На карте путешествия Пржевальского, приложенной к его книге, путь экспедиции от Дынюаньина до Урги обозначен линией в шесть сантиметров длиною. Но для того чтобы проложить эту линию на карте, путешественникам пришлось совершить сорок четыре перехода по страшной дневной жаре пустыни!
Особенно мучительным был переход 19 июля.
Рано утром караван выступил в путь. От берегов соленого озера Джаратай-дабасу путешественники двигались к хребту Хан-ула. Вскоре они нашли колодец, напоили своих животных и, наполнив бочонки свежей водой, двинулись дальше.
По словам проводника, до следующего колодца было недалеко. Но вот пройдены восемь, девять, десять километров, а колодца все нет.
Время подвигалось к полудню, жара становилась невыносимой. Знойный ветер обдавал путешественников песком и соленой пылью. По раскаленной почве мучительно было идти не только людям, но и животным. Путешественники несколько раз останавливались, смачивали головы себе и собакам. Наконец воды осталось меньше полуведра, и ее приходилось беречь на самый крайний случай.
Пейзаж Средней Гоби.
— Далеко ли еще до колодца? — много раз спрашивали путешественники у своего проводника и каждый раз получали ответ, что уже близко, вон за тем холмом. Так караван прошел еще километров десять. Воды все не было, люди брели уже из последних сил.
Тогда Пржевальский решил послать вперед к колодцу Пыльцова и проводника. Вместе с ними отправили Фауста. Пес уже не мог бежать, то и дело ложился и начинал выть Николай Михайлович велел проводнику взять Фауста к себе на верблюда.
Монгол не переставал уверять Пыльцова, что до воды близко. Когда они отъехали километра два от каравана, монгол с вершины холма указал место, где должен был находиться колодец. Пыльцов прикинул на глаз расстояние — добрых пять километров! Да и есть ли еще там колодец? Не уверенный в том, что проводник не обманывает и на этот раз, Пыльцов решил остаться ждать Пржевальского. Фауста он положил под куст зака, на подстилку из седельного войлока.
Бедная собака слабела с каждой минутой. Когда подъехал Пржевальский, у нее уже начались судороги. Наконец она завыла, зевнула раза два-три и издохла.
Положив на вьюк труп несчастного Фауста, путешественники двинулись дальше. Запас воды почти кончился. Люди брали в рот по одному глотку, чтобы смочить пересохший язык. Пржевальский понимал — еще немного, и спасение придет слишком поздно.
Николай Михайлович приказал казаку Иринчинову взять котелок и вместе с проводником скакать к колодцу.
«Быстро скрылись в пыли, наполнявшей воздух, посланные вперед за водой, — рассказывает Пржевальский, — а мы брели по их следу в томительном ожидании решения своей участи. Наконец, через полчаса показался казак, скачущий обратно, — но что он вез нам: весть о спасении или о гибели? Пришпорив своих лошадей, которые уже едва волочили ноги, мы поехали навстречу этому казаку и с радостью, доступной человеку, бывшему на волосок от смерти, но теперь спасенному, узнали, что колодец действительно есть, и получили котелок свежей воды. Напившись и намочив головы, мы пошли в указанном направлении и вскоре достигли колодца Боро-сонджи. Дело было уже в два часа пополудни, так что по страшной жаре мы шли 9 часов сряду и сделали 34 версты (36 километров).
Развьючив верблюдов, я отправил казака с монголом за брошенным по дороге вьюком, возле которого лежала другая наша, монгольская, собака, сопутствовавшая нам уже почти два года. «Улегшись под брошенным вьюком, она осталась жива и, освежившись привезенной водой, возвратилась к стоянке вместе с посланными людьми.
Несмотря на все истомление, физическое и нравственное, мы до того были огорчены смертью Фауста, что ничего не могли есть и почти не спали целую ночь. Утром следующего дня мы выкопали небольшую могилу и похоронили в ней своего верного друга. Отдавая ему последний долг, мы с товарищем плакали, как дети. Фауст был нашим другом в полном смысле слова. Много раз, в тяжелые минуты различных невзгод, мы ласкали его, играли с ним и наполовину забывали свое горе. Почти три года этот верный пес служил нам, и его не сокрушали ни морозы и бури Тибета, ни дожди и снега Ганьсу, ни трудности дальних хождений по целым тысячам верст. Наконец его убил палящий зной Алашанcкой пустыни и, как на зло, всего за два месяца до окончания экспедиции…»
Нелегким был и дальнейший путь по раскаленной бесплодной пустыне. Сахара едва ли страшнее Гоби, а Северный Тибет по сравнению с ней казался теперь путешественникам благодатной страной.
Даже птицы, пролетавшие над Гоби, бедствовали от безводья и бескормицы. Несколько раз Николай Михайлович находил пернатых странников мертвыми.
Уже кончался август, но изо дня в день стояла сильная жара. Измученные путешественники напрягали все силы, чтобы добраться до Урги.
Люди обносились вконец: вместо сапог — разорванные унты, одежда вся в дырах и заплатах, рубашки — гнилые рубища без рукавов.
И, наконец, добрались! 5 сентября, оборванные, измученные и счастливые, пришли в Ургу.
«Не берусь описать, — говорит Пржевальский в своем дневнике, — впечатление той минуты, когда мы впервые услышали родную речь, увидели родные лица… Нам, совершенно уже отвыкшим от европейской жизни, сначала все казалось странным, начиная от вилки и тарелки до мебели, зеркал и прочего. Сумма новых впечатлений была так велика и так сильно действовала на нас, что мы в этот день очень мало ели и почти не спали целую ночь. Помывшись на другой день в бане, в которой не были почти два года, мы до того ослабели, что едва держались на ногах. Только дня через два мы — начали приходить в себя и есть с волчьим аппетитом».
Отдохнув неделю в Урге, путешественники 19 сентября 1873 года прибыли в Кяхту, пройдя за 34 месяца 11832 километра.
Книгу, в которой он рассказывает о своих трехлетних странствиях, Пржевальский заканчивает такими словами:
«Путешествие наше окончилось! Его успех превзошел даже те надежды, которые мы имели, переступая в первый раз границы Монголии. Тогда впереди нас лежало непредугадываемое будущее, теперь же, мысленно пробегая все пережитое прошлое, все невзгоды трудного странствования, мы невольно удивлялись тому счастью, которое везде сопутствовало нам. Будучи бедны материальными средствами, мы только рядом постоянных удач обеспечивали успех своего дела. Много раз оно висело на волоске, но счастливая судьба выручала нас и дала возможность совершить посильное исследование наименее известных и наиболее недоступных стран Внутренней Азии».
Пржевальский из скромности говорит: «счастье», «удача», «судьба». А не вернее ли сказать: воля, мужество, талант!
Пржевальский возвращался на родину, обожженный солнцем и ветрами Азии — то знойными, то студеными. Позади остались тысячи километров караванного пути. Дикие пустыни, на обширном пространстве которых уместились бы все государства Западной Европы. Нагорья, поднятые на высоту Алагёза. Из трехлетних странствий путешественник вез богатые дары науке и Родине.
5650 километров впервые пройденного пути легли на карту. Маршрут Пржевальского обнял обширное, ранее неисследованное пространство Центральной Азии от Урги на севере до верховьев Голубой реки на юге, от Большого Хингана на востоке до Куэнь-луня на западе.
Пржевальский первым из европейцев прошел «путь срединою Гоби», пересек великую пустыню из конца в конец. Он первый открыл для науки неведомые страны Куку-нора и Северного Тибета с их горными хребтами — Северо-тэтунгским, Южно-тэтунгским, Южно-кукунорским, Бурхан-будда, Шуга, Баян-хара. Впервые были точно установлены высоты, до которых поднимается над уровнем моря Тибетское нагорье.
Заполнилась часть большого «белого пятна» на карте Азии.
Дневник Пржевальского содержал ежедневные метеорологические наблюдения и данные о температуре почвы и воды, чрезвычайно важные для изучения климатов Монголии и Северного Тибета.
Путешественник собрал также множество сведений об общественно-политической и домашней жизни народов, населяющих Центральную Азию, о животном и растительном мире, полезных ископаемых и строении земной поверхности центрально-азиатских стран.
Пржевальский привез около 10000 экземпляров растений, насекомых, пресмыкающихся, рыб, млекопитающих. В этой коллекции было представлено более 3500 видов. Многие из них были новы для науки: тибетская кобрезия, тибетский лекарственный ревень, «рододендрон Пржевальского», «ящурка Пржевальского», «ящерица-круглоголовка Пржевальского», «расщепохвост Пржевальского», «герань Пыльцова», «живокость Пыльцова», «ящурка Пыльцова», «расщепохвост Пыльцова».
В старой, предшествовавшей его исследованиям, географии Центральной Азии Пржевальский обнаружил немало ошибок. Так, например, оказалось, что некоторых высот, упоминаемых Риттером на юго-восточной окраине Монгольского нагорья, или изображавшихся на картах разветвлений Хуанхэ при северном ее изгибе — в действительности не существует.
До Пржевальского пустыню Гоби, тогда еще никем не изученную, неверно представляли себе в виде океана песков. Только после того как Пржевальский пересек великую пустыню из конца в конец, стало известно, что природа Гоби разнообразна: в ее просторах поросшие густой травой степи чередуются с песками, солончаки с глиной, каменистые пустыни с лесами, горы с равнинами.
Всех этих выдающихся научных результатов Пржевальский сумел достигнуть несмотря на крайнюю скудость денежных средств.
Ежедневно рискуя жизнью, Пржевальский и три его спутника пересекли обширные области, где шла гражданская война. Ни американский путешественник Помпелли в 1864 году, ни немецкий путешественник Рихтгофен в 1868 году не отважились проникнуть на запад Китая дальше берегов Желтой реки. Но через эти районы, куда опасались вступить западноевропейские и американские исследователи, бесстрашно прошла горсточка русских во главе с Пржевальским.
Первая центральноазиатская экспедиция явилась обширной научной разведкой для последующих путешествий Пржевальского. В ходе первой экспедиции у путешественника уже наметились две главных задачи всей его будущей деятельности: исследование Гоби, исследование Северного Тибета. Наметились и два основных маршрута будущих экспедиций: путь поперек всей Гоби, который Пржевальский впоследствии прошел еще дважды, и путь через горы Северного Тибета, пройденный им еще четыре раза.
По значительности своих научных результатов первое путешествие в Центральную Азию оставило далеко позади уссурийское. И в дальнейшем каждое новое путешествие Пржевальского являлось, как мы увидим, также новой, высшей ступенью в неуклонном творческом росте исследователя.
9 октября Пржевальский прибыл в Иркутск. Здесь он отдохнул, прежде чем пуститься в долгий путь на перекладных через Сибирь. В конце 1873 года Николай Михайлович приехал в Смоленск, чтобы повидаться с матерью и няней Макарьевной. В начале 1874 года он был в Петербурге.
В столице путешественника ждал триумф. Но Николай Михайлович не привык к торжественным приемам и публичным чествованиям, не любил их. Лучше всего он чувствовал себя под кровом походной палатки, где ничто не отвлекало его от любимых занятий. Беспрерывное шумное внимание столичного общества тяготило Пржевальского. «От приглашений и знакомств нет отбоя, — жаловался он в письме к товарищу. — Верите ли, мне до того надоели расспросами, что я иногда и жизни не рад». Но, конечно, ни назойливость любопытных, ни тягостная торжественность приемов и чествований не мешали Пржевальскому радоваться успеху заветного дела.
О путешествии Пржевальского стало известно во всем мире. Его письма из Китая Русскому географическому обществу перевели на французский, немецкий и английский языки. Русские и иностранные путешественники присылали Николаю Михайловичу экземпляры своих книг.
Научные результаты экспедиции Пржевальского были так велики, что их выдающееся значение вынуждены были признать во всех странах.
Дарованиями и отвагой замечательного исследователя Азии Россия могла гордиться по праву. И даже царское правительство, которое так скупилось на средства для экспедиции, теперь готово было козырнуть перед другими державами ее успехами.
По распоряжению правительства коллекции Пржевальского перенесли в помещение Главного штаба. Здесь, под руководством путешественника, их систематизировали, разложили на столах. «Я сам, — писал Николай Михайлович, — в первый раз видел в таком блеске всю коллекцию. Одних птиц лежало 1110, кроме того 35 шкур больших животных и проч.»
Коллекции осматривали академики, царь и австрийский император. При царском осмотре Пржевальскому объявили о производстве его в подполковники.
Русские ученые чрезвычайно высоко оценили коллекции Пржевальского.
Зоологическая коллекция содержала совершенно новые для науки виды и значительно расширяла и уточняла сведения о географическом распространении животных Центральной Азии.
В начале апреля 1874 года зоологическую коллекцию приобрела Академия наук.
Когда-то смоленский мальчик Коля Пржевальский мечтал о славе великого охотника, но даже и в мечтах не представлял он себе, что чучела убитых им зверей будут храниться в одном из богатейших зоологических музеев мира.
Необыкновенно интересна была и коллекция растений. Пржевальский привез множество видов, ранее неизвестных ботаникам. Особенно богато была представлена флора, собранная в Ганьсу. По отзыву академика Максимовича, познанием этой флоры «мы будем всецело обязаны трудам H. M. Пржевальского».
Русские географы дали общую оценку экспедиции в следующих словах:
«С необыкновенным самопожертвованием и успехом совершил капитан Пржевальский замечательное свое путешествие. Русское географическое общество, рассмотрев ныне материалы и коллекции, собранные Пржевальским, убедилось в необыкновенных заслугах этого исследователя, ставящих его наряду с замечательнейшими путешественниками нашего времени».
Имя Пржевальского было поставлено рядом со знаменитейшими именами — с именами Крузенштерна и Беллинсгаузена, Семенова-Тян-Шанского и Невельского, Ливингстона и Стэнли.
Это было признание — восторженное и полное! Русское географическое общество присудило Пржевальскому высшую свою награду — большую золотую медаль.
Одновременно Пржевальский получил признание и за границей. Французское министерство народного просвещения наградило его золотым знаком «Palme d'Académie», a международный географический конгресс в Париже отметил почетной грамотой исключительную важность открытий Пржевальского для географической науки…
В продолжение всего 1874 года Пржевальский напряженно работал над книгой — «Монголия и страна тангутов».
В первых числах января 1875 года книга вышла из печати, а 8 января на годовом собрании Русского географического общества был заслушан отзыв о ней известного русского путешественника М. И. Венюкова.
Венюков называл путешествие Пржевальского «географическим подвигом», а о книге, в которой это путешествие описывалось, сказал, что «западноевропейские литературы имеют мало книг, написанных так увлекательно и в то же время с соблюдением научной строгости содержания».
Через год книга Пржевальского была издана в переводах на английский, немецкий и французский языки.
Парижское географическое общество присудило Пржевальскому золотую медаль.
Еще в те дни, когда он работал над книгой, Николай Михайлович уже обдумывал план нового путешествия.
«Я не намерен успокоиться, — писал Пржевальский в 1874 году, — и в конце будущего 1875 года, лишь только окончу второй том своего писания, снова отправлюсь на два года в Тибет, на этот раз из Туркестана».
Мечтали разделить с Николаем Михайловичем труды новых странствований его прежние верные спутники — казаки Чебаев и Иринчинов. Из далекого Забайкалья они прислали ему телеграмму: «Память о вас перейдет из рода в род. С вами готовы в огонь и воду».
14 января 1876 года Николай Михайлович представил в Совет Русского географического общества план нового путешествия. В этот первоначальный план входило исследование Восточного Тянь-шаня, Кашгарии, бассейна озера Лоб-нор и Тибета. Путешественник собирался пересечь Тибетское нагорье с севера на юг, дойти до Лхассы и до берегов Брамапутры.
Замысел экспедиции на неведомый европейцам Лоб-нор возник у Пржевальского еще во время первого путешествия.
В XIX веке это озеро и окружающая его страна представляли собой научную загадку.
С глубокой древности через страну «Лоб» пролегал караванный путь из Восточного Туркестана в Китай. В XIII веке этим путем шел Марко Поло. В 57-й главе своего «Путешествия» он описывает «пустыню Лоп», ее горы, пески и долины, ее пресноводные источники, но он ни словом не упоминает об озере Лоб-нор. Это озеро описано только в старинных китайских источниках.
В последующие века новые пути связали Китай с Туркестаном, а путь через Лоб-нор был забыт, и европейцы после Марко Поло больше не проникали в эту страну.
Пржевальский во время первого своего путешествия по Центральной Азии слышал рассказы монголов о Лоб-норе и о диких верблюдах, которые там водятся. Еще Марко Поло сообщал в своей книге о диком верблюде. Но ни один европеец до Пржевальского никогда не видел этого животного.
Проникнуть в страну, недоступную путешественникам со времен Марко Поло! Добыть неведомого дикого верблюда! Первым из европейцев достигнуть берегов загадочного озера или убедиться в том, что его не существует! Разгадать загадку Лоб-нора — такова была мечта Пржевальского.
Неудивительно, что к замыслам путешественника отнеслись с горячим сочувствием в Русском географическом обществе. Но, казалось бы, что за дело было до «загадки Лоб-нора» царским чиновникам? А между тем один министр, ознакомившись с планом новой экспедиции Пржевальского, заявил: «Географическое общество может быть совершенно уверенным в полной готовности министерства оказать все зависящее от него содействие к осуществлению столь полезного предприятия».
«Замечательные качества как путешественника и наблюдателя, обнаруженные подполковником Пржевальским во время его прежних экспедиций, — заявило министерство иностранных дел, — дают полную надежду, что и предстоящая трудная поездка принесет значительную пользу».
Правительство, которое с такой скаредностью выдавало по тысяче рублей в год на первое путешествие Пржевальского, теперь отпустило целых 24 тысячи для снаряжения новой двухлетней экспедиции.
24 тысячи рублей! Почему же экспедиция Пржевальского была так нужна русскому правительству?
Намеченный Пржевальским маршрут — через отделившуюся от Китая Кашгарию («Джеты-шаар») и далее через Тибет к границам Индии — должен был охватить обширный географический район, который в это время для русского правительства представлял особый интерес.
1875–1877 годы ознаменовались так называемым «восточным кризисом» в международных отношениях.
Восстание против гнета турок в Боснии, в Герцеговине, в Болгарии в 1875–1876 годах и готовность России оказать поддержку освободительному движению балканских славян толкали Турцию на союз с агрессивной империалистической Англией.
Английская экспансия на Ближнем и Среднем Востоке в это время усиливалась. Англия овладевала Суэцким каналом (1875), Белуджистаном (1876), пыталась завоевать Афганистан (1875), засылала разведчиков в Тибет (в 1872 и в 1875), подготовляя вторжение в его пределы.
Своей экспансии в Азии Англия пыталась придать вид «обороны от России» своих индийских владений. Такую же империалистическую политику проводила Англия и в Причерноморье под предлогом «защиты от России» неприкосновенности Оттоманской империи.
Заключив между собой союз, Англия и Турция стремились использовать во враждебных России целях новое мусульманское государство в Центральной Азии — «Джеты-шаар»[35].
Это государство образовалось на территории Восточного Туркестана, отделившейся от Китайской империи в результате следующих событий.
В 1861–1862 годах в Шэньси и Ганьсу восстали угнетенные мусульманские национальные меньшинства этих провинций — «дунгане». Восстание дунган было последней волной Великой Крестьянской войны в Китае, — так называемого Тайпинского восстания. В 1863–64 годах мусульманское восстание распространилось на города Восточного Туркестана — Кульджу, Чугучак, Урумчи, Куча, Аксу. Восстанием старались по мере сил воспользоваться для захвата власти над Восточным Туркестаном потомки былых его властителей, господствовавших здесь до китайского завоевания, — «ходжи». В 1865 году один из них — Бузрук-хан, во главе конного отряда, вторгся из Западного Туркестана в Кашгарию (в Восточном Туркестане). Конным отрядом Бузрук-хана командовал предприимчивый и властолюбивый Якуб-бек.
Мухамед Якуб-бек родился в 1820 году в Западном Туркестане. Ко времени своего появления в Кашгаре он уже приобрел некоторую известность своей враждебной русскому правительству деятельностью в Западном Туркестане: сражался против войск генерала Перовского в Ак-мечети в 1853 и против войск генерала Черняева в Чимкенте и Ташкенте в 1864 году.
В Восточном Туркестане Якуб-бек, сосредоточив в своих руках власть над вооруженными силами Бузрук-хана, в 1866 году сверг его. В 1870–72 годах, после успешной борьбы — с одной стороны с богдоханскими войсками, а с другой — с образовавшимися в результате восстания самостоятельными ханствами и дунганским Союзом городов, Якуб-бек стал самодержавным правителем Восточного Туркестана. Его государство получило название — «Джеты-шаар», Якуб-бек — титул эмира.
Англия и Турция старались использовать властолюбивого Якуб-бека для того, чтобы создать враждебное России государство в Средней Азии. Они пытались превратить Джеты-шаар в центр «газавата» — «священной войны» мусульман против иноверцев, распространить газават под англо-турецким руководством на Западный Туркестан, отделить Западный Туркестан от России. С этой целью турецкий султан заботился о создании Якуб-беку религиозного престижа в глазах мусульман и признал его «вождем верующих» — «аталык-гази». Англия и Турция посылали военных инструкторов в армию эмира. Англия снабжала его европейским оружием.
С помощью этого оружия Якуб-бек и его военная клика установили в Восточном Туркестане такой террор и взвалили на плечи народа такое тяжкое налоговое бремя, что жизнь населения не стала лучше, чем была при богдоханском владычестве.
Русское правительство, стараясь преградить путь английской агрессии на Среднем Востоке, в 1871 году временно ввело войска в Илийский край[36]. Россия пыталась завязать дипломатические связи с Джеты-шааром. Но Россия не могла признать в качестве самостоятельного государства территорию, принадлежащую дружественному ей Китаю и подпавшую под английское влияние.
Естественно, что русское правительство было заинтересовано в получении разносторонней информации относительно географических районов, на которые направлялась английская агрессия, — Джеты-шаара и Тибета.
Ценные научные сведения об этих районах и могла доставить экспедиция Пржевальского.
5 марта 1876 года русское правительство дало согласие отпустить 24 тысячи рублей на двухлетнюю экспедицию Пржевальского.
Располагая теперь бóльшими средствами, чем в первое свое путешествие, Николай Михайлович мог взять с собою двух помощников вместо одного. Но ни один из прежних его помощников, которых он так ценил, не мог сопровождать его на этот раз.
Пыльцов, сопутствовавший Николаю Михайловичу в предыдущей экспедиции, женился и решил выйти в отставку. Женой Пыльцова стала сводная сестра Пржевальского. «Это чисто как в романе, — говорил Николай Михайлович. — Ездили вместе в далекие страны, а затем, по возвращении, один из путешественников женился на сестре товарища». Породнившись с Пылъцовым, Пржевальский вместе с тем, к своему огорчению, лишился в его лице отважного и опытного спутника.
Ягунова, сопровождавшего Николая Михайловича в путешествии по Уссури, не было в живых: он утонул, купаясь в реке.
«Меня постигло великое горе», — говорил Николай Михайлович.
Многие выражали желание сопровождать Пржевальского. Николай Михайлович долго колебался в выборе. Наконец он выбрал восемнадцатилетнего юношу Эклона — сына одного из служащих Музея Академии наук и молодого прапорщика Повало-Швыйковского.
В состав казачьего конвоя экспедиции Пржевальский просил включить Чебаева и Иринчинова, сопровождавших его в первом путешествии.
Искать помощников и готовиться к экспедиции Николай Михайлович начал еще задолго до официального решения правительства. Он заготавливал походные сумки, патронташи, одежду для себя и для всего отряда, искал хороших собак.
В начале марта 1876 года он писал Пыльцову из Петербурга: «Теперь я одной ногой уже в Тибете, и если эта экспедиция будет идти так же счастливо, как первая, то мне будет принадлежать честь исследования всех самых неведомых стран Центральной Азии. Поприще завидное, хотя и трудное».
Распоряжением правительства от 15 марта подполковник Пржевальский, прапорщик Повало-Швыйковский, вольноопределяющийся Эклон и семь казаков командировались на два года в Центральную Азию.
Перед отъездом в экспедицию Пржевальский вместе с двумя своими помощниками провел две недели в «Отрадном». Здесь он охотился и обучал будущих спутников стрельбе из штуцеров и револьверов.
23 мая Николай Михайлович простился с матерью и няней Макарьевной. 6 июня он и его спутники прибыли в Пермь. 13 июня со всем снаряжением экспедиции они выехали из Перми на 13 почтовых лошадях. Хлопотно и накладно было везти громадный багаж по скверной уральской дороге, — повозки часто ломались и приходилось платить за их починку.
За Уралом раскинулись необозримые степи. Чем ближе к Семипалатинску, тем степь становилась все более суровой и пустынной и все более напоминала Гоби.
3 июля в Семипалатинске произошла радостная встреча Пржевальского со старыми товарищами — казаками Чебаевым и Иринчиновым.
Отсюда экспедиция выехала на пяти тройках. В Верном (ныне Алма-Ата) Николай Михайлович взял еще трех казаков, а в Кульдже нанял переводчика — Абдула Юсупова, знавшего тюркский и китайский языки.
Экспедиция приобрела 24 верблюда и 4 лошади. Снаряжение в далекий путь, переписка с правительствами Китая и Джеты-шаара задержали Пржевальского в Кульдже на несколько недель.
7 августа Пржевальский получил от генерал-губернатора русского Туркестана К. П. Кауфмана перевод письма джетышаарского эмира Якуб-бека. Эмир писал, что примет участников экспедиции как гостей и окажет им в своих владениях всяческое содействие. 9 августа русский посланник в Пекине Е. Бюцов прислал экспедиции пропуск в китайский Туркестан. Этот пропуск с большим трудом удалось выхлопотать у богдоханcкого правительства. Как и в 1871 году, богдоханские министры, чтобы отговорить русских от путешествия, старались запугать их всевозможными опасностями. На этот раз министры заявили даже, что не могут взять на себя охрану жизни путешественников.
Это заявление не только не встревожило Николая Михайловича, но, напротив, очень его обрадовало.
«Паспорт из Пекина я получил на проход от Хами в Тибет, — писал он в тот же день Пыльцову. — Только китайцы отказались охранять экспедицию. Это-то и нужно».
Раз богдоханские власти отказались охранять экспедицию, то у них не будет предлога для того, чтобы приставить к ней конвой. А конвой мешал бы упорядоченной работе путешественников.
12 августа 1876 года Пржевальский и девять его спутников выступили из Кульджи и направились вверх по берегу реки Или.
У озера Лоб-нор, открытого Пржевальским.
Пржевальский после охоты во время Лобнорской экспедиции.
Путешествие от Кульджи через Тянь-Шань на Лоб-нор и по Джунгарии до Гучена в 1876–1878 гг.
Во время предыдущей экспедиции путь Пржевальского в Тибет лежал с северо-востока (из Пекина) на юго-запад. Новая экспедиция держала путь с северо-запада на юго-восток. Ближайшей ее целью были берега реки Тарим и озера Лоб-нор. Путешественникам предстояло пересечь владения джеты-шаарского эмира Якуб-бека.
Переправившись через реки Или, Текес и Кунгес, перевалив через хребет Нарат, Пржевальский и его спутники вступили на плоскогорье Юлдус.
Первые же недели путешествия показали, что Николай Михайлович, несмотря на всю свою опытность и проницательность, ошибся при выборе одного из спутников.
«Вступление наше на Юлдус ознаменовалось крайне неприятным событием. Мой помощник, прапорщик Повало-Швыйковский, почти с самого начала экспедиции не мог выносить трудностей пути», — рассказывает Пржевальский. — «Я вынужден был отправить его обратно к месту прежнего служения. К счастью, другой мой спутник, вольноопределяющийся Эклон, оказался весьма усердным и энергичным юношей. При некоторой практике он вскоре сделается для меня прекрасным помощником».
Перевалив через южные отроги Тянь-шаня, путешественники прибыли в джетышаарский город Курля. Здесь, по распоряжению Якуб-бека, они были помещены в отведенном для них доме, и к ним был приставлен караул, — «под предлогом охранения, — как рассказывает Пржевальский, — в сущности же для того, чтобы не допускать сюда никого из местных жителей, вообще крайне недовольных правлением Якуб-бека».
Пржевальского и его спутников не отпускали в город. Им говорили: «Вы наши гости дорогие, вам не следует беспокоиться, все, что нужно, будет доставлено».
Эти сладкие речи были только притворством. Правда, путешественникам каждый день доставляли баранину, хлеб и фрукты, но этим и ограничивалось гостеприимство, обещанное Якуб-беком. Все, что интересовало Пржевальского, было для него закрыто. «Мы не знали ни о чем далее ворот своего двора», — рассказывает он. На все вопросы относительно города Курля, числа здешних жителей, их торговли, характера окрестной страны — он слышал самые уклончивые ответы или явную ложь.
На следующий день по прибытии Пржевальского в Курля к нему явился приближенный эмира — Заман-бек (или Заман-хан-эфенди). Каково было удивление Николая Михайловича, когда советник джетышаарского правителя заговорил на отличном русском языке!
Пржевальский описывает Заман-бека так: «По наружности отличается тучностью, среднего роста, брюнет, с огромным носом; возраст около 40 лет».
Отвечая на вопросы Пржевальского, Заман-бек рассказал, что он уроженец города Нухи в Закавказье и состоял на русской службе. Из России Заман-бек переселился в Турцию. Турецкий султан послал его к Якуб-беку вместе с другими лицами, знающими военное дело.
Заман-бек с первых же слов объявил, что эмир поручил ему сопровождать Пржевальского на Лоб-нор.
«Покоробило меня при таком известии, — пишет Пржевальский. — Знал я хорошо, что Заман-бек посылается для наблюдения за нами и что присутствие официального лица будет не облегчением, но помехой для наших исследований. Так и случилось впоследствии».
Хотя Заман-бек был прислан в Джеты-шаар союзником англичан — турецким султаном, но сам он симпатизировал не Англии, а России. Пржевальский оценил доброжелательное отношение Заман-бека к русским. Путешественник вполне понимал, что Заман-бек лучше всякого другого «почетного конвоира», приставленного к нему джетышаарским эмиром.
Но даже самый доброжелательный конвоир мешал Пржевальскому свободно заниматься съемкой местности, знакомиться с местным населением, производить необходимые исследования. Наилучшему конвою Николай Михайлович предпочел бы свободу. Вот почему Заман-бек вызывал в нем смешанное чувство благодарности и досады.
«Заман-бек лично был к нам весьма расположен, — рассказывает Пржевальский, — и, насколько было возможно, оказывал нам услуги. Глубокою благодарностью обязан я за это почтенному беку. С ним на Лоб-норе нам было гораздо лучше, нежели с кем-либо из других доверенных Якуб-бека, — конечно,
Возмущало Пржевальского не только его положение «почетного арестанта» Якуб-бека, возмущение вызывал в нем весь политический режим, установленный эмиром в Джеты-шааре.
6 июля 1877 года Пржевальский писал в Россию: «Находясь во все время пребывания во владениях Бадуалета[37], под самым строгим присмотром, мы могли лишь изредка, случайно, входить в сношения с местным населением, но из этих случайных, отрывочных сведений, в общем обрисовались главнейшие контуры внутренней жизни царства Якуб-бека…
Пусть даже потоками крови Бадуалет зальет поле своего владычества, лишь бы на этом поле взошли ростки будущего преуспеяния государства. Но таких ростков нет вовсе. Кровавый террор в нынешнем Джитышаре[38] имеет целью одно лишь упрочение власти самого царя — о народе нет заботы. На него смотрят только как на рабокую массу, из которой можно выжимать лучшие соки…
Мелочные заботы дня поглощают все внимание и время джитышарского владыки. Бадуалет слушает всякие доносы своих слуг, знает какой купец что привез в город (при этом часть товаров отбирается даром), принимает подарки в виде лошадей, баранов и проч., от самых простых своих подданных забирает в гарем, по собственному выбору, женщин, иногда в возрасте ребенка. Постоянно опасаясь за свою жизнь, Якуб-бек живет за городом в фанзе, окруженной караулами и лагерем солдат, не спит по ночам и, как сообщал нам Заман-бек, даже в мечеть входит со штуцером Винчестера в руках».
По гневной и верной характеристике Пржевальского Якуб-бек — «не более, как политический проходимец», использовавший национально-освободительное движение мусульманских народностей против богдоханского ига лишь для того, чтобы самому «захватить власть над ними и угнетать их вместе с кликой своих ближайших приверженцев».
«Под стать самого Бадуалета является и клика его сподручников», — писал Пржевальский. «Все они известны местному населению под общим именем «анджанов». Главнейшие должности в Джиты-шаре розданы этим анджанам. Для местного населения эти люди ненавистны».
Не как равнодушный посторонний наблюдатель, а со страстным сочувствием к судьбе народных масс рисует Пржевальский их положение в государстве Якуб-бека:
«В нынешнем Джитышаре очень плохо жить. Ни личность, ни имущество не обеспечены; шпионство развито до ужасающих размеров. Каждый боится за завтрашний день. Произвол господствует во всех отраслях управления: правды и суда не существует. Анджаны грабят у жителей не только имущество, но даже жен и дочерей».
Из всего, что видел путешественник в Джеты-шааре, он сумел сделать проницательный вывод относительно жизнеспособности этого государства:
«
Пржевальский указывал, что «местное население, мало в чем повинное, конечно, поплатится при этом, быть может, даже поголовною резнею».
История вскоре же подтвердила полностью прогнозы Пржевальского. «Царство Якуб-бека» действительно пало через год. Оно было покорено богдо-ханскими войсками, как и предсказывал Пржевальский. Население, как он тоже предвидел, поплатилось при этом «поголовною резнею», которую распорядилось устроить богдоханское правительство. Десятками тысяч жители Джеты-шаара бежали на запад, в русский Туркестан, и тут поселялись навечно.
4 ноября экспедиция в сопровождении Заман-бека и его свиты выступила из Курля к берегам Тарима и Лоб-нора.
«С Заман-беком едет целая орда, — возмущался Пржевальский. — У жителей продовольствие (бараны, мука и пр.) и вьючный скот берутся даром». О самом Заман-беке Николай Михайлович рассказывал с насмешкой и негодованием: «Дорогою и на самом Лоб-норе наш спутник, вероятно от скуки, четыре раза женился, в том числе однажды на 10-летней девочке».
Общество Заман-бека и его свиты мешало Пржевальскому не только снимать на карту местность, но даже охотиться.
«Дорóгой вся эта ватага отправляется вперед, — писал он в дневнике, — травит ястребами зайцев, поет песни. На ночевках вместе с посетителями собирается всегда человек 20; пять раз в день во все горло орут молитвы. Понятно, что при таких условиях невозможно увидать, не только что убить какого-либо зверя».
Местному населению джетышаарские власти строго запретили всякие сношения с путешественниками. Добиться этого было нетрудно: иноземцев вели под конвоем, как злоумышленников, и жители, естественно, относились к ним с опаской. Цель экспедиции население совершенно не понимало, и это усиливало его подозрительное отношение к иноземцам. «Обитатели этих стран, — пишет Пржевальский, — решительно не верили тому, что можно переносить трудности пути, тратить деньги, терять верблюдов только из-за желания посмотреть новую страну, собрать в ней растения, шкуры зверей, птиц, — словом предметы никуда не годные и решительно ничего не стоящие».
«Нас подозревали и обманывали на каждом шагу», рассказывает Пржевальский.
Пржевальского не допускали в города, ему не давали идти по избранному маршруту. Чтобы заставить русских отказаться от путешествия и вернуться в Россию, приставленный к ним Якуб-беком «почетный конвой» повел их к Тариму самой трудной и окольной дорогой. Путешественников заставили при морозах, достигавших 16°, понапрасну переправляться через реки Конча-дарья и Инчике-дарья, которые легко можно было обойти. От этих переправ очень страдали верблюды, — три из них вскоре издохли.
Однако ни ухищрения конвойных, ни природные препятствия не могли преградить путь русским путешественникам. С каждым днем приближались они к намеченной цели. И вот, наконец, перед глазами Пржевальского необозримой глинистой и песчаной равниной раскинулась Лобнорская пустыня, самая дикая и бесплодная из всех, которые он видел до сих пор, — «хуже Алашанской», по его словам.
Экспедиция достигла берегов Тарима в том месте, где в него впадает Уген-дарья. Узкой лентой вьется среди голой бесплодной равнины Тарим, а вдоль берега реки разбросаны одинокими островками по пустыне несколько деревень.
Когда путешественники пришли в первую таримскую деревню, у Николая Михайловича произошло забавное объяснение с местным старшиной. На вопрос путешественника: далеко ли до Лоб-нора? — старшина отвечал, показывая пальцем на себя: «Я Лоб-нор».
Оказалось, таким образом, что Лоб-нором зовется здесь не озеро, а вся область, к нему прилегающая, и весь народ, который ее населяет.
Пройдя свыше двухсот километров вниз по Тариму, путешественники 9 декабря переправились через реку. Лодка, в которой находился Пржевальский, наткнувшись на бревно, опрокинулась, и Николай Михайлович в тяжелой зимней одежде, с двумя ружьями и сумкой за спиной, с патронташем за поясом, оказался в воде. Преодолев сильное течение, Пржевальский благополучно доплыл до берега и в тот же день записал в своем дневнике: «Конечно, не особенно приятно попасть в воду в декабре, но зато я первый купался в Тариме!»
Идя берегом Тарима по Лобнорской пустыне, Пржевальский и его спутники открыли неизвестную до того времени реку Черчен-дарью и переправились через нее.
Вдали перед путешественниками, узкой полосой над голой равниной, показались горы. С каждым переходом они виднелись все яснее. Скоро уже можно было различить не только отдельные вершины, но и главные ущелья. И вот под 39° северной широты, — там, где ни на одной карте того времени не были обозначены горы, — перед Пржевальским предстал горный хребет.
До путешествия Пржевальского об этом хребте знали только местные жители, называвшие его Алтын-тагом. Отвесной стеной вздымается он над пустыней Лоб-нора, отделяя ее от Тибета.
Панорама открытого Пржевальским хребта Алтын-таг.
Сорок дней провел Николай Михайлович в горах Алтын-тага, то странствуя у подножья хребта, то взбираясь по его крутым голым склонам. На огромной высоте, в глубокую зиму, среди бесплодной местности, путешественники не находили ни топлива, ни воды, страдали от холода, от жажды, не умывались по целой неделе. Пищи, которую удавалось добыть охотой, едва хватало, чтобы не обессилеть от голода.
Здесь, в горах открытого им громадного хребта, в походной юрте, где толстым слоем ложилась пыль от рыхлой глинистой почвы, Пржевальский отпраздновал десятилетие своей страннической жизни. За эти десять лет он совершил три далеких экспедиции, проник в неисследованные области земного шара, положил на карту тысячи километров впервые пройденного пути, открыл неизвестные до него горы и реки.
15 января 1877 года, на холодных бесплодных высотах Алтын-тага, вернувшись с охоты в юрту, Николай Михайлович записал в своем дневнике:
«15 января 1867 г., в этот самый день, в 7 часов вечера, уезжал я из Варшавы на Амур… Что-то неведомое тянуло вдаль на труды и опасности. Задача славная была впереди; обеспеченная, но обыденная жизнь не удовлетворяла жажды деятельности. Молодая кровь била горячо, свежие силы жаждали работы. Много воды утекло с тех пор, и то, к чему я так горячо стремился, — исполнилось. Я сделался путешественником, хотя, конечно, не без борьбы и трудов, унесших много сил…»
В день этого славного десятилетия судьба послала путешественнику драгоценный подарок: Пржевальский встретил, наконец, дикого верблюда — редкостное животное, о котором он мечтал, отправляясь на Лоб-нор. Это произошло в горном ущелье, на высоте трех километров, у места стоянки экспедиции.
Встав с рассветом, путешественники собрались в путь. Вдруг один из казаков заметил, что шагах в трехстах от стоянки ходит какой-то верблюд. Сначала казак подумал, что это один из экспедиционных верблюдов, отбившийся от каравана, и закричал товарищам, чтобы они поймали и привели его. Но, осмотревшись, казаки увидели, что все их одиннадцать верблюдов на месте.
— Верблюд, дикий верблюд! — закричали казаки.
Увидев своих домашних собратьев, дикий верблюд побежал было к ним, но, заметив вьюки и людей, остановился в недоумении, а затем пустился назад.
Схватив штуцер, Николай Михайлович бросился следом, выстрелил дважды, но оба раза промахнулся. Он гнался за верблюдом на лошади километров двадцать, но верблюд бежал быстрее коня и благополучно скрылся.
«Так и ушел от нас редчайший зверь, — с сожалением записал в свой дневник Николай Михайлович. — Притом экземпляр был великолепный: самец средних лет, с густой гривой под шеей и высокими горбами. Всю жизнь не забуду этого случая».
Дикий верблюд, открытый Пржевальским.
Пржевальский умел подметить каждую мелочь. Неустанно наблюдая, он изо дня в день узнавал новое о диком верблюде.
Вот на крутом скалистом склоне, куда с трудом взобрался путешественник, он находит верблюжьи следы и помет. Но ведь известно, что неуклюжий домашний верблюд неспособен лазить по горам… Здесь прошли его дикие собратья! Путь по крутым горам не представляет для них затруднений. Верблюжьи следы мешаются на заоблачных тропинках со следами горных баранов. «До того странно подобное явление, — говорит Пржевальский, — что как-то не верится собственным глазам».
Пржевальский снарядил в пески Кум-тага охотничью экскурсию. 10 марта 1877 года посланные им охотники привезли четыре шкуры.
Это были шкуры диких верблюдов!
«Нечего и говорить, — пишет Пржевальский, — насколько я был рад приобрести, наконец, шкуры того животного, о котором сообщал еще Марко Поло, но которого до сих пор не видал ни один европеец».
Оказалось, что дикий верблюд, который по своему образу жизни, сметливости, превосходно развитому зрению, слуху и обонянию так не похож на домашнего, почти не отличается от него по своим внешним признакам. Пржевальский отметил только, что у дикого верблюда горбы значительно меньше, чем у домашнего, отсутствуют мозоли на коленях передних ног, нет чуба у самца, а цвет шерсти у всех диких верблюдов — красновато-песчаный, в то время, как у домашних такой цвет встречается редко.
Спустившись снова со скалистых высот Алтынтага на покрытую галькой Лобнорскую равнину, Пржевальский повернул на северо-запад. В начало февраля перед путешественниками, за узкой лентой тамариска, раскинулись голые волнистые солончаки. И, наконец, показалась полоска только что вскрывшейся ото льда воды, дальше к северу терявшаяся в густых тростниках, которые качал холодный ветер.
В этих тростниковых зарослях и унылых солончаках кончает свой долгий путь река пустыни — Тарим. Здесь пустыня, рассказывает Пржевальский, «окончательно преграждает Тариму дальнейший путь к востоку. Борьба оканчивается: пустыня одолела реку, смерть поборола жизнь. Но перед своей кончиной бессильный уже Тарим образует разливом своих вод обширное тростниковое болото…»
Неприглядное болотистое озеро, которого достиг после многомесячных странствий Пржевальский, — это и был заветный, неведомый европейцам Лоб-нор!
Лоб-нор! Нигде еще Пржевальскому не было так трудно производить съемку, как в этих местах.
Кругом гладкая равнина, густо поросшая кустарниками и тростником. Нигде ни холмика, ни бугорка, которые при съемке могли бы служить ориентирами. Солнце светит тускло, как сквозь дым. Воздух постоянно наполнен густой пылью. Дальше нескольких сот шагов ничего не разглядеть.
Для съемки приходилось пользоваться бусолью, а Заман-бек хорошо понимал назначение этого прибора. Пржевальский рисковал навлечь на себя гнев джетышаарского правителя. Но долг ученого прежде всего! И Николай Михайлович упорно продолжал и довел до конца исследование Лобнорского бассейна.
Низовья Тарима и берега Лоб-нора путешественник описал и снял на карту.
Он познакомился с жизнью обитателей Лобнорского побережья — кара-курчинцев. Это одна из самых отсталых народностей Центральной Азии.
Незавидна жизнь кара-курчинца. «Лодки, сеть, рыба, утки, тростник — вот те предметы, которыми только и наделила несчастного мачеха-природа», — писал Пржевальский. «Вечная борьба с нуждой, голодом, холодом наложила печать апатии и угрюмости на характер несчастного».
На берегах Лоб-нора русский ученый встретился с людьми «чуть не железного века». «Сидя в сырой тростниковой загороди среди полунагих обитателей одной из деревень Кара-Курчина, — рассказывает Пржевальский, — я невольно думал: сколько веков прогресса отделяют меня от моих соседей?»
Характерная черта, отличающая Пржевальского от большинства западноевропейских путешественников: не с презрением, не с уверенностью в мнимом расовом превосходстве, а с сочувствием и интересом приглядывался Пржевальский к жизни «подобных людей, каковыми, по всему вероятию, были и наши далекие предки»…
25 апреля 1877 года русские путешественники вернулись в город Курля. Из просторов пустыни они попали в прежнюю тесную клетку «почетного» арестного дома. Опять их содержали здесь взаперти, под караулом.
Участники третьей Центральноазиатской экспедиции Пржевальского.
Походные жилища экспедиционного отряда — палатка и юрта.
На пятый день по возвращении Пржевальского в Курля его принял джетышаарский правитель.
Прием состоялся во дворе Якуб-бека. Эмир оказался маленьким толстым человеком с черной седоватой бородой. После поклонов и приветствий он встал и подал русским путешественникам руку. Расспросив, как полагается, здоровы ли они и благополучно ли совершили путь, Якуб-бек сказал, что видел много европейцев, но никто ему не поправился так, как они.
Первое впечатление Пржевальского от знакомства было то, что эмир — человек, привыкший скрывать свои настоящие чувства и постоянно притворствовать.
«Якуб-бек, — рассказывает Пржевальский, — все время аудиенции, продолжавшейся около часа, не переставал уверять в своем расположении к русским вообще, а ко мне лично в особенности. Однако, факты показывали противное. Через несколько дней после свидания, нас, также под караулом, проводили за Хайду-гол».
Эмир и его приверженцы переживали роковое для них время. Богдоханские войска двигались на запад и грозили Джеты-шаару полным разгромом. Россия продолжала соблюдать в отношении Китая дружественный нейтралитет. Поэтому Якуб-бек усиливал строгости по отношению к Пржевальскому и его спутникам.
Путешествие по Джеты-шаару подходило к концу. Но истощалось и терпение Николая Михайловича. Вот запись, сделанная им в путевом дневнике 1–4 мая 1877 года:
«Пьем до дна горькую чашу испытаний… Идем из Курли в Тянь-шань под конвоем человек двадцати всякой сволочи, посланной с нами Бадуалетом под предлогом проводов. Не только мы, но даже наши казаки под караулом: сзади и спереди каравана едут солдаты и не дают никому слова сказать «кафирам»[39]. На Хайду-голе калмыкам запретили приходить к нам под страхом смертной казни. На обеих сторонах реки были поставлены караулы. Ложь и лицемерие на каждом шагу; нас ненавидят все провожающие, за исключением разве Заман-бека. Последний к нам нелицемерно расположен, но боится высказаться и потому также обманывает нас. Каторга ехать при такой обстановке».
Лоб-норцы.
Наконец путешественники покинули владения Якуб-бека. Приставленные к ним конвоиры, рассказывает Пржевальский, «при расставании не устыдились попросить расписку в том, что мы остались всем довольны во время своего пребывания в пределах Джитышара».
В ущелье Балгантай-гол, в горах Восточного Тянь-шаня, экспедиция очутилась в трудном положении. В течение двух дней пали четыре лошади. Как двигаться дальше? Путешественники сожгли вещи, без которых они могли кое-как обойтись, завьючили всех верховых лошадей и пешком взошли на плоскогорье Юлдус.
Здесь, в первом же городке, где была почта, вдали от Родины, за много тысяч километров от Кавказа и Дуная, Пржевальский узнал, что еще 12 апреля началась русско-турецкая война. Это известие очень взволновало Николая Михайловича.
Война явилась конечным результатом «восточного кризиса». Поддержка, которую оказывала Россия национально-освободительному движению балканских славян против турецкого ига, привела в 1877 году к войне между Россией и Турцией.
«Из газет узнаю, что война с Турцией, наконец, началась», — занес Николай Михайлович в свой дневник 1 июня 1877 года. Он стремился в Тибет, он мечтал увидеть заветную Лхассу. Но война налагала иные обязанности: «В подобную минуту честь требует оставить на время мирное путешествие и стать в ряды сражающихся. Послезавтра пошлю об этом телеграмму в Петербург. Не знаю, какой получу ответ. Куда придется ехать? На Дунай или на Брамапутру?»
3 июля Пржевальский вернулся в Кульджу. Здесь он получил ответ из Петербурга. «Велено продолжать экспедицию. Теперь я могу делать это уже со спокойной совестью; вышло, что отправлюсь не на Дунай, а на Брамапутру».
В самом радостном настроении путешественник писал в своем дневнике: «Первый акт экспедиции окончен! Успех полный! Лоб-нор сделался достоянием науки!»
В Кульдже Пржевальский получил известие о смерти Якуб-бека и о вспыхнувшей вслед затем в Джеты-шааре междуусобице. Пржевальский не мог не придти к тому выводу, что в общем обстоятельства сложились исключительно благоприятно для его экспедиции. Вероятно, ни годом раньше, ни годом позже исследование Лоб-нора не удалось бы. Раньше Якуб-бек, чувствуя себя еще достаточно сильным в борьбе с богдоханскими войсками, не находил нужным считаться с Россией и не впустил бы русских путешественников. Теперь же, когда весь Восточный Туркестан охватила гражданская война, путешествие было бы и вовсе невозможно.
Пржевальский и его спутники провели в Кульдже около двух месяцев, готовясь к новому странствованию — через Джунгарию в Тибет.
28 августа 1877 года караван экспедиции с новым проводником — киргизом Алдиаровым — выступил в путь.
В этот день Николай Михайлович записал в свой путевой дневник: «Идем в Тибет и вернемся на родину года через два. Сколько нужно будет перенести новых трудов и лишений!.. Зато и успех, если такого суждено мне будет достигнуть, займет, вместе с исследованием Куку-нора и Лоб-нора, не последнюю страницу в летописях географического исследования Внутренней Азии!»
Однако на этот раз путешественнику не суждено было осуществить свои замыслы.
Уже через месяц, в горах Джунгарии, Николай Михайлович почувствовал себя больным. Распухло лицо, болело горло, по ночам трясла лихорадка. Но всего хуже был зуд. «От этого проклятого зуда нет, покоя ни днем, ни ночью», — жаловался Пржевальский.
Чтобы избавиться от зуда, он испробовал всевозможные средства: мылся отваром табака, солью, квасцами, мазался трубочной гарью, дегтем и купоросом, в городе Гучене пил лекарство, составленное китайским врачом из различных трав. Ничто не помогало.
Болезнь была вызвана длительными лишениями и нервным переутомлением. Николай Михайлович настолько ослабел, что у него тряслись руки. При всей своей выносливости он был не в состоянии продолжать путь и остановился в Гучене. Но в дымной, грязной юрте, без всякого дела, он чувствовал себя еще хуже, чем в пути. Сесть же в седло ему мешала сильная боль.
Ни делать съемку, ни даже ходить Пржевальский уже не мог. Оставаться дальше в Гучене или продолжать путь в Тибет — значило истощить окончательно силы и погибнуть без всякой пользы.
«Я решил возвратиться в Зайсанский пост, вылечиться там в госпитале и тогда с новыми силами идти опять в Гучен и далее в Тибет. Трудно было свыкнуться с подобным решением, но горькая необходимость принуждала к нему».
2 ноября экспедиция выступила в обратный путь. Сесть в седло Пржевальский не мог. Даже в телеге, которую пришлось купить в Гучене, ехать было мучительно: от тряски усиливалась боль.
Больного путешественника мучила мысль о том, что он возвращается, не осуществив дела, за которое взялся. Горько было ему сознавать, что на обратный путь уйдет еще месяц, что «приходится тащить пудов сто клади до Зайсана и обратно совершенно бесполезно», что понапрасну «верблюды натрутся, да казаки истомятся каждодневным вьючением».
В другое время мысль об утомительном труде его спутников не озаботила бы Пржевальского. Путешествие в его глазах было работой, — тот, кто за нее взялся, должен ее выполнять. Сам он в пути работал больше всех.
Но теперь его мучило сознание, что этот ежедневный утомительный труд выполняется не для того, чтобы на карту пройденного пути легло еще несколько километров неисследованного прежде пространства, не для того, чтобы коллекции экспедиции обогатились новыми чучелами зверей и птиц, прежде неизвестных науке. Теперь все тяготы путешествия его спутники несли лишь для того, чтобы доставить его, больного, в Зайсан…
Караван шел без дневных привалов, от восхода до захода солнца. Все это время больной Пржевальский должен был трястись в телеге. Холода стояли лютые, пять суток подряд ртуть в термометре замерзала. Ночью в юрте мороз доходил до 26°.
И все же Николай Михайлович не оставлял своих наблюдений, регулярно вел дневник, делал метеорологические записи, поддерживал дисциплину в своем отряде.
Наконец 20 декабря караван пришел в Зайсан.
Здесь Пржевальский пробыл три месяца. Он стал поправляться, но на вынужденной стоянке и он и его спутники чувствовали себя как в тюрьме.
Зато какой радостью сменилось унынье, когда 19 марта, с первым весенним теплом, они собрались в путь.
Вдруг в 4 часа дня прибыла эстафета из Семипалатинска. Генералы Полторацкий и Кауфман сообщали о конфликте с богдоханским правительством.
Беда пришла не одна. 25 марта Николай Михайлович получил от брата телеграмму о смерти матери.
В этот день он сделал следующую запись:
«К ряду всех невзгод прибавилось еще горе великое. Я любил свою мать всей душой… Сколько раз я возвращался в свое гнездо из долгих отлучек, иногда на край света. И всегда меня встречали ласка и привет. Забывались перенесенные невзгоды, на душе становилось спокойно и радостно. Буря жизни, жажда деятельности и заветное стремление к исследованию неведомых стран Внутренней Азии — снова отрывали меня от родного крова. Самой тяжелой минутой всегда было для меня расставание с матерью… Женщина от природы умная и с сильным характером, моя мать вывела всех нас на прочный путь жизни. Правда, воспитание наше было много спартанским, но оно закаляло силы и сделало характер самостоятельным. Да будет мир праху твоему!..»
Вечером 29 марта в Зайсан прибыла телеграмма из Петербурга. Сообщалось, что из-за дипломатических осложнений с богдоханским правительством экспедицию Пржевальского решено отложить.
Эти осложнения произошли из-за «кульджинского вопроса». Как уже говорилось, царское правительство, чтобы создать защитный барьер между своими среднеазиатскими владениями и поддерживаемым Англией государством Якуб-бека, в 1871 году ввело свои войска в Илийский (Кульджинский) край. В то время богдоханские войска, разбитые Якуб-беком, были вытеснены из Восточного Туркестана. Поэтому богдоханское правительство приветствовало оккупацию Кульджи царскими войсками: потеря Кульджи должна была ослабить мусульман.
Но в 1878 году, после подавления восстания, положение в Восточном Туркестане коренным образом изменилось. Китай потребовал, чтобы русское правительство вывело свои войска из Кульджи. При переговорах между двумя правительствами возник спор (по некоторым территориальным, торговым и другим вопросам)[40].
Известие о конфликте с Китаем принесло тоже немало горя Николаю Михайловичу. «Крайне тяжело и грустно ворочаться назад», — писал он в своем дневнике. — «Мои казаки, узнав о возвращении, сильно пригорюнились».
Ободряла его только вера в то, что задуманное им путешествие удастся совершить в недалеком будущем.
«Рассчитываю вернуться сюда к будущей весне и тогда с новыми силами и новым счастием предпринять новую экспедицию.
Теперь дело сделано лишь наполовину: Лоб-нор исследован, но Тибет остается еще нетронутым.
Я не унываю! Если только мое здоровье поправится, то весною будущего года снова двинусь в путь…
Абсолютная свобода и дело по душе — вот в чем именно вся заманчивость странствований…
Прощай же, моя счастливая жизнь, но прощай ненадолго! Пройдет год, уладятся недоразумения с Китаем, поправится мое здоровье, и тогда я снова возьму страннический посох и снова направлюсь в азиатские пустыни…»
Слово, которое Пржевальский так торжественно дал самому себе в дневнике, он сдержал, и путешествие, в которое он отправился через год, увенчалось замечательными открытиями.
23 мая 1878 года Николай Михайлович (произведенный правительственным указом в полковники) приехал в Петербург. Врачи, осмотрев его, нашли, что болезнь вызвана нервным переутомлением. Они советовали ему купанья и жизнь в деревне. Пржевальский получил отпуск на четыре месяца и с радостью отправился в любимое Отрадное.
К этому времени отчет Пржевальского о Лобнорской экспедиции был издан Русским географическим обществом. За границей брошюру поспешили перевести на немецкий и английский языки.
О русском путешественнике появилось много статей. Автор одной из них называл Пржевальского «гениальным путешественником». На родине гордились научными результатами его экспедиций. Академия наук избрала его своим почетным членом. На Западе Пржевальскому слагали громкие хвалы. Берлинское географическое общество присудило ему золотую медаль Гумбольдта.
Открыв Алтын-таг и Лоб-нор, Пржевальский совершил замечательнейшие открытия в истории исследования Азии в XIX веке.
Лоб-нор по Пржевальскому в 1876–1877 гг.
Современный Лоб-нор
Открытие Алтын-тага — северного окраинного хребта Тибетского нагорья — изменило представления географов о Тибете. Оказалось, что Тибетское нагорье простирается на 300 километров далее на север, чем предполагали до путешествия Пржевальского.
Это открытие объяснило также, почему древний путь из Восточного Туркестана в Китай, — путь, которым шел и Марко Поло, — лежал через Лоб-нор. «Это потому, — писал Пржевальский, — что под горами скорее можно было найти корм для скота и ключи воды».
Пржевальский был первым европейским путешественником, описавшим быт и антропологический тип обитателей Лоб-нора. «Описание быта, обычаев и рода занятий лобнорцев и тяжелых климатических условий, при которых они живут, — по отзыву одного географа — современника Пржевальского, — самая завлекательная и интересная из этнографических картин, нарисованных новейшими путешественниками».
Из Лобнорской экспедиции Пржевальский привез драгоценные зоологические и ботанические коллекции. Первое место среди этих научных сокровищ занимали шкуры диких верблюдов. До того времени их не видел ни один ученый.
Метеорологические наблюдения Пржевальского впервые позволили судить о климатах бассейна Тарима, восточной Кашгарии и Алтын-тага.
«Вместе с тем, — писал один географ — современник Пржевальского, — гениальный исследователь дает обстоятельные сведения о флоре и фауне и их отношениях к характеру страны. Вообще его наблюдения так широки и многосторонни, что мало кому под силу».
Важнейшим из результатов второго путешествия было определение положения и описание Лоб-нора. Со времени опубликования отчета об экспедиции возникла знаменитая «лобнорская проблема». С тех пор вплоть до наших дней она занимала внимание географов всех национальностей. Русские, французские, английские, шведские путешественники предпринимали экспедиции на Лоб-нор. В русской, немецкой, английской географической литературе появлялись статьи и исследования, пытавшиеся разрешить «загадку Лоб-нора».
Местные жители не знают «озера Лоб-нор», оно носит здесь название: Чон-куль. «Лоб-нором» же местные жители называют всю окружающую область суши.
Было ли озеро, найденное Пржевальским, действительно Лоб-нором — тем самым Лоб-нором, который описывали китайские географы?
Сам Пржевальский в этом не сомневался. Однако на старых китайских картах положение озера значительно севернее, чем у Пржевальского. Кроме того, по описаниям китайских географов озеро — соленое, найденное же Пржевальским — пресное.
Чем объясняется это расхождение? Многочисленные исследователи Центральной Азии дают разные ответы на этот вопрос.
Немецкий географ Рихтгофен, основываясь на древних китайских источниках, пытался доказать, что открытое Пржевальским пресноводное озеро — не «настоящий» Лоб-нор. «Настоящий» должен находиться на 1 градус севернее.
Выступив устно и в печати с возражениями Рихтгофену, Пржевальский высказал собственный взгляд на причину расхождения между его картой и древнекитайскими.
Это расхождение Пржевальский объяснил, прежде всего, обычной для древнекитайских карт неточностью. Вместе с тем Пржевальский допускал, что когда-то озеро имело несколько иные географические координаты. Но воды его, как предполагал путешественник, в течение долгого времени перемещались[41] и высыхали, обмелевшее озеро поростало тростником и, в конце концов, координаты Лоб-нора изменились.
Пржевальский объяснил также, почему найденное им озеро отличается от Лоб-нора китайских географов своей пресноводностью. По мнению Пржевальского, Лоб-нор не озеро в точном смысле этого слова, а «не что иное, как широкий разлив Тарима». Естественно, поэтому, что в бóльшей части Лоб-нора вода пресная, но у солончаковых берегов она засолоняется. В настоящее время вода соленая только у самых берегов. Но в древности, когда озеро затопляло солончаки, вода в нем была соленая.
Ответ Пржевальского был переведен на все европейские языки. Рихтгофен замолчал, не найдя новых возражений.
В 1896 и 1899–1900 годах бассейн Лоб-нора и Тарима посетил шведский путешественник Свен Гедин — ярый германофил, заклятый враг России и всего русского (впоследствии пропагандист германского фашизма, возглавлявший антисоветскую кампанию в Швеции).
Главной задачей Свена Гедина на Лоб-норе было «подобрать факты», которые помогли бы решить спор между немецким (Рихтгофен) и русскими географами в пользу первого.
Как пишет Гедин, он «сам убедился на основании геологических и гидрографических данных» в том, что на месте, указанном древними китайскими географами и Рихтгофеном, можно обнаружить следы древнего Лоб-нора. Между тем «Лоб-нор Пржевальского» ко времени путешествий Гедина сильно высох, зарос тростником и превратился в ряд болот. «Лоб-нор Пржевальского» Гедин считал молодым и кратковременным геологическим образованием.
После смерти Пржевальского его ученик Козлов продолжал дело учителя. Козлов дважды исследовал Лоб-нор: в 1890 и в 1893–1895 годах. Он опроверг доводы Гедина.
Со времени путешествий Пржевальского, пишет Козлов, сократились размеры открытых вод Лоб-нора, расширились камышовые и тростниковые заросли, но общий характер озера остался таким же, как его описал Пржевальский. Озеро окружают обширные солончаки. Там, где через Лоб-нор проходит струя Тарима, озеро содержит пресную воду, но всюду, где вода застаивается, она солоноватая. В соответствии и с данными истории и с требованиями теории Козлов приходит к единственно возможному, по его мнению, выводу: открытый Пржевальским Лоб-нор «нет препятствий считать историческим Лоб-нором», он «есть не только Лоб-нор H. M. Пржевальского, но и древний, исторический, настоящий Лоб-нор китайских географов; таковым за последнее тысячелетие он был и таковым пребудет».
После Козлова Лоб-нор исследовал путешественник, тоже продолжавший исследовательские традиции Пржевальского — Грум-Гржимайло. Он привел новые доводы в пользу мнения Пржевальского.
Известно, что камыш растет только у пресноводья. Известно также, что китайцы с древних времен называли Лоб-нор «тростниковым озером». Это дает основание предполагать, что еще в отдаленные времена Лоб-нор густо порос тростником и в нем было много пресной воды. Следовательно «древний, исторический Лоб-нор» мало чем отличается от «Лоб-нора Пржевальского».
Подводя итог полувековому спору географов о местоположении «исторического, настоящего» Лоб-нора, крупнейший знаток Центральной Азии академик Обручев пишет: «Позднейшие иccлeдoвaтeли выяснили, что Лоб-нор представляет кочующее озеро. Река Тарим засоряет наносами свое русло и поэтому периодически меняется место озера, в которое впадает река».
Таким образом, Пржевальский был совершенно прав, когда утверждал, что он открыл и описал «настоящий» Лоб-нор. Он первым высказал также и правильную догадку о том, что местоположение озера изменилось вследствие постоянного перемещения вод.
Конечная цель второго путешествия не была достигнута. Сперва болезнь, а потом кульджинский конфликт помешали Пржевальскому дойти до Тибета. Исследование Тибета осталось неразрешенной задачей.
Прошло несколько месяцев. Николай Михайлович выздоровел. Между тем, с богдоханским правительством, как пишет Пржевальский, «недоразумения не только не улаживались, но еще более осложнялись. Казалось, им не предвиделось конца». Ожидание «благоприятного» времени для экспедиции, говорит он, могло отдалить ее на целые годы.
«Успех путешествия в таких диких странах, какова Центральная Азия, много, даже очень много зависит, — считал Пржевальский, — от таких условий, которые невозможно определить заранее. Необходимо рисковать, и в этом самом риске кроется значительный, пожалуй, даже наибольший шанс успеха».
Пржевальский решил отправиться в путешествие, несмотря на неблагоприятную политическую обстановку, сулившую в пути серьезные опасности. Русское правительство и Географическое общество, доверяя большому опыту Пржевальского, его находчивости в самых трудных обстоятельствах и умению повсюду внушать уважение к себе, одобрили смелый замысел новой экспедиции в Тибет и на верховья Желтой реки. Однако предприятие было настолько рискованным, что поверенный в делах русского посольства в Пекине А. И. Кояндер в специальном письме просил Пржевальского во время путешествия «быть всегда настороже».
Правительство отпустило на новую экспедицию 20000 рублей. Кроме того; от предыдущего путешествия остались неизрасходованные 9000 рублей и обильное снаряжение, хранившееся в Зайсанском посту.
Здесь, в конце февраля 1879 года, собрались все участники экспедиции. Были здесь и «ветераны»: казак Иринчинов — неизменный спутник всех путешествий Пржевальского в Центральной Азии, помощник Пржевальского Эклон и переводчик Юсупов, ходившие с ним на Лоб-нор, проводник Алдиаров, который водил его из Кульджи в Гучен, опытный препаратор Коломейцев, сопровождавший путешественника Потанина в экспедиции по северо-западной Монголии и зоолога Северцова в экспедиции на Памир. Были здесь и неопытные новички: казак Пантелей Телешов, пять других казаков и солдат и, наконец, один офицер, товарищ Эклона по гимназии — Всеволод Иванович Роборовский.
При первом же знакомстве Николай Михайлович нашел, что Роборовский — вполне подходящий для него спутник: «Человек весьма толковый, порядочно рисует и знает съемку, характера хорошего, здоровья отличного». Пржевальский назначил Роборовского вторым своим помощником. «Эклону поручено было препарирование млекопитающих, птиц, словом, заведывание зоологической коллекцией; Роборовский же рисовал и собирал гербарий».
Так, скромным сотрудником экспедиции Пржевальского, начинал свою деятельность талантливый его ученик, будущий выдающийся исследователь Центральной Азии — Роборовский.
Пржевальский тщательно подобрал приборы для научных работ экспедиции: два хронометра и «универсальный инструмент» — для астрономического определения широты важнейших пунктов по полуденной высоте солнца, три бусоли для съемки, несколько компасов, гипсометр — вычислять высоту места над уровнем моря, психрометр — измерять влажность воздуха, барометр, шесть термометров. Путешественники везли с собой пинцеты и ножи для препарирования зверей и птиц, несколько пудов пакли и ваты — набивать чучела, стеклянные банки с притертыми пробками, чтобы сохранять в спирту пресмыкающихся и рыб, полторы тысячи листов пропускной бумаги для гербария…
В Зайсане экспедиция провела три недели. Ежедневно все ее участники занимались практической стрельбой. «Уменье хорошо стрелять, — говорит Пржевальский, — стояло вопросом первостепенной важности — это была гарантия нашей безопасности в глубине азиатских пустынь».
У зайсанских киргизов Пржевальский подыскал и купил 35 превосходных верблюдов. Из них 23 предназначались под вьюки, 8 — «под верх» казакам, остальные 4 шли как запасные. Для себя, двух своих помощников, препаратора и переводчика Пржевальский купил 5 верховых лошадей.
21 марта 1879 года, на восходе солнца, караван был готов к выступлению. Длинной вереницей вытянулись по дороге завьюченные верблюды. Они были разделены на три эшелона, а в каждом эшелоне привязаны один к другому. Каждый эшелон сопровождали верхом на верблюдах два казака. Один вел на поводу переднего вьючного верблюда, другой подгонял заднего. Впереди всего каравана ехал Пржевальский с прапорщиком Эклоном, проводником и одним из казаков. Прапорщик Роборовский, переводчик Юсупов, препаратор Коломейцев и остальные казаки составляли арьергард.
Здесь же, под присмотром казака, то шагом, то рысью, двигалось небольшое стадо баранов, предназначенных для еды. И, наконец, позади бежало несколько собак, отправлявшихся в экспедицию «волонтерами», по выражению Пржевальского.
Началось путешествие.
В 1871 году в свой научный поход по Центральной Азии Пржевальский отправлялся с востока — из Пекина. Путь его в Тибет лежал тогда через юго-восточную окраину великой центрально-азиатской пустыни. Теперь, через восемь лет, путешественник вступал в Гоби с северо-запада, и его путь в Тибет лежал через северо-западную — джунгарскую — окраину Гоби.
И вот караван — в Джунгарской пустыне.
Ночь. Белеют в темноте две палатки. В одной отдыхают казаки, в другой — Пржевальский, его помощники и препаратор. Путешественники спят, положив рядом с собой оружие. Между палатками лежат вьюки. В стороне уложены верблюды, привязаны бараны, заарканены верховые лошади. Изредка всхрапывает лошадь, тяжело вздыхает во сне верблюд, бредит спящий человек. Да от времени до времени дежурный казак встает и обходит стоянку.
Забрезжила заря. Дежурный казак вешает на железный треножник термометр для измерения температуры при восходе солнца. Потом он разводит огонь и варит чай. Утро прохладное. Путешественники встают, согреваются чаем, прячут в карман на дорогу оставшуюся с вечера лепешку или кусок вареной баранины и принимаются складывать палатки, убирать вещи во вьюки и ящики, седлать лошадей, вьючить верблюдов.
Надев на себя оружие, офицеры садятся на лошадей, казаки на верблюдов. Караван выстраивается и трогается в путь…
Обычный переход от бивуака к бивуаку 6–7 часов. За это время проходили в среднем около 25 километров. Путешественники то ехали шагом, то шли пешком, собирали растения, стреляли зверей и птиц. Роборовский делал путевые зарисовки. Николай Михайлович часто слезал с лошади, брал в руки бусоль и производил съемку. Все, что заслуживало внимания, Николай Михайлович сейчас же заносил в небольшую записную книжку, которую постоянно носил в кармане.
К концу перехода все чувствовали себя усталыми, разговоры смолкали, верблюды и лошади шагали медленно, через силу. Но вот вдали показался колодец. Люди приободрялись, быстрее шли караванные животные, собаки бегом бросались к воде.
Придя к колодцу, прежде всего укладывали и развьючивали верблюдов. Всех караванных животных связывали, чтобы дать им отдохнуть перед покормкой. Потом разбивали палатки и покрывали их сверху войлоками для защиты от палящих лучей солнца.
В палатки вносили оружие, постель, ящики с инструментами и дневниками. Раскладывали для просушки собранные растения и препарированных птиц. Повар-казак разводил огонь, варил чай и поджаривал дзамбу с бараньим салом.
Утолив жажду и голод, все принимались за дело. Казаки собирали аргал, обдирали зарезанного на обед барана, расседлывали, поили и пускали на покормку верблюдов и лошадей.
В палатке Пржевальского шла напряженная работа. Сам Николай Михайлович переносил на чистый планшет[42] сделанную во время перехода съемку и по кратким черновым заметкам в записной книжке составлял подробную запись в путевом дневнике. Эхлон и Коломейцев препарировали убитых дорогою птиц. Роборовский рисовал.
«Один из моих спутников нарисовал карандашом уже 70 картин, — писал Пржевальский из экспедиции в Россию. — Так что будущая моя книга будет иллюстрированною…»
Тем временем поcпевал обед, обычно — одно единственное блюдо, чаще всего — суп из баранины с просом или рисом. Каждый день путешественники уничтожали целого барана. Иногда стол разнообразила дичь, добытая удачной охотой — фазаны, гуси, утки, куропатки.
Любопытство приводило к бивуаку монголов, кочевавших в окрестностях. На вопрос: зачем они пришли? монголы обыкновенно отвечали путешественникам: «посмотреть на вас». Казаки охотно угощали их бараниной. За обедом у казаков, которые, живя в Забайкалье, по соседству с Монголией, почти все говорили по-монгольски, завязывались с кочевниками длинные беседы.
После обеда Николай Михайлович со своими помощниками отправлялся на охоту, в натуралистические и географические экскурсии. Возвратясь к стоянке перед закатом, путешественники укладывали в бумагу собранные растения, клали в спирт пойманных ящериц и змей, обдирали убитых птиц.
Работы было вдоволь для всех. Казаки чинили одежду и обувь, седла и вьючные принадлежности, подковывали лошадей, подшивали охромевшему верблюду к протертой подошве заплату — кусок толстой шкуры. «Операция эта весьма мучительна, — рассказывает Пржевальский. — Зато верблюд скоро перестает хромать и попрежнему несет вьюк…»
Начинало смеркаться, караванных животных пригоняли к стоянке, снова поили и привязывали…
Пересекая Джунгарскую пустыню, путешественники видели перед собой то необозримую гладь равнины, то волны пологих холмов. На почве, усыпанной острым щебнем, трава зеленела лишь редкими небольшими пятнами, не нарушавшими однообразного серо-желтого фона пустыни.
Много раз караван застигали в пути сильные бури. Начинались они часов в девять-десять утра, реже с полудня, и поднимали тучи пыли и песка, затемнявшие солнце. Пржевальский заметил, что у бурь — постоянное направление с запада на восток.
Пржевальский первый из исследователей Азии обратил внимание на это явление и первый объяснил его научно.
В разреженном воздухе высоких нагорий восточный склон гор, скал, песчаных холмов быстро нагревается утренним солнцем и нагревает ближайший слой воздуха. А на западном, теневом, склоне температура в это время гораздо ниже. «Отсюда в тысяче тысяч пунктов», как пишет Пржевальский, «образуется ветер, который, раз возникнув, уже не имеет препон на безграничных равнинах пустыни… А так как более тяжелый, холодный воздух находится на западной стороне предметов, то понятно, что и движение бури должно быть с запада на восток».
В пути Пржевальский изучал растительный и животный мир Джунгарской пустыни. Он открыл здесь новый вид млекопитающего, неизвестный до того времени ни одному ученому, — дикую лошадь, которая получила название «лошади Пржевальского».
Небольшой рост и короткая, щеткой торчащая грива даже на расстоянии резко отличают эту лошадь от домашней.
Дикие лошади держатся небольшими косяками в самых бесплодных частях Джунгарской пустыни.
Они долго могут оставаться без воды, питаясь сочными солончаковыми растениями. От пяти до пятнадцати самок пасутся под предводительством старого опытного жеребца. У диких лошадей превосходно развиты обоняние, слух и зрение.
Дикая лошадь Пржевальского.
Встречаются дикие лошади редко, и охота за ними чрезвычайно трудна. Пржевальскому удалось их встретить только дважды. Один раз Пржевальский и Эклон стали подкрадываться к косяку, но звери почуяли их по ветру издалека и пустились наутек. Жеребец бежал впереди, оттопырив хвост и выгнув шею. За ним следовали семь самок. По временам звери останавливались, смотрели в сторону охотников и иногда лягали друг друга, а затем опять пускались рысью и, наконец, скрылись из виду.
Николаю Михайловичу не удалось убить ни одной дикой лошади, но ему досталась в подарок шкура этого животного, убитого охотниками-киргизами в песках южной Джунгарии.
Открытое Пржевальским животное не водится ни в какой другой стране, кроме Джунгарии. Экземпляр, который он, вернувшись из путешествия, привез в Петербург — в музей Академии наук, десять лет оставался единственным в научных коллекциях мира. Только десять лет спустя новые шкуры диких лошадей привез другой русский путешественник — Грум-Гржимайло, а еще позднее ученики Пржевальского — Роборовский и Козлов.
Джунгарская пустыня ограничивается с севера Алтайскими горами, с юга — Тяньшанскими. Путь в Тибет проходил через город Хами, расположенный за Тянь-шанем, у его южных склонов.
20 мая караван экспедиции подошел к северному подножью Тянь-шаня. 25 мая, перевалив через горы, измерив показанием барометра высоту перевала, Пржевальский прибыл в Хами.
Хами лежит среди пустыни, в небольшом оазисе. Внутри зубчатой глиняной ограды тесно скучены фанзы, снаружи раскинулись поля и огороды.
Придя в Хами, путешественники разбили свой бивуак в полутора километрах от города, на берегу ручья.
Тотчас же к Пржевальскому явились китайские офицеры с приветствием от «чин-цая» — военного губернатора Хами, одного из всесильных местных правителей Небесной империи. Офицеры сообщили, что чин-цай желает как можно скорее видеть Пржевальского, и, как бы между прочим, осведомились — привез ли он губернатору подарки?
Вечером того же дня Николай Михайлович с переводчиком и двумя казаками отправился к хамийскому губернатору.
Чин-цай устроил знаменитому русскому путешественнику парадную встречу. Во дворе губернаторского дома выстроилось несколько десятков солдат со знаменами. Чин-цай, пожилой уже человек, встретил гостей на крыльце своей фанзы.
На обеде, который чин-цай дал в честь Пржевальского, присутствовали высшие местные офицеры и чиновники. Обед состоял из риса, баранины, свинины, морской капусты, трепангов, гнезд ласточки-саланганы, плавников акулы, креветок и т. п. — всего из шестидесяти блюд!
В подарок губернатор послал в лагерь Пржевальского двух баранов.
На следующий день чин-цай в сопровождении большой свиты приехал к Пржевальскому. Цель приезда заключалась, как видно, в том, чтобы выпросить как можно больше подарков. Увидев какую-нибудь вещь, офицеры тотчас же просили ее подарить. Чин-цай не отставал от своих подчиненных, особенно он интересовался оружием русских.
После отъезда губернатора Пржевальский послал ему в подарок револьвер. Но жадный чин-цай заявил посланному Пржевальским переводчику Абдулу Юсупову, что желает получить не револьвер, а двуствольное ружье.
«Возвращается наш Абдул и объявляет в чем дело, — рассказывает Пржевальский. — Тогда, зная, что при уступчивости с моей стороны не будет конца, я тотчас же отправил Абдула обратно с подарком к чин-цаю и приказал передать ему, в резкой форме, что дареные вещи ценятся как память, и что я принял двух баранов, присланных губернатором, вовсе не из нужды в них, а из вежливости.
Абдул, всегда нам преданный, исполнил все как следует. Сконфуженный губернатор взял револьвер. Так наша дружба и восстановилась».
Слава, которая шла о Пржевальском и его спутниках как об искусных стрелках, дошла и до хамийского губернатора, и он упросил их показать свое искусство. Частота и меткость их выстрелов поразили чин-цая и его офицеров.
— Как нам с русскими воевать? — сказал чин-цай.
— Нам воевать не из-за чего, — возразил Николай Михайлович. — Россия еще никогда не вела войны с Китаем.
Отдыхом от утомительных губернаторских приемов и визитов были для Николая Михайловича охотничьи и ботанические экскурсии в окрестностях Хами…
Путешественники стали собираться в дальнейший путь. Оказалось, что без разрешения чин-цая ни один торговец не смел ничего продавать.
«Потребовалось испросить позволение сделать закупки, — рассказывает Пржевальский. — Назначен был для этого особый офицер, который взял себе помощника».
Обо всем, что нужно было путешественникам, «много раз переспрашивалось, уверялось в готовности поспешить, постараться и купить все самого лучшего качества; а между тем переводчику внушалось, что «сухая ложка рот дерет», что за труды следует получить подарок. Каждый к нам прикосновенный офицер или чиновник старался что-нибудь для себя выпросить. Чин-цай также не отстал от своих подчиненных и получил складное нейзильберное зеркало. Наконец все необходимое для нас было доставлено по ценам, нужно заметить, чуть не баснословным».
Пржевальский простился с гостеприимными хамийскими властями. 1 июня, на восходе солнца, путешественники завьючили своих верблюдов и двинулись в путь.
Началась борьба с новыми препятствиями, которые ставили Пржевальскому то пустыня, то богдоханские власти.
Выйдя из оазиса, караван вступил в Хамийскую пустыню, раскинувшуюся от Тянь-шаня на севере до Нань-шаня на юге. Путешественники двигались прямо на юг — к Наньшанским горам, через которые лежал путь в Цайдам и дальше — в Тибет.
День за днем перед глазами путников расстилалась во все стороны бескрайняя, покрытая гравием и галькой равнина, где нет ни растительности, ни животных, нет даже ящериц и насекомых. Единственными следами жизни в этой мертвой пустыне были кости мулов, лошадей и верблюдов, отмечавшие путь караванов, которые здесь прошли.
Днем над раскаленной пустыней воздух был мутен, словно его наполнял дым. Горячие вихри крутили соленую пыль и уносили ее вдаль. Солнце с восхода до заката жгло невыносимо. Почва накалялась до +62,5°. В полдень в тени термометр ни разу не показывал меньше +35°. Напрасно, ища прохлады, путешественники поливали водой внутри палатки и накрывали ее смоченными войлоками: влага быстро испарялась в сухом воздухе пустыни, а после того жара чувствовалась еще сильней. Укрыться от нее было негде ни днем, ни даже ночью, что редко случается в Центральной Азии, где по ночам жары не бывает.
Через Куфи, караванную станцию в пустыне, путешественники вышли на дорогу к оазису Сачжоу. На пятые сутки пути от Куфи далеко впереди показались Наньшанские горы. Видны были простым глазом два громадных снеговых хребта.
Во время своего первого центральноазиатского путешествия Пржевальский ознакомился с восточной окраиной Нань-шаня. Теперь он приближался к этой горной стране с запада.
Еще через два перехода караван вступил в оазис Сачжоу. Рядом с дикой бесплодной пустыней зеленели сады и поля. Всего лишь в четырех-пяти километрах от голых холмов сыпучего песку, в тени высоких ив и тополей прятались фанзы, хлопотали ласточки, ворковали голуби, свистели камышевки.
Город Сачжоу имел такой же вид, как и другие китайские города того времени: снаружи зубчатая глиняная стена, внутри тесно скучены фанзы, а между ними узкие улочки.
Сачжоу — последний город на пути к Наньшанским горам, этой гигантской северной ограде Тибетского нагорья. В Сачжоу Николай Михайлович надеялся достать проводника в Тибет. Но местные власти приняли Пржевальского недружелюбно. Они (без сомнения, по указанию из Пекина) не только отказались дать ему проводника, но всячески пытались отговорить его от дальнейшего путешествия — под тем предлогом, что из Сачжоу нет дороги в Тибет и путешественникам грозит верная гибель в горах и пустынях. При этом местные власти ссылались на пример венгерского путешественника графа Сечени, который за два месяца до Пржевальского пришел в Сачжоу, но здесь отказался от намерения идти в Тибет.
«К сожалению, — писал Николай Михайлович русскому поверенному в делах в Пекине А. И. Кояндеру, — в данном случае китайцы напали на человека не слишком сговорчивого. У меня таких одиннадцать молодцов, с которыми можно пройти весь свет».
Сачжоуские власти согласились дать Пржевальскому проводников только в соседние Наньшанские горы. Николай Михайлович решил отправиться в эти горы и посвятить месяц или полтора исследованию их, а за это время подыскать проводника, или снарядить разъезд, чтобы разведать путь в Цайдам и Тибет.
Пытаясь остановить Пржевальского, сачжоуские власти прибегли к обману.
Ранним утром 21 июня, получив в проводники одного офицера и четырех солдат, экспедиция выступила к Нань-шаню.
В трех километрах от городской стены кончался оазис. «Не далее пятидесяти шагов от последнего засеянного поля и орошающего его арыка, — рассказывает Пржевальский, — не было уже никакой растительности — пустыня являлась в полной наготе. Кайма деревьев и зелени, убегавшая вправо и влево от нас, рельефно намечала собою тот благодатный островок, который мы теперь покидали. Впереди же высокою стеною стояли сыпучие пески, а к востоку, на их продолжении, тянулась гряда бесплодных гор — передовой барьер Нань-шаня».
На другой день проводники, заведя путешественников в глубокое ущелье, заявили, что дальше не знают дороги. Несомненно они действовали по приказу сачжоуских властей, которые рассчитывали, что без проводников Пржевальский вернется обратно.
Но Пржевальский выбрался из ущелья и послал казачий разъезд отыскать путь, ведущий через Нань-шань и Цайдам в Тибет.
Казаки, посланные с двумя монголами, которых Пржевальский встретил в горах, вернулись на следующий день. Монголы показали им тропинку, которая вела на южную сторону Нань-шаня. Казаки сами видели кочевья цайдамских монголов у южного подножья гор.
Марал.
Разбив в горах Нань-шаня свой лагерь, Николай Михайлович отправил Абдула и двух казаков с семью верблюдами обратно в Сачжоу забрать оставшиеся там запасы дзамбы и риса, приготовленные для путешествия через Нань-шань и Цайдам.
Через неделю Абдул с казаками привез все в исправности. Сачжоуские власти, уже знавшие о том, что экспедиция проникла в Нань-шань, помирились с совершившимся фактом…
В Нань-шане, на горном лугу, на высоте 3500 метров, путешественники раскинули свои палатки. Постельные войлоки, насквозь пропитанные соленой пылью пустыни, тщательно выколотили и расстелили в палатках, а снаружи в строгом порядке положили вьючный багаж. На берегу речки казаки вырыли печь и даже пекли в ней булки.
Из своего лагеря путешественники совершали охотничьи и ботанические экскурсии. Роборовский, страстный ботаник, в поисках новых видов растений целыми днями лазил по скалам, взбирался на горные лужайки, но бедная флора Нань-шаня скупо вознаграждала его старания. Охота также была не особенно удачна, — в горах трудно передвигаться быстро, да и зверя здесь мало, в особенности крупного. В изобилии тут водятся одни только сурки. Повсюду на горных лугах, даже у самой стоянки, с утра до вечера можно было видеть этих зверьков, настороженно сидящих у своих нор, и слышать их тонкий свист. Да еще на ранней заре громко кричали горные куропатки-уллары.
Нань-шанские сурки оказались новой разновидностью, которую Пржевальский в честь своего помощника назвал «сурком Роборовского» (Arctomys Roborowskii).
За крупным зверем отправлялись до рассвета. Охоту все страстно любили, поэтому ходили охотиться и оставались сторожить стоянку по очереди. С вечера приготовляли ружья и патроны, и Пржевальский приблизительно указывал каждому куда идти. Дежурный казак разводил огонь, варил чай и будил охотников. Проглотив наспех чашку горячего чая, они тихонько оставляли бивуак.
Сначала шли вместе, но вскоре рассыпались по ущельям. Медленно, с частыми остановками, иногда ползком, взбирались на крутую гору. Именно здесь — жилище диких яков, куку-яманов, маралов. Отсюда они утром выходят пастись на скудных лужайках.
«С замирающим сердцем, — рассказывает Пржевальский, — начинается высматривание из-за каждой скалы, с каждого обрыва, с каждой новой горки. Вот-вот, думаешь, встретится желанная добыча, — но ее нет, как нет… Так проходит час, другой. Ноги начинают чувствовать усталость, разочарование в успехе понемногу закрадывается в душу.
Между тем, охотник поднялся чуть не до вечных снегов. Дивная панорама гор, освещенных взошедшим солнцем, расстилается под его ногами. Забыты на время и яки и куку-яманы. Весь поглощаешься созерцанием величественной картины. Легко, свободно сердцу на этой выси, на этих ступенях, ведущих к небу, лицом к лицу с грандиозной природой…»
В одну из таких охотничьих экскурсий казак Калмынин, хороший охотник, убил двух беломордых маралов. Это был новый вид; Пржевальский дал ему название: Cervus albirostris («марал беломордый»)[43]. Шкуру одного из маралов Пржевальский, вернувшись из путешествия, привез в Петербург, в музей Академии наук.
Исследование Наньшанской горной страны завершилось новой географической победой: в июле 1879 года Пржевальский открыл в Нань-шане два громадных снеговых хребта, неизвестных до него ни одному географу.
Вот как рассказывает сам Пржевальский об одновременном открытии обоих хребтов:
«Я отправился с Роборовским, препаратором Коломейцевым и одним из казаков посмотреть поближе на вечные снега и ледники. Поехали мы верхами, рано утром и, сделав верст десять к востоку от нашей стоянки, увидали вправо от себя снеговое поле. Лошади, под присмотром казака, были оставлены на абсолютной высоте 12800 футов (3900 метров над уровнем моря), и мы втроем отправились пешком вверх по небольшой речке, бежавшей от снегов.
Восхождение сопряжено было с большим трудом, так как помимо предварительного пути на протяжении почти четырех верст по каменистому ущелью, на самом леднике, в особенности в верхней его половине, пришлось подниматься зигзагами, беспрестанно проваливаясь в глубокий снег.
На самом леднике мы не видали ни птиц, ни зверей, даже не было никаких следов; заметили только несколько торопливо пролетавших бабочек и поймали обыкновенную комнатную муху, бог весть каким образом забравшуюся в такое неподходящее для нее место.
С вершины горы, на которую мы теперь взошли, открывался великолепный вид. Снеговой хребет, на гребне коего мы находились, громадною массою тянулся в направлении к востоку-юго-востоку верст на сто, быть может и более… У его подножия раскидывалась обширная равнина, замкнутая далеко на юго-востоке громадными также вечно-снеговыми горами, примыкавшими к первым почти под прямым углом.
Приближавшийся вечер заставил нас пробыть не более получаса на вершине посещенной горы. Тем не менее, время это навсегда запечатлелось в моей памяти… Открытие разом двух снеговых хребтов наполняло душу радостью, вполне понятною страстному путешественнику».
«Пользуясь правом первого исследователя, — пишет Пржевальский в другом месте книги, — я назвал, там же на месте, снеговой хребет, протянувшийся по главной оси Нань-шаня —
Новый замечательный успех! Белое пятно на карте Центральной Азии длинной непрерывной полосой пересекли штрихи гор. После открытия в 1876 году Алтын-тага, а теперь — в 1879 году — хребтов Гумбольдта и Риттера — выяснилось, что «непрерывная, гигантская стена гор от верхней Хуанхэ до Памира», говоря словами Пржевальского, «огораживает собою с севера самое высокое поднятие Центральной Азии и разделяет ее на две, резко между собою различающиеся, части: Монгольскую пустыню на севере и Тибетское нагорье на юге».
Для того чтобы сделать эти замечательные открытия, недостаточно было отыскать путь через неведомые страны, пересечь знойные пустыни, взойти на вечно-снеговые горы. Нужно было еще преодолеть упорное сопротивление местных правителей феодальной Азии — вроде джетышаарского эмира или сачжоуских властей.
Из письма Пржевальского русский поверенный в делах в Пекине Кояндер узнал о препятствиях, которые чинили экспедиции сачжоуские власти. Кояндер просил богдоханских министров распорядиться, чтобы местные власти предоставляли экспедиции проводников и вообще оказывали должное содействие путешественникам, которым сами же министры выдали паспорт на право проезда по владениям империи.
Один из ледников хребта Гумбольдта, открытого Пржевальским.
Министры утверждали, что на пути из Куку-нара в Тибет нет сторожевых китайских постов, а лежит бескрайняя пустыня. В этих местах богдоханские власти не могут оказать путешественникам покровительства. Если же путешественники, предупрежденные об этом, все-таки пожелают отправиться в путь, то власти не могут нести никакой ответственности за последствия их неосмотрительного решения.
По видимости это было предостережение, по существу — угроза. Богдоханское правительство решило не допустить экспедицию в столицу Тибета.
Кояндер напомнил, что богдоханскому правительству хорошо известна научная цель экспедиции. Он опроверг несостоятельные ссылки министров на беспомощность местных властей. Вместе с тем, он указал, что ни в каком «покровительстве» экспедиция не нуждается: «Экспедиция Пржевальского, которая снаряжена таким образом, что она, в случае нужды, может проходить по пустынным местам, не завися ни относительно продовольствия, ни в каких-либо других отношениях от местного населения, легко может пройти в Лхассу».
Иначе говоря, отважных, хорошо вооруженных путешественников не остановят никакие затруднения и опасности, если только власти империи не примут особых мер к тому, чтобы задержать или погубить их.
Эта мысль была выражена на вежливом языке дипломатов. «При условии, что власти почтенного государства, по словам сановников, сделают все, что от них зависит, — писал русский поверенный в делах, — можно смело надеяться, что экспедиция успешно достигнет предположенной ею цели, не встретив на своем пути никаких
А пока дипломаты в Пекине изощрялись во все новых доводах и возражениях, двенадцать русских храбрецов совершали свой путь в глубине пустынь, преодолевая все препятствия собственными силами.
В последних числах июля путешественники, по разведанной раньше тропинке, двинулись через горы в Цайдам.
30 июля, во время остановки в пути, рассказывает Пржевальский, «нежданно-негаданно на нас грянула беда, чуть было не окончившаяся погибелью одного из лучших людей экспедиции — унтер-офицера Егорова».
Посланный в этот день Пржевальским преследовать раненого яка, Егоров не вернулся на стоянку.
Страстный охотник, он так увлекся преследованием зверя, что не заметил, как удалился от лагеря.
Прошла ночь, наступило утро, а Егоров не возвращался. Погода стояла холодная и ветреная, Егоров же отправился на охоту в одной рубашке. Огня с собою у него не было. «Дело становилось серьезным, — рассказывает Пржевальский, — нельзя было медлить ни минуты».
В продолжение пяти суток бродили путешественники по горам, стреляли в каждом ущелье, но ничего не нашли. «Горы были обшарены, насколько возможно, верст на двадцать пять». Разъезд казаков был послан даже за горы, к кочевьям цайдамских монголов. Когда же на пятые сутки казаки, вернувшись из-за гор, сообщили, что об Егорове нигде ничего не слыхали, «участь несчастного, — пишет Пржевальский, — повидимому была разъяснена: его погибель казалась несомненной».
На шестой день путешественники покинули злополучное место и пустились в дальнейший путь. Прошли километров тридцать. Караван двигался в обычном порядке, все ехали молча, в самом мрачном настроении. Казак Иринчиков, по обыкновению ехавший во главе первого эшелона, заметил своими зоркими глазами, что вдали, справа от каравана, кто-то опускается с гор.
«Сначала мы подумали, — рассказывает Пржевальский, — что это какой-нибудь зверь, но вслед затем я рассмотрел в бинокль, что то был человек, и не кто иной, как наш, считавшийся уже в мертвых, Егоров. Мигом Эклон и один из казаков поскакали к нему, и через полчаса Егоров был возле нашей кучки, в которой в эту минуту почти все плакали от волнения и радости…
Страшно переменился за эти дни наш несчастный товарищ, едва державшийся на ногах. Лицо у него было исхудалое и черное, глаза воспаленные, губы и нос распухшие. Одна злосчастная рубашка прикрывала теперь наготу; фуражки и панталон не имелось; ноги же были обернуты в изорванные тряпки.
Тотчас мы дали Егорову немного водки для возбуждения сил, наскоро одели, обули в войлочные сапоги. Невольных трое суток простояли мы опять на одном месте. Все ухаживали за Егоровым. К общей радости у него не сделалось ни горячки, ни лихорадки».
Немного отдохнув, Егоров рассказал, как он, преследуя раненого яка, заблудился и бродил в горах. Износив плохие самодельные чирки, он разорвал свои парусиновые панталоны и обвязал ими ноги. Чтобы не замерзнуть, он набивал себе за пазуху и вокруг спины сухой помет диких яков. Застрелив уллара и зайца, он ел их сырыми, по маленькому кусочку.
Между тем, силы Егорова быстро убывали. Еще день-другой, и он погиб бы от истощения. Он сам уже чувствовал это, но решил держаться до последней возможности.
«И как не говорить мне о своем удивительном счастии! — пишет Пржевальский. — Опоздай мы днем выхода с роковой стоянки, или выступи днем позже, наконец пройди часом ранее или позднее по той долине, где встретили Егорова, — несчастный, конечно, погиб бы наверное. Положим, каждый из нас в том был бы неповинен, но все-таки о подобной бесцельной жертве мы никогда не могли бы вспомнить без содрогания, и случай этот навсегда остался бы темным пятном в истории наших путешествий».
Встреча в горах с заблудившимся Егоровым действительно была счастливой случайностью. Но не случайно за все время пяти своих путешествий, которые были полны лишений и опасностей, Пржевальский не потерял ни одного человека.
Начальником он был властным и требовательным, зато уж и заботливым. В каждом рядовом казаке, участвовавшем в экспедиции, Николай Михайлович видел товарища и был ему преданным другом, — черта совершенно необычная для полковника царской армии. Сам наделенный богатырским здоровьем, неутомимый, всегда нетерпеливо жаждавший все новых исследований и открытий, Николай Михайлович постоянно размерял ход экспедиции таким образом, чтобы его спутники не выбивались из сил, чтобы после одного трудного странствования они успевали отдохнуть и приготовиться к новому…
Перевалив через горы, путешественники по глинистым и солончаковым равнинам двинулись к озеру Курлык-нор. В стойбище курлыкского князя им нужно было прикупить продовольствия на дальнейший путь и нанять проводника в Тибет.
Когда Пржевальский в конце августа достиг западного берега озера, князь Курлык-бэйсе находился на противоположном берегу. Бэйсе приехал сам, чтобы повидаться со знаменитым путешественником.
Князь несомненно получил от богдоханских властей тайное приказание остановить экспедицию, так как, несмотря на пекинский паспорт, отказал Пржевальскому во всем — и в продовольствии и в проводнике.
Но князю не удалось остановить путешественника. Пржевальский так грозно настаивал на своем, что бэйсе, боясь (и совершенно напрасно), что русские вот-вот пустят в ход свои страшные ружья, перепугался и уступил. Бэйсе продал путешественникам продовольствие, баранов и даже юрту, — зато уж и содрал за все втридорога. Дал и проводника, — правда, не в Тибет (на это из страха перед властями он не решился), а только до стойбища соседнего князя — Дзун-засака.
Цайдамский князь Дзун-засак (в центре) и его приближенные.
Дзун-засак был старым знакомцем Пржевальского, он хорошо принял путешественника в 1872 году. Но теперь он несомненно получил такие же приказания, как и курлыкский князь.
«Подобно Курлык-бэйсе, — рассказывает Пржевальский, — Дзун-засак сразу начал отговариваться неимением людей, знающих путь в столицу далай-ламы. Конечно, это была явная ложь, так как из Цайдама в Тибет и обратно каждогодно ходят караваны богомольцев, и местные монголы служат для них проводниками».
Опять участь экспедиции, судьба научных исследований и открытий были отданы на произвол князька: согласится он или не согласится предоставить русским путешественникам проводника в Тибет? И опять Пржевальский — в глубине чужой страны, в страшной дали от родины — сумел настоять на своем.
Дзун-засак, не осмеливаясь один, на свою личную ответственность, решить вопрос такой государственной важности, послал за своим соседом Барун-засаком. После долгого совещания оба князя решили дать путешественникам проводника. «Словно из земли, — рассказывает Пржевальский, — вырос проводник, которого привели нам оба князя и рекомендовали как человека, хорошо знающего путь через Тибет».
Все коллекции экспедиции и весь лишний багаж Пржевальский оставил на хранение в Дзун-засаке.
12 сентября 1879 года караван выступил из Цайдама в Тибет. На пяти лошадях ехали Пржевальский, его помощники, препаратор и переводчик, на восьми верблюдах — казаки и проводник. Двадцать два верблюда шли под вьюками. Четыре верблюда были запасные.
Цайдамские монголы сулили русским путешественникам, отправлявшимся в Тибет, всевозможные беды: пугали и глубоким снегом, который, по местным приметам, должен был выпасть в Тибете в эту зиму, и болезнями, постигающими путников на непривычной высоте, и разбойниками, поджидающими караваны в горных ущельях. Дошел до Пржевальского также и слух о том, что тибетцы выставили отряд войск с целью не пустить чужеземцев в свою столицу.
«По обыкновению, — говорит Пржевальский, — мы мало придавали цены подобным стращаниям и пошли вперед с самыми лучшими надеждами на успех».
В ущелье реки Номохун-гол цайдамские правители сделали последнюю попытку остановить Пржевальского. В разбитую на привале палатку прибыл нарочный от Дзун-засака. Князь, зная охотничью страсть Пржевальского, усердно приглашал его устроить облаву на медведей, которых много будто бы появилось в окрестностях Дзун-засака. А кроме того, соблазнял путешественника каким-то новым, еще лучшим проводником, которого будто бы можно было найти в Тайджинерском хошуне (в западном Цайдаме).
«К великому, вероятно, огорчению Дзун-засака, — пишет Пржевальский, — мы не искусились ни Тайджинерским хошуном, ни интересными медведями и, передневав на Номохун-голе, направились вверх по названной реке в горы Бурхан-будда».
18 сентября, оставив позади хребет Бурхан-будда, караван взошел на Тибетское нагорье.
Путешественники вступали словно в иной мир.
Они видели перед собой грандиозную, нигде более на земном шаре не повторяющуюся в таких размерах, пустынную волнистую равнину, поднятую на высоту снежных вершин Кавказа. И на этом гигантском пьедестале еще громоздились обширные горные хребты.
Путешественников поражало обилие крупных зверей, почти вовсе не страшившихся человека. С удивлением и любопытством смотрели доверчивые животные на проходивший мимо них караван. Табуны куланов отходили немного в сторону и пропускали его, иногда даже некоторое время шли следом за верблюдами. Антилопы спокойно паслись по сторонам или перебегали дорогу перед верховыми лошадьми, а лежавшие после покормки дикие яки даже не трудились вставать. «Казалось, — пишет Пржевальский, — что мы попали в первобытный рай, где человек и животные еще не знали зла и греха».
Однако странствование по этому «раю» было труднейшим испытанием. В разреженном воздухе нагорья путешественники чувствовали одышку, сердцебиение, слабость, кружилась голова, люди быстро уставали. От разреженного воздуха и скудного подножного корма выбивались из сил и животные.
Наступили холода, бушевали снежные бури. Топлива не было. Вторую войлочную юрту не удалось добыть, а всех одна тесная юрта вместить не могла. Кроме Пржевальского и его помощников, в ней помещались еще препаратор, переводчик и двое казаков. Остальным казакам приходилось терпеть лютую тибетскую стужу в той же самой палатке, в которой они укрывались от палящего солнца Хамийской гоби…
Огромная высота, необозримая пустыня, гигантские горные хребты… Пржевальский нашел точные и выразительные слова для того, чтобы «в самых крупных чертах» (по его выражению) охарактеризовать природу Тибета: «Местность здесь, как и во всей Азии, отличается отсутствием мелкой мозаики, но построена по широко-размашистому плану». «Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны, — ознаменовала себя тем же духом подавляющей массивности и в обширном нагорье, известном под названием Тибета…»
Перевалив через хребет Шуга, путешественники вскоре подошли к новой гряде снеговых гор, тянувшейся далеко на восток и на запад. Этот громадный безыменный хребет был еще не известен географам. Пржевальский снял его на карту и назвал именем путешественника, пересекшего Азию в конце XIII века, — именем
Путь экспедиции лежал на юг — через хребет Марко Поло, через восточный его перевал Чюм-чюм. Хотя высота перевала — около 5000 метров, подъем на него пологий и удобный. Поднимаясь, путешественники видели на склонах гор, покрытых низкой травой, стада яков, куланов, аркаров. Попадались и медведи. Шерсть у них отличалась необычной расцветкой — темно-бурая на спине, светло-рыжая на груди и на голове, с белой полосой на загривке. Любимым лакомством этих медведей были пищухи, которых они выкапывали из нор.
Тибетский медведь оказался новым видом. Пржевальский назвал его: медведь-пищухоед.
Тибетский медведь, открытый Пржевальским.
Караван взошел на перевал. С гребня его, в пасмурном свете ненастного дня, широко открылось пустынное нагорье. Впереди, через новые гряды гор, высившиеся вдали, лежал полный трудов и опасностей путь в Лхассу.
«Как теперь помню я пронизывавшую до костей бурю с запада и грозные снеговые тучи, низко висевшие над обширным горизонтом, расстилавшимся с перевала Чюм-чюм, — рассказывает Пржевальский. — Как теперь вижу плаксивую физиономию нашего проводника, бормотавшего, стоя рядом со мною, молитвы и сулившего нам всякие беды. Кто знает, думалось мне тогда, что ожидает нас впереди: лавровый ли венок успеха, или гибель в борьбе с дикою природою и враждебными людьми?»
Неблагоприятные события не заставили себя ждать. Еще до перевала Чюм-чюм проводник несколько дней не переставал мрачно твердить:
— Худо впереди будет, все мы погибнем, лучше теперь назад вернуться!
А после перевала он прямо заявил, что дальше дороги не помнит, так как в последний раз ходил по ней пятнадцать лет назад.
Раньше этот человек многократно уверял, что отлично знает путь в Лхассу. Ясно было, что он действует по наставлениям князя Дзун-засака и обманывает путешественников.
Кругом расстилалась неведомая холодная пустыня. Путешественники двигались теперь наугад.
Обильно выпавший снег покрыл землю слоем глубиной около 20 сантиметров. Под этим снежным покровом караванные животные почти совсем не могли добыть себе корма. Голодные верблюды съели несколько вьючных седел, набитых соломой. Лошадям давали по две пригоршни ячменя, — его берегли, как драгоценность. Под снегом с трудом удавалось отыскать аргал, да и тот, отсырев, горел очень плохо. Приходилось сидеть в дыму или без огня при лютой стуже. Для того чтобы в разреженном воздухе нагорья, который беден кислородом, разжечь сырое топливо и вскипятить воду, уходило часа два, а мясо к обеду варилось чуть не полдня.
Но, несмотря на все, экспедиция успешно продвигалась вперед, отыскивая верный путь через неведомую пустыню. Исследовательская работа не нарушалась ни на один день. Неизменно и регулярно велись метеорологические наблюдения и записи. Ежедневно Николай Михайлович делал съемку, определял высоту местности, собирал попадавшиеся изредка на пути растения, охотился, составлял подробные заметки обо всем, что видел за день.
Никакие лишения и опасности не могли помешать Пржевальскому следовать своему «неизменному правилу записывать все виденное и наблюдавшееся на свежую память». Он считал, что «усвоение такой привычки безусловно необходимо для каждого путешественника».
Вместе с несколькими красноватыми веточками Reaumuria, вместе с твердыми, как проволока, стеблями тибетской осоки Пржевальский подобрал и неизвестное ему небольшое растеньице, — невзрачное, почти бесцветное, — зоркий глаз путешественника едва приметил его под налетом пыли и снега.
Это была драгоценная находка — новый
В XIX веке исследователям растительного мира уже редко удавалось найти новый род. Открытому Пржевальским растению, принадлежавшему к новому роду и виду, вскоре присвоили имя великого русского путешественника: «Пржевальския тангутская» (Przewalskia tangutica).
Ежедневно мимо стоянки путешественников проходили большие стада зверей, — особенно много было яков. Они шли на юго-восток, в более низкую и теплую долину Мур-усу.
— Звери предчувствуют тяжелую зиму и бегут отсюда, — твердил проводник. — Худо нам будет, погибнем мы…
Он попрежнему давал один совет — возвратиться в Цайдам.
«Но об этом, — пишет Пржевальский, — я не хотел и слышать. «Что будет, то будет, а мы пойдем далее», говорил я своим спутникам и, к величайшей их чести, все, как один человек, рвались вперед. С такими товарищами можно было сделать многое!»
Пусть звери бегут к теплу, на юго-восток, — людям они не должны служить примером. Путешественники продолжали свой путь на юго-запад — к горам Куку-шили, которые длинным белым валом виднелись впереди на горизонте.
Наступила ясная погода. На солнце нестерпимо блестел снег. От этого блеска сразу стали болеть глаза и у людей и у животных. Один баран вскоре совершенно ослеп, его пришлось зарезать. Путешественники промывали верблюдам воспаленные глаза крепким настоем чая и свинцовой водой. Теми же лекарствами лечились и люди. Николай Михайлович надел синие очки, однако они мало ему помогали: отраженный снегом свет попадал в глаза сбоку. Нужны были очки с боковыми сетками, а их не имелось. Казаки завязывали глаза синими тряпками, монгол-проводник — прядью черных волос из хвоста дикого яка.
Добрались, наконец, до хребта Куку-шили. В каком месте нужно переваливать через горы — этого никто не знал. Сплошной снег покрывал северный склон хребта и маскировал приметы, по которым можно было бы ориентироваться (верблюжий помет, следы караванных ночевок). Но неожиданно цайдамский проводник взялся вести караван.
Два дня измученные люди и животные взбирались по ущельям, где чуть не на каждом шагу им преграждали путь трещины, обрывы и скалы, продирались через кочковатые болота, беспрестанно поднимались и спускались по боковым горным скатам, спотыкались и падали. И в конце концов «дорога», по которой вел их проводник, замкнулась непроходимыми горами.
Тут цайдамец признался, что он «немного ошибся». Он советовал вернуться к месту прежней стоянки, а оттуда поискать выхода из гор в другом месте.
«Мера моего терпенья кончилась», — пишет Пржевальский. Он велел дать проводнику продовольствия на обратный путь до Цайдама и прогнал его.
Как выяснилось впоследствии, монгол благополучно вернулся в Цайдам.
Путешественники остались одни. Кругом на сотни километров расстилалась безлюдная пустыня. О том, чтобы найти нового проводника, нечего было и думать. Опять, как в горах Нань-шаня, Пржевальский решил разведывать путь разъездами, чтобы не истощать понапрасну силы всего каравана блужданиями наугад.
На другой же день, одним из поперечных ущелий хребта путешественникам удалось выйти на южную его окраину. Перед ними раскинулась широкая равнина, за которою высились новые горы.
Что это за горы? Путешественники не знали даже названия хребта. Только на обратном пути, проводник-монгол, нанятый в Тибете, сообщил Пржевальскому, что местные жители называют этот хребет Думбуре. А теперь, идя без проводника, Николай Михайлович снимал на карту горы и реки, названия которых ему самому были неизвестны.
Переход через Думбуре отнял у людей и у животных очень много сил. Каравану приходилось то переваливать через гряды гор, то пробираться через замерзшие кочковатые болота, покрытые глубоким снегом. Наконец, преодолев еще одно препятствие — скалистые горы Цаган-обо, путешественники вышли в долину Янцзыцзяна, или Голубой реки, которая здесь, в верхнем своем течении, носит название Мур-усу.
В долине Мур-усу Пржевальский во время пути успешно охотился на яков. Но одна из охот едва не стоила жизни самому путешественнику.
В этот день он убил одного яка, отрезал у него хвост, заткнул сзади за поясной ремень и стал преследовать другого. Пуская в яка пулю за пулей, Николай Михайлович израсходовал все свои патроны, а раненый як не упал и бросился на него.
«Зверь, — рассказывает Пржевальский, — остановился против меня с наклоненными рогами и поднятым кверху хвостом, которым беспрестанно помахивал… Будь як поумнее и решительнее — он убил бы меня наверняка, так как на ровной долине спрятаться было негде, да и некогда».
К счастью, зверь не решился напасть на охотника, Пржевальскому удалось отползти и благополучно уйти…
За долиной Мур-усу местность стала полого повышаться к югу, а впереди над равниной показалась новая горная преграда — вечно-снеговой хребет Тан-ла.
На всех участниках экспедиции заметно сказывались последствия тяжелого странствования. То один, то другой заболевал. Все были грязны, на лютой стуже невозможно было умыть даже лицо и руки.
В холодной юрте, на войлоках, пропитанных соленой пылью, коротали путешественники долгие зимние ночи. Днем, когда зажигали аргал, в юрте не рассеивался дым, который в разреженном воздухе, особенно в облачную погоду, плохо поднимается кверху. Еще труднее приходилось тем казакам, которые помещались в летней палатке.
За время первого своего путешествия Николай Михайлович успел познакомиться со всеми невзгодами странствования по Тибету. Но его спутники узнавали — впервые, как утомителен даже небольшой переход на огромной высоте нагорья, как тяжело здесь дважды в день, отправляясь в путь и останавливаясь на стоянку, вьючить и развьючивать верблюдов, а дорогой нести на себе ружья, патронташи, сумки — всего до полупуда клади. Необходимость часто заставляла идти пешком, так как в стужу, а особенно в бурю, долго ехать шагом невозможно. Устав и озябнув, путешественники не имели возможности даже изредка подкрепить себя водкой: весь экспедиционный запас спиртных напитков составляли четыре бутылки коньяку, и их нужно было беречь на крайний случай.
Караванные животные страдали еще больше, чем люди. Четыре верблюда и одна лошадь пали, а остальные, истомленные высотой, холодами, бескормицей, едва волочили ноги.
Путь, по которому проходили отважные русские путешественники, для многих других путников был роковым. Повесть о страданиях и гибели странников рассказывали людские черепа и кости караванных животных, попадавшиеся по дороге. На одном из переходов путешественники нашли труп монгола-богомольца, уже объеденный волками, грифами и воронами. Рядом лежали посох, дорожная сума, глиняная чашка и мешочек с чаем…
Начался подъем на Тан-ла — самый высокий из всех хребтов, встававших на пути каравана.
Поднимались восемь суток. Шли так медленно потому, что животные, и без того уже усталые, все больше слабели на огромной высоте. Караван двигался по обледенелой тропинке. В некоторых особенно опасных местах посыпали лед песком или глиной для того, чтобы тяжело навьюченные верблюды могли пройти. Навстречу дул студеный ветер, иногда переходивший в бурю.
Пали еще четыре верблюда. Люди выбивались из сил. Когда же они, вконец измученные, останавливались на привал, то часто не могли отыскать на занесенной снегом почве даже небольшой ровной площадки, и тогда поневоле разбивали свои бивуак на кочках.
Особенно трудно было делать съемку. Николай Михайлович, работая с бусолью, опять, как во время первого путешествия, отморозил пальцы обеих рук.
На третий день подъема на Тан-ла путешественники, впервые за все время пути от Цайдама, встретили людей. Это был конный отряд.
Несколько всадников отделились от своих товарищей и с воинственным видом поскакали к путешественникам. «Длинные, косматые, на плечи падающие волосы, плохо растущие на усах и бороде; угловатая физиономия и голова, темно-смуглый цвет кожи, грязная одежда, сабля За поясом, фитильное ружье за плечами, пика в руках и вечный верховой конь — вот что прежде всего бросилось нам в глаза при встрече с еграями», — рассказывает Пржевальский.
Еграи — кочевое северотибетское племя. Пржевальский в своих книгах описал общественное устройство северотибетских племен в конце XIX века.
Путешественник застал эти племена разделенными на «25 хошунов, управляемых родовыми старшинами». Организованные на началах родового строя, хошуны были, вместе с тем, подчинены центральной государственной администрации — «китайским властям из Синина» — и продавали свой скот и продукты скотоводства за «звонкую монету».
Еграй.
Энгельс указывал, что «родовой строй абсолютно несовместим с денежным хозяйством».[45] Денежное хозяйство разрушало родовой строй кочевых тибетских племен. Именно на этой переходной стадии общественного развития, когда можно наблюдать, по выражению Энгельса, «еще в полной силе древнюю родовую организацию, но, вместе с тем, и начало ее разрушения»[46], застал тибетских кочевников Пржевальский.
Характерным признаком этой стадии Энгельс считал «совершающееся уже вырождение былой войны между племенами в систематический разбой на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение ее в регулярный промысел»[47].
Нравы тибетских кочевников описали Пржевальский, его ученик Козлов и другие путешественники. «Летом, как только лошади успеют откормиться, — пишет Козлов, — тибетцы организуют партии для воровских набегов в соседние или отдаленные хошуны. Нередко воровство переходит в открытый разбой».
Из северотибетских племен особенную известность своими разбойничьими повадками приобрели в географической литературе племена еграев и нголоков. «Грабежи караванов, следующих в Лхассу с севера и обратно, в особенности монгольских богомольцев, — пишет Пржевальский, — составляют специальное и весьма выгодное занятие еграев. Они караулят дорогу и перевал через Тан-ла, так что ни один караван не минует здесь их рук». Семенов-Тян-Шанский характеризует племена еграев и нголоков как «издавна привыкшие жить грабежами мирных караванов».
Заметив караван Пржевальского, еграи, вероятно, решили, что это идут монгольские богомольцы. Но когда посланные вперед всадники подъехали поближе, они сильно удивились, увидев людей, которые совсем не походили на монголов, а еграев нисколько не боялись.
«Объясниться мы не могли, — рассказывает Пржевальский, — так как мы не говорили по-тибетски; еграи же не понимали по-монгольски. Кончилось тем, что с помощью пантомим кое-как мы расспросили про дорогу, а еграи получили от казаков несколько щепоток табаку».
Продолжая подниматься на Тан-ла, путешественники почти ежедневно встречали еграев, которые перекочевывали отсюда в бесснежную и более обильную кормом долину Мур-усу. Эти еграи как видно уже были оповещены о появлении необыкновенных чужеземцев и меньше им удивлялись. Путешественники даже купили у кочевников пять баранов и немного масла.
Одно только казалось Пржевальскому подозрительным: подъезжавшие к каравану еграи каждый раз просили путешественников показать свои ружья и, разглядывая их, горячо о чем-то спорили между собой. Через несколько дней выяснилось, что Николай Михайлович имел все основания подозревать недоброе.
На восьмые сутки, 7 ноября 1879 года, экспедиция разбила свой бивуак близ перевала через Тан-ла, на высоте более 5000 метров. Справа и слева поднимались над перевалом громадные горы, покрытые вечными льдами и снегом.
На гребне перевала путешественники увидали «обо»: кучи камней, украшенные длиннорогими головами яков, а над ними — на нитках, протянутых между жердями, — развевающиеся по ветру тряпицы, исписанные молитвами. Каждый буддист, переваливающий через горы, кладет на «обо» свое приношение — камень или кость, или прядь волос от хвоста своего коня.
Русские путешественники положили на «обо» Тан-ла пустую бутылку.
«Нам можно было радоваться своему успеху! — говорит Пржевальский. — Семь слишком месяцев минуло с тех пор, как мы вышли из Зайсана. Против нас постоянно были — то безводная пустыня с ее невыносимыми жарами, то гигантские горы, то морозы и бури, то, наконец, вражда людская. Мы удачно побороли все это».
На перевале путешественники дали залп из берданок и трижды прокричали «ура».
«Обо» на перевале через Тан-ла.
Животный мир Тибета.
В тот самый день, памятный для истории географических исследований, когда русские путешественники перевалили через хребет Тан-ла, на них напали еграи.
Вероятно кочевники при первой же встрече соблазнились вьюками русского каравана и тогда же задумали ими поживиться. Сначала еграев, привыкших наводить ужас на монгольских странников, смущало спокойствие русских, а также и необычное их вооружение. Но так как русских было мало и они вели себя мирно, то еграи, наконец, решились действовать.
Пока караван переваливал через Тан-ла, за ним следовали издали несколько еграйских всадников. Когда же путешественники, уже на спуске с гор, разбили стоянку, к ним подъехали человек пятнадцать еграев. Еграи привезли масло для продажи.
В то время, как шла торговля, один из кочевников украл складной нож, висевший на поясе у переводчика Абдула Юсупова. Заметив это, Юсупов стал требовать свою вещь обратно. Кочевник выхватил саблю и ударил ею Абдула по левой руке, но плохой клинок только прорубил шубу и халат, а руку лишь слегка оцарапал. В ту же минуту еще один еграй бросился на Абдула с копьем. Находившийся вблизи Роборовский пересек разбойнику дорогу, вырвал у него из рук копье и сломал его.
Еграи схватились за свои копья и сабли и завязали с казаками рукопашный бой. Два еграя, вооруженные фитильными ружьями, бросились за ближайшую скалу и оттуда открыли огонь.
«Все это было делом одной минуты, — рассказывает Пржевальский, — так что мы едва успели взять свои винтовки. Однако сначала я не велел стрелять, хотя в нас и летели камни, весьма искусно бросаемые еграями из кожаных пращей. Но вот из-за ближайшей скалы раздался выстрел, затем другой, и пули пролетели мимо нас. Медлить долее было невозможно — я скомандовал пальбу казакам. Загремели скорострелки и после первого же залпа еграи бросились на уход. Наши выстрелы их провожали, но вскоре я велел прекратить пальбу».
Пржевальский хотел избежать вооруженной стычки. Но чтобы защититься от нападавших разбойников, пришлось пустить в ход оружие.
Стоянка экспедиции была расположена под скалами, из-за которых незаметно могли подобраться еграи. Когда разбойники скрылись, путешественники перенесли свой бивуак на более открытое место. Здесь они устроили укрепление, уложив вьюки и верблюдов квадратом вокруг юрты и палатки.
После своего неудачного нападения еграи до самой ночи разъезжали взад и вперед по ближайшим горам и наблюдали за русскими. Путешественники легли спать не раздеваясь, с ружьями в руках, с револьверами за поясом. Поочередно караулили двое казаков.
Всю ночь в горах раздавались крики. Еграи готовились к новому нападению.
«Незавидно, но в высшей степени интересно было в это время наше положение, — говорит Пржевальский. — С одной стороны — наша маленькая кучка… с другой — целая орда… Там — грубая физическая сила; здесь сила нравственная. Эта-то нравственная сила должна была победить — и победила!»
Как только взошло солнце, путешественники сняли свой бивуак и завьючили верблюдов. Чтобы не растягивать отряд длинной цепью, всех караванных животных поставили рядом. Впереди, с винтовками в руках, с револьверами у пояса, выстроились путешественники. В таком боевом порядке отряд двинулся вперед.
Бивуак Пржевальского на Тан-ла.
Лежавшее впереди ущелье заняли еграйские всадники, а на скалах по сторонам ущелья засели несколько их стрелков с фитильными ружьями. Другой конный еграйский отряд расположился сбоку от стоянки русских, третий сзади — вероятно для того, чтобы атаковать путешественников с тыла или задержать их отступление. Всего еграев собралось человек шестьдесят или семьдесят.
Но Пржевальский и его спутники отступать не собирались. И куда могли они отступать? Назад за Тан-ла? Но там они бы встретили все тех же еграев, к тому же ободренных трусостью чужеземцев. Наконец до Цайдама лежало более семисот километров, — быстро пройти их с усталыми верблюдами было невозможно. Оставалось одно — пробиваться вперед!
Как только двинулся караван, пришли в движение и еграи. Отряд, преграждавший путешественникам путь вперед, построился при входе в ущелье, расположенный в тылу остался наблюдать, средний же поехал наравне с караваном — по противоположному скату гор, окаймлявших долину.
Так прошли путешественники около двух километров. За это время сопровождавший их отряд еграев приблизился к ним шагов на семьсот. Недалеко оставалось и до того отряда, который заслонил вход в ущелье. На своих быстрых конях еграи за несколько мгновений могли доскакать до путешественников.
Необходимо было действовать быстро и решительно.
— На семьсот шагов поставь прицелы! — скомандовал Пржевальский.
Грянул залп. Двенадцать пуль полетело в ближайший отряд разбойников. За первым залпом — второй, третий.
До этого дня иных ружей, кроме фитильных, еграи не знали. Град пуль, которые настигали их издалека, из дальнобойных, скорострельных винтовок чужеземцев, привел разбойников в ужас, и они пустились наутек.
Путешественники поставили прицелы на тысячу двести шагов. Три залпа по отряду, сторожившему вход в ущелье, обратили его в бегство.
Благополучно миновав ущелье, Пржевальский и его спутники вышли на широкую холмистую равнину и продолжали свой путь на юг.
Через несколько дней, спустившись к берегам реки Сан-чю, путешественники впервые встретили кочевья тибетцев. В долине стояли их черные палатки и паслись многочисленные стада яков и баранов. Завидя караван, тибетцы верхом подъезжали к русским и предлагали купить баранины, масла или сушеного творогу — «чуры».
На втором переходе от Сан-чю путешественников встретили три монгола, приехавшие из владений далай-ламы, чтобы увидеть Пржевальского. Один из этих монголов, цайдамец Дадай, был старый знакомый путешественника. Все трое дружелюбно относились к русским и предупредили их о тех мерах, которые предприняли против них далайламские чиновники.
По словам монголов, тибетские власти, чтобы задержать путешественников, еще летом выставили сторожевые дозоры от ближайшей к границе далайламских владений деревни Напчу до перевала Тан-ла. К зиме эти дозоры сняли, так как в Лхассе думали, что русские отложили свое путешествие. Но как только с тибетских стойбищ на Сан-чю пришло известие о появлении русского каравана, далайламские власти наскоро собрали на границе войска и ополченцев из местного населения. Жителям запретили под страхом смертной казни продавать что бы то ни было русским и вступать с ними в какие-либо сношения. Из Напчу послали с конвоем чиновников, которых уполномочили вступить с русскими в переговоры и о результатах немедленно донести в Лхассу.
Как рассказывали монголы, в Тибете, еще задолго до прибытия путешественников, распространился слух о том, что русские идут с целью похитить далай-ламу. Народ, поверив слуху, пришел в сильное волнение и готовился встретить чужеземцев с оружием в руках. Этим-то, по уверению монголов, и объяснялись действия тибетских властей.
«Монголы, — рассказывает Пржевальский, — ручались головою, что нас не пустят в Лхассу, и вместе с тем объяснили, вероятно, по приказанию свыше, что китайцы в данном случае не виноваты». Но Николай Михайлович имел слишком много оснований подозревать, что именно богдоханские власти настроили тибетцев против русских.
«Именно китайцы-то и загородили нам дорогу в Тибет, хитро распустив слух о том, что тайная цель нашего путешествия есть похищение далай-ламы. Невежественная, фанатичная масса, конечно, охотно поверила такому слуху», — говорит Пржевальский. «Для высшей иерархии Тибета также весьма желательно было не пускать нас к себе». По мнению Пржевальского, тибетские ламы не хотели впустить его «вследствие того опасения», чтобы посещение Лхассы чужеземцами «не открыло бы сюда доступ миссионерам» — опасным конкурентам тибетских лам.
Как ни безрадостны были вести, привезенные монголами, но встреча с этими людьми облегчила положение экспедиции. До сих пор путешественники шли «без языка» и объяснялись с местными жителями пантомимами. Монголы, отлично говорившие по-тибетски, согласились служить русским переводчиками. А старый знакомец Николая Михайловича — Дадай — даже изъявил готовность быть проводником.
Путешественники продолжали свой путь вместе с новыми спутниками и, сделав еще один переход, у самой границы далайламских владений, встретили тибетских чиновников с их конвоем.
Посланцы держали себя очень вежливо и вошли в юрту Пржевальского только по приглашению. «Здесь прибывшие чиновники, — рассказывает он, — обратились к нам с расспросами о том: кто мы такие и зачем идем в Тибет? Я объяснил, что все мы русские и идем в Тибет за тем, чтобы посмотреть эту неизвестную для нас страну, узнать, какие живут в ней люди, какие водятся звери и птицы, какая здесь растительность и т. д.; словом цель наша исключительно научная. На это тибетцы отвечали, что русские еще никогда не были в Лхассе, что сюда с севера приходят только монголы, тангуты да сининские торговцы, и что правительство тибетское решило не пускать нас далее».
Николай Михайлович ответил, что русские никогда не пошли бы в Тибет, если бы не имели на то права, предоставленного им китайским правительством. Он показал свой пекинский паспорт и заявил, что тибетцы обязаны впустить экспедицию. Тогда чиновники, вероятно заранее получившие указания, как поступить в том случае, если русские проявят настойчивость, просили Пржевальского ждать на этом самом месте ответа из Лхассы, куда тотчас же будет послан нарочный с изложением всех обстоятельств дела.
Пржевальский согласился ждать ответа. Тибетские чиновники записали фамилии путешественников и поспешно уехали в Напчу.
У подножья горы Бумза, в 250 километрах от Лхассы, путешественники разбили свой лагерь. В окрестностях кочевали тибетцы. На стоянке Пржевальский знакомился с обитателями и с природой страны.
По наружности тибетцы не похожи ни на монголов, ни на китайцев, а напоминают цыган. Волос никогда не стригут и не чешут, и они в беспорядке падают на плечи, сзади же их заплетают в косу, которую украшают костяными кольцами, красными кораллами, бирюзой, медными бляхами.
Зимняя одежда тибетцев — длинная баранья шуба. Более зажиточные покрывают ее красной шерстяной тканью — далембой. На поясе тибетец носит саблю с плохим клинком, но богато отделанную серебром, бирюзой, крупными красными кораллами. За поясом торчит длинная трубка. Сбоку висит нож.
Жилище тибетца зимой и летом — черная палатка, сотканная из волос яка. В глиняном очаге, посередине жилища, постоянно горит аргал, в плоском железном котле варится еда. У очага разостланы бараньи и волчьи шкуры. На них сидят днем и спят ночью. Возле палатки устроен загон для баранов.
Пища тибетцев — баранье и яковое мясо. Едят его часто сырым. Вся семья усаживается у очага. Хозяин отрезает по куску кровавого мяса и бросает его каждому домочадцу.
Пржевальский знал по собственному опыту, как трудно в разреженном воздухе Тибета разжечь отсыревший аргал и сварить мясо. Неудивительно, что у тибетцев вошло в привычку есть мясо сырым.
В семейной жизни тибетских кочевников Пржевальский обнаружил редкое на земном шаре явление —
Когда тибетец умирает, «мертвеца отвозят в степь и здесь, во время чтения молитв, режут тело на куски, которые бросают собравшимся грифам. Птицы эти хорошо знакомы с подобной добычей и мигом во множестве слетаются на нее, не боясь вовсе людей…»
На этих грифов Пржевальский охотился много раз у горы Бумза. Громадные птицы парили над стоянкой и иногда садились на скате горы, шагах в пятистах от путешественников.
Неподалеку от стоянки путешественники расставили капканы. Однажды Эклону удалось поймать в них большого корсака, принадлежавшего к новому виду. Пржевальский назвал его «корсаком Эклона» (Vulpes Ekloni).
Тибетцы, кочевавшие в окрестностях стоянки, сначала чуждались путешественников. Но видя, что русские никому не причиняют вреда, кочевники стали приносить им на продажу масло и чуру, приводить баранов. Приходивших на стоянку тибетцев незаметно срисовывал Роборовский.
Горсточка русских привлекала всеобщее любопытство и возбуждала множество толков. «Проход наш без проводника через Северный Тибет, побитие еграев, о чем здесь везде уже знали, наше скорострельное оружие и уменье стрелять, — все это производило на туземцев необычайное впечатление».
В первые дни стоянки у горы Бумза охота на грифов, странствия по окрестностям, встречи с местными жителями доставляли Пржевальскому новые сведения и впечатления. Николай Михайлович писал свои заметки. Казаки чинили износившуюся одежду и вьючные принадлежности. «Вскоре все это было покончено, и мы не знали, куда деваться от скуки, проводя целые дни и ночи в дымной, холодной юрте. Теперешнее бездействие тяготило, пожалуй, хуже, чем все труды предшествовавшего перехода по Тибету, тем более ввиду неизвестности дальнейшей судьбы нашей экспедиции».
Наконец, на восемнадцатый день, к Пржевальскому прибыло посольство далай-ламы.
Посланцы далай-ламы.
Во главе его был один из высших светских сановников Тибета («светский степной управитель» — вероятно начальник всех кочевых хошунов) — Чжигмед-Чойчжор. Трое других были важные духовные лица — наместники трех знаменитых лхасских кумирен, остальные — начальники отдельных аймаков[49] далайламских владений.
Главный посланник был одет в богатую соболью курму, мехом наружу. Расспросив, как полагалось, здоровы ли путешественники и благополучно ли они совершили свой путь, Чжигмед-Чойчжор обратился с вопросом:
— Русские вы или англичане?
Монголы-переводчики перевели его вопрос с тибетского на монгольский, Иринчинов — с монгольского на русский. Пржевальский ответил:
— Мы русские.
Его ответ перевели посланнику.
Тогда Чжигмед-Чойчжор повел длинную речь о том, что русские еще никогда не бывали в Лхассе, что с севера в Тибет приходят только три народа — монголы, тангуты и китайцы, что русские — другой веры, чем тибетцы, и, наконец, что весь тибетский народ и сам далай-лама не желают впустить путешественников в свою страну.
— Странников, — ответил Пржевальский, — кто бы они ни были, следует радушно принимать, а не прогонять. Я и мои спутники пришли в Тибет без всяких дурных намерений. Единственная наша цель — научное изучение этой страны. Нас всего тринадцать человек, значит мы не можем быть опасны для тибетского народа и властей.
«На все это получился почти тот же самый ответ: о разной вере, о трех народах, приходивших с севера, и т. д. При этом, как сам посланник, так и вся его свита, сидевшие в нашей юрте, складывали свои руки впереди груди и самым униженным образом умоляли нас исполнить их просьбу — не ходить далее. О каких-либо угрозах не было и помину; наоборот, через наших переводчиков, прибывшие тибетцы предлагали заплатить нам все расходы путешествия, если мы только согласимся повернуть назад. Даже не верилось собственным глазам, чтобы представители могущественного далай-ламы могли вести себя столь униженно».
«Хотя мы уже достаточно сроднились с мыслью о возможности возврата, не дойдя до Лхассы, — говорит Пржевальский, — но в окончательную минуту такого решения крайне тяжело мне было сказать последнее слово: оно опять отодвигало заветную цель надолго, быть может навсегда… Невыносимо тяжело было мириться с подобной мыслью и именно в то время, когда все трудности пути были счастливо поборены, а вероятность достижения цели превратилась уже в уверенность успеха. Мы должны были вернуться, не дойдя лишь 250 верст до столицы Тибета».
Предложение тибетцев возместить расходы экспедиции Пржевальский отверг как недостойное русской чести. На просьбу же вернуться ответил:
— Если тибетцы единодушно отказываются пустить нас к себе, я согласен вернуться. Но я вернусь только в том случае, если посланники выдадут мне бумагу с объяснением, почему нас не пустили в Лхассу.
Посланники просили дать им время на размышление. Выйдя из юрты, они уселись в кружок на земле и совещались около четверти часа. Затем, вернувшись в юрту, Чжигмед-Чойчжор сказал, что бумагу, которую требует Пржевальский он дать не может, так как не уполномочен на то далай-ламой.
— Завтра утром, — ответил Пржевальский, — мы выступаем со своего бивуака. Будет бумага — пойдем назад. Не будет — двинемся к Лхассе.
Посланники опять посовещались между собой. Наконец Чжигмед-Чойчжор передал через переводчика:
— Мы согласны дать бумагу, но для того, чтобы ее составить, нам нужно вернуться к нашему стойбищу. Там мы будем вместе редактировать объяснения, почему не пустили вас в Лхассу. И если за это впоследствии будут рубить нам головы, то пусть уж рубят всем.
— Я путешествую много лет, — ответил Пржевальский, — но нигде еще не встречал таких дурных и негостеприимных людей. Об этом я напишу и узнает целый свет.
Не возразив ни слова, далайламские посланцы уехали.
На другой день, как только начало всходить солнце, посланцы привезли составленную ими бумагу. Началось чтение. Тибетцы читали бумагу вслух, монголы-переводчики переводили прочитанное с тибетского языка на монгольский, а Иринчинов — с монгольского на русский.
Вот подлинный текст этого документа в переводе на русский язык:
«Так как Тибет — страна религии, то случалось, что в него и в давнее время и после приходили известные люди из внешних стран. Но те, которые издревле не имели права приходить по единогласному давнишнему решению князей, вельмож и народа, не принимаются и, соблюдая это, велено стоять не на живот, а на смерть, и на это испрошено через живущего в Тибете амбаня[50] высочайшее утверждение[51]. Теперь же в местности Пон-бум-чун, принадлежащей к Напчу[52], в 10-й луне[53], 13-го числа, явились с намерением идти в Тибет чаганханов амбань[54] Николай Шибалисики[55], тусулачи[56] Акелонь[57], тусулачи Шивиковсики[58] с десятью солдатами. По получении известия об этом от местного начальства многие тибетцы отправлены были для расспросов, и после того, как они[59] оставались на месте двадцать дней, посланные из Сэра, Брайбона и Галдана[60] со многими светскими просили их возвратиться, и при личном свидании тщательно объясняли, что по вышеуказанным обстоятельствам в Тибет нельзя приходить. Они же отвечали, что если вы все дадите письменное, скрепленное печатью удостоверение, что нельзя приходить, вернемся, иначе завтра же отправимся в Лхассу. Почему мы и просили их возвратиться, как издревле установлено для всех, кто бы ни пришел из неимеющих права приходить». Подписи десяти далайламских посланников, «В год Земли и Зайца[61], в 11-й луне[62] 3-го числа».
После того как чтение и перевод закончились, бумага с печатью Чжигмеда-Чойчжора была вручена Пржевальскому.
«Тогда, скрепя сердце, — рассказывает Пржевальский, — я объявил, что возвращаюсь назад, и велел снимать наш бивуак. Пока казаки разбирали юрту и вьючили верблюдов, мы показывали тибетцам свое оружие и опять уверяли, что приходили к ним без всяких дурных намерений… Поверили ли посланцы этому или нет, но только, под влиянием успеха своей миссии, они весьма любезно распрощались с нами. Потом, стоя кучею, долго смотрели вслед нашего каравана, до тех пор, пока он не скрылся за ближайшими горами…»
Тибетское стойбище.
Участник третьей и четвертой экспедиций Пржевальского — казак Пантелей Телешов.
А в Пекине, из-за экспедиции Пржевальского, продолжалась дипломатическая война.
В конце 1879 года богдэханские министры сообщили Кояндеру, что Пржевальский в сентябре отправился из Цандама в Тибет. «По этому направлению проезжают только те чиновники, которые назначаются указами богдохана», — писали министры. «В подобных случаях Лифань-юань[63] заблаговременно сносится — с местными властями о снаряжении из Синина конвоя». Между тем, известно, что тибетцы давно уже выставили отряды, чтобы воспрепятствовать проникновению путешественников в их страну. «Поистине, — уверяли министры, — нельзя нам вполне гарантировать путешественнику защиту и покровительство». Тем более, что, по заявлению министров, о местопребывании путешественника в настоящее время богдоханскому правительству ничего неизвестно.
Кояндер ответил, что по имеющимся у него достоверным сведениям северный путь в Тибет служит не только для проезда чиновников в особых случаях, но и для торговых караванов. «Если там могут проходить караваны, — писал он, — то нет причины, чтобы не прошли и несколько, хотя мирных, но хорошо вооруженных для собственной защиты путешественников. Опасения, подобные выражаемым теперь, высказывались и насчет пути на Цайдам, причем все власти единогласно говорили, что на этом пространстве даже нет вовсе тропинок. Однако, — иронизировал русский дипломат, — экспедиция благополучно прошла этими местностями, открыв таким образом путь, который, как видно, до сих пор не был известен даже властям почтенного государства, и тем, конечно, оказала последним услугу».
По поводу сообщения министров о том, что тибетцы выставили войска на границах далайламских владений, Кояндер выразил удивление. «Каким образом, жители Тибета, составляющего часть почтенного государства, могут посылать солдат против путешественников, идущих с разрешения правительства и с билетом, им выданным? Я уверен, — продолжал иронизировать Кояндер, разоблачая лживость заявлений богдоханского правительства, — что власти неверно поняли переданный им слух, который, если бы он оказался справедливым, конечно, побудил бы их немедленно же принять надлежащие меры против бунтовщиков. Иначе можно было бы подумать, что Тибет страна совершенно независимая, и тогда характер отношений к ней ее соседей несомненно изменился бы».
Дипломатическая война была в разгаре, когда о положении экспедиции распространились тревожные слухи. Их с преждевременным злорадством распустили английские дипломатические круги, которым Пржевальский был ненавистен. Английские дипломаты боялись, что если русский путешественник откроет путь в Лхассу, то Тибет — это преддверие Индии — будет вовлечен в сферу русского политического влияния.
В начале января 1880 года Кояндер сообщил в Петербург министерству иностранных дел: «Участь экспедиции полковника Пржевальского внушает мне серьезное беспокойство. Третьего дня английский посланник передал мне, что, по полученным им из Сычуани известиям, там ходят слухи, будто партия иностранцев, направившаяся в Лхассу с севера, встречает такие же затруднения, как и граф Сечени на востоке. В тот же день министры сообщили мне донесения им сининского губернатора и сычуанских властей, извещающих, что о Пржевальском нет никаких сведений, и что ввиду пустынности проходимых мест, китайские власти не могут быть ответственными за случайности. Что означают эти донесения? Простую ли предосторожность, принимаемую властями на всякий случай, или же желание приготовить меня к более тревожным и неприятным вестям — определить трудно».
Десять дней спустя Кояндер телеграфировал из Пекина в Петербург: «По словам китайцев, Пржевальский, прогнав заблудившегося проводника, остался в начале октября один в неизвестной пустыне. С тех пор известий о нем нет».
Австрийские газеты не без тайного удовольствия сообщили, что по известиям, полученным в Китае от Сечени, Пржевальский ограблен и убит.
Тревожные вести проникли в русскую печать. Петербургская газета «Голос» поместила сообщение о Том, что по слухам Пржевальский находится в плену у китайцев.
«Помню, какое впечатление произвело это в Петербурге, — пишет товарищ и биограф Пржевальского, академик Н. Ф. Дубровин. — Все единогласно утверждали о гибели Николая Михайловича, как о факте совершившемся, и крайне сожалели о нем, как о безвременно погибшем».
«Мы с прискорбием узнали, что с Пржевальским случилось что-то недоброе», — говорилось в петербургском «Историческом вестнике». «Пржевальского никто искать и не думает. Стоило бы, однако, позаботиться о его судьбе».
Но Пржевальский и его отважные спутники в это время решали свою судьбу сами.
Караван медленно пробирался в Цайдам через пустыни и горы Тибета. Опять перед русскими путешественниками лежали сотни километров пути, рокового для стольких странников. Уже настала глубокая зима с лютыми холодами и снежными бурями. Верблюдов осталось только двадцать шесть, из них половина едва волочила ноги. Запас продовольствия, которое удалось добыть в Тибете, был ничтожен. Пржевальскому пришлось ввести в своем отряде строгий рацион: дзамба выдавалась по небольшой чашке в день на человека, а чай, один и тот же, варился по несколько раз.
В горах Цаган-обо путешественникам пришлось простоять четверо суток из-за болезни казака Гармаева. На пятые сутки Гармаев, еще не вполне оправившийся, сильно ослабевший, все-таки уже мог кое-как ехать верхом.
От гор Цаган-обо проводник Дадай повел экспедицию в Цайдам новым, более коротким путем. Внизу, на равнинах Цайдама, гораздо теплей, чем в Тибете, и Пржевальский хотел попасть в Цайдам как можно скорее. Приходилось спешить еще и потому, что верблюды с каждым днем слабели от бескормицы, да и у путешественников запасы провизии истощались.
В горах Думбуре Николай Михайлович и его спутники встретили новый, 1880-й, год.
Когда путешественники приближались к хребту Марко Поло, на голой бесплодной равнине их застигла ночью страшная снежная буря. Продолжать путь стало невозможно, а корма для лошадей и верблюдов здесь не нашлось никакого. Юрту и казачью палатку занесло снегом и песком. Ветер пронизывал войлоки, которыми укрывались путешественники. Утром, когда настало время заводить хронометры, их едва можно было держать в руках, до того они охладились за ночь, хотя и лежали под изголовьем у Николая Михайловича, завернутые в лисий мех. Аргалу для топлива не удалось отыскать, запасного же почти не оставалось, да и разжечь его в бурю невозможно. Люди и животные томились голодом, дрожали от стужи.
К полудню ветер стих и немного потеплело. Путешественники тотчас же завьючили верблюдов. Но как только они двинулись в путь, снова поднялся снежный буран, бушевавший до ночи. Чуть не ощупью, в глубоком снегу, под ветром, который слепил снегом глаза, Пржевальский и его спутники перешли через хребет Марко Поло — через новый, Ангыр-дакчинский, перевал, расположенный далеко к западу от Чюм-чюма.
Остановились ночевать в бесплодном ущелье. Животные уже вторые сутки не имели корма. Лошадям дали по куску говядины и высыпали им мешок куланьего помета, собранного дорогой. Голодные лошади с радостью набросились на эту пищу. Верблюдов, которые могут дольше переносить голод, не кормили совсем, а на другой день они опять должны были сделать трудный переход.
За время пути по Тибету бури множество раз обрушивались на путешественников, грозя им гибелью. Но и среди рева бурана в снежной пустыне Пржевальский оставался ученым: он не только боролся с бурей, он еще изучал ее — наблюдал, делал выводы.
Как и в пустынях Джунгарии, в Тибете бури имели постоянное направление с запада на восток. «Подобное направление, одинаковое для всех бурь Центральной Азии, указывает на их происхождение от одних и тех же причин», — записал в своем дневнике путешественник.
В Тибете Пржевальский наблюдал такую же резкую разницу температур на солнечной и на теневой сторонах гор и холмов, как и в Джунгарии. В этой разнице температур он видел одну из причин джунгарских бурь. Теперь, в Тибете, Пржевальский пришел еще и к новому выводу:
«Другая причина тибетских, равно как и монгольских, бурь заключается в резком контрасте температуры этих высоких и холодных местностей, сравнительно с соседним теплым Китаем. Такая разница, конечно, всего более проявляется зимою и весною, когда именно господствуют бури в пустынях Монголии и на высоком нагорье Тибета».
Этот стройный вывод из множества наблюдений Пржевальский сумел сделать в те самые дни, когда он то коченел в седле под порывами студеного ветра, то через силу брел по колено в снегу, в глубине пустынь.
У путешественников осталось всего семнадцать верблюдов. Караван подошел к последней горной преграде на пути в Цайдам — к крутому, скалистому хребту Торай. Обессиленные животные не могли преодолеть крутизну перевала. Людям пришлось развьючить их и самим нести в гору вьюки. Наиболее слабых верблюдов тащили вверх веревками. Один верблюд так и не смог взойти…
И вот горы Тибета, стужи и снежные бури, падеж верблюдов, грозная опасность гибели среди пустыни — все это осталось позади!
Караван вступил в долину Найджин-гола, ведущую вниз — в Цайдам. Путешественники поделили между собой последние остатки дзамбы. На другой день дошли, наконец, до первого монгольского стойбища.
Здесь, у монголов, они купили дзамбы, масла, молока, баранов, домашнего яка. Затем постриглись, побрились, вымыли свои грязные лица. В долине таял снег, и путешественники могли снять тяжелую теплую одежду.
«Назад на Тибет страшно было даже посмотреть: там постоянно стояли теперь тучи, и, вероятно, бушевала непогода».
Отдыхали два дня. Потом двинулись дальше.
31 января 1880 года караван Пржевальского прибыл в Дзун-засак, откуда четыре с половиной месяца назад он выступил в Тибет. Из тридцати четырех верблюдов вернулись только тринадцать. А люди «чувствовали себя истомленными и не добром поминали тибетские пустыни…»
За два дня стоянки в Дзун-засаке путешественники просушили и уложили привезенные из Тибета звериные шкуры, получили вещи, оставленные здесь осенью на хранение, купили продовольствия и наняли верблюдов на дальнейший путь. На этот раз князь уже не пытался им перечить.
Теперь Пржевальский шел исследовать верховья Хуанхэ — Желтой реки, которая, как он писал тогда, «до сих пор скрывает свои истоки от любознательности европейцев».
Пржевальский шел вдоль южного берега Куку-нора.
Во время первого путешествия Николай Михайлович положил на карту западный и северный берега Синего озера. Теперь он сделал съемку южного берега.
У китайского сторожевого поста Шала-хото Николай Михайлович оставил экспедиционный отряд под командой Эклона, а сам с Роборовским, переводчиком Юсуповым и тремя казаками отправился в Синин — на свидание с тамошним губернатором, которому был подчинен район верховий Хуанхэ. Русских сопровождал высланный им навстречу сининским амбанем почетный караул с желтыми знаменами.
«Благодаря, конечно, хлопотам нашего посольства в Пекине, — пишет Пржевальский, — власти оказывали нам наружно полный почет, хотя в то же время исподтишка всячески старались затормозить наш путь».
Замечательные исследования и открытия Пржевальского совершались в беспрестанной борьбе с реакционными богдоханскими властями.
На другой день после прибытия знаменитого русского путешественника в Синин произошла встреча его с местным губернатором — генералом Лином.
Генерал устроил Пржевальскому парадный, хотя и холодный прием.
Николай Михайлович поехал верхом в сопровождении Роборовского, переводчика и казаков. На улицах их окружила огромная толпа народа. В воротах «ямына» (правительственного учреждения) выстроились войска со знаменами. Спешившись, Пржевальский и его спутники вошли во двор и здесь встретились с генералом. Губернатор вежливо, но холодно раскланялся с ними и пригласил в фанзу.
Справившись, как полагается, здоров ли путешественник и благополучно ли он совершил свой путь, генерал Лин тотчас же спросил:
— Куда вы намерены идти дальше?
— Нынешней весною, — ответил Пржевальский, — мы пойдем на верховья Желтой реки и пробудем там месяца три или четыре, смотря по тому, как много найдется там научной работы.
— Не пущу туда, — решительно заявил генерал. Пока переводчик передавал этот ответ, губернатор пристально смотрел на Пржевальского, стараясь заметить, какое впечатление произведет на него столь решительный тон. Пржевальский улыбнулся и велел переводчику ответить, что, имея правительственный паспорт, он пойдет на Желтую реку и без позволения губернатора.
Тогда генерал Лин прибегнул к обычному приему богдоханских властей — к запугиванию.
— Знаете ли, — сказал Лин, — на верхней Хуанхэ живут разбойники-тангуты. Мне хорошо известно, что они собираются всех вас перебить. Я сам никак не могу с ними справиться, несмотря на то, что у меня много солдат.
Генерал прибавил, что дать путешественникам проводника он решительно отказывается.
Но Пржевальский опять повторил, что ему необходимо идти на верховья Хуанхэ, и он пойдет туда даже без проводника, как то не раз делал.
Видя, что Пржевальского не запугать, губернатор начал торговаться относительно срока пребывания русской экспедиции на верховьях Желтой реки: генерал предлагал всего пять-шесть дней, Пржевальский же назначил трехмесячный срок и не уступал.
В таком духе разговор продолжался около часа. «Изобретательный» (по выражению Пржевальского) генерал прибегал ко все новым уверткам, но ничего не добился. Наконец аудиенция кончилась, и путешественники поехали обратно в отведенную для них фанзу…
Из старых китайских источников и по сведениям, которые удалось добыть расспросами, Пржевальский знал, что истоки Желтой реки лежат на Тибетском нагорье, а дальше река течет в громадных крутых горах, стоящих несколькими грядами между Тибетским нагорьем на юге, озером Куку-нор на северо-востоке и равнинами Цайдама на севере.
Как же идти к истокам Хуанхэ? На юго-запад от Куку-нора? На юг из Цайдама?
Пока сам Пржевальский, первым из европейцев, не достиг колыбели Желтой реки, никто не мог ответить на этот вопрос: и от Куку-нора, и из Цайдама предстояло пробираться через дикие, неисследованные места.
Естественно, что Пржевальский, находясь вблизи Куку-нора, выбрал самый короткий путь — напрямик через хребты Балекун, Сянсибей, Угуту, Амне-мачин. Естественно было и решение Пржевальского заменить на этот раз верблюдов мулами: весною в горах верблюды погибли бы от сырости и от ядовитой травы «хоро-убусу». Мулы же и сырость переносят лучше и умеют выбирать пригодную для корма траву.
Купив в Синине четырнадцать мулов, Николай Михайлович с Роборовским, Юсуповым и тремя казаками вернулся к своему отряду.
Во второй половине марта путешественники выступили к верховьям Хуанхэ. Вскоре, с южного склона гор Балекун, они увидели Желтую реку, широкой лентой извивающуюся в темной кайме кустарников, между высокой стеной обрывов на восточном берегу и горами желтого сыпучего песка — на западном.
Из всего верблюжьего каравана, ходившего в Тибет, выжило только семь верблюдов. Оставив их пастись здесь, в кустарниках и на травянистых площадках Балекун-гоми, 30 марта путешественники двинулись дальше.
Сначала путь лежал вдоль самого берега Хуанхэ. Из песчаных наносов, круто спускающихся к реке, тут с шумом били быстрые ключи. На ключевых болотах, поросших тростником, уже кричали черношейные журавли, распускались листья на кустарниках облепихи, в ее зарослях по утрам трещали голубые сороки. Днем термометр поднимался до + 25°C.
Вскоре отвесные береговые обрывы и горы сыпучего песка преградили путь каравану. Путешественники поднялись из долины реки на волнистое степное нагорье. Зелени здесь еще не было. На восходе солнца термометр показал 17° мороза.
«Идешь по луговому плато, совершенно гладкому, как вдруг под самыми ногами раскрывается страшная пропасть», — так описывал Пржевальский в письме к Кояндеру свой путь по нагорью у верховий Желтой реки. — «Вы можете себе представить, каково вьючным мулам взбираться или спускаться по тропинке, имеющей, на 3–4 версты протяжения, полторы тысячи футов (около 500 метров) падения; притом с глиняных боковых стен постоянно грозят обвалы. Помучились мы, в особенности наши животные, немало».
Начался подъем в горы Сянсибей. С одной из вершин, куда взобрался Пржевальский, охотясь дорогою на улларов, открылась обширная панорама. Справа, на западе, белели снежные вершины гор Угуту. Слева, на востоке, расстилалась степная равнина, по которой черной траншеей вилась глубокая долина Желтой реки. Впереди, на юге, вставала новая стена высоких гор.
В горах Сянсибей путешественники встретили кочующих здесь кара-тангутов. Сининские власти уже позаботились о том, чтобы восстановить кочевников против русских.
«Лишь только мы вошли в их пределы, — писал Пржевальский Кояндеру, — как тотчас явился какой-то всадник, который издали закричал нам, что мы на-днях будем перебиты, и ускакал. Пришлось опять, как зимою в Тибете, перейти на военное положение: ночью караул, спим с оружием под изголовьем, на охоту ходим с револьверами, пасем скот не далее меры винтовочного выстрела от своего стойбища».
Однако вскоре местные жители, как рассказывает Пржевальский, «переменили свои враждебные отношения на более мирные, приезжали даже к нам, продавали масло и баранов», а впоследствии «сознавались, что были страшно напуганы слухами, пущенными про нас из Синина, и хотели даже все укочевать из тех местностей, которые мы проходили».
В этой горной стране, прилегающей к верховьям Хуанхэ, Пржевальский собрал богатые коллекции растений. Среди них оказались новые виды: «тополь Пржевальского», «поползень Эклона», новые разновидности жимолости, чагерана, вики, касатика.
Выйдя из речных ущелий, караван двинулся по степному нагорью. Здесь уже пробилась трава, паслись табуны куланов, слышалось пение полевых жаворонков.
Подошли к незаметному издали обрыву реки Чур-мын — одного из притоков Хуанхэ. Под самыми ногами путешественников внезапно раскрылась глубокая пропасть. На дне ее лежал совершенно другой мир.
Третье путешествие в Центральной Азии в 1879–1880 гг.
Наверху, вокруг путешественников, расстилалась безводная степь, покрытая низкой травой. Внизу шумела река, зеленел густой лес.
С высоты обрыва путешественники снова увидели Желтую реку. Далеко впереди, на юге, она прорывала высокие горы, которые вставали здесь отвесной стеной, преграждая каравану дальнейший путь.
Для разведки Пржевальский послал разъезд казаков вверх по Хуанхэ. Казаки вернулись на четвертые сутки и привезли нерадостную весть — пройти дальше с караваном невозможно: всюду глубокие ущелья, громадные бесплодные горы, бескормица.
Сам Пржевальский поискал прохода в другом месте, но тоже не нашел.
Оставалось искать путь на другом берегу Хуанхэ.
Весь караван перекочевал к устью Чурмына. Здесь путешественники провели четверо суток в тщетных поисках переправы через Желтую реку. Брода нигде не оказалось. А для того чтобы выстроить плот, нехватало материалов, да и слишком опасно переправляться на плоте с багажом и мулами через быструю реку, изобилующую подводными камнями.
«Со всех сторон явились препятствия неодолимые», — пишет Пржевальский. — «Так пришлось с горестью отказаться от заманчивого выполнения намеченной цели».
Неудачная попытка пробраться к истокам Желтой реки от Куку-нора привела Пржевальского к правильному выводу: «На те же истоки Хуанхэ без особенного труда можно сходить из Цайдама по Тибетскому плато».
Нo сейчас, не имея верблюдов, невозможно было осуществить этот план. Его осуществила через четыре года, в 1884 году, четвертая экспедиция Пржевальского.
А теперь Пржевальский решил идти назад к Куку-нору, в Нань-шань, Ала-шань.
Вновь посетил Пржевальский знакомые места — Чейбсен, Чортэнтан, вновь увидел спутников первого своего путешествия. Вместе с ними, семь с половиной лет назад, пробирался он через пески южного Ала-шаня и через горы Тэтунга. «Все здесь живо помнилось, несмотря на то, что минуло более семи лет после нашего пребывания в этих местах. Нашлись старые знакомые. Все эти люди с непритворным радушием, даже большой радостью, встречали теперь нас».
Вновь побывал Пржевальский в Дынюаньине. Старый алашанский князь умер в 1877 году. Его сыновья «на этот раз нашего пребывания», рассказывает Пржевальский, «произвели на меня неприятное, отталкивающее впечатление. Прежде, восемь лет назад, они были еще юношами. Теперь же, получив в свои руки власть, эти юноши преобразились в самодуров-деспотов». «Жизнь ведут праздную… Общая забота алашанских князей заключается в том, чтобы, правдою и неправдою, возможно больше вытянуть из своих подданных. Ради этого, помимо податей, в казну вана[64] поступают различные сборы как деньгами, так и скотом: нередко князья прямо отнимают у монголов хороших верблюдов и лошадей, возвращая взамен плохих животных. Притом ван открыл значительный для себя источник дохода, раздавая за деньги своим подданным мелкие чины. За малейшую вину эти новоиспеченные чиновники опять разжалываются; затем им вновь возвращается прежний чин, а ван получает новое приношение… С своими подчиненными князья обращаются грубо, деспотично».
Завершая третью свою экспедицию, Пржевальский из Ала-шаня двинулся на родину тем самым путем, который он открыл и снял на карту семью годами раньше, — вновь он прошел «срединою Гоби».
Пржевальский вез на родину драгоценные коллекции растений и животных. Среди них были новые роды и виды, которые с того времени стали называться именем великого путешественника и именами его помощников: «пржевальския тангутская», «тополь Пржевальского», «шиповник Пржевальского», «мытник Пржевальского», «зверобой Пржевальского», «горечавка Пржевальского», «бересклет Пржевальского», «бузульник Пржевальского», «василистник Пржевальского», «лук Пржевальского», «адиантум Роборовского», «недоспелка Роборовского», «лагохилус Роборовского», «монгольский лук», «многокорневой лук», «рябчик Пржевальского», «поползень Эклона», «сурок Роборовского», «ганьсуйский вьюрок» и много других.
Еще большую ценность представляли карты маршрутно-глазомерной съемки неведомых до того времени географических районов. «Всего в течение нынешней экспедиции, — пишет Пржевальский, — снято было мною 3850 верст (4100 км). Если приложить сюда 5300 верст, снятых при первом путешествии по Монголии и северному Тибету, 2320 верст моей же съемки на Лоб-норе и в Джунгарии, то в общем получится 11470 верст (12235 км), проложенных вновь на карту Азии».
Пржевальскому и его спутникам было чем гордиться, когда они, пройдя через великие пустыни, 19 октября 1880 года приближались к Урге. Девятнадцать месяцев трудов, лишений и опасностей остались позади. С последнего холма перед путешественниками открылась широкая долина Толы. Быстрая река струила свои светлые, еще незамерзшие воды. В глубине долины, на белом фоне недавно выпавшего снега, чернели войлочные юрты, глиняные фанзы, купола кумирен, зубчатые стены храма Майдари. Издалека был виден стоящий на возвышенном месте у берега красивый двухэтажный дом русского консульства.
«Попадали мы словно в иной мир. Нетерпение наше росло с каждым шагом; ежеминутно подгонялись усталые лошади и верблюды… Но вот мы, наконец, и в воротах знакомого дома, видим родные лица, слышим родную речь…»
29 октября путешественники уже были на родине. В Кяхте, Верном (Алма-Ате), в Семипалатинске, в Оренбурге (Чкалове) Пржевальского встречали овациями. «Чествования везде такие, каких я никогда не смел ожидать», — писал Николай Михайлович.
Приветственные телеграммы встречали или догоняли его в пути.
Из Иркутска телеграфировали: «Сибирский отдел Географического общества приветствует Вас с благополучным возвращением из многотрудного путешествия, гордясь тем, что ему первому выпадает удовольствие лично вас приветствовать и познакомиться с новыми вашими открытиями на пользу географической науки».
«Ваше возвращение в Россию, — телеграфировали из Хабаровска, из штаба войск Приморской области, — огласилось на празднике управления войск. Все присутствующие глубоко радуются вашему возвращению и твердо памятуют, что Приморская область послужила основанием всесветной славы нашего знаменитого путешественника».
Из Петербурга Пржевальского и его спутников приветствовало телеграммой Русское географическое общество.
7 января Николай Михайлович прибыл в Петербург. К приходу поезда на Николаевском (Московском) вокзале собрались члены Географического общества во главе с вице-президентом его Семеновым-Тян-Шанским[65], многие академики, ученые, литераторы, офицеры из Военно-ученого комитета. Пржевальского встретили громким «ура» и аплодисментами.
В зале, отведенном для торжественной встречи, Семенов от имени Географического общества поздравил путешественника с успехом. «Не только это Общество и корпорация русских ученых, — сказал Семенов, — но и все русское общество с напряженным вниманием следило за вашим шествием по среднеазиатским пустыням».
Отвечая на приветствие, Николай Михайлович сказал, что именно в сочувствии русских ученых к его деятельности и в сознании, что на родине следят за судьбой его экспедиции, он черпал энергию и решимость.
Для Пржевальского успех экспедиции был не только его личным успехом. Пржевальский постоянно и сам помнил и напоминал другим, что открытиями, которые удалось ему сделать, он обязан своим верным спутникам.
В книге о третьем путешествии он пишет:
«Если мне и выпала счастливая доля совершить удачно три путешествия в Центральной Азии, то успех этих путешествий — я обязан громко признать — обусловливался, в весьма высокой степени, смелостью, энергией и беззаветной преданностью делу моих спутников. Их не пугали ни страшные жары и бури пустыни, ни тысячеверстные переходы, ни громадные, уходящие за облака, горы Тибета, ни леденящие там холода, ни орды дикарей, готовые растерзать нас… Отчужденные на целые годы от своей родины, от всего близкого и дорогого, среди многоразличных невзгод и опасностей, являвшихся непрерывной чредой, — мои спутники свято исполняли свой долг, никогда не падали духом и вели себя, по истине, героями. Пусть же эти немногие строки будут хотя слабым указанием на заслуги, оказанные русскими людьми делу науки, как равно и ничтожным выражением той глубокой признательности, которую я навсегда сохраню о своих бывших сотоварищах».
В докладной записке, поданной им на другой же день после приезда в Петербург, Николай Михайлович просил наградить каждого из участников его экспедиции, как за боевые подвиги: «Ввиду опасностей, которым подвергались все мои спутники во время путешествия, смелости и мужества, оказанных ими при двухкратном отбитии нападения на нас диких тибетцев, решаюсь ходатайствовать о пожаловании им наград, назначаемых за подвиги отличия в военное время».
Через два дня, 10 января, все участники экспедиции, среди них и сам Пржевальский, были награждены военными орденами.
Заслуги великого путешественника с гордостью отметила на родине вся передовая наука. Пржевальский был избран почетным членом Русского географического общества, Петербургского общества естествоиспытателей, почетным доктором зоологии Московского университета.
Значение сделанных русским ученым замечательных открытий должны были признать и за границей. Географические общества разных стран избрали его своим почетным членом, а Британское географическое общество присудило ему золотую медаль. Тибетское путешествие Пржевальского, писало это Общество, превосходит труды всех путешественников в Азии со времен Марко Поло.
От чествований, званых обедов, посетителей, новых знакомств не было отбоя. Почта ежедневно приносила десятки писем: Пржевальского поздравляли, восхваляли, приглашали, просили прочитать лекцию, прислать портрет и автобиографические сведения для иллюстрированных изданий. Он отвечал: «Я имею так много неотлагательных работ, что заниматься жизнеописанием нет времени, да и желания». Его просили устроить на службу, похлопотать о пенсии или о повышении в чине. Появилось объявление о том, что в Петербургской городской думе решено повесить портрет знаменитого русского путешественника и что для этой цели ассигновано 1500 рублей. Пржевальский отказался от этой чести и просил употребить деньги на более полезные цели.
15 марта 1881 года в конференц-зале Академии наук открылась выставка зоологических коллекций, собранных Пржевальским. Выставка привлекла множество посетителей.
«Знаменитый путешественник, почетный член Академии Н. М. Пржевальский, — писал академик А. А. Штраух, — собрал во время своих путешествий по Центральной Азии богатейшие коллекции животных, которые пожертвованы им в Зоологический музей Академии.
Со времени основания музея никто еще не приносил ему такого ценного и единственного в своем роде подарка. Коллекции H. M. Пржевальского дают возможность познакомиться с фауной до сих пор неизвестных частей Центральной Азии, где до него не был ни один натуралист».
В продолжение двух лет после возвращения на родину Пржевальский работал над книгой о третьем своем путешествии. Книга «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» вышла в свет в 1883 году.
Каковы важнейшие научные результаты третьего путешествия, запечатленные в этой книге?
На карту положены 4100 километров пути по неисследованным ранее местностям. В Нань-шане и в Северном Тибете открыты неизвестные до того времени горные хребты. Впервые отмечены постоянные климатические явления, общие для всего центральноазиатского нагорья (Гоби и Тибета) — бури, имеющие направление с запада на восток. Объяснены причины этих явлений и их геологические последствия. В богатейших коллекциях, собранных экспедицией, — много видов растений и животных, ранее неизвестных. Ценные наблюдения сделаны над бытом и общественными отношениями неведомых европейцам народностей Центральной Азии.
В книге, с присущим Пржевальскому мастерством, нарисована широкая и цельная картина исследованных местностей — их ландшафта, растительного и животного мира, жизни обитателей. Пржевальский рассматривает все явления природы в их взаимной обусловленности, он умеет найти связь между природой местности и хозяйственным укладом ее населения, подметить зависимость нравов и обычаев народа от его политического строя и хозяйственного уклада. Метко характеризует в своей книге Пржевальский нравы и обычаи богдоханской администрации.
От одного путешествия Пржевальского к другому неуклонно увеличивался состав его экспедиционного отряда, возрастал размах научных исследований, вместе с тем увеличивались и препятствия, чинимые путешественнику богдоханскими властями. И в каждой новой книге Пржевальского все обширнее, все богаче наблюдениями и выводами становился отчет исследователя, все увлекательней летопись дней и дел русского экспедиционного отряда в далеких странах. Ученый, начальник русской научной экспедиции все больше брали верх над охотником и поэтом.
Книга «Из Зайсана через Хами в Тибет» имела большой успех. Один из рецензентов назвал новую книгу Пржевальского «сокровищницей по этно- и зоографии Центральной Азии».
Но окруженный почетом и славой, Пржевальский не чувствовал себя счастливым. Он тяготился мирным, оседлым существованием, и его влекло к новым странствованиям.
«Верите ли, — писал он одному из своих корреспондентов в 1881 году, — покою не имею, смотря по карте сколько в Тибете еще неизвестных мест, — которые я могу и должен исследовать».
Однако гнала его вдаль не только жажда научных исследований, но и гнетущая атмосфера начавшейся в это время в России политической реакции.
1 марта 1881 года был убит народовольцами Александр II. Новый царь Александр III и его министры круто взялись за реакционные «контр-реформы». Контр-реформами они являлись по отношению к реформам шестидесятых годов. Настала эпоха жесточайшей реакции.
Атмосфера гнета, подавления всякой свободной мысли, раболепия, лицемерия мучительно тяготила Пржевальского. В одном из писем 1881 года он писал: «Изуродованная жизнь — жизнью цивилизованной (называемая), мерзость нравственная — тактом житейским называемая, продажность, бессердечие, беспечность, разврат, словом все гадкие инстинкты человека, правда, прикрашенные тем или другим способом, фигурируют и служат главными двигателями… Могу сказать только одно, что в обществе, подобном нашему, очень худо жить человеку с душою и сердцем».
Книгу о третьем своем путешествии в Центральной Азии Пржевальский кончает такими строками:
«Грустное, тоскливое чувство всегда овладевает мною лишь только пройдут первые порывы радостей по возвращении на родину. И чем далее бежит время среди обыденной жизни, тем более и более растет эта тоска, словно в далеких пустынях Азии покинуто что-либо незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Да, в тех пустынях, действительно, имеется исключительное благо — свобода… Притом самое дело путешествия для человека, искренно ему преданного, представляет величайшую заманчивость ежедневной сменой впечатлений, обилием новизны, сознаньем пользы для науки…
Вот почему истому путешественнику невозможно позабыть о своих странствованиях даже при самых лучших условиях дальнейшего существования. День и ночь неминуемо будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить: променять вновь удобства и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную странническую жизнь…»
Три путешествия Пржевальского произвели много перемен на карте Центральной Азии. Легендарное озеро Лоб-нор стало географическим фактом, а к югу от озера — там, где на карте обозначалась равнина, поднялся громадной стеной Алтын-таг. Посередине великой Гоби, где на карте тоже было ровное место, вырос хребет Хурху. Появились хребты Гумбольдта, Риттера, Марко Поло, Северо-тэтунгский, Южно-тэтунгский, Южно-кукунорский. Озеро Куку-нор приобрело точные очертания. А горы и реки, существовавшие только в воображении «кабинетных географов», были «стерты с лица» географических карт.
Но на карте Центральной Азии еще оставались обширные белые пятна, и Пржевальский мечтал о том, чтобы поскорей их «вывести».
Еще в 1881 году Петербургский договор между Россией и Китаем разрешил все спорные вопросы, возникшие было между двумя державами. Политическая обстановка благоприятствовала новому путешествию.
9 февраля 1883 года Пржевальский подал в Совет Географического общества докладную записку.
«Несмотря на удачу трех моих экспедиций в Центральной Азии и почтенные здесь исследования других путешественников, в особенности русских, — писал Николай Михайлович, — внутри азиатского материка, именно на высоком нагорье Тибета, все еще остается площадь более 20000 квадратных географических миль[66] почти совершенно неведомая. Большую западную часть такой terra incognita занимает поднятое на страшную абсолютную высоту (от 14000 до 15000 футов[67]) плато Северного Тибета; меньшая восточная половина представляет собою грандиозную альпийскую страну переходных уступов от Тибета к собственно Китаю.
Продолжая раз принятую на себя задачу — исследование Центральной Азии, я считаю своим нравственным долгом, помимо страстного к тому желания, вновь отправиться в Тибет и поработать там, насколько хватит сил и уменья, для пользы географической науки».
Дальше Пржевальский писал, что в составе экспедиции он хотел бы иметь трех помощников, препаратора, переводчика и 15 солдат и казаков. В Тибете он рассчитывал пробыть два года.
Совет принял предложение с большим сочувствием. Вице-президент общества Семенов просил правительство командировать Пржевальского в Тибет и отпустить для этой цели 43500 рублей.
Замысел нового путешествия возник у Пржевальского задолго до того, как он подал свою записку — еще в 1881 году, вскоре после возвращения на родину. Тогда же познакомился он с юношей, которого решил сделать третьим своим помощником. Знакомство произошло при следующих обстоятельствах.
Мечтая о том, чтобы от путешествия до путешествия жить в глуши, где можно охотиться вволю, Пржевальский подыскал и купил в Поречском уезде Смоленской губернии небольшое имение Слободу. «Лес, как Сибирская тайга», — описывал он эти места в письме к Эклону. «Озеро Сопша в гористых берегах, словно Байкал в миниатюре». В своих воспоминаниях о Пржевальском его племянник рассказывает: «Как гордился он тем, что перед самым его домом было болото! Особенно ему нравилось то, что в Слободе и ее окрестностях была дикая охота: медведи, иногда забегали кабаны, водились рыси, много глухарей». Управляющему, которого он нанял, Николай Михайлович настойчиво внушал: «Говорю же я вам, что я доходов не хочу иметь. Я смотрю на имение не как на доходную статью, а как на место, где можно отдохнуть после трудов».
«Одно неудобство, — с досадой писал Николай Михайлович родственнику. — Усадьба стоит рядом с винокурней». Но как раз благодаря этой винокурне завязалось его знакомство с будущим любимым его учеником — Петром Кузьмичом Козловым.
Козлову было тогда 18 лет. Как и Пржевальский, он родился и вырос в смоленской глуши. Отец его по одним сведениям батрачил у скотопромышленника, по другим — был мелким, а под конец — разорившимся «прасолом». Достоверно известно только то, что Козлов-отец «гонял гурты» с Украины на ярмарки в центральные губернии. Несколько раз с отцом ходил и сын, и с тех пор, по собственным словам, «заболел мыслью о далеких странах, необозримых просторах, стал бредить путешествиями». Жестокая нужда, которую терпела его семья, заставила Козлова по окончании городского училища поступить на службу в контору винокуренного завода Пашеткина в Слободе. Старая няня Пржевальского Макарьевна, которая вела хозяйство Николая Михайловича, обратила внимание на скромного, трудолюбивого молодого человека и указала на него Пржевальскому.
В 1929 году П. К. Козлов — уже старый, известный путешественник, академик — так вспоминал о первом своем знакомстве с Пржевальским:
«С именем «Слобода» во мне всегда просыпается первое, самое сильное и самое глубокое воспоминание о Пржевальском. Ведь так недавно еще я только мечтал, только грезил, как может мечтать и грезить шестнадцатилетний мальчик под сильным впечатлением чтения газет и журналов, о возвращении в Петербург славной экспедиции Пржевальского, — мечтал и грезил о далеких странах, о тех высоких нагорьях Тибета, где картины дикой животной жизни напоминают первобытный мир, завидовал юным сподвижникам Пржевальского, завидовал даже всем тем, кто мог видеть и слышать героя-путешественника… Мечтал и грезил, будучи страшно далек от реальной мысли когда-либо встретиться лицом к лицу с Пржевальским. И вдруг мечты и грезы мои осуществились: вдруг, неожиданно, тот великий Пржевальский, к которому было направлено все мое стремление, появился в Слободе, очаровался ее дикой прелестью и поселился в ней. При виде этого человека издали, при встрече с ним вблизи, со мною одинаково происходило что-то необыкновенное. Своей фигурой, движениями, голосом, своей оригинальной орлиной головой, он не походил на остальных людей; глубоким же взглядом строгих красивых голубых глаз, казалось, проникал в самую душу. Когда я впервые увидел Пржевальского, то сразу узнал его могучую фигуру, его образ — знакомый, родной мне образ, который уже давно был создан моим воображением.
Тот день, когда я увидел первую улыбку, услышал первый задушевный голос, первый рассказ о путешествии, впервые почувствовал подле себя «легендарного» Пржевальского, когда я с своей стороны в первый раз сам смело и искренно заговорил с ним, — тот день я никогда не забуду; тот день, для меня из знаменательных знаменательный день, решил всю мою будущность, и я стал жить этой будущностью».
Знакомство произошло следующим образом: «Однажды вечером, — рассказывает Козлов, — вскоре после приезда Пржевальского, я вышел в сад, как всегда, перенесся мыслью в Азию, сознавая при этом с затаенной радостью, что так близко около меня находится тот великий и чудесный, кого я уже всей душой любил. Меня оторвал от моих мыслей чей-то голос, спросивший меня:
— Что вы здесь делаете, молодой человек?
Я оглянулся. Передо мною в своем свободном широком экспедиционном костюме стоял Николай Михайлович. Получив ответ, что я здесь служу, а сейчас вышел подышать вечерней прохладой, Николай Михайлович вдруг спросил:
— А о чем вы сейчас так глубоко задумались, что даже не слышали, как я подошел к вам?
С едва сдерживаемым волнением я проговорил, не находя нужных слов:
— Я думал о том, что в далеком Тибете эти звезды должны казаться еще гораздо ярче, чем здесь, и что мне никогда, никогда не придется любоваться ими с тех далеких пустынных хребтов.
Николай Михайлович помолчал, а потом тихо промолвил:
— Так вот о чем вы думали, юноша… Зайдите ко мне, я хочу поговорить с вами».
Вскоре между знаменитым путешественником, столько перевидевшим и испытавшим на своем веку, и юношей, который еще ничего не знал, кроме глухого смоленского захолустья да «хождения с гуртами», завязалась самая тесная, задушевная дружба.
«Осенью 1882 года, — рассказывает Козлов, — я уже перешел под кров Николая Михайловича и стал жить одной жизнью с ним. Пржевальский явился моим великим отцом; он воспитывал, учил и руководил общей и частной подготовкой меня к путешествию. В Слободе с Пржевальским, с этим светочем живой науки, я увидел более широкий горизонт».
Решив взять Козлова с собой в экспедицию, Николай Михайлович купил учебники и стал сам готовить его к экзамену на аттестат зрелости. После экзамена Пржевальский намеревался зачислить Козлова на военную службу вольноопределяющимся.
Козлов в конце 80-х годов.
Учителем Николай Михайлович был строгим. «Лучше учись!» — требовал он от Козлова. «К общему нашему удовольствию и радости, — рассказывает Козлов, — в январе 1883 года мне удалось хорошо выдержать поверочное испытание при Смоленском реальном училище всего его курса, затем вскоре отправиться в Москву на военную службу, прослужить в полку три месяца и в апреле быть зачисленным, распоряжением правительства, в состав новой, четвертой экспедиции Пржевальского в Центральной Азии. Сбылось несбыточное!»
Другого своего ученика — Роборовского — Николай Михайлович засадил готовиться в Академию генерального штаба. «Как ты устроил свои занятия? — спрашивал он в письме Роборовского. — Зубри с утра до вечера, иначе не успеешь приготовиться. Не уступай перед трудностями поступления в Академию, в этом вся твоя будущность».
Старшего из своих воспитанников — Эклона — Николай Михайлович, еще в то время, когда собирался на Лоб-нор, сам подготовил, как и Козлова, к экзамену на аттестат зрелости. Пока Эклон находился под непосредственным влиянием и надзором Пржевальского, он проявлял трудолюбие, мужество, хорошие способности. Николай Михайлович возлагал на него большие надежды. Но после третьего путешествия офицерская среда, в которую попал Эклон, оказала на него, к величайшему огорчению Пржевальского, развращающее влияние.
«Слышал от Вольки[68], что ты сидел на гауптвахте. Теперь можешь считаться старым офицером», — с иронией писал Николай Михайлович Эклону. «Жизнь самостоятельная в полку оказала на тебя уже то влияние, что ты сделался в значительной степени монтером, — огорчаясь и досадуя, писал ему Пржевальский в другом письме. — Коляски, рысаки, бобровые шинели, обширные знакомства с дамами полусвета, — все это, увеличиваясь прогрессивно, может привести, если не к печальному, то, во всяком случае, к нежелательному концу. Сделаешься ты окончательно армейским ловеласом и поведешь жизнь пустую, бесполезную. Пропадет любовь к природе, охоте, к путешествиям, ко всякому труду. Не думай, что в такой омут попасть трудно, напротив, очень легко, даже незаметно, понемногу. А ты уже сделал несколько шагов в эту сторону, и если не опомнишься, то можешь окончательно направиться по этой дорожке. Мало того: имеющиеся деньги будут истрачены, начнутся долги и т. д.
Во имя нашей дружбы и моей искренней любви к тебе, прошу перестать жить таким образом. Учись, занимайся, читай — старайся наверстать хоть сколько-нибудь потерянное в твоем образовании. Для тебя еще вся жизнь впереди — не порти и не отравляй ее в самом начале. Где бы ты ни был, везде скромность и труд будут оценены, — конечно, не товарищами-шелопаями. Я тебя вывел на путь; тяжело мне будет видеть, если ты пойдешь иной дорогой».
Пржевальский просил Эклона поторопиться сдать экзамен на чин и обещал взять его в новую экспедицию.
Участвовать в ней должны были также его верные спутники — казаки Иринчинов и Телешов, толмач Юсупов.
Пржевальский пробудил в них жажду подвигов, воспитал в них преданность своему делу. Казаки благоговели перед Николаем Михайловичем. Начальник, герой, он всецело владел их душою.
«Память о вас перейдет из рода в род. С вами готовы в огонь и воду!» Такие слова находили для Пржевальского его спутники-казаки. И они снова и снова стремились разделить с любимым начальником опасности и лишения далеких экспедиций.
Там, на дикой чужбине, под походными палатками, «все жили одним духом, одними желаниями, питались одною пищей, составляя одну семью, главою которой был Николай Михайлович, — говорит Роборовский. — В семье этой царствовала дисциплина самая суровая, но нравственная, выражающаяся в рвении каждого сделать возможно более для того святого и великого дела, которому каждый подчинялся добровольно. Каждый солдат и казак старался служить чем может и как умеет: тот принесет ящерицу, другой цветок, третий укажет ключ, где можно поймать рыбу…»
Долгие месяцы странствований по неведомым землям многому научили участников экспедиций Пржевальского. Иринчинов теперь отлично разведывал путь в диких, труднопроходимых местах. Телешов стал превосходным препаратором, а Юсупов приобрел незаурядную дипломатическую сноровку при сношениях с местными властями.
В апреле 1883 года был получен, наконец, ответ на ходатайство Географического общества. Решением правительства от 5 апреля Пржевальский командировался в Тибет на два года. Помощниками его назначались подпоручики Роборовский и Эклон и вольноопределяющийся Козлов.
Но перед самым отъездом в Петербург пути Пржевальского и Эклона окончательно разошлись: Эклон отказался участвовать в экспедиции и, чтобы избежать неприятного объяснения, уехал, не простившись с Николаем Михайловичем. Пржевальский не хотел вредить человеку, с которым его связывали восемь лет дружбы. Он приказал отчислить Эклона от экспедиционного отряда и направить его на место прежней службы.
Роборовский в конце 80-х годов.
В начале августа Пржевальский, Роборовский и Козлов выехали из Петербурга. В Москве к ним присоединились Иринчинов, Юсупов и пять солдат, выбранных Пржевальским из московского гренадерского корпуса. 26 сентября Николай Михайлович и его спутники прибыли в Кяхту, где их уже ждал Телешов. Семь новых казаков и трех солдат Пржевальский выбрал по рекомендации своих прежних спутников.
В Кяхте путешественники снаряжались в дорогу и практиковались в стрельбе. 21 октября они выступили из Кяхты.
Для двадцатилетнего Козлова солнечным октябрьским днем начиналась его странническая жизнь. П. Безруких, лично знавший Козлова и знакомый с его дневниками, так описывает его в этот день:
«Длинный караван далеко растянулся по монгольской степи. Пржевальский, сосредоточенно спокойный и как будто безразличный ко всему окружающему, молчаливо покачивается в седле, незаметно, но внимательно наблюдая за своим молодым спутником.
Вольноопределяющийся Козлов зорко всматривается в каждый холм, куст, камень. Его внимание привлекает человеческий череп, белеющий среди измятых стеблей дикой конопли, дальше коническая груда камней с деревянным шестом посередине.
Он знал из описаний, что это «обо», куда каждый проходящий и проезжающий монгол бросает камень, а к шесту привязывает тряпочку, чтобы умилостивить злых духов. Молодой путешественник соскакивает с лошади, обходит вокруг первого встреченного им «обо» и как бы шутя бросает в него камень.
Ему хочется привязать и тряпочку, не потому, что он придает этому какое-то значение, а «просто так», но он стесняется окружающих и особенно любимого начальника-учителя: «Что подумает обо мне Николай Михайлович?»
Он смотрит на Пржевальского. Их взгляды встречаются. Глубокие голубые глаза Пржевальского искрятся веселым лукавством:
— Ничего, ничего, привяжите и вы свою тряпочку…
«Откуда ему известны мои мысли?» — удивляется Козлов и, оторвав от носового платка полоску, привязывает ее к шесту.
— Это и со мной было в первую экспедицию, — добродушно говорит Пржевальский…»
30 октября путешественники прибыли в Ургу.
Здесь они купили верблюдов, лошадей, баранов, две юрты, дзамбу, муку, рис, ячмень, войлоки, вьючные веревки. Здесь же они получили пекинский паспорт.
Утром 8 ноября 1883 года экспедиция двинулась в путь.
Экспедиционный отряд состоял из 21 человека. В караване было 7 верховых лошадей и 57 верблюдов: 40 шло под вьюками, 14 «под верхом» у казаков, 3 в запасе. Все вьючные верблюды были разделены на 6 эшелонов, каждый сопровождали два казака. Головной эшелон вел Иринчинов, назначенный вахмистром экспедиционного отряда. В середине каравана ехал Козлов, в арьергарде Роборовский с двумя солдатами, впереди Пржевальский с проводником-монголом и препаратором Телешовым. Позади каравана казак на верховой лошади гнал стадо баранов в 30 голов.
Накануне выступления Пржевальский прочитал приказ по экспедиционному отряду.
В этом приказе начальник экспедиции, полковник генерального штаба, обращаясь к «нижним чинам», называл их необычным словом: «товарищи». В немногих простых словах Пржевальский говорил простым русским людям о великом значении того дела, той научной задачи, которую они шли выполнять. Он был уверен в том, что рядовые казаки и солдаты его поймут. И они его поняли, — это вскоре доказали их подвиги.
«Товарищи! Дело, которое мы теперь начинаем, — говорил в своем приказе Пржевальский, — великое дело. Мы идем исследовать неведомый Тибет, сделать его достоянием науки. Вся Россия, мало того, весь образованный мир с доверием и надеждою смотрит на нас. Не пощадим же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если то потребуется, чтобы выполнить нашу громкую задачу и сослужить тем службу как для науки, так и для славы дорогого отечества».
В Тибет, к истокам Желтой реки, Пржевальский шел теперь поперек великой Гоби, — тем самым путем, который он открыл и на своем веку прошел уже дважды, — и дальше через пески Ала-шаня и горы Тэтунга — путем, трижды пройденным во время прежних путешествий.
Стояли сильные холода, бушевали бури. Пройдя от Урги 1120 километров, экспедиция прибыла в Дынюаньин. В двух переходах от города их приветствовали посланцы алашанского князя и его братьев. А за день перед тем Пржевальскому повстречался старый его приятель — монгол Мэрген-булыт, с которым в 1871 году он охотился в Алашанских горах. С тех пор прошло уже больше двенадцати лет, но старик Мэрген первый узнал великого русского охотника и чрезвычайно ему обрадовался. На бивуаке Николай Михайлович хорошо угостил своего приятеля и сделал ему на память подарки…
Наконец бескрайние пустынные равнины и Гоби и Ала-шаня остались позади.
В начале февраля караван перевалил через Северо-тэтунгский хребет. Выстрелы русских путешественников нарушили тишину Тэтунгских гор. Охотясь за фазанами, Роборовский случайно набрел на пещеру, в которой жил буддийский отшельник. Встревоженный выстрелами, отшельник вышел из пещеры и сначала с жаром, энергично жестикулируя, что-то говорил Роборовскому, а затем снял свою туфлю и отряс с нее прах в сторону чужеземца, как видно проклиная его за нарушение своего покоя.
Перейдя 13 февраля по льду реку Тэтунг-гол, Пржевальский расположил свою стоянку против хорошо ему знакомой кумирни Чортэнтан.
Пржевальского глубоко трогала красота этих мест. Наверху, между дикими голыми скалами, расстилались альпийские луга, а внизу, на дне ущелья, в тени густых лесов, бурлил среди отвесных каменных громад быстрый, извилистый Тэтунг. «Еще сильнее, — писал Пржевальский, — чувствуется обаятельная прелесть этой чудной природы для путешественника, только что покинувшего утомительно-однообразные, безжизненные равнины Гоби».
Особенно большое впечатление Тэтунг произвел на Козлова. «Здесь, на Тэтунге, — говорит он, — впервые сознательно пробудилась и моя душа, — я познал собственное влечение к красотам дикой горной природы, любуясь Тэтунгом, его прозрачными стремительными волнами, прислушиваясь к голосам ушастых фазанов, зеленых сэрмунов и мелодичному пенью всевозможных синиц и завирушек. Никогда и нигде мы не были так высоко счастливы, так чисты сердцем, так восприимчивы ко всему прекрасному».
В монастыре Пржевальского радушно встретили и предоставили ему охотиться в окрестных лесах.
Одна из птиц, принесенных с охоты Козловым, оказалась новой разновидностью. «Завирушка Козлова» была первым открытием молодого путешественника.
Узнав о прибытии Пржевальского, приехал повидаться с ним давнишний его приятель — тангут Рандземба, с которым путешественник в 1872 году впервые шел из Ала-шаня в Чейбсен.
27 февраля путешественники сняли свой лагерь у Чортэнтана. Перевалив через Южно-тэтунгский хребет, Пржевальский прибыл в Чейбсен и был здесь хорошо принят старыми друзьями.
Не преминул оказать внимание Пржевальскому также и прежний его недоброжелатель — сининский губернатор генерал Лин: под предлогом заботы о безопасности путешественников он прислал в Чейбсен отряд из нескольких десятков солдат и двух офицеров. Этот конвой, несмотря на протесты Пржевальского, сопровождал экспедицию.
По дороге, в деревне Бамба, в лагерь Пржевальского несколько раз приезжал местный начальник — дунганин, сильно симпатизировавший русским. Дунганин горько жаловался на притеснения богдоханских солдат. Приставленные к путешественникам конвойные, напившись, грабили и избивали жителей деревни.
Пржевальский послал к сининскому амбаню нарочного с просьбой убрать своих солдат. Ответа не последовало. Тогда Пржевальский пригрозил, что будет стрелять. Угроза подействовала, и экспедиция избавилась от грабителей-конвойных.
Перевалив через Южно-кукунорский хребет, путешественники вышли на равнину Цайдама. 1 мая Пржевальский прибыл в хырму[69] Дзун-засака. И хозяин и гость хорошо помнили друг друга. Как было не помнить!
Здесь, на этом перепутье между пустынями Гоби и Тибета, Пржевальскому опять, как четыре года назад, нужно было запастись продовольствием и купить новых верблюдов: старые были обессилены долгой дорогой, зимней бескормицей и не годились для трудного странствования через горы Северного Тибета.
И вот все, что происходило между русскими путешественниками и цайдамскими князьками четыре года назад, повторилось вновь.
Опять сининский амбань послал тайный приказ цайдамским князькам «ласково отговорить русских» (по выражению амбаня) от путешествия в Тибет, а попросту говоря — всеми средствами помешать им двинуться дальше.
Опять Дзун-засак и его сосед Барун-засак отказали Пржевальскому и во вьючных животных и в проводниках, уверяя, что нет у них ни хороших верблюдов, ни людей, знающих путь в Тибет. Князья не хотели продать русским даже баранов.
И опять, как четыре года назад, Пржевальский сумел настоять на своем: в конце концов нашелся у Барун-засака проводник, нашлись и хорошие верблюды, и отличные бараны, и дзамба.
Тащить в Тибет весь громадный багаж экспедиции было невозможно. В Барун-засаке Пржевальский оставил под охраной шести казаков все собранные в пути коллекции, все вещи, без которых путешественники могли сейчас обойтись, оставил и старых ургинских верблюдов, чтобы дать им здесь отдохнуть и откормиться за лето.
10 мая остальные четырнадцать участников экспедиции с проводником-монголом и переводчиком-китайцем, знавшим тангутский язык, выступили из Барун-засака к истокам Желтой реки…
«В редких случаях, в особенности в наше время, — говорит Пржевальский, — доводится путешественнику стоять у порога столь обширной неведомой площади, каковая расстилалась перед нами».
Перед Пржевальским и его спутниками лежали места, где никогда еще не ступала нога европейца. Да и самим китайцам они почти не известны. Даже неприхотливое население этой страны кочует лишь по ее окраинам: громадная высота нагорья, его бесплодие и ужасный климат делают здесь жизнь невозможной для человека.
Но четырнадцать русских во главе с Пржевальским шли с твердым намерением проложить себе путь в те недоступные, неведомые, дикие места, куда не проникали даже кочевые обитатели края.
Перевалив через хребет Бурхан-будда, караван взошел на волнистое нагорье Северного Тибета.
Третий раз на своем веку Пржевальский вступал в Тибет. Но впервые его путь лежал не на юго-запад — к Лхассе, а прямо на юг — к истокам Желтой реки.
17 мая путешественники разбили, наконец, свой бивуак в котловине Одонь-тала, в трех километрах от истоков Хуанхэ.
«Давнишние наши стремления, — пишет Пржевальский, — увенчались, наконец, успехом: мы видели теперь воочию таинственную колыбель великой китайской реки и пили воду из ее истоков. Радости нашей не имелось конца».
Впервые в истории исследования Азии были точно определены широта и долгота истоков Желтой реки, впервые истоки были точно сняты на карту. Это был первый крупный успех экспедиции.
В конце мая путешественники вышли из котловины Одонь-тала. Пржевальский исследовал горную страну, которая служит водоразделом двух великих китайских рек — Желтой и Голубой. 10 июня он достиг верховьев Голубой реки и повернул обратно к верховьям Желтой.
Он шел исследовать два больших сообщающихся озера, через которые проходит новорожденная Хуанхэ. Пополнившись водой в этих озерах, она течет дальше на восток уже большой многоводной рекой.
В пути через горы, усталые, страдавшие от сырости верблюды гибли один за другим. Уцелевшим доставался все больший груз, а намокнув, вьюки и войлочные седла становились еще тяжелее. Путешественники спали на мокрых войлоках, одежда на них не просыхала, оружие постоянно ржавело. То под проливным дождем, то под сильной метелью они делали длинные переходы, пасли на стоянках караванных животных, варили еду, несли ночной караул. Намокший аргал не хотел гореть. Приходилось постоянно просушивать его над огнем, собирать в мешки и возить с собой, как драгоценность. На просушку аргала у ночных караульных иногда уходила целая ночь, а высушить как следует собранные растения было и вовсе невозможно.
Наконец 11 июня путешественники разбили свой бивуак в нескольких километрах от одного из озер, на берегу реки Джагын-гол. На рассвете следующего дня стоявший на часах казак вдруг услыхал лошадиный топот и тотчас же увидел большой отряд всадников, скакавших прямо к стоянке. Второй отряд приближался с другой стороны.
Это были тангуты-нголоки.
— Нападение! — крикнул казак и выстрелил.
Нголоки громко загикали и быстрей погнали своих коней. От стоянки русских их отделяло расстояние всего в полтораста шагов.
В один миг выскочили путешественники из обеих своих палаток и встретили нападающих огнем. Нголоки, вероятно, рассчитывали застать русских врасплох, спящими, а такой встречи никак не ожидали. Они круто повернули назад и, сделав несколько ответных выстрелов, ускакали.
Удалившись на такое расстояние, что пули не могли их достигнуть, нголоки разделились на несколько отрядов. С вершин ближайших холмов они наблюдали за русскими.
Путешественники прочистили винтовки, напились чаю и завьючили верблюдов. Опять, как четыре года назад при столкновении с еграями, Пржевальскому приходилось с оружием в руках пролагать себе путь.
Нголоки, как и еграи, принадлежат к тем кочевникам, для которых, по определению Энгельса, характерно «совершающееся уже вырождение былой войны между племенами в систематический разбой»[70].
Как только караван двинулся в направлении нголоков, все они повернули коней и пустились вскачь к своему стойбищу. Путешественники медленно подвигались вперед с винтовками в руках.
Приблизившись к нголокам километра на два, Пржевальский увидел в бинокль, что все они, человек триста, выстроились верхом в одну линию перед своими черными палатками. Казалось, что нголоки решили дать русским отпор. Но, подпустив путешественников еще немного, они повернули своих коней и пустились наутек.
Прогнав тангутов и сделав небольшой переход, путешественники расположились на отдых. Пржевальский, перед отъездом из России получивший от правительства право награждать своих казаков и солдат, наградил их всех повышением в чине.
На другой день, двинувшись дальше, путешественники переправились вброд через неведомую до того времени реку, впадающую в одно из двух озер верхнего течения Хуанхэ.
«В память нападения тангутов, — говорит Пржевальский, — я назвал эту реку
Сделав один переход от реки Разбойничьей, караван двинулся по южному берегу озера. Впервые в истории географических исследований Пржевальский точно определял географическое положение озер верхней Хуанхэ, впервые точно наносил на карту очертания их берегов.
На третий день путешественники заметили вдали трех всадников, следовавших за ними. Часа через два, когда экспедиция сделала привал, из ущелья, расположенного в двух километрах впереди бивуака, показался конный отряд человек в триста. Всадники неслись в сторону русских.
Быстро приготовились путешественники отразить новое нападение.
Приблизившись к ним на расстояние около километра, разбойники с громким криком бросились в атаку. Гулко застучали по глинистой почве копыта коней. По встречному ветру развевались суконные плащи и длинные черные волосы нголоков. Все ясней выделялись силуэты всадников с пиками в руках.
«Словно туча неслась на нас эта орда… А на другой стороне, впереди своего бивуака, молча с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка — четырнадцать человек, для которых теперь не было иного исхода как смерть или победа.
Когда расстояние между нами и разбойниками сократилось до пятисот шагов, я скомандовал «пли», и полетел наш первый залп».
Бой продолжался около двух часов. Потерпев полное поражение, нголоки обратились в бегство.
Ожидая, что разбойники нападут снова, путешественники не спали всю ночь. Дождь лил не переставая, бушевал сильный ветер, тьма стояла кромешная. Но нголоки «так были удовольствованы днем, что не решились сделать ночное нападение».
На утро был объявлен следующий приказ Пржевальского по экспедиционному отряду:
«Товарищи! Вчера было сделано новое на нас нападение разбойничьей тангутской шайки, численностью более 200 человек. Вы мужественно встретили лютого врага в 20 раз многочисленнейшего и после двухчасового боя разбили и прогнали его. Этой победой, равно как и предшествовавшей, куплено исследование больших, до сих пор неведомых, озер верхнего течения Желтой реки.
Вы сослужили славную службу для науки и для славы русского имени! За таковой подвиг я буду ходатайствовать о награждении каждого из вас знаком отличия военного ордена».
Путешественники продолжали свой путь, перевалили обратно через Бурхан-будда и 8 августа вернулись в хырму Барун-засака, где их ждали товарищи с отдохнувшими верблюдами.
Отсюда Николай Михайлович прежде всего послал телеграмму в Россию. Телеграмму сначала везли в почтовом вьюке — то на верблюде, то на муле — в Пекин. А оттуда она уже полетела по проводам в Петербург.
«В глубине Центральной Азии, на заоблачном плоскогорий Тибета, за 3000 верст от ближайшей нашей границы, — телеграфировал Пржевальский, — наша экспедиция оружием завоевала исследование от века неведомых истоков Желтой реки и больших озер ее верхнего течения. Тангуты, старавшиеся преградить нам путь, дважды были разбиты горстью моих смельчаков, сослуживших отличную службу для науки и для славы русского имени. За таковой поистине героический подвиг прошу наградить знаками отличия военного ордена моих помощников: подпоручика Роборовского и вольноопределяющегося Козлова и девять нижних чинов экспедиции».
А в письме к одному из друзей он писал: «Мы все находимся в вожделенном здравии, живем дружно и помаленьку мастерим великое дело исследования Тибета. Мои спутники, казаки и солдаты, отличные люди, с которыми можно пройти везде и сделать все».
Еще одна важная географическая задача была решена: впервые были исследованы озера верхней Хуанхэ. По праву первого исследователя Пржевальский назвал восточное озеро —
«Пусть первое из этих названий свидетельствует, — говорит Пржевальский, — что к таинственным истокам Желтой реки впервые проник русский человек, а второе — упрочит память нашей здесь экспедиции».
Первая — тибетская — часть путешествия была закончена. Вторую его часть Пржевальский решил посвятить исследованию северной горной ограды Тибета.
Этот громадный горный барьер, именуемый Куэнь-лунем, протянулся по долготе на 43½° (4350 километров). Один географ назвал его «позвоночным столбом Азии». Многочисленные хребты, его составляющие, не только продолжают друг друга с запада на восток, но и образуют параллельные горные гряды, которые встают одна за другой перед путешественником, переваливающим через Куэнь-лунь с севера на юг.
Предшествующие исследования Пржевальского в центральной части Куэнь-луня увенчались открытием хребтов Гумбольдта, Риттера, Марко Поло, Южно-кукунорского, Южно- и Северо-тэтунгского и других. В результате этих исследований впервые была создана ясная картина обширной горной области от северных склонов Нань-шаня на севере до южных склонов Тан-ла на юге — на протяжении 8° (или 800 километров по широте) и от восточной окраины Нань-шаня близ города Дацзин на востоке до перевала через Тан-ла близ реки Тан-чю на западе — на протяжении 10° (или 1000 километров по долготе).
Теперь Пржевальский решил исследовать неведомую западную часть Куэнь-луня на всем ее громадном протяжении (17° по долготе). Двигаясь вдоль северных склонов тех горных хребтов, которые составляют Западный Куэнь-лунь, Пржевальский хотел пересечь Цайдам, Лоб-нор, Восточный Туркестан!
26 августа экспедиция выступила из Барун-засака. Караван шел на запад.
Через безводную глинистую пустыню, где лишь изредка попадаются кустики белолозника и бударганы, где бродят одни дикие верблюды да залетают иногда вороны и грифы, — путешественники 20 октября пришли к озеру Гас.
С севера и с юга озеро обступили горы, неведомые до Пржевальского.
Ближайший из северных хребтов, для обозначения которого у местных жителей не было особого имени, Пржевальский так и назвал
К югу от озера Гас высились еще три гряды неизвестных гор — окраина Тибетского нагорья. Туда и направился Пржевальский.
Факсимиле маршрутной съемки Пржевальского. Путь через горы Северного Тибета.
Оставив в 40 километрах от озера, в урочище Чон-яр, большую часть каравана под охраной семи казаков, Пржевальский с остальными людьми двинулся на юг.
По долине, в которой постоянно бушуют ветры и бури, путешественники подошли к подножью гор. Долину эту Пржевальский назвал
Отсюда, ущельем реки Зайсан-сайту, караван стал подниматься на горную окраину Тибета.
Это ущелье перерезает пополам обширную гряду гор. Хребет, который тянется от Зайсан-сайту на восток — к Цайдаму, — Пржевальский назвал
Вечно-снеговой, сплошь покрытый ледниками хребет, идущий от Зайсан-сайту на запад, Пржевальский назвал в честь великого русского города —
Дальше к югу встал перед путешественниками новый громадный хребет, параллельный Цайдамскому. Пржевальский назвал его именем
Вся эта местность была совершенно бесплодна, дичи почти не попадалось. Люди недоедали, караванные животные страдали от бескормицы. Съемку приходилось делать под леденящим встречным ветром, от которого болели глаза, ломило голову.
Наконец путешественники перевалили на нагорье Тибета. Посреди обширной голой равнины перед ними раскинулось озеро. Хотя морозы достигали 34°, озеро, к удивлению путешественников, не было покрыто льдом. Его назвали
Более чем в ста километрах к юго-западу от озера высилась обширная вечно-снеговая гряда. Этот хребет Пржевальский назвал первоначально «Загадочным», потому что видел его лишь издали и нанес на карту только приблизительно. Но после возвращения Николая Михайловича из путешествия, решением Русского географического общества этот хребет был назван именем
В горах путешественники встретили новый 1885 год. Встретили скромно, но зато «с радостным сердцем, ввиду уже исполненного за год истекший и с лучшими надеждами на успехи в году наступающем».
Исследовав и нанеся на карту один из самых неведомых районов Центральной Азии, Пржевальский и его спутники 11 января 1885 года вернулись в урочище Чон-яр.
Чон-яр лежит почти на меридиане озера Лоб-нор. Если бы удалось отыскать прямой путь отсюда к Лоб-нору через Алтын-таг, то этот кратчайший путь из Западного Китая в Восточный Туркестан явился бы немаловажным открытием. Первыми выиграли бы от нового открытия сами путешественники — сберегли бы время и силы в пути на Лоб-нор.
Пржевальский снарядил разъезд на север — в горы Алтын-тага. «Верный мой сподвижник урядник Иринчинов и казак Хлебников, — говорит Пржевальский, — назначены были на такое важное для нашей экспедиции дело».
Иринчинов и Хлебников отправились на верблюдах, продовольствия они взяли с собой на две недели. Ночевать казаки должны были под открытым небом…
Прошло двенадцать суток. Вернулись, наконец, из дальнего разъезда Иринчинов и Хлебников. Они принесли радостную весть: путь к Лоб-нору найден!
Немало потрудились казаки, чтобы отыскать этот путь. На протяжении более 50 километров по гребню Алтын-тага они излазили все ущелья. Сколько раз, уже перевалив на другую сторону хребта, они натыкались на непреодолимые препятствия и опять возвращались обратно. Наконец-то напали на истинный путь и прошли его до самого выхода из гор Алтын-тага…
«Счастье вновь послужило нам как нельзя лучше, — говорит Пржевальский. — Найденная тропа через Алтын-таг отворяла теперь для нас двери в бассейн Тарима, да притом в ту его часть, где еще не бывали европейцы от времени знаменитого Марко Поло».
Перевалив через Алтын-таг по тропе, которую отыскал Иринчинов, Пржевальский 28 января 1885 года вышел к южному берегу озера, открытого им восемь лет назад.
Лобнорцы узнали Пржевальского, Иринчинова, Юсупова, обрадовались старым знакомым и вынесли им только что испеченный хлеб.
На Лоб-норе Пржевальский провел всю раннюю весну 1885 года. Русский ученый подробнее, чем раньше, исследовал теперь этот мир, который он открыл.
Картина быта и нравов лобнорцев, нарисованная Пржевальским в его книге о четвертом путешествии, проникнута большой симпатией к миролюбивому, гостеприимному племени и глубоким сочувствием к вечной его нужде, к его постоянной тяжелой борьбе за существование.
Может быть, наиболее яркое представление о нищете лобнорцев дает песня, прославляющая необыкновенное «богатство» величайшего лобнорского «богатея» — племенного старшины лобнорцев Кунчикан-бека, так же порабощенного и так же разоряемого богдоханскими властями, как и все они. Эту песню Пржевальский сам записал и снабдил примечаниями, полными сочувственного юмора:
«Кунчикан-бек, восходящее солнце, солнце наш господин! Облагодетельствовал ты весь мир. Как голос ласточки, ты лелеешь слух всех. Запер ты в своем загоне тридцать лошадей-меринов (налицо всего одна кляча). Во дворе твои бараны, — что может сравниться с ними! Когда работники пашут твои пашни, никто проехать не может (смысл — так обширны пашни, в которых всего несколько десятин). Живешь ты в большом богатстве (все имущество Кунчикан-бека в 1885 году состояло, кроме нескольких сетей и лодок, из десятка баранов, 1 лошади, 2 коров и 3 ослов; наличными деньгами было 1½ лана — 4½ рубля, но и те пришлось отдать в уплату податей)» и т. д.
На месте стоянки Пржевальский дважды произвел астрономическое определение широты и долготы этого пункта, наблюдал весенний пролет птиц, охотился, изучал климат, растительный и животный мир Лоб-нора. Тем временем Роборовский сделал множество фотографических снимков, на которых запечатлел жителей и природу страны.
20 марта 1885 года экспедиция выступила из Лоб-нора на юго-запад. Все население ближайших деревень собралось проститься с русскими, а Кунчикан-бек отправился проводить их до ближайшего поселения.
Двигаясь то по голым бесплодным равнинам, то по зарослям густого кустарника, то по сыпучим пескам, путешественники в середине апреля пришли в Черченский оазис.
Отсюда путешественники повернули прямо на юг — к видневшемуся впереди неизвестному горному хребту.
Сделав по жаре безводный переход в 90 километров, с подъемом в 1500 метров, экспедиция 27 апреля достигла подножья гор.
«Новый хребет, — говорит Пржевальский, — тянется отсюда на 400 слишком верст (более 425 километров) к западу — юго-западу до прорыва Кэрийской реки.
Пользуясь правом первого исследователя, я назвал вновь открытую цепь гор —
На всем своем протяжении этот хребет служит оградою высокого Тибетского плато к стороне котловины Тарима. Наиболее высокая, вечно-снеговая часть хребта лежит в западной его окраине между реками Чижган и Кэрийской. Вблизи последней высится громадная покрытая ледниками вершина, поднимающаяся выше 20000 футов» (выше 6000 метров).
Караван Пржевальского шел теперь на запад, вдоль подножья новооткрытого Русского хребта, по ущельям рек, берущих начало в его горах, по склонам самих гор.
Придя в конце мая в оазис Ясулгун, путешественники отпраздновали здесь шестую тысячу верст (6400 километров) пути от Кяхты.
Ясулгун — прекрасный островок среди дикой пустыни. Селение расположено на берегу пруда, обсаженного ивами и тополями. При саклях разведены небольшие сады, в которых растут абрикосовые и шелковичные деревья.
«Деревенская жизнь, — пишет Пржевальский, — шла при нас обычным чередом. Женщины хлопотали по хозяйству, мужчины осматривали поля, исправляли арыки, копались в садах, ребятишки бегали нагишом, валялись, играли (замечательно, что ребятишки в Восточном Туркестане играют, устраивая маленькие арыки, примерные пашни и водяные мельницы, — словом, будущий земледелец виден уже в ребенке), иногда же и дрались между собою, притом словно обезьяны лазили по сучьям шелковицы, доставая ягоды. Возле сакель резвились ласточки, чирикали воробьи, ворковали голуби, пели петухи, клокотали наседки с цыплятами. Словом, сельская жизнь здесь та же, что и у нас».
Четвертое путешествие в Центральной Азии в 1883–1885 гг.
В Ясулгуне путешественники пробыли пять суток и за это время успели подружиться с местными жителями — добродушными, приветливыми мачинцами. По вечерам казаки пели песни и играли на гармони. Игра эта везде очень нравилась жителям Восточного Туркестана. Слух об удивительном музыкальном инструменте шел далеко впереди путешественников, и выезжавшие навстречу местные власти прежде всего просили дать им «послушать музыку».
От зоркого сочувственного взгляда Пржевальского не укрылась горькая нужда обитателей красивого оазиса.
«Как ни очаровательны с виду все вообще оазисы, в особенности при резком контрасте с соседней пустыней, но в бóльшей части из них бедность и нужда царят на каждом шагу», — говорит Пржевальский. «На семью в 5–6 душ едва ли придется 1½—2 десятины земли; обыкновенно земельный надел еще меньше. Множество семейств принуждено бывает перебиваться изо дня в день с весны до новой жатвы. К столь незавидной доле следует еще прибавить полную деспотию всех власть имущих, огромные подати, эксплоатацию кулаков, — чтобы понять, как несладко существование большей части жителей оазисов даже среди сплошных садов их родного уголка. И еще нужно удивляться, как при подобной обстановке, лишь немного видоизменяемой в течение долгих веков, не привились к населению крупные пороки, — например, воровство, убийство и т. п.»
1 июня экспедиция вышла из Ясулгуна. Двигаясь на запад по предгорью Русского хребта, экспедиция 16 июня достигла того места, где горы прорывает река Кэрия.
Участники четвертой Центральноазиатской экспедиции Пржевальского.
Бивуак Пржевальского на Лоб-норе.
Здесь кончается Русский хребет и начинается новый. Крутой неприступной стеной, покрытой вечными ледниками и снегом, поднимается он до высоты 5000–6000 метров. Пржевальский назвал этот хребет —
В деревне Полу, расположенной в предгорьях Кэрийского хребта, Пржевальский провел несколько дней. Еще до его прихода власти, как уже случалось не раз, постарались запугать жителей слухами о чинимых русскими грабежах и насилиях. Полусцы так встревожились, что поспешили спрятать своих женщин и лучшие вещи в горах. Но приветливое, дружеское обращение путешественников разогнало все их страхи. Русские сразу расположили полусцев к себе.
«Дружба наша с жителями Полу, — рассказывает Пржевальский, — вскоре возросла до того, что они дважды устроили для казаков танцовальный вечер с музыкой и скоморохами. На одном из таких балов присутствовал и я со своими помощниками. Местом для залы избран был просторный двор сакли и устлан войлоками. Музыка состояла из инструмента вроде гитары, бубна и простого русского подноса, в который колотили по временам. Все гости сидели по бокам помещения; для нас были отведены почетные места. На середину выходили танцующие — мужчина и женщина. Последняя приглашается кавалером вежливо, с поклоном. Наши казаки также принимали участие в общем веселье и лихо отплясывали по-своему под звуки гармони; инструмент этот приводил слушающих в восторг. В антрактах танцев появлялись скоморохи: один наряженный обезьяною, другой козлом, третий, изображавший женщину верхом на лошади: выделывали они очень искусные штуки. Сначала наше присутствие немного стесняло туземцев, которые даже извинялись, что их женщины не могли хорошо нарядиться, ибо лучшее платье, вследствие наветов, далеко спрятано в горах; потом все освоились и веселились от души».
Дальнейший путь экспедиции пролегал в верхнем поясе предгорий — по крутым увалам, через глубокие пади.
Непрерывно лили дожди. Вода в реках прибывала. Опасно было переходить через стремительные горные потоки, с грохотом мчавшиеся по дну ущелий. Намокшие вьюки становились еще тяжелее, отсыревший аргал не горел. Не раз лошади оступались на скользких узких тропинках и скатывались в пропасть. Одна из них при падении разбилась насмерть.
В палатках постоянно было мокро, одежда путешественников никогда не просыхала, ночью часовые промокали до костей, а по утрам стояли заморозки, шел снег и приходилось кутаться в шубы.
23 июля экспедиция достигла западной оконечности Кэрийского хребта — урочища Улуг-ачик. Отсюда, круто повернув, Пржевальский двинулся через пустыни и оазисы Восточного Туркестана прямо на север — к горам Тянь-шаня. Это был путь на родину.
Вечером 28 октября 1885 года, ущельем Уй-тал, путешественники вышли к подножью гор, по гребню которых проходит русско-китайская граница.
Позади остались 7500 километров пути через пустыни Центральной Азии. В ящиках и вьюках верблюды везли драгоценную научную добычу: планшеты, на которые был нанесен маршрут через неведомые прежде страны, путевые дневники, фотографии, громадные коллекции животных и растений.
Почетное место в этих коллекциях занимали новые виды птиц, ящериц, млекопитающих, открытые Пржевальским и его помощниками, — «песчанка Пржевальского», «геккончик Пржевальского», «вьюрок Роборовского», «круглоголовка Роборовского», «завирушка Козлова», «жаворонок Телешова», «аргали далай-ламы»; новые виды рыб — расщепохвостов, губачей, маринок, гольцов, лобнорский «тазек-балык», «гольян Пржевальского»; новые виды растений — «камнеломка Пржевальского», «кашгарская реамюрия Пржевальского», «очиток Роборовского», «тибетская осока», «тибетский твердочашечник», «монгольский козелец», новые виды хохлатки, анемона, горечавки и много других.
Утром 29 октября путешественники начали свое восхождение на Бедель. Перевал лежит на высоте 4100 метров. Подъем и спуск продолжались семь часов. Спускаться приходилось по глубокому снегу, покрытому ледяной корой. Двое казаков сводили поодиночке каждого верблюда, поддерживая его веревками.
Наконец последний верблюд спустился.
Путешественники были на родине, в нескольких десятках километров от города Каракола. Четвертое путешествие Пржевальского в Центральной Азии закончилось.
В тот же день Пржевальский отдал по экспедиционному отряду следующий, прощальный приказ:
«Сегодня для нас знаменательный день: мы перешли китайскую границу и вступили на родную землю. Более двух лет минуло с тех — пор, как мы начали из Кяхты свое путешествие. Мы пускались тогда вглубь азиатских пустынь, имея с собою одного лишь союзника — отвагу; все остальное стояло против нас: и природа и люди. Вспомните — мы ходили то по сыпучим пескам Ала-шаня и Тарима, то по болотам Цайдама и Тибета, то по громадным горным хребтам, перевалы через которые лежат на заоблачной высоте. Мы жили два года, как дикари, под открытым небом, в палатках или юртах, и переносили то 40-градусные морозы, то еще большие жары, то ужасные бури пустыни. Вспомните, как на нас дважды нападали тангуты в Тибете. Но ничто не могло остановить нас. Мы выполнили свою задачу до конца — прошли и исследовали те местности Центральной Азии, в большей части которых еще не ступала нога европейцев. Честь и слава вам, товарищи! О ваших подвигах я поведаю всему свету. Теперь же обнимаю каждого из вас и благодарю за службу верную — от имени науки, которой мы служили, и от имени Родины, которую мы прославили».
Вместе с радостью при возвращении на любимую родину Николай Михайлович испытал и сильную грусть. Ее вызывала мысль о том, что близится старость и что это путешествие — быть может, последнее.
Из ближайшего к границе города — Каракола — навстречу знаменитому путешественнику вышли местные власти, офицеры, чиновники, чтобы торжественно чествовать его. В походной палатке пили шампанское, а после веселого завтрака Николай Михайлович сделал в своем дневнике печальную запись:
«Сегодня окончилось четвертое мое путешествие по Центральной Азии. Ровно два года провели мы в пустынях вдали от всего цивилизованного мира. Но мила и сердцу дорога свободная странническая жизнь. Как в прежние разы, так и теперь, жалко, больно с нею расставаться — быть может, надолго, если только не навсегда. Тяжело подумать о последнем, но годы налегают один за другим и, конечно, наступит время, когда уже невозможно будет выносить всех трудов и лишений подобных путешествий».
15 ноября Николай Михайлович выехал из Кара-кола. Во второй половине января он был в Петербурге.
Приказом от 22 января 1885 года полковник генерального штаба Пржевальский был произведен в генерал-майоры и назначен членом Военно-ученого комитета.
Вся Россия гордилась Пржевальским. Научные общества избирали его своим почетным членом, города — своим почетным гражданином. Русское географическое общество приняло решение назвать в честь великого путешественника открытый им громадный вечно-снеговой хребет «Загадочный»
Заслуги путешественника, положившего начало новой эпохе в истории исследования Центральной Азии, не могли не признать во всем мире. Одно за другим научные учреждения и ассоциации разных стран избирали Пржевальского своим почетным членом, награждали его золотыми медалями (это не мешало иным европейским его почитателям на отчетных картах своих экспедиций копировать карты Пржевальского, не упоминая его имени).
Как и прежде, Пржевальский считал, что успехом экспедиции он обязан главным образом своим спутникам. За два дня до получения генеральских эполет он писал в рапорте Главному штабу, что большая часть заслуг «принадлежит не мне, а моим сподвижникам. Без их отваги, энергии и беззаветной преданности делу, конечно, никогда не могла бы осуществиться даже малая часть того, что теперь сделано за два года путешествия. Да будет же и воздаяние достойное подвига».
Благодаря хлопотам Пржевальского, все его спутники без исключения были награждены военными орденами, получили они также и денежные награды.
Жизнь светско-чиновничьего Петербурга всегда тяготила Николая Михайловича. «Общая характеристика петербургской жизни, — говорил он, — на грош дела, на рубль суматохи». Но никогда не было ему так тяжело в Петербурге, как теперь, в страшные годы реакции.
Засадив Роборовского готовиться в Академию генерального штаба, а Козлова определив в юнкерское училище, Пржевальский поспешил уехать к себе в Слободу. С собою он взял казака Телешова, с которым очень подружился.
В Слободе они вместе охотились целыми днями и неделями. «Среди лесов и дебрей смоленских, — писал Николай Михайлович, — я жил все это время жизнью экспедиционной, редко когда даже ночевал дома — все в лесу». В марте начали цвести привезенные и посаженные Николаем Михайловичем хотанские дыни.
Но ни прекрасная охота, ни удачные опыты пересадки азиатских растений в родную Смоленщину не могли заглушить гнев и печаль, которые вызывала в нем окружающая действительность.
«В общественной жизни в деревне такая неурядица, — писал Пржевальский из Слободы одному из своих корреспондентов, — каких, нигде не встречал я в самых диких ордах Центральной Азии…»
Среди обширной корреспонденции, стекавшейся в Слободу со всех концов мира, Николай Михайлович 15 апреля 1886 года получил письмо, в котором непременный секретарь Академии наук К. С. Веселовский без всякого объяснения причин обращался к Пржевальскому с просьбой, показавшейся ему довольно странной: как можно скорей снять с себя фотографию, непременно в профиль, без ретушовки, и прислать ее в Академию наук.
Считая неудобным просить разъяснений у самого Веселовского, Николай Михайлович написал академику А. А. Штрауху, с которым его связывали 15 лет совместной работы (Александр Александрович принимал участие в подготовке к печати трудов всех экспедиций Пржевальского, обрабатывал привезенные им коллекции пресмыкающихся и земноводных).
«Зачем портрет, зачем в профили и так скоро?» — с недоумением осведомлялся Николай Михайлович. Он писал, что в ближайшее место, где можно сфотографироваться, то есть в Смоленск, сейчас нельзя проехать из-за весенней распутицы. «Спросите у К. С Веселовского, — просил он Штрауха, — не годен ли будет портрет на две трети поворота головы, снятый теперь в Петербурге; такой у меня есть и я могу его прислать».
Ответ Штрауха только убедил Николая Михайловича в том, что от него что-то скрывают. Штраух писал, что портрет в две трети поворота головы «для нашей цели не годен, а требуется портрет в полной профили. Надеюсь, что вы не откажетесь съездить в Смоленск к фотографу и доставить нам необходимый портрет в течение мая или, самое позднее, в течение июня месяца, а то нашему художнику нехватит времени исполнить ту вещь, для изготовления которой именно нужен портрет. Что это за вещь, вы, вероятно, давно отгадали».
Николай Михайлович не только не отгадал, но у него не явилось даже и смутных предположений по этому поводу. Однако он не стал больше ломать себе голову над разрешением вопроса, зачем понадобился Академии наук его портрет «в полной профили». Ему было не до того: правительственной телеграммой от 20 мая Пржевальский, в качестве знатока центральноазиатских стран и Дальнего Востока, был вызван в Петербург для участия в работе особого комитета по обсуждению мер на случай войны в Азии.
В 1886 году усиление японских позиций у русских и китайских границ (в Корее) и намерение Англии занять порт Гамильтон (Корейский архипелаг) создавали угрозу войны на Дальнем Востоке.
Совещание в Петербурге продолжалось несколько дней. К мнению Пржевальского внимательно прислушивались.
В Петербурге Николай Михайлович получил разгадку «тайны портрета». Он узнал, что 3 мая в общем собрании Академии наук семь видных академиков сделали следующее заявление:
«Экспедиции Николая Михайловича Пржевальского в Центральную Азию составляют одно из самых выдающихся явлений в истории ученых путешествий вообще. Первым из европейцев наш знаменитый путешественник проник в самый центр высокой нагорной Азии. Там он произвел целый ряд крайне важных открытий и исследований, поставивших имя его наряду с именами знаменитейших путешественников всех времен и народов.
Страны Центральной Азии исследованные Н.М. Пржевальским в 1879–1885 гг.
Мы полагаем, что Академии надлежит выразить неутомимому путешественнику особенную признательность и потому предлагаем конференции для этой цели выбить в честь Пржевальского золотую медаль, на лицевой стороне которой изобразить портрет путешественника, с надписью вокруг: «
Заслушав это заявление, Академия наук в общем собрании постановила ходатайствовать перед правительством о разрешении поднести Пржевальскому такую медаль. Разрешение было вскоре получено.
Для изготовления этой медали и понадобился портрет Николая Михайловича «в полной профили».
29 декабря 1886 года, на годовом торжественном собрании Академии наук, великому путешественнику была преподнесена выбитая в его честь медаль. Вручая ее Пржевальскому, непременный секретарь Академии Веселовский произнес речь, которая часто потом цитировалась биографами путешественника.
«Есть счастливые имена, которые довольно произнести, чтобы возбудить в слушателях представление о чем-то великом и общеизвестном. Таково имя Пржевальского. Я не думаю, чтобы на всем необъятном пространстве земли Русской нашелся хоть один сколько-нибудь образованный человек, который бы не знал, что это за имя».
«Имя Пржевальского, — сказал в заключение своей речи Веселовский, — будет отныне синонимом бесстрашия и энергии в борьбе с природою и беззаветной преданности науке».
Эта речь произвела на Николая Михайловича неожиданное впечатление.
— Вот прекрасный некролог для меня и готов, — повторял он.
Разгадку этих слов Николая Михайловича можно найти на страницах его последней книги. Открывается книга обширным наставлением для будущих путешественников — «Как путешествовать по Центральной Азии». Эта глава — обобщение всего опыта Пржевальского. Здесь он отчетливо высказал те соображения, которые тогда, на собрании, привели его к мысли о «некрологе».
«В путешествие можно пускаться только крепкому человеку, иначе он пропадет без пользы. Да и на сильный организм напряженные труды многих лет путешествий неминуемо кладут свою печать и, рано или поздно, «укатают лошадку крутые горки». Поэтому, — пишет Пржевальский, «пускаться вдаль следует лишь в годы полной силы». И тут же делает замечательную оговорку: «
Иными словами, Пржевальского попрежнему непреодолимо влекло ко все новым странствованиям и исследованиям, а прежней уверенности в своих силах у него уже не было.
Хотя известный терапевт — профессор А. А. Остроумов слазал Пржевальскому: «Ваш организм работает отлично», — тем не менее Николай Михайлович лучше, чем врачи, знал, что «крутые горки» уже укатали его. «Твоя весна еще впереди, — писал он Козлову в 1886 году, — а для меня уже близится осень».
Но без заветного дела жизнь была ему не в жизнь. «Простор в пустыне — вот о чем я день и ночь мечтаю».
Для Пржевальского исследование далеких неведомых стран было не только профессией, оно было страстью. Между личностью путешественника, предметом его исследований и условиями его исследовательской работы существовала связь, которая самому Пржевальскому казалась неразрывной. Его неудержимо влекло к грандиозной, дикой природе Азии, к новым странствиям, к непрерывной смене впечатлений, к борьбе со стихиями и с врагами, в которой победу давали выносливость, находчивость, храбрость. Сама жизнь путешественника притягивала Пржевальского не меньше, чем новые научные открытия и, конечно, больше, чем почести и награды, которые его открытия доставляли ему.
Пржевальский в 1886 году.
Выставка коллекций Пржевальского. С журнальной иллюстрации того времени.
Пржевальский был человеком одной страсти. Если рассуждать с точки зрения людей, не одержимых одной всепоглощающей страстью, то, казалось бы, чего нехватало Пржевальскому для того, чтобы счастливо и с пользой для общества продолжать свою жизнь на родине? Он был академиком, генералом, его окружала громкая слава. Его парадный мундир, который он, впрочем, надевал лишь с величайшей неохотой в особо торжественных случаях, покрывали ордена и медали — русские и иностранные. Он мог бы писать книги и читать курсы по географии и орнитологии, мог бы продолжать обработку зоологических и климатологических материалов своих экспедиций.
Но такая жизнь, сама по себе вполне достойная, была не для Пржевальского. Несколько дней, а иногда и часов покоя, который он называл «бездельем», выводили его из себя. Занятия одной «кабинетной» наукой его тяготили.
«Знать я жребия такого,
Что в затишье не жилец!»
— записал он в своем дневнике.
Для Пржевальского не возникало вопроса: чему посвятить остаток жизни? Душа его принадлежала всецело заветному делу исследования Центральной Азии.
Друзья советовали ему жениться, они хотели видеть его окруженным семьей, детьми. Николай Михайлович писал в ответ: «Не такая моя профессия, чтобы жениться. В Центральной же Азии у меня много оставлено потомства — не в прямом, конечно, смысле, а в переносном: «Лоб-нор, Куку-нор, Тибет и проч. — вот мои детища».
Николай Михайлович вовсе не чувствовал себя одиноким. «Семья» у него была, — именно так называл он свой отряд, своих верных спутников. Пржевальский не раз, как вспоминает Роборовский, «говорил, что больше всего желал бы умереть не дома, а где-нибудь в путешествии, на руках отряда, который он называл
Николай Михайлович мечтал, чтобы воспитанная им с любовью, спаянная дружбой «семья» путешественников не распалась и после его смерти, — чтобы и впредь рука об руку продолжали его сподвижники заветное дело его жизни — исследование Центральной Азии.
— Никогда ни с кем другим не езди в путешествие, — говорил Николай Михайлович Роборовскому. — Второй семьи, такой как наша, не будет, а ехать с кем-нибудь без дружбы — не будет успеха…
Свой дом в Слободе Николай Михайлович обставил так, чтобы все напоминало ему об его путешествиях. У дверей из передней в гостиную стояло чучело огромного тибетского медведя. Над медведем висел портрет Николая Михайловича, изображавший его возвращение с охоты. В столовой по стенам красовались фазаны под стеклянными колпаками. В спальне матрац на железной кровати был набит хвостами диких яков. В саду росли кусты тибетского ревеня, в парниках — хотанские арбузы и дыни. В кабинете рядом с письменным столом стоял шкаф с ружьями. Большая библиотека состояла почти исключительно из книг об Азии.
Среди мыслей о новом путешествии, никогда не покидавших Пржевальского, была одна, которая особенно его преследовала: мечта достигнуть Лхассы — таинственной, недоступной столицы далай-ламы. Сколько раз он избирал ее конечной целью своих путешествий, и сколько раз эта цель оказывалась недостижимой!
«Не удалось дойти до Лхассы!» — писал он в предпоследней своей книге. «В 1873 году я должен был, по случаю падежа верблюдов и окончательного истощения денежных средств, вернуться от верховья Голубой реки; в 1877 году, по неимению проводников и вследствие препятствий со стороны Якуб-бека кашгарского, вернулся из гор Алтын-тага за Лоб-нором; в конце того же 1877 года принужден был, по болезни, возвратиться из Гучена в Зайсан; наконец, в 1879 году, когда всего дальше удалось проникнуть вглубь Центральной Азии, мы должны были вернуться, не дойдя лишь 250 верст до столицы Тибета».
В книге, над которой он работал теперь, в 1887 году, Пржевальский писал, что задачей последнего, четвертого его путешествия «ставилось исследование северного Тибета от истоков Желтой реки до Лоб-нора и Хотана с побочными, если будет возможность, путями, даже до столицы далай-ламы. Однако эта последняя цель опять от нас ускользнула».
И вот он решил предпринять пятое путешествие и достигнуть заветной цели во что бы то ни стало.
«Думаю еще раз сходить в Тибет, посмотреть теперь далай-ламу», — писал он Фатееву. — «Головою ручаюсь, что буду в Лхассе».
2 февраля 1887 года в Петербурге, в Академии наук, открылась выставка зоологических коллекций Пржевальского. Эти грандиозные коллекции, по выражению академика Веселовского «составлявшие сами по себе целый музей», стали для России предметом национальной гордости.
В марте 1888 года Пржевальский закончил описание четвертого своего путешествия.
Ничто больше не удерживало его в Европе.
Пржевальский приехал в Петербург и представил Совету Русского географического общества проект нового путешествия — на этот раз исключительно в Тибет. По расчетам Пржевальского для задуманных им исследований требовалось два года. Исходным пунктом экспедиции он наметил город Каракол в предгорьях «Небесного хребта» (Тянь-шаня), а временем выступления — осень 1888 года. Весну и лето 1889 года Пржевальский намеревался посвятить исследованию Северо-западного Тибета, ранней же осенью двинуться в Лхассу и дальше — в восточно-тибетскую провинцию Кам.
Проект нового путешествия был одобрен Географическим обществом, а вслед затем и правительством, которое решило командировать в Тибет под начальством Пржевальского экспедиционный отряд из 27 человек и ассигновало для этой цели 80000 рублей. Почти в пятнадцать раз больше, чем на первое путешествие!
Русское правительство, более чем когда-либо, было заинтересовано в получении информации о Тибете.
В это время в Сиккиме — небольшом государстве в предгорьях Восточных Гималаев, у границ Британской Индии и Тибетской области Китайской империи происходили военные действия между английскими и тибетскими войсками. Распространение английской экспансии на Сикким угрожало неприкосновенности Тибета. Этим и был вызван конфликт.
Известие о предпринимаемой русскими экспедиции немедленно облетело Европу и вызвало тревогу в британских политических кругах.
Лондонские газеты уверяли, что так как политика всех азиатских держав основана на соперничестве между Россией и Великобританией, то в Тибете уже начинают обнаруживаться симпатии к России. В газетах высказывалось мнение, будто цель экспедиции Пржевальского — поощрить тибетцев к сопротивлению.
Пржевальский еще не успел доехать до Каракола и приступить к снаряжению экспедиции, когда брюссельская газета «Indépendance Belge» уже опубликовала следующее сообщение своего лондонского корреспондента: «Генерал Пржевальский только что отправился из России в Тибет с намерением проникнуть в тибетскую столицу Лхассу. Путешествие генерала Пржевальского предпринимается будто бы исключительно с научной целью. Тем не менее оно сильно беспокоит британских государственных деятелей. В английских политических кругах усматривают в экспедиции генерала Пржевальского политическое, а может быть, даже военное значение. Полагают, что она предпринята с целью создать новые затруднения для Англии. В Лондоне убеждены, что русский генерал, по прибытии в Лхассу, не преминет заключить секретный договор с далай-ламой».
Эти слухи распространялись из Лондона отчасти с целью настроить враждебно по отношению к русской экспедиции богдоханское правительство.
В Пекине отнеслись к новой экспедиции Пржевальского с особенной настороженностью. Путешественнику, который в своих книгах дал столь нелестную характеристику богдоханских властей и господствующих в Небесной империи порядков, сначала отказали в визе на въезд в страну. Но в конце концов, благодаря решительным настояниям русского посланника в Пекине, богдоханское правительство согласилось выдать на имя генерал-майора Пржевальского и сопровождающих его лиц охранный лист.
Сопровождали Пржевальского и на этот раз его верные спутники — Роборовский, Козлов, Телешов, участник четвертой экспедиции солдат-гренадер Нефедов. Козлов, который в предыдущее путешествие отправлялся вольноопределяющимся, теперь состоял в чине подпоручика. Телешов из младшего урядника был произведен в старшие самим Пржевальским.
Перед отъездом из Петербурга Николай Михайлович узнал о том, что спутник всех его прежних путешествий Иринчинов на этот раз не решается отправиться с ним. Иринчинов чувствовал, что сил у него поубавилось и говорил, что если пойдет в экспедицию, то домой не вернется.
Получив это известие, Николай Михайлович задумался.
— Умно Иринчинов сделал, — сказал он. — Умнее меня.
Это замечание он несколько раз повторял в последующие дни Роборовскому и Козлову. Но ореол героя, богатырский вид и обычное самообладание Пржевальского мешали даже самым близким людям понять, что и он тоже чувствует неуверенность в своих силах, что именно это его и тревожит.
Вот как описывает Николая Михайловича в дни подготовки к пятому путешествию известный географ Ю. Шокальский:
«Будучи в то время секретарем Отделения физической и математической географии, и я бывал у Николая Михайловича по делам его снаряжения. Он тогда выглядел настоящим богатырем. Случалось мне присутствовать при его переговорах с разными и немаловажными людьми по предмету тех исследований, какие нужно было сделать в предстоящем путешествии, которые отсутствовали в предшествовавших работах. Можно было любоваться его полному спокойствию в таких случаях, тогда как его собеседник видимо волновался, и Пржевальский, в полном сознании своей нравственной силы, одним своим видом побеждал собеседника».
В июле Николай Михайлович со своими спутниками — Роборовским, Козловым, Телешовым и Нефедовым — в последний раз приехали в Слободу. Отъезд был назначен на 5 августа.
Все вещи отправили на станцию накануне. Утром Николай Михайлович один прошелся по саду, часто останавливаясь и любуясь дорогими ему местами. Потом он пошел проститься со старушкой Макарьевной, которая была безнадежно больна.
— В последний раз! — вскрикнула Макарьевна, увидя Николая Михайловича, и больше ничего не могла сказать.
Пржевальский вернулся в свой кабинет. Когда следом за ним вошел управляющий, Николай Михайлович плакал.
Прежде чем сесть вместе со своими спутниками в любимую обитую кожей тележку без рессор, запряженную тройкой лошадей, Николай Михайлович подошел к одной из колонн слободского дома и написал на ней красным карандашом: «5 августа 1888 г. До свидания, Слобода. Н. Пржевальский». Затем подозвал Роборовского, Козлова, Телешова и Нефедова и велел им написать свои фамилии на этой колонне.
Наконец тележка тронулась в путь. Вскоре Слобода скрылась из глаз…
В Петербурге квартира Пржевальского через несколько дней стала походить на склад. Спутники Николая Михайловича без устали сносили сюда оружие, лопаты, капканы, книги, инструменты, деревянные чашки, ящики, веревки. Под наблюдением Николая Михайловича все это сортировалось, укладывалось, упаковывалось. К середине августа все сборы были закончены.
Николай Михайлович не любил многолюдных собраний, шумных оваций и хотел скрыть день своего отъезда. Несмотря на его старания, все столичные газеты сообщили о дне отъезда знаменитого путешественника. 18 августа на Николаевском (Московском) вокзале собралась громадная толпа, явилось много газетных репортеров.
Когда раздалось последнее «прощайте», и поезд тронулся, Роборовский заметил на глазах у Николая Михайловича слезы. Николай Михайлович смутился и, как бы оправдываясь, сказал:
— Что же! Если вернемся, то снова увидимся со всеми. А если не вернемся, то все-таки умереть за такое славное дело лучше, чем дома.
В Москве Николай Михайлович получил известие о смерти Макарьевны.
«Роковая весть о смерти Макарьевны застала меня достаточно уже подготовленным к такому событию. Но все-таки тяжело, очень тяжело. Ведь я любил Макарьевну, как мать родную», — писал Пржевальский управляющему имением Денисову. — «Прощай, прощай, дорогая» — так скажите от меня на ее могиле… Вместо обильных поповских поминок раздайте бедным (но только самым бедным) крестьянам и крестьянкам нашего имения 100 рублей».
Сначала Николай Михайлович был совершенно подавлен этим горем. Постепенно мысли о будущем путешествии отвлекли его от печальных дум. 24 августа 1888 года, выезжая из Москвы, он радовался предстоящим новым странствиям. В этот день он записал в своем дневнике:
«В 4 часа почтовый поезд Нижегородской дороги повез меня в
Только что законченная (15 мая 1888 года) Закаспийская железная дорога, соединившая Узун-ада на восточном берегу Каспийского моря с Самаркандом, произвела на Николая Михайловича огромное впечатление. 10 сентября, в письме к товарищу по Военно-ученому комитету, Пржевальский писал:
«Эта дорога — совершенное чудо в пустыне. Словно в сказке несешься в вагоне по сыпучим пескам, или по бесплодной и безводной соляной равнине. После первой ночи езды от Каспия является Кизыл-Арват, к вечеру того же дня Асхабад, на завтра утром Мерв и т. д. до Самарканда… Вообще Закаспийская дорога создание смелое и с большим значением в будущем».
Быть может когда-нибудь железные дороги пересекут и те далекие пустыни, через которые он, первым из европейцев, вел свой верблюжий караван!..
27 сентября Пржевальский прибыл в Верный (Алма-Ата), где он должен был выбрать солдат и казаков для своего экспедиционного отряда. Эта забота поглотила его целиком.
Перед Пржевальским выстроился батальон, и он стал вызывать добровольцев. Николай Михайлович в самых сгущенных красках описывал им лишения и опасности экспедиционной жизни, а об усиленном жаловании и будущих наградах умалчивал. После такой речи иные из добровольцев разочарованно отходили. Из оставшихся Николай Михайлович отделял женатых от холостых. Женатых он никогда не брал в экспедицию. Выбирал он людей, никогда не живших в городе, привыкших к суровым условиям существования в глуши. Отбирал самых здоровых, рядовых предпочитал унтер-офицерам. Наилучшим спутником в его глазах был охотник.
1 октября Николай Михайлович с выбранными им людьми выехал в Пишпек (Фрунзе). Здесь он закупал верблюдов и отправлял багаж в Каракол, а на досуге охотился на фазанов.
4 октября Николай Михайлович с Роборовским охотился до ночи и очень удачно. Солдат нес за ним целый мешок фазанов.
«Я убил 15, Роборовский 1», — записал он в своем дневнике.
Днем, разгорячившись на охоте, Николай Михайлович выпил воды из реки Чу. Сырую воду Николай Михайлович пил постоянно, а в своих наставлениях «Как путешествовать по Центральной Азии» писал, что в путешествии нужны прежде всего «не доктор и аптека, а сильные организмы самих участников экспедиции».
Но в этот год даже неприхотливое местное население остерегалось пить воду Чу. Всю зиму здесь свирепствовала эпидемия брюшного тифа.
Вечером 10 октября Пржевальский прибыл в Каракол. Роборовский и Козлов приехали туда на другое утро. Они сразу заметили, что Николай Михайлович после дороги уже успел побриться.
— Да, братцы, — сказал Пржевальский. — Я видел себя сегодня в зеркале таким скверным, старым, страшным, что просто испугался и скорее побрился. — Потом, обращаясь к Роборовскому, прибавил: — Завидую тебе, какой ты здоровый!
Весь день Пржевальский в буквальном смысле слова «не находил себе места»: менял квартиры одну за другой. Одна показалась ему сырой и темной, в другой давили стены и потолок, и даже от той, которую он выбрал после долгих поисков, он в конце концов отказался.
— Здесь мрачно, гадко. Стрелять — ходить далеко. Надо найти место за городом, ближе к горам. Там поселимся в юртах, по-экспедиционному.
Роборовский и Телешов выбрали за городом удобную площадку близ ущелья реки Каракол. 14 октября экспедиция перебралась на бивуак. Место Пржевальскому очень понравилось.
Но на другой день Николай Михайлович чувствовал себя уже совсем больным. Температура у него повысилась. Пригласить врача он отказывался — и так пройдет!
Утром, выйдя из юрты, он увидал сидевшего вдали на косогоре черного грифа. Николаю Михайловичу страстно захотелось убедиться в том, что глаза и руки не изменили ему. Он схватил ружье и выстрелил.
К величайшему восхищению собравшихся неподалеку киргизов гриф покатился убитым. Его принесли к юрте. Николай Михайлович любовался громадной птицей, расправлял ее крылья и перья.
17 октября Пржевальский уже не вставал, ничего не ел, чувствовал сильную боль под ложечкой, в ногах и в затылке. Его лицо пожелтело. Наконец Николай Михайлович согласился послать за врачом. Роборовский немедленно отправился в город и привез врача каракольского городского лазарета И. И. Крыжановского.
Доктор нашел у больного брюшной тиф.
Спутники Пржевальского не раз болели тифом во время путешествий, за тысячи километров от родины, вдали от населенных мест. Пыльцов перенес эту болезнь среди голых песков Алашанской пустыни в 1872 году, казак Гармаев — в горах Цаган-обо, в страшную тибетскую зиму 1879 года. Оба они, еще не оправившись, полубольные, должны были продолжать путь, мучительно трудный даже для их здоровых спутников.
Но Пыльцов и Гармаев были молоды!
«Пускаться вдаль следует лишь в годы полней силы». Эту истину, им самим высказанную, Пржевальский понимал теперь лучше всех.
Николай Михайлович принял прописанные доктором Крыжановским лекарства, но ему становилось все хуже и хуже.
В юрте было холодно, топить ее Николай Михайлович не позволял: блеск огня и дым беспокоили его, а от жары ему становилось дурно. Больной, он лежал не раздеваясь, в меховой одежде, на войлочной кошме, постланной прямо на землю.
Крыжановский считал необходимым срочно перевезти его в город. Но Николай Михайлович соглашался переехать только в такое помещение, возле которого мог бы расположиться весь отряд с багажом и верблюдами. Даже тяжело больной, он не допускал мысли о том, чтобы расстаться со своими спутниками, со своей «семьей».
Городские власти распорядились отвести для путешественников глазной барак каракольского лазарета. Пржевальского перевезли туда в тот же день. На просторном дворе разместились юрты экспедиционного отряда и багаж. Рядом нашлось пастбище для верблюдов.
После переезда Николай Михайлович оживился, но к ночи он стал бредить. Роборовский, Козлов, Телешов, Нефедов не отходили от его постели.
Приходя в сознание, Николай Михайлович твердым голосом говорил им, что скоро умрет.
— Я нисколько не боюсь смерти. Я не раз стоял лицом к лицу с ней.
Видя на глазах своих преданных спутников слезы, Пржевальский стыдил их. Спокойно делал он завещательные распоряжения. Слободу он завещал брату, ружья — Роборовскому и Козлову, свои заметки о млекопитающих и птицах — зоологам Е. А. Вихнеру и Ф. Д. Плеске, обрабатывавшим его коллекции.
— Похороните меня на берегу Иссык-куля. Надпись просто:
А прежде чем его похоронят, Пржевальский просил вложить ему, мертвому, в руки его любимый штуцер, и так — в гробу, с оружием в руках — в последний раз его сфотографировать.
20 октября, около 8 часов утра, Пржевальский, долгое время лежавший неподвижно и бредивший, вдруг поднялся с постели и встал во весь рост. Его друзья поддерживали его.
Пржевальский осмотрелся кругом, потом сказал:
— Ну, теперь я лягу…
Глаза, с постоянной жадностью вглядывавшиеся во все новое, неизвестное, закрылись. Руки, никогда не остававшиеся праздными, державшие то бусоль, то ружье, то перо, были холодны и неподвижны.
Спутники его странствий, герои, не знавшие слабости, горько плакали.
Близ озера Иссык-куль, у подножья Небесных гор, великий путешественник, исходивший тысячи километров азиатских пустынь, кончил свой путь.
На крутом обрывистом берегу целых два дня солдаты экспедиционного отряда копали в каменистой почве могилу. 27 октября, в 8½ часов утра, перед бараком выстроились войска. Гроб повезли на лафете полевого орудия.
Провожавших было много, все шли пешком. На перекрестках дорог всадники-киргизы ждали с обнаженными головами. Солнце пригревало по-летнему, серебрились вершины Небесных гор, в синеве неба реяли грифы-«монахи».
Перед строем войск колесница-лафет подъехала к могиле. Спутники Пржевальского в последний раз подняли гроб и опустили его в землю. Далеко по озеру и окрестным горам разнеслись прощальные залпы орудий.
Над могилой водрузили высокий черный крест, к кресту прибили небольшую доску. На ней Роборов-ский написал:
«
Век, к которому относится деятельность Пржевальского, — это век Лобачевского, Пирогова, Менделеева, Сеченова, Ковалевского, Мечникова, Тимирязева. Эти имена стоят в почетном ряду имен великих ученых мира. Пржевальский среди замечательных путешественников всех народов занимает такое же почетное место.
Географические открытия Н. М. Пржевальского в северо-восточном Тибете.
Он, первым из путешественников, достиг истоков Желтой реки, дважды дошел до озера Лоб-нор, куда до него не добрался ни один европеец, трижды прошел путь срединою великой Гоби, никем до него не пройденный. Неведомые пустыни Восточного Туркестана между Тянь-шанем и Тибетом он пересек трижды, четырежды — пустыни Ала-шаня и Цайдама. Четыре раза достиг он берегов озера Куку-нор, о котором до него географическая наука не располагала достоверными сведениями, четыре раза перевалил через тяньшанскую горную цепь — в центральной, восточной и западной ее частях, и шесть раз — через неведомые до него горы Северного Тибета.
В истории исследования Азии он положил начало новой эре. «Пржевальский своим орлиным полетом, — говорит Семенов-Тян-Шанский, — рассекал самые неведомые части внутренней Азии». И, знакомясь с описаниями и картами его путешествий, ученые того времени, по выражению одного из них, «испытывали чувство, производимое на человека переходом из темной комнаты на яркий солнечный свет».
До путешествий Пржевальского не было в Центральной Азии ни одного астрономически определенного пункта. Он определил астрономически 63 пункта. На карте — там, где до его путешествий всегда изображалась равнина, — появились неведомые прежде горные цепи: Алтын-таг, Хурху. Он открыл громадные вечно-снеговые хребты: Северо- и Юж-но-тэтунгский, Южно-кукунорский, Пржевальского, Гумбольдта и Риттера, Марко Поло и Колумба, Бурхан-будда и Шуга, Баян-хара, Куку-шили, Дум-буре и Тан-ла, Московский и Цайдамский, Русский и Кэрийский. Впервые обозначились точно на карте открытые и исследованные им озера — Лоб-нор, Куку-нор, Незамерзающее, Русское, Экспедиции, реки — Тарим, Черчен-дарья, Хотан-дарья, истоки Желтой реки.
Маршруты четырех его путешествий охватили громадную площадь — от Памира на западе до Большого Хингана на востоке (около 40° по долготе) и от Алтая на севере до Тан-ла на юге (около 16° по широте). Особенно много потрудился Пржевальский над исследованием Северного Тибета и пустынь Восточного Туркестана. «Карта этой части Азии, — говорит академик Н. Ф. Дубровин, — получила новый вид, и без изменений остались лишь некоторые контуры и названия».
Он познакомил европейскую науку с бытом и общественными отношениями народов, до того времени ей неизвестных: лобнорцев, мачинцев, дунган, тангутов, северных тибетцев. Он нарисовал обширную картину национального и феодального угнетения народов Центральной Азии.
«Если бы Пржевальский не оставил никаких других научных результатов путешествий, кроме заметок о различных народностях, — сказал известный антрополог Э. Ю. Петри, — то и тогда он имел бы право на название великого путешественника».
Пржевальский нашел 217 новых видов растений, ранее неизвестных науке, и среди них 7 новых родов. А открытие нового рода уже было редким событием в ботанике.
«Гербарий, — пишет академик К. И. Максимович, — добывался при необыкновенных лишениях и трудностях, в постоянной борьбе с ужаснейшим климатом и отбиваясь от нападений многочисленных вооруженных разбойничьих шаек. Зато получилась единственная в своем роде коллекция».
Пржевальский открыл десятки новых видов животных, среди них — дикую лошадь, дикого верблюда, тибетского медведя.
Географические открытия Н.М. Пржевальского на северной окраине Тибета
Зоологическая коллекция Пржевальского, — говорит академик А. А. Штраух, — «составляет гордость академического музея. Материал этот не имеет себе равного, да наверно и долго еще не будет иметь». Так же важны и наблюдения Пржевальского над жизнью животных. «Как превосходный наблюдатель, — говорит Штраух, — он с педантичной обстоятельностью заносил в свои образцовые дневники все наблюдавшиеся им биологические явления. Так, по раз заведенному плану, из года в год, дополнялись вместе с коллекциями данные, часто неоценимой важности, касающиеся жизни центральноазиатских животных».
Так же важны наблюдения Пржевальского относительно климата Центральной Азии. Вот как отзывается о них классик климатологии А. И. Воейков: «Пока продолжались его путешествия, просвещеннейшие и богатейшие страны Западной Европы соперничали в изучении Африки. Конечно, и изучению климата этой части света было уделено место, но наши знания о климате Африки подвинулись менее трудами этих многочисленных путешественников, чем наши знания о климате Центральной Азии сведениями, собранными одними четырьмя экспедициями H. M. Пржевальского».
Строение земной поверхности изучаемой страны, ее климат, растительный и животный мир Пржевальский постоянно рассматривал в их взаимной тесной связи. Ландшафты, погода, вид и повадки зверей, промыслы жителей, нравы их, — все это в описаниях путешествий Пржевальского складывалось в одну широкую и целостную картину жизни далеких неведомых стран. И с каждым новым его путешествием знания людей об окружающем мир значительно расширялись.
Английский путешественник Гукер, сравнивая своих соотечественников Ливингстона и Стэнли с Пржевальским, вынужден отдать предпочтение великому русскому путешественнику. «Стэнли и Ливингстон, — говорит Гукер, — были отважнейшими пионерами, но они только сумели проложить на карте пройденный путь; для изучения же природы ими ничего не сделано. Один Пржевальский соединил в своем лице отважного путешественника с географом и натуралистом».
«Пржевальский один исполнил то, на что обыкновенно требуются усилия десятков ученых», — говорит П. К. Козлов.
Президент Географического общества СССР академик Л. С. Берг называет Пржевальского «одним из самых замечательных путешественников всех времен и народов» и «величайшим русским путешественником». «Среди других путешественников по Центральной Азии, — говорит Берг, — он отличается своей широкой естественно-исторической подготовкой. Когда читаешь блестящие описания пройденных путей, написанные прекрасным стилем и увлекательно изложенные, сразу видишь, что это вышло из-под пера великого человека».
Пржевальский — великий классик географической науки. За выдающиеся географические открытия правительство СССР награждает советских ученых золотой
Подходя к Пржевальскому «уже не с научной точки зрения, а как к начальнику экспедиции», П. П. Семенов-Тян-Шанский подробно останавливается на «приемах его путешествия и его отношениях к туземным властям и туземцам».
«Нельзя не признать, — пишет Семенов-Тян-Шанский, — что приемы Пржевальского, в тех обстоятельствах и местных условиях, в которых он находился, были единственным залогом успеха его экспедиций и безопасности вверенных ему людей.
Счастливое соединение строгой дисциплины с истинно братской заботливостью о людях, входящих в состав его экспедиций, имело последствием то, что, при всех трудностях и опасностях его путешествий, ни один из его спутников не погиб и все сохранили к нему такое чувство любви, уважения и преданности, какие достаются в удел только немногим.
Гуманным был Пржевальский и по отношению к туземцам. Пржевальский со свойственным его личности обаянием входил обыкновенно в дружеские отношения с ними, везде где только коварные интриги властей, с одной стороны дававших ему как бы предупредительно открытые листы и паспорты, а с другой — возбуждавших против него туземцев тайными предписаниями и неблагонамеренными слухами, не ставили преграды его прямым, всегда добрым и человеколюбивым сношениям с туземцами».
Семенов-Тян-Шанский с полным основанием утверждает, что и по отношению к воинственным тангутам, враждебно встретившим экспедицию, «H. M. Пржевальский действовал можно сказать с рыцарской безукоризненностью. Он не заходил в их гнезда, не вступал с ними ни в какие сношения, не предъявлял к ним никаких требований, но когда они первые нападали на него, действовал против них с тем мужеством и энергией, которые присущи всякому честному бою, и когда они, действуя вооруженной силой, ставили перед ним враждебные засады и преграды, то сокрушал эти преграды отважным приступом.
Совершенно иначе отнесся H. M. Пржевальский к тибетцам, когда они, встретив его мирной толпой, преградили ему путь и от имени правительства страны не пропускали в нее русских путешественников».
Через четверть века после того, как Пржевальский дошел до горы Бумза, в 1904 году, английский «ученый путешественник» полковник Йонхесбенд, говоря словами П. К. Козлова, «улучил удобную минуту, когда единственная держава, которая могла поддержать Тибет, — Россия — оказалась занятой войною» (с Японией). Йонхесбенд вторгся в Тибет с горными войсками и с пушками и устроил кровавую бойню при реке Гуру, где, как сообщает Козлов, «из пятисот тибетцев, предварительно погасивших фитили у своих примитивных ружей, в живых осталось двести человек, спасшихся бегством».
Поведение Пржевальского, относившегося с уважением к тибетскому народу, — полная противоположность действиям английского «ученого путешественника».
«С своею беспредельною отвагою Пржевальский мог бы пробиться через массы, оказывавшие ему не агрессивное, а пассивное сопротивление», — пишет Семенов-Тян-Шанский. «Но здесь человеколюбие — и только одно человеколюбие — не позволило ему прибегнуть к насилию и заставило его отказаться от заветной, любимой, взлелеянной им мечты добраться до Лхассы.
С таким же тактом применялся H. M. Пржевальский к обстоятельствам и в отношении властей в городах Китайской империи и подчинялся их законным, хотя и неблагосклонным для него требованиям».
Пржевальский был врагом отсталого и жестокого феодально-абсолютистского строя Небесной империи, врагом произвола богдоханских властей. Но никогда не был он врагом китайского народа и его культуры. «Пренебрежение Пржевальский высказывал только к существующим ныне, — писал Семенов-Тян-Шанский в 1896 году, — китайским административным порядкам… Администраторы, с одной стороны, коварно создавали русским путешественникам всякие препятствия и затруднения, а с другой — опасались их главным образом потому, что нравственная сила русских заключалась в их обходительности и гуманности по отношению к туземцам».
Пржевальский громко выступал в защиту угнетенных народов Центральной Азии, сочувствовал их освободительной борьбе.
Конфликт между Пржевальским и богдоханскими властями обострялся все больше с каждой новой его экспедицией. Один из современников Пржевальского говорит недвусмысленно о том, какая судьба ждала в Небесной империи беспокойного путешественника: «Я слышал от хорошо осведомленных людей, что если бы он не умер в начале тибетской экспедиции, он, вероятно, все равно не вернулся бы из нее в живых».
Медаль Пржевальского — награда Всесоюзного Географического общества.
С каждой новой экспедицией Пржевальского все враждебней относились к нему также и британские правящие круги, опасавшиеся распространения русского влияния на граничащий с Индией Тибет. Когда в Петербург пришло печальное для всей России известие о смерти Пржевальского, нашелся человек, которому оно доставило радость: это был английский, посол — сэр Роберт Мориер. «У английского правительства, а, следовательно, и у английского посла, словно гора с плеч свалилась со смертью генерал-майора Пржевальского, — писало в те дни, „Новое время“». — Нужно было видеть, в каком нервном состоянии находились английские газеты месяца два назад, когда прошел слух о тибетской экспедиции генерала Пржевальского.
Но какое бы недоброжелательство ни встречал Пржевальский, он неуклонно шел своим путем. Поистине фанатическая жажда все новых научных исследований и открытий выделяет Пржевальского среди всех его собратьев по призванию. И нельзя не признать, что из многих замечательных путешественников, значительно обогативших со времени Пржевальского наши знания о Центральной Азии, ни один в отдельности не достиг таких результатов, каких достиг он.
Пржевальский прорубил окно в неведомую до него науке Внутреннюю Азию, совершил важнейшие в истории ее изучения открытия и проложил сюда пути для последующих русских экспедиций. Сам Пржевальский предвидел, что маршруты его путешествий «в будущем послужат руководящими нитями, которые поведут вглубь Азии более подготовленных, более специальных наблюдателей».
Своими трудами, подвигами и открытиями Пржевальский умножил русскую славу. Но и он обязан России собственной славой.
Мировоззрение Пржевальского сложилось под влиянием передовой русской науки пятидесятых-шестидесятых годов. От русских географов, зоологов, ботаников он в дружеских беседах получал ценные указания для своей практической работы в экспедициях. Для успеха путешествий Пржевальского потрудилось немало его соотечественников: и Ягунов, и Пыльцов, и Эклон, и воспитанные им талантливые путешественники Роборовский и Козлов, и самоотверженные герои-казаки Иринчинов, Телешов, Нефедов и другие. В обработке материалов его экспедиций принимали участие видные деятели русской науки.
После смерти великого путешественника другие русские исследователи и, прежде всего, любимые его ученики продолжали дело, завещанное им Пржевальским.
В 1893–1895 годах центральноазиатскую экспедицию Русского географического общества возглавляет Роборовский. Козлов — его помощник. Оба они уже самостоятельные исследователи. Но книги и карты Пржевальского и теперь повседневно помогают его ученикам в суровом труде путешественников.
Вот Роборовский и Козлов в пустыне Хами. «Дорога, местами совершенно пересыпаемая снегом, терялась, — рассказывает Роборовский, — но, пользуясь составленной по съемке H. M. Пржевальского картой этой местности, мы все-таки благополучно шли вперед и дорогу находили».
Роборовский проник в такие районы, где до него не ступала нога европейца. Он совершил уже немало открытий, а в будущем от него ждали еще большего. Но 28 января 1895 года, в Тибете, в горах Амнэ-мачин, Роборовский был разбит параличом. Это несчастье, постигшее его на тридцать девятом году жизни, навсегда прервало его деятельность путешественника.
Во главе следующей центральноазиатской экспедиции, в 1899–1900 годах, стал Козлов. Через пустыни и горы он сумел проложить себе путь в Юго-восточный Тибет, куда Пржевальскому дойти не удалось. Книга, в которой Козлов описал это путешествие, вышла со следующим посвящением: «Памяти незабвенного своего учителя, первого исследователя природы Центральной Азии, Николая Михайловича Пржевальского — посвящает труды экспедиции П. Козлов».
В 1905–1909 годах Козлов достиг и другой цели, которой не успел достигнуть Пржевальский. «Мечта, взлелеянная в течение многих лет, — пишет Козлов, — наконец, исполнилась, хотя исполнилась отчасти: я всегда мечтал сначала увидеть таинственную Лхассу, столицу Тибета, затем уже ее верховного правителя. Случилось наоборот: не видя Лхассы, я встретился с далай-ламой».
Встреча произошла в Урге. Сюда, в 1904 году, переехал далай-лама, чтобы не попасть в руки англичан, вторгнувшихся в Лхассу.
Далай-лама знал о путешествиях Козлова и о дружественных его отношениях с тибетским населением. Первое свидание русского путешественника с правителем Тибета состоялось 1 июля 1905 года. В продолжение двух месяцев Козлов почти ежедневно виделся с далай-ламой и дружески беседовал с ним.
Возвращаясь из следующей своей экспедиции (в восточно-тибетскую область Амдо), Козлов в начале 1909 года вновь встретился с далай-ламой, на этот раз в Тибете. Далай-лама лишь незадолго до того вернулся в свою страну. Англичане, навязав Тибету договор, жестоко ущемлявший его интересы, еще в конце 1904 года вывели свои войска из пределов страны. Но положение в тибетских провинциях, прилегающих к индийской границе, долгое время оставалось напряженным. Политическую поддержку Тибету оказывала Россия. «Осенью 1908 года, — пишет Козлов, — все тибетские дела были окончены. Китай и Россия сделали все, чтобы обеспечить далай-ламе не только свободный проезд на всем огромном протяжении до Лхассы, но и спокойное пребывание в столице Тибета».
В начале 1909 года далай-лама еще не успел доехать до Лхассы и находился в монастыре Гум-бум. Здесь, 23 февраля, состоялась новая встреча Козлова с правителем Тибета. В Гумбуме, как и в Урге, далай-лама почти ежедневно беседовал с Козловым, а при расставании сказал ему: «Спасибо вам за ваш приезд ко мне. Передайте России чувства моего восхищения и признательности к этой великой и богатой стране. Надеюсь, что Россия будет поддерживать с Тибетом лучшие дружеские отношения и впредь также будет присылать ко мне своих путешественников-исследователей для более широкого ознакомления как с моей горной природой, так и с моим многочисленным населением…»
Первая мировая война, а потом интервенция надолго задержали и осуществление новых путешествий и издание подробного отчета об Амдоской экспедиции. Книга вышла только в 1923 году. Козлову тогда было уже 60 лет. Эпиграфом к книге старый, всемирно известный путешественник взял слова из письма, которое за два года до смерти написал ему учитель его Пржевальский: «Твоя весна еще впереди, а для меня уже близится осень».
В продолжение всей жизни Козлов постоянно помнил своего учителя. Снова и снова возвращался он к воспоминаниям о последних минутах, проведенных вместе с Роборовским и Телешовым у смертного ложа Пржевальского: «Слезы, горькие слезы душили каждого из нас… Мне казалось такое горе пережить нельзя…
Это писалось спустя четверть века после смерти Пржевальского!
Город Каракол, в котором Пржевальский окончил свой путь, переименован в
За городом, на крутом берегу Иссык-куля, у порога Центральной Азии, стоит памятник. Он сложен из глыб тяньшанского гранита. Посередине укреплена бронзовая медаль с изображением Пржевальского. На вершине раскинул крылья над картой Азии бронзовый орел. На карте проложены маршруты походов великого русского путешественника.
Внизу расстилается озеро. За ним встают снежные вершины Небесного хребта.
«Этот величественный ряд закутанных в белоснежные саваны великанов стоит на страже дорогой нам могилы, обозначая собою ту грань русской земли, за пределы которой наш славный путешественник делал свои отважные набеги в почти неведомые до него в научном отношении страны», — говорит Семенов-Тян-Шанский.
Памятник Пржевальскому на берегу Иссык-куля близ города Пржевальска.
«Не бредом больного воображения, — пишет он, — было последнее выраженное дорогим нам усопшим желание быть похороненным на берегах Иссык-куля. Идея, связанная с этим желанием, не только глубокая, но и вполне соответствующая русскому народному складу ума Николая Михайловича. В русском народном творчестве сказочный русский богатырь желает быть похороненным на перепутье, как бы указывая своею могилой на дальнейшие пути тем русским богатырям, которые пойдут вслед за ним.
В этом выражается глубокая и трогательная вера русского народного героя не только в бессмертие его идеи, но и в неоскудение русской земли такими же богатырями, как он».
Как бы ни было почетно само по себе дело путешественника-исследователя, открывателя новых земель, его окружила особым ореолом необыкновенная личность Пржевальского.
Беллинсгаузен, Семенов-Тян-Шанский, Невельской, Потанин, Козлов, Грум-Гржимайло — замечательные путешественники, мы высоко ценим их дела. Пржевальский для нас больше, чем замечательный путешественник. Он — великий ученый и человек подвига.
Нужно было сочетать в себе необыкновенное исследовательское чутье с обостренной наблюдательностью и редкой дальновидностью в понимании научных задач, чтобы неуклонно идти от открытий к открытиям и завоевать для науки обширную область земного шара. Нужна была необычайная целеустремленность в служении Родине и Науке, чтобы и совершать подвиги и вдохновлять на подвиги других людей.
Искусство создает образы, которые становятся нарицательными для обозначения героических характеров. Создает такие образы и сама жизнь, создают их всем обликом своей личности люди, подобные Пржевальскому, — «люди подвига», как назвал их Антон Павлович Чехов.
О Пржевальском и таких, как Пржевальский, Чехов писал:
«Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорство, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое, стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, холоду, тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в науку — делает их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу… Недаром по тем путям, где проходили они, народы составляют о них легенды… Всегда так было, что чем ближе человек стоит к истине, тем он проще и понятнее. Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы своей жизни провел в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятен весь ужас его смерти вдали от родины и его предсмертное желание продолжать свое дело после смерти: оживлять своей могилой пустыню. Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? но всякий скажет: он прав».
Всего себя отдал Пржевальский своим путешествиям, в них нашел он и славу и смерть. Вся жизнь его говорит о том, что мир велик и интересен, что ради познания новых его областей стоит нести труды и лишения, преодолевать препятствия, подвергаться опасностям.
Велик и интересен также и сам человек, открывающий новое, узнающий неведомое, осуществляющий то, что казалось неосуществимым, — человек, для которого невозможное — возможно.
1839 31 марта. Родился в селе Кимборово Смоленской губ.
1855 11 сентября. По окончании гимназии поступил на военную службу.
1856 24 ноября. Произведен в офицеры.
1861. Поступил в Академию генерального штаба.
1863 май Окончил Академию.
1864 5 февраля. Избран действительным членом Русского географического общества (за сочинение «Военно-статистическое обозрение Приамурского края»),
1866 17 ноября. Причислен к генеральному штабу и командирован в Восточную Сибирь.
1867 26 мая. Выехал из Иркутска в уссурийское путешествие.
1869 начало октября. Вернулся в Иркутск.
1869 30 декабря. Получил первую награду — малую серебряную медаль от Русского географического общества.
1870 январь. Приехал в Петербург, где научные результаты его уссурийской экспедиции высоко оценены Русским географическим обществом и Академией наук.
1870 начало августа. Издал свою книгу «Путешествие в Уссурийском крае».
1870 17 ноября. Выступил из Кяхты в первое свое путешествие по Центральной Азии.
1871 25 февраля. Выступил из Пекина.
1871 март — июль. Исследует юго-восточную окраину Гоби.
1871 июль — октябрь. Исследует Ордос и Ала-шань.
1872 начало января. Возвращается в Пекин.
1872 март — октябрь. Вторично пересекает юго-восточную окраину Гоби и Ала-шань, исследует горы Нань-шаня и достигает западного берега озера Куку-нор, открыв по пути горные хребты Южно- и Северо-тэтунгский.
1872 ноябрь — 10 января 1873. Проникает в Северный Тибет до верховьев Голубой реки, открыв по пути горные хребты Южно-кукунорский. Бурхан-будда, Шуга, Баян-хара.
1873 август — сентябрь. Проходит путь до Урги «срединою Гоби».
1873 19 сентября. Вернулся в Кяхту.
1874 начало января. Прибыл в Петербург.
1874 4 февраля. На торжественном общем собрании Русского географического общества прочел доклад о результатах своего первого путешествия в Центральную Азию.
1875 начало января. Издана книга Пржевальского «Монголия и страна тангутов» — описание его первого путешествия в Центральную Азию.
1875 8 января. Получил от Русского географического общества высшую награду — Константиновскую золотую медаль за географические и естественно-научные открытия в Центральной Азии.
1876 12 августа. Выступил из Кульджи во второе путешествие по Центральной Азии.
1876 декабрь. Открыл горный хребет Алтын-таг.
1877 15 января. Первым из европейцев, после Марко Поло, нашел дикого верблюда.
1877 начало февраля. Открыл озеро Лоб-нор.
1877 конец ноября. Прибыл в Зайсанский пост.
1878 23 мая. Прибыл в Петербург.
1878. Издан отчет о втором путешествии Пржевальского в Центральную Азию: «От Кульджи за Тянь-шань и на Лоб-нор».
1878 ноябрь. Избран почетным членом Академии наук.
1879 21 марта. Выступил из Зайсана в третье путешествие по Центральной Азии.
1879 первая половина мая. Открыл в Джунгарской пустыне дикую «лошадь Пржевальского».
1879 июль. Открыл хребты Гумбольдта и Риттера.
1879 сентябрь — октябрь. Открыл хребет Марко Поло, хребты Куку-шили и Думбуре.
1879 7 ноября. Перевалил через хребет Таи-ла.
1879 14 ноября. Остановился у подножья горы Бумза.
1879 2–3 декабря. Вел переговоры с посольством далай-ламы.
1880 январь. Возвращается в Цайдам.
1880 февраль — август. Исследует южный берег- Куку-нора, верховья Желтой реки и горы Нань-шаня.
1880 сентябрь — 19 ноября. Вторично проходит путь до Урги через Ала-шань и «срединою Гоби».
1880 29 октября. Прибыл в Кяхту.
1880 3 декабря. Избран почетным членом Русского географического общества.
1881 7 января. Приехал в Петербург, где торжественно встречен на вокзале русскими учеными, литераторами, членами Географического общества во главе с вице-президентом его П. П. Семеновым.
1881 14 января. Русское географическое общество приветствует Пржевальского на торжественном собрании.
1881 15 марта. В Академии наук открылась выставка коллекций Пржевальского.
1881. Избран почетным доктором зоологии Московского университета, почетным членом С.-Петербургского университета, почетным гражданином С.-Петербурга и Смоленска.
1883. Издана книга Пржевальского «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» — описание его третьего путешествия в Центральную Азию.
1883 21 октября. Выступил из Кяхты в четвертое путешествие по Центральной Азии.
1883 8 ноября — 3 января 1884. В третий раз прошел путь от Урги до Дынюаньина «срединою Гоби».
1884 17 мая. Открыл истоки Желтой реки.
1884 10–13 июля. Открыл озера верхнего течения Желтой реки — Экспедиции и Русское и реку Разбойничью.
1884 26 августа — 13 октября. Пересек Южный и Западный Цайдам до озера Гас.
1884 середина ноября. Послал на поиски прохода к Лоб-нору через Алтын-таг Иринчинова, который и нашел этот проход.
1884 конец ноября. Открыл хребты Безыменный, начало декабря — Чамен-таг, Московский, Цайдамский, Колумба, Загадочный (Пржевальского), озеро Незамерзающее.
1885 январь. Прошел из Цайдама на Лоб-нор новооткрытым путем.
1885 20 марта — 16 октября. Пересек пустыни Восточного Туркестана от Лоб-нора до Аксу, открыв по пути хребты Русский и Кэрийский.
1885 29 октября. Перевалив через Бедель, вернулся в Россию из четвертого путешествия по Центральной Азии.
1886 середина января. Прибыл в Петербург.
1886 22 января. Произведен в генерал-майоры.
1886 29 декабря. Академия наук наградила Пржевальского выбитой в его честь золотой медалью с. надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».
1887 2 февраля. В Академии наук открылась выставка коллекций Пржевальского.
1887 февраль. Постановлением Русского географического общества открытый Пржевальским хребет «Загадочный» назван именем Пржевальского.
1888 август. Издана книга Пржевальского «От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима» — описание его четвертого путешествия по Центральной Азии.
1888 18 августа. Выехал из Петербурга в пятое путешествие по Центральной Азии.
1888 4 октября. Начало болезни.
1888 20 октября. Скончался в городе Караколе (ныне Пржевальск).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Известия Всесоюзного географического общества, № 4–5, 1940. (Статьи к столетию со дня рождения Пржевальского, письма, дневники, фотографии и другие документы к его биографии).
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.