Владимир Карцев
Ньютон
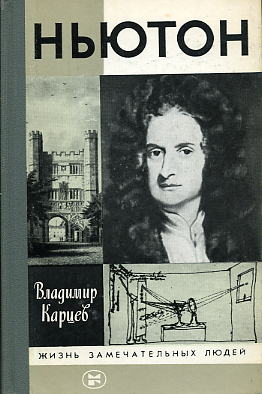
…лишь сила воображения может перенести нас в беспокойный семнадцатый век, на туманный остров, где в яростной схватке встают брат против брата, сын против отца, где рубят на плахах головы несогласным и мечтают о сладостной Утопии, где чума косит людей, а пожары и ураганы — города, но население быстро растёт, и поднимается из строительных лесов громада собора святого Павла; где только что узнали о человеческом кровообращении и вкусили превосходный китайский напиток, называемый китайцами «ча», другими же нациями «тау», иначе — «тее», но продаётся этот изысканный напиток пока лишь в «Голове султанши» близ королевской биржи в Лондоне; где, недоуменно глядя на восходящее дневное светило, заставляют себя верить, что это Земля обращается вокруг него, а не наоборот, где создаётся дифференциальное исчисление, а турок показывают всем желающим за два пенса, всего за два пенса, джентльмены!
В тот вечер, в ту ночь не сияла над вулсторпским Манором Вифлеемская звезда. Не светили с небосклона ни звёзды, ни планеты, ни полная Луна — хозяйка ночи. Туманное, сырое рождество наступало в простывшем Манор-хаусе.
Меж двумя и тремя часами ночи, ближе к утру, крики роженицы — Анны Эйскоу внезапно прекратились; на смену им пришёл слабый звук — может быть, даже не плач, а писк, тонущий в шорохах взбудораженного дома, в беспокойном лае собак, тревожном мычании и блеянии, доносящихся из хлева…
— Мальчик, мальчик, — разнеслось под гулкими холодными сводами. В левую спальню на втором этаже потянулись немногие жители имения — в неверном свете свечей, разгоняющих влажную темноту, можно было признать в них и пастухов, и странников, и волхвов, и правителей; они приходили из темноты и уходили в темноту, как актёры в лондонском театре «Феникс»…
В рождественскую ночь 1642 года[1] в небольшом родовом имении в самом центре Англии, недалеко от старой римской дороги, ведущей от Лондона к заливу Хамбер и далее — на север, появился на свет гений, разгадавший тайны хода светил и самой хозяйки ночи — Луны.
Исаак Ньютон.
Сколько написано о нём статей и книг!
Горы литературы прогибают библиотечные полки. Каждая строчка Ньютона, каждое высказывание, сделанное им, стали предметом изощрённого анализа. Любое движение его мощной мысли прослежено от первого прорастания, от робкого намёка до буйного цветения, до трубного гласа, возвещающего миру о раскрытии очередной тайны природы.
Исследователи спорят с коллегами о деталях, о смысле туманных ньютоновских пророчеств. Пути человеческой мысли неисповедимы, и никто сейчас, через сотни лет, не сможет уверенно утверждать, что всё происходило именно так, а не иначе. Так же дело обстоит и с биографиями гения — они зачастую противоречат друг другу. Будто Ньютонов было несколько. Или прожил он несколько жизней.
Да и возможно ли в принципе построить жизнеописание Ньютона?
Массу затруднений для осуществления такого замысла создал и сам герой нашего будущего повествования. Он был скуп на слова, особенно в том, что касалось обстоятельств его личной жизни. Безжалостно вымарывал из научных трудов всё, что могло бы пролить хоть какой-то свет на его персону. В его письмах — а именно письма есть последняя надежда и бесценное подспорье биографа — лишь изредка всплывает нечто, связанное с реальными обстоятельствами его земного бытия, бореньями его неукротимого духа, томлением его живой природы. Многие тысячи страниц его переписки — это в основном доказательства теорем, отголоски научных споров, подробности академической жизни. Но вдруг мелькнёт между строками сухих математических формул, геометрических построений, физических законов что-то живое, ранимое, как бы воскликнет: я — человек, и всё во мне — человеческое! — мелькнёт неуловимо и снова укроется за крепостными стенами логических схем.
Среди гор написанного Ньютоном, среди горных цепей, образованных работами о нём, сыщем же первые известия о нём — человеке:
«Исаак, сын Исаака и Анны Ньютон, крещён 1-го января 1642/3».[2]
Это — первая строка ньютонианы, и посетители церквушки в Колстерворте близ Грэнтэма в Линкольншире, могут собственными глазами увидеть почти стёршуюся запись — последнюю строку в старинной церковной книге с сильно потрёпанным кожаным переплётом. Ньютон родился за несколько дней до того, как сделана была эта запись, как раз на рождество того года, когда Галилео Галилей покинул этот мир (кажется порой, что сама Природа заботится о том, чтобы цепь гениев не прерывалась).
Он родился в год, когда в Англии началась великая гражданская война. Солдаты Кромвеля, его железнобокие всадники, спешили в штаб-квартиру вождя в Кембридже, и путь их лежал прямо через Грэнтэм. Всеобщая печаль и беспорядок, жестокость и алчность этой великой войны привели к упадку и небольшую деревушку Вулсторп, в нескольких милях от Грэнтэма.
Железнобокие шли по северной римской дороге мимо старинной церквушки в Колстерворте, мимо заколоченных вулсторпских ферм и спалённых хижин, когда-то крытых соломой, мимо заброшенного хозяйского дома, называемого Манор-хаус.
Манор-хаус был, по существу, небольшой крепостью, сложенной из серых известняковых глыб, покрытых облупившейся штукатуркой. Железнобокие обтекали его, как река — утёс, лишь изредка забегая в богатый сад, славящийся яблоками. Узкие окна-бойницы дома смотрят на запад, и тревожные взгляды обитателей сопровождают уходящие гарнизоны.
Имение Манор-хаус в деревушке Вулсторп было совсем небольшим, но владельцы обладали по отношению к его обитателям ничем не ограниченными правами. Здесь был их собственный рыцарский двор, здесь они вершили свой суд. Владелец имел право казнить и миловать. Исаак Ньютон, став хозяином Манор-хауса, тоже будет обладателем этих прав, идущих, как уверял Ньютон, из глубины веков.
— Предки мои благородного шотландского рода. Они верно служили королю Якову Первому и пришли в Англию из Восточного Лотиана вместе с ним, — уверенно рассказывал Ньютон Джеймсу Грегори в 1725 году, за два года до смерти, когда, казалось бы, всё суетное уже должно было потерять для него значение.
Однако, хотя сам Ньютон неоднократно подчёркивал благородство своего происхождения, да и представители некоторых линкольнширских Ньютонов (не всех!) охотно признавали его за своего, никаких доказательств принадлежности Ньютона к линкольнширской знати не найдено.
Скорее наоборот!
Дотошный историк К. Фостер раскопал архивы графства Линкольншир за 1524 год и обнаружил, что Симон Ньютон, первый из твёрдо установленных предков Ньютона, столь же твёрдо стоял на самой нижней ступеньке иерархической лестницы захолустной деревушки Вестби. Он платил самый низкий налог — четыре пенса, в то время как средний налог колебался в пределах от 12 пенсов до 9 шиллингов, а богачи платили и по двадцати фунтов в год.[3] И числился он «землепашцем».
Но Ньютоны, нужно отдать им должное, были трудолюбивы и упорны и, несмотря на полное отсутствие образования, довольно быстро продвигались вверх в своём социальном положении. Если в середине шестнадцатого века они ещё числились «землепашцами», то уже в конце его они называли себя «иоменами» — то есть землевладельцами. Ньютоны всеми способами скапливали буквально по крохам земельные участки и наличные деньги и год от года приумножали своё достояние на фоне всеобщего окрестного разорения.
Потомок Симона Ньютона, Джон Ньютон из Вестби, удачно женившись на девице из знатного рода Эйскоу, прикупил перед своей смертью в 1562 году большую, за сорок фунтов, ферму с землёй — шестьдесят акров[4] пахоты в Вулсторпе для своего сына Ричарда — прадеда Ньютона. Ричард, умирая, оставил, кроме дома и земли, наследство, оцениваемое в 104 фунта, и в том числе полсотни овец, то есть всего вчетверо меньше, чем оставил семье в те времена самый богатый иомен Ланкашира. Его сын Роберт Ньютон, унаследовав вулсторпскую ферму, добавил к ней в 1623 году и вулсторпский Манор — каменный дом-крепость, построенный ещё в четырнадцатом веке. Это был и социальный взлёт, поскольку делал Роберта лордом Манора со всей полнотой власти.
В 1639 году дом перешёл к его сыну, тридцатипятилетнему Исааку, что позволило тому жениться наконец на своей наречённой — Анне Эйскоу, давно вышедшей из расцветной поры. К несчастью, всего лишь через год после вступления в наследство и через полгода после женитьбы Исаак Ньютон-отец скоропостижно скончался и был 6 октября 1642 года похоронен во дворе Колстервортской церкви. Ему не довелось увидеть своего сына.
Об отце Ньютона известно немного. По словам отчима будущего учёного, Барнабы Смита, Исаак-старший был «слабый, странный, диковатый человек». Ни одной своей чертой, ни одним своим талантом и умением не намекнул он потомкам о возможной великой судьбе своего сына. Лишь смерть отца и полученное наследство дали ему возможность получить руку и сердце матери Ньютона — волевой, умной, хотя и бедной женщины.
Джон Кондуитт, муж племянницы Ньютона, Кетрин Бартон, и его помощник по Монетному двору, собрал впоследствии довольно обширные материалы, касающиеся жизни Ньютона. Его дочь и его внук, второй герцог Портсмутский, стали обладателями бесценного сокровища, известного как «Портсмутская коллекция». Лишь относительно недавно, когда бумаги из этой коллекции удалось разобрать, крайне скудные сведения о матери Ньютона были дополнены воспоминаниями Кондуитта:
«Его мать звали Анной, она была дочерью Джеймса Эйскоу из Маркетовертона, графство Ратленд, из семьи, которая в своё время пользовалась большим уважением в тех местах… Один из них построил курьёзное сооружение между Грэнтэмом и Колстервортом. Её мать происходила из рода Блитов из Трансона в Линкольншире, сейчас угасшего, а тогда весьма богатого и уважаемого. Но что имело гораздо большие последствия для её сына, она была женщиной настолько необычной и понимающей, живой и доброй, что для тех, кто готов признать, что для формирования сэра Исаака Ньютона можно было использовать что-то кроме божественной десницы, он мог бы приписать это лишь её влиянию…»
Анна Эйскоу по теперешним стандартам, возможно, не показалась бы слишком учёной женщиной — писала она с немалым трудом, долго и тяжело. И всё же по сравнению с мужем она была заправским грамотеем. Исаак Ньютон-отец не смог бы даже написать своего имени. Его завещание венчает совершенно невразумительная закорюка. А вот брат Анны, Вильям, получивший степень магистра в Кембриджском университете, приходский священник в Бэртон-Когглз, в трёх милях от Колстерворта, не смог бы даже представить себе, чтобы его племянник, подобно «этим Ньютонам», остался бы без образования. Оставаясь в судьбе Ньютона как бы за кулисами, в тени, он, несомненно, сыграл решающую роль в ньютоновском начальном образовании. Не будь его влияния, Ньютон скорее всего остался бы неграмотным, как большинство его кузенов и кузин.
Даже задним числом ни в наследственности, ни в окружении юного Ньютона мы не находим ничего, что могло бы подсказать его великое предназначение. Ньютоны пребывали сугубо на середине социальной лестницы: и по образованию, и по достатку. Не были они ни простонародьем, ни аристократами, ни селянами, ни жителями городскими. И всё же, как камешек к камешку, как их усадебный дом, именно здесь, именно из этих обстоятельств, из этого окружения, из этих людей выковывался его характер, его удивительная личность.
…С самого рождения Ньютону не повезло. Он не только оказался посмертным ребёнком, хотя и спешил — родился преждевременно. Он родился необычайно слабым. Он был так мал, что его можно было бы искупать в большой пивной кружке. Он едва дышал, и головка его безжизненно свисала на жалкую цыплячью грудку — тоненькая шейка не выдерживала её тяжести…
Было ясно: только что появившийся человечек — не жилец на белом свете… Причитала жалобно мать, её успокаивали.
— Быстрее за леди Пакинхем…
Две крестьянки, посланные — скорее для успокоения совести — в соседскую деревушку, чтобы получить совет и помощь у мудрейшей леди, не спешили. Они долго ещё сидели на приступочке дома, жалея бедную мать, мучающуюся сейчас, конечно же, по вине этих Ньютонов — семейства, отличающегося в округе нежизненностью потомства. Леди же Пакинхем признала случай безнадёжным, прийти помочь отказалась и призывала уповать на милость божию…
Когда посланцы вернулись, они были поражены — мальчик ещё дышал, хотя головка его свешивалась столь же безнадёжно и безжизненно (чтобы поддерживать большую и тяжёлую голову юного Ньютона, пришлось впоследствии использовать корсет[5]).
Вопреки опасениям Заморыш не собирался сдаваться.
…И неделю его жизнь висела на волоске. Его побоялись преждевременно крестить; лишь 1 января 1643 года возвещает не только о самом факте крещения младенца, но и о том, что извечное противостояние, борьба жизни и смерти ещё раз закончилась временным поражением костлявой; жизнь победила, вулсторпский росток пробился…
Если бы сила воображения перенесла нас в тот век и мы бы имели возможность пройти с дорожным посохом сквозь тогдашние Уилтшир и Глостершир, побывать в Херфорде и Стаффорде, Дерби и Ноттингеме, и, наконец, в Линкольне и его окрестностях, мы неизбежно пленились бы красотой Вулсторпа.
Он прилепился на западном краю уютной долины, образованной неторопливым, но вечным движением Уитэма. Это небольшая речушка с заросшими осокой берегами, с жёлтыми и белыми кувшинками и даже стрелолистом, повинующимся мягким указаниям воды. С холмов, окружающих долину, открывается живописный пейзаж, рассекаемый колокольнями Колстерворта и Северного Уитэма. Свежий морской воздух смирён здесь душистой мягкостью потоков, поднявшихся с цветущих низин Линкольншира. Здесь дышится полной грудью. Здесь живут наслаждаясь.
А сколь приятно, наверное, скакать верхом по известняковому Кестевенскому плато от Вулсторпа на север, к Грэнтэму! Проносятся мимо мелкие селения и фермы, хлебные нивы с их неизбежными васильками и повиликой, широкие луга, отдающие к вечеру сгустившиеся за день медвяные ароматы. Блеют овцы, укладывающиеся на ночлег. Промелькнёт меловая скала — напомнит о береговых рифах близкого залива и моря, прошуршит под быстрыми копытами гравий покинутого речного ложа, приютит буковая роща, напоит придорожный родник с ледяной хрустальной водой…
Один из таких родников — в самом центре Вулсторпа, от него в сторону Грэнтэма бежит весёлый ручеёк, который, встретившись в дороге со своими собратьями, и образует Уитэм. Здесь, неподалёку от родника с целебной водой, и стоит вулсторпский Манор — сцена первых лет жизненной драмы Ньютона.
В те времена среди линкольнширцев бытовало поверье: дети, родившиеся после смерти отца, обладают особой жизненной силой, которую они способны использовать сами и передавать другим — то есть врачевать. Чудесное выживание Заморыша, родившегося после смерти отца, стало одним из первых доказательств его жизненной силы, его исключительности.
Именно обстановка исключительности — первичная среда молодого Исаака. Когда он смог впервые соткать связь даты своего рождения со смыслом рождества, его слабая душа взволновалась, параллели были очевидны. И он наделил сына божия — Иисуса Христа, собрата своего по рождеству, земными, человеческими, отнюдь не божественными чертами.
Исаак Ньютон-отец оставил жене обширные земли и дом.
— Пусть, — завещал он, — если родится сын, будет он тоже Исааком и продолжит моё дело — дело накопления и умножения поместья, пусть трудом своим он продвигается к богатству и знатному положению.
Отец оставил имущества почти на пятьсот фунтов, в том числе — две с половиной сотни овец — десяток обычных в Линкольншире стад. На наследных лугах нагуливали мясо полсотни быков и коров. Амбары обильно засыпаны солодом, овсом, пшеницей, ячменём. Исаак-отец оставил после себя процветающее имение, приносящее 150 фунтов годового дохода, имение, сохранённое и умноженное им и его отцом Робертом Ньютоном в голодные годы.
Уберечь имение после его смерти было совсем не просто. Время было беспокойное. Крестьянские бунты сменились гражданской войной. Обезлюдели окрестные фермы. Голодные армии бродили по стране, сбивались в яростных схватках. У Марстонских болот близ Йорка встретились друг с другом пятьдесят тысяч воинов. Иной раз армии достигали и втрое большей цифры. Графства объединялись, ставили на своих границах «марширующие армии». Тревожно было в Линкольншире.
Исааку было всего полгода, когда над его головой сгустились новые тучи. Торопливые солдаты покидали Грэнтэм: рядом с городом, у Квинсби, готовилась одна из крупнейших битв гражданской войны. Силы парламента, «круглоголовые», возглавляемые самим Кромвелем, противостояли сторонникам короля — «кавалерам». Позднее Кромвель писал об этом сражении так:
«Как только прозвучал сигнал атаки, мы развернули силы, состоящие из двенадцати частей, некоторые из которых были так плохо оснащены и так потрёпаны, что вряд ли кому удавалось видеть что-либо более жалкое. Но мы положились на милость божию и на мудрость его. Одна армия стояла против другой на расстоянии мушкетного выстрела; драгуны и стрелки палили с обеих сторон примерно с полчаса или чуть больше. Они к нам не приближались. И тогда мы решили сами вызвать их на бой и стали приближаться к ним. Последовал град пуль с обеих сторон, мы поскакали крупной рысью, а они остановились, чтобы встретить бешено на них летящих наших солдат. И божьим провидением они были немедленно окружены, пустились в бегство, а мы преследовали их две или три мили».
Линкольнширцы страдали и от кавалеров, и от круглоголовых. Жители Грэнтэма и окрестных селений — рыцари, эсквайры, джентльмены, иомены — направили жалобу на угнетение и бесчеловечные действия со стороны кавалеров. Кавалеры, по их мнению, давно уже утеряли естественную мягкость, свойственную англичанам и вообще христианам, и по бесчеловечности и жестокости почти уже сравнялись с турками. «На наших глазах поджигают дома наших соседей», — сохранил пергамент вопль негодования и ужаса.
А чуть позже в адрес парламента были направлены уже две жалобы Кромвелю как верховному руководителю нации, подписанные тысячами землевладельцев Линкольншира. Жалобы были на левеллеров — разрушителей собственности; жалобщики просили Кромвеля восстановить законы доброй старой Англии и вернуть те льготы, которыми «наши предки наслаждались ещё до Завоевания и Великой хартии вольностей»
Кругом творилась жестокость, но провидение ещё раз защитило Исаака.
Несколько овец да урожай яблок — вот и вся контрибуция с имения за гражданскую войну. Битвы миновали Манор, Исаак остался жить, хотя оставался ребёнком болезненным и тщедушным.
Судьба, однако, не оставляла попыток сломить его. Когда ему исполнилось два года, его покинула мать. И это событие, видимо, сыграло в жизни юного Исаака драматическую, а некоторые считают даже, что критическую роль.
Началось с того, что мать Ньютона — Анну Эйскоу-Ньютон тайно посетил псаломщик находившейся неподалёку церкви Северного Уитэма. Впоследствии выяснилось, что псаломщик приходил не зря — настоятель церкви преподобный Барнаба Смит решил, что пришло ему время жениться. Кое-кто из паствы горячо советовал ему вступить в брак; он отговаривался. Но когда названо было имя вдовы Исаака Ньютона Анны, преподобный, смутившись, возражал так: если его рука будет отвергнута, ему нельзя будет показаться в приходе. Вот тогда-то один из псаломщиков (за очень умеренную плату) согласился взять на себя деликатную миссию:
— Ради святого дела я готов заранее узнать мнение вдовы Анны!
Вдова не отказала, преподобный сделал предложение и получил официальное согласие. Была назначена свадьба.
Брак Анны Эйскоу мог бы показаться браком по расчёту. Да так оно, видимо, и было. Один из пунктов договора, который по настоянию вдовы был включён в брачное соглашение, гласил, что сын её Исаак при любых обстоятельствах будет иметь доход с принадлежащего ему Вулсторпа, а кроме того, будет получать определённую сумму и от господина Смита, который обязался выделить ему пастбища в Сьюстерне, приносящие 50 фунтов годового дохода. Господин Смит по брачному контракту обязывался также произвести полный ремонт Манор-хауса и расширить его. Свадьба Анны Эйскоу-Ньютон с её новым избранником состоялась 17 января 1645/6 года.
О Барнабе Смите, может быть, следует сказать особо. В многочисленных биографиях Ньютона присутствует благообразный, не слишком молодой, но и не старый — пятьдесят лет — добросердечный пастырь, холостяк, решивший наконец жениться, пекущийся о жене и её сыне и лишь вследствии каких-то неясных причин не желающий взять Заморыша к себе в дом. Историкам понадобилось чуть не триста лет, чтобы найти в аккуратных английских архивах конкретные данные об этом человеке. И обнаружилось, что рождён был он в 1582 году, то есть женился на тридцатилетней матери Ньютона в возрасте шестидесяти трёх лет. Барнаба Смит окончил Оксфордский университет и имел степень магистра. Он был не холостяком, а вдовцом — прежняя жена его покоилась с миром на кладбище Северного Уитэма. Историк Н. Фостер, проведший эти изыскания, подчёркивает, что на могиле его жены не успела вырасти первая трава, когда он женился снова.
С матерью Ньютона Барнаба Смит, будучи в преклонном возрасте, зачал тем не менее троих детей. О нём, кроме записей паспортного характера и мужской силы, известно ещё кое-что. Приход, который имел Барнаба Смит, купил ему у местного лендлорда сэра Генри Пакинхема его отец, священник. Епископский отзыв о новом пастыре немногословен: хорошего поведения, не живёт при церкви, негостеприимен. Доход с имения Северный Уитэм — это тоже подарок любящего отца. При сыне католички Марии Стюарт короле Якове Барнаба Смит служил верно господствующей церкви, нетерпимой к пуританам, а при Кромвеле — самим пуританам. В его шкале ценностей принципы, видимо, не стояли слишком высоко, и это было известно.
Привязанность и любовь между ним и Исааком не возникли и не могли возникнуть. Да и со стороны старшего к этому не было сделано ни малейшего шага.
Мальчик перешёл на попечение родственников. Он, хотя и миновал благополучно первые опасности детского возраста, рос слабым, пугливым, сторонился шумных детских игр.
С тоской оглядывал слабый мальчик живописнейшие окрестности Вулсторпа, и каждый раз его взгляд упирался в шпиль колокольни церкви Северного Уитэма — церкви, недалеко от которой жила теперь его мать и в которой служил его отчим. Вид этой колокольни отравлял ему радость жития на кусочке земли, предназначенном лишь для одного — наслаждения жизнью. Его ничто не радовало, с двух лет он ощущал себя полным сиротой, от которого отказалась мать. Страдания обуревали его нежную душу. Они переходили в глухую злобу, ненависть, даже желание и прямые угрозы сжечь дом Барнабы Смита вместе с его обитателями. А иногда он думал о том, что лишь смерть может прекратить его тоску и страдания. И жаждал смерти.
Исаак был сдан на руки пятидесятилетней бабушке. Бабушка рассказывала ему об окружающем мире — о змеях, усыпляющих жаворонков своим ядом и затем поглощающих их, о дождях, приносящих кузнечиков и лягушек, о старых поверьях линкольнширской земли.
Но — странное дело! — в то время как у обычных детей именно с бабушками связаны самые сладкие воспоминания детства, Исаак никогда не обнаруживал особой нежности к своей прародительнице. Даже её смерть оставила его безучастным. Видимо, никто так и не смог заменить ему отца и мать. Его личность была сломлена, и многие исследователи творчества Ньютона приписывают ему, и не без оснований, свойства крайнего невротика. Будущие его жертвы — Гук, Лейбниц, Флемстид, фальшивомонетчики, посланные им на плаху, — расплачивались, как считали многие, за действительные или мнимые прегрешения непрошибаемого и равнодушного Барнабы Смита. Слабый Исаак неосознанно искал себе покровителей, родственников. Его переполняли фантазии, связанные с его возможным если уж не божественным, то наверняка королевским или рыцарским происхождением. Он исступлённо искал в своей родословной именитых предков, делал при этом безумные предположения, использовал невинные подтасовки фактов, толкуя в свою пользу неясные легенды, совпадения имён и фамилий.
Он чувствовал себя одиноким, хотя окрестности были заселены его родственниками — дядьями, тётками, кузенами и кузинами. И колстервортский дядя, и дядя конторпский, жившие в радиусе всего трёх миль, имели детей — сверстников Исаака. В соседнем Скиллингтоне жили три замужние тётки, все с ребятами, а также родственники по линии Ньютона — Дентоны, Винценты, Кэлби, не говоря уже об обширном семействе Эйскоу. Он не играл со сверстниками не только потому, что не хотел, но и потому, что и они были не слишком хорошо к нему настроены. С ним было неинтересно — он всегда выигрывал в шашки и другие игры, требующие сообразительности. Он их раздражал, придумывая новые игры или новые правила к старым играм, компенсирующие его телесную немощь. А они рано поняли его умственное превосходство и не простили его. Молодому Ньютону не суждено было подружиться ни с кем из этой ребятни, никогда не бегал он в весёлой ватаге, не был участником шумных детских игр.
Так началось его одиночество — от рождения и до смерти.
Не принесли ему удовлетворения и радости школьные дни. Недалеко от Манор-хауса размещались две небольшие школы — в Скиллингтоне и Стоуке. До них можно было дойти пешком. Ньютон посещал обе и учился там до тех пор, пока ему не исполнилось двенадцать. Здесь он выучился чтению, письму, несложным арифметическим действиям.
Вряд ли он проявлял себя вундеркиндом. Локк в одном из писем упоминает о сыне своего приятеля, который в возрасте пяти лет «понимал географию, хронологию и систему мира Коперника, мог говорить по-латыни, знал, как пользоваться глобусом, знал после наблюдения над вскрытием собаки, как устроены живые существа, мог танцевать». Ничего подобного нельзя сказать даже о двенадцатилетнем Ньютоне.
Победы Кромвеля привели к тому, что Линкольншир стал страной «круглоголовых». Здесь царила власть парламента — короля не признавали. Эйскоу были, конечно, кавалерами, а Барнаба Смит слишком богат, чтобы брататься с оборванными солдатами, которые выиграли для Кромвеля его большую битву в Квинсби. Но и тот и другой верно служили любым режимам и не пострадали ни от одного из них. Их не сместили во время революции, а священника Эйскоу — и при Реставрации (преподобный Смит к тому времени скончался), хотя довольно многие священнослужители, связанные с грэнтэмской церковью и школой, где позже учился Ньютон, были изгнаны со своих постов как диссиденты, еретики, сектанты и раскольники.
Почти во всех биографиях Ньютона встречается подтверждение его якобы верноподданнического роялизма. Обычно приводят несколько поэтических строк в память о мученике-короле. Эти строки, как считалось до недавнего времени, были сочинены Ньютоном и написаны его рукой на обороте портрета Карла I. Трудно судить сегодня о глубине роялистских настроений мальчика-Ньютона. Не исключено и такое объяснение: король стал мучеником в его глазах лишь потому, что Барнаба Смит поддерживал противников и судей свергнутого монарха.
Преподобный умер в 1653 году в возрасте семидесяти лет. В завещании нет даже упоминания об Исааке. «Все земли и ценности, движимые и недвижимые завещаю моему единственному сыну Бенджамену, когда ему исполнится двадцать один год или когда он женится, смотря по тому, что наступит раньше». Имение и земли перешли жене Анне согласно брачному контракту, и она тут же перевела их Исааку. С учётом земель и собственности, прикупленной для него матерью во время брака, он становился теперь вполне обеспеченным молодым человеком.
После смерти преподобного Исаак впервые вступил на порог дома в Северном Уитэме. Здесь его прежде всего поразили не четыре серебряных сосуда — гордость дома, а книги. Множество книг! Переплёты дорогой кожи, любовно отделанные славными и уважаемыми мастерами. Тиснение, иногда с золотом. Гладкие пергаментные или шершавые бумажные желтоватые листы, на которых выдавлены строгие буквы. Труды отцов церкви, церковные трактаты, церковная теория. Эти книги хранились в доме Барнабы Смита десятилетиями, перейдя от его отца, тоже священнослужителя. Преподобный сам этих книг не читал и, как утверждали некоторые, вообще не обладал репутацией слишком учёного человека. Но среди книг обнаружена была Исааком и толстая, переплетённая в кожу тетрадь, в которую Барнаба Смит вписывал ходовые изречения, наиболее часто используемые в проповедях.
В тетради напыщенные цитаты из Блаженного Августина, Иеронима, Евсебия, Бернара и Грегори, изложенные в алфавитном порядке, соседствовали с выписками из Плиния. Споры о свободе воли чередовались с размышлениями о духовной и плотской любви. Он оказался совсем не таким уж глупым, необразованным и отнюдь не бесчувственным человеком, и его записи, по крайней мере понимаемые буквально, не свидетельствуют о его предположительной жестокости к пасынку.
Впоследствии, когда эта тетрадь перешла вместе с книгами в наследство Ньютону, он не выбросил её, а, наоборот, очень полюбил, назвал «тетрадью для мусора» и записал в ней первые строки, имеющие касательство к зарождению дифференциального и интегрального исчисления и началу его занятий механикой.
После смерти преподобного мать Анна вернулась домой. Вернулась не одна, а с тремя прижитыми в браке детьми — со сводным братом Бенджаменом двух лет от роду и двумя сестрицами — Мэри четырёх с половиной лет и годовалой Анной. Это был для Исаака период безбрежного счастья — он не отходил от матери, хотя она разрывалась теперь между четырьмя детьми, трое из которых требовали ежеминутного внимания (в латинской тетради Исаака ревнивая запись: «Я должен ублажать своего братца»), и успевала заниматься домом и хозяйством.
Исаак пробыл рядом с ней всего два года. После этого его, двенадцатилетнего, прошедшего курсы наук в деревенских школах в Скиллингтоне и Стоуке, отправили учиться туда, куда устремляется немноговодный Уитэм. В Грэнтэм.
Грэнтэм был оживлённым городком, куда Исаака не раз брали на рынок или в гости. Одной из здешних достопримечательностей была школа, некогда поставленная Ричардом Фоксом, строителем Оксфорда, а другой — церковь с остроконечным шпилем на колокольне чрезвычайной высоты. Бесплатная грамматическая школа, избранная для обучения молодого Ньютона его дядей Вильямом Эйскоу, была весьма почтенным учреждением с трёхвековой историей. Возглавлял её (был её «мастером») прекрасный педагог мистер Стокс.
Школа представляла собой одну большую комнату двадцати пяти ярдов в длину и десяти в ширину. В середине стояла печь. В центре на возвышении сидел учитель, которого именовали «педант» — в то время в этом слове не звучало элемента насмешки. А старший учитель, окружённый мальчиками старшего возраста, сидел обычно у стены.
Неясно, какие предметы изучали в Грэнтэмской школе. По-видимому, главной целью обучения было научить школьников не только хорошо читать по-латыни, но и свободно говорить и писать на этом языке. Латинский язык был важен, ибо он был всеобщим языком церкви и открывал путь к университетской учёности.
В Грэнтэме Исаака поселили в доме аптекаря Кларка рядом с постоялым двором Джорджа, что на Хай-стрит, улице, ведущей на север, к Йорку. В доме было шумно, здесь жили приёмные дети Кларка — дети его жены по фамилии Сторер: два мальчика одних с Исааком лет и девочка — много моложе. Мальчиков звали Эдуард и Артур — имена их навечно сохранились в памяти Ньютона вследствие особой питаемой к ним ненависти. Имя девочки затерялось в памяти Ньютона, хотя это, возможно, была его первая и единственная любовь.
Мать мисс Сторер была приятельницей Анны Ньютон и мечтала о том, чтобы их дети соединились. Позже, гораздо позже Стэкли записал со слов бывшей мисс Сторер, в замужестве госпожи Винцент, воспоминания об Исааке-мальчике.
«Сэр Исаак всегда был тихим, трезвым, разумным мальчиком. Он никогда не играл с мальчиками во дворе и не участвовал в их грубых развлечениях. Он старался оставаться дома, даже среди девочек, и часто делал маленькие столики, чашечки и другие игрушки для неё и её подружек, чтобы они могли складывать туда своих куколок и дешёвые украшения. Она упоминает также сделанную им коляску на четырёх колёсах, в которой он мог сидеть и, поворачивая рукоятку, делать так, чтобы она везла его вокруг дома, если он этого хотел. Сэр Исаак и она таким образом подружились, и он испытывал к ней чувство любви, и она её не отвергала, хотя её доля в этом плане была не очень уж значительной. Став членом колледжа, он уже не мог осуществить своих планов, поскольку это было несовместимо с его положением. Разумеется, он всегда относился к ней с большой теплотой, посещал её, в каком бы уголке страны она ни находилась, в том числе и тогда, когда она была уже замужем, и однажды дал ей 40 шиллингов, когда она была в нужде. Она женщина небольшого роста, но легко представить, что когда-то она была очень хорошенькой».
Это единственное дошедшее до нас описание юного Ньютона, сделанное со слов очевидца без позднейшего академического пиетета.
Отношения с братьями Сторер у Исаака не сложились. Заморыш им не понравился, а у него не было ни сил, ни желания добиваться их симпатии. Более того, он их всячески провоцировал. Стянул, например, из-под носа Эдуарда Сторера корзину с вишнями и, делая невинные глаза, отрицал, что взял он; поскольку никто другой сделать этого не мог, Эдуард, а с ним и Артур наливались злостью. Мальчики учились вместе с ним в Грэнтэмской школе, и поэтому покоя не было ни днём, ни ночью. Эдуард и Артур быстро настроили против Исаака весь класс. Лишь один одноклассник Исаака Ньютона, некий Хрихлое, не участвовал во всеобщей кампании ненависти, он один не разделял жарких обвинений Исаака в хитрости и коварстве.
А мисс Сторер, на несколько лет моложе его, стала его единственным грэнтэмским другом. Они росли вместе, и, возможно, меж ними промелькнула лёгкая тень романтической привязанности. Позднее миссис Винцент намекала на это, Ньютон же — нет. Он желал остаться неуязвимым и с этой стороны.
Несмотря на явные способности Исаака, успехами в учении он не блистал. В списке успеваемости он находился на предпоследнем месте, опережая лишь одного явного идиота. Следующим вверх в списке успевающих был Артур Сторер, вместе с которым Исаак вынужден был ходить в школу.
Как-то в пути Исаак стянул у него из сумки бутерброд. Артур в отместку ударил его головой в живот так, что Исаак потерял сознание. Много лет спустя Кондуитт записал конец этой истории со слов самого Ньютона:
«Как только занятия кончились, сэр Исаак пригласил Артура выйти вместе с ним на церковный двор, с ними пошёл и сын мастера, и пока они дрались, хлопал, подбадривая кого-нибудь, по спине, в то же время подмигивая другому, подзадоривал обоих. Сэр Исаак впал в азарт, и дух его был так силён, что он бил и бил противника, пока тот, всхлипывая, не закричал, что не может более драться; сын мастера обозвал его трусом и стал тереть его носом о церковную стену, а сэр Исаак схватил его за уши и тоже ткнул лицом в стену».
(В перечне грехов, составленном двадцатилетним Ньютоном, есть запись: «Избил Артура Сторера».)
Эта история имела своё продолжение — не удовлетворившись физическим триумфом над Артуром Сторером, Ньютон решил обойти его и в списке успеваемости, благо он стоял прямо перед ним. Увлёкшись, он легко, просто легчайшим способом, совершенно без натуги обошёл не только Артура, но и всех остальных учеников класса.
Странны пути судьбы и прихотливы! Неуспевающий Ньютон вынужден в силу причин, серьёзность которых видна лишь ему, двенадцатилетнему, уделять больше времени учёбе, прежде презираемой, и тем уготовить себе особую — совсем иную — судьбу.
Теперь он обожает латинский язык. Он и представить себе раньше не мог, что можно с естественным произношением и грамматически правильно говорить на давно умершем языке!
Теперь учение — душевная потребность, школьные успехи — существенны, а первое место в списке учеников — вожделенно. Страсти доступно всё, и вот Исаак — лучший ученик школы. Настал момент, когда и он сам, и многие другие вдруг поразились:
— Как это могло произойти?
— Так быстро!
— Может быть, это дар?
Последняя фраза принадлежала дядюшке Эйскоу и имела, как оказалось, немалый смысл. Исаак и сам поразился тому, насколько легко удалось ему стать первым. И в душу закрался восторг.
— Откуда это?
— Может, это — дар божий?
Для Исаака настало счастливое время открытия в себе всё новых и новых способностей, время созревания у него чувства собственного достоинства, своеобразным выражением которого стало удивительное пристрастие Исаака к собственным имени и фамилии — он выцарапывал их ножом где только можно — по мере того, как он продвигался в списке успевающих вперёд и пересаживался со скамьи на скамью, каждая из них становилась носительницей вырезанного его ножом собственного имени; скамьи эти не сохранились, но на каменном подоконнике зала в Грэнтэмской школе, служащего сегодня для муниципальных торжеств, и сейчас можно различить: «Исаак Ньютон».
После занятий он бегом бежал из школы в дом аптекаря Кларка, в свою мансарду, в своё убежище. Там ждали его странные изобретения, там мог он раскрыть обнаружившийся новый талант — ко всевозможной ручной работе, требующей размышлений, сноровки, мастерства и хорошего инструмента. На инструменты уходили пенсы и шиллинги, перепадавшие от матери Анны. Он накупил топоров, молотков, пил, множество других инструментов, которые легко покорялись ему. Он мог, например, сделать деревянные часы. Его мечтой было воспроизвести в дереве и ткани недавно построенную в Грэнтэме ветряную мельницу — новинку здешних мест. Вокруг этой диковины степенные пары грэнтэмцев совершали вечерний моцион. Ньютон облазил мельницу сверху донизу и разобрался во всех её потайных механизмах.
В аптекарском доме развернулась бурная деятельность. Умелые руки, хороший инструмент и природная сообразительность помогали ему: уже недели через две торжествующий Исаак, водрузив своё сооружение на крышу, смог убедиться в том, что мельница прекрасно работает даже при весьма слабом ветре. Разделить его радость могли только взрослые — молодые Стореры демонстративно игнорировали великое событие. Когда ветра не было, холщовые крылья маленькой мельнички бессильно повисали, и это расстраивало Исаака. Он решил усовершенствовать мельничку таким образом, чтобы она могла работать и в штиль. Для этого ему удалось приспособить бессловесную мышь, пойманную им в силок собственной конструкции. Мышь, получившая имя «Мельник», восполняла ослабление воздушных потоков в атмосфере. Управляли мышью с помощью нитки, привязанной к хвосту — для торможения, и кусочка сала, подвешенного перед её мордочкой — для ускорения.
Ещё одним устройством, вызвавшим восторги не только в доме, но и у соседей, была сооружённая им небольшая коляска. Колёса её вращались при помощи кривошипно-шатунного механизма, приводимого в действие седоком.
Зимой, когда занятия начинались затемно, он шёл в школу, освещая путь сконструированными им лампадками, сделанными из гофрированной, медленно сгорающей бумаги. Лампадки нетрудно было зажигать и тушить, они легко помещались в карманах платья. А летними тёплыми вечерами лампадки Исаака находили иное применение — их зажигали на хвостах змеев, запускаемых на окраине городка.
«Одно время, — вспоминал со слов Ньютона Стэкли, — огненные змеи сильно пугали соседей, а также вызывали долгие дебаты и рассуждения среди деревенских жителей за кружкой эля в базарные дни».
Запуски светящихся змеев немного улучшили отношения Исаака с грэнтэмскими мальчишками. Они с удовольствием помогали ему, когда он испытывал змеев различной формы, чтобы найти наилучшую, и когда он закреплял бечёвку в разных точках рамки — в поисках наибольшей подъёмной силы и устойчивости. Каким счастливцем он себя ощущал, когда его ночные лёгкие птицы, снабжённые маленькими фонариками, неслышно скользили в линкольнширских небесах! Как захлёбывался от восторга и смеха, прикрывая рот маленькой ещё и немощной ладошкой, когда большие и взрослые фермеры, устремив взгляды в ночное небо, провожали пролетающие в небесах фонарики циркульными движениями натруженных рук:
— Да, это новые кометы, и что сулят они, ведает лишь господь!
Иногда, увлёкшись своими механическими игрушками, Исаак забывал про занятия и опять перемещался в последние строки списков. Стоило ему, однако, засесть за книги, как он стрелой взвивался вверх и вновь становился лучшим учеником. Несмотря на настойчивые просьбы мастера Стокса, он не мог забросить свои механические игрушки. Он занимал ими всё свободное время, и даже — украдкой — в воскресные дни, которые должны были быть посвящены богу, и только богу, что наполняло его сердце ужасом и угрызениями совести. Не мог ничего с собой поделать. И все дни недели, включая запретное воскресенье, он следил за Солнцем.
Ещё в Колстерворте на церковной стене девятилетний Ньютон пристроил одну из своих первых, пока несовершенных моделей солнечных часов.[6] Их постройка требовала не только умелых рук, но и точных расчётов. Во всех местах, куда доставало Солнце, Исаак ловил его с помощью деревянных шпилек, беспощадно вгоняемых в стены. Дом аптекаря от подвала до чердака был заполнен солнечными часами. В своей комнате, передней, во всех других солнечных комнатах Исаак вбил колышки для отсчёта не только часов, но и получасов и даже — четвертей часа, везде протянуты были бечёвки, призванные проследить изменение величины теней в последующие дни. Ведя скрупулёзные записи и создав своего рода астрономический журнал, Исаак усовершенствовал систему солнечных часов до такой степени, что свободно мог вычислять время солнцестояния и равноденствия, дни недели. Соседи приходили к Исааку справляться о времени. С той поры он как бы приставил себя при Солнце бессменным часовым, наблюдая за его передвижениями по небу. Он столь преуспел в этих наблюдениях, что достаточно ему было бросить взгляд на тень, чтобы он без всяких колебаний указал точное время и другие астрономические особенности момента.
У солнечных часов был один, естественный, недостаток — они служили лишь тогда, когда светило Солнце. Чтобы сберечь непрерывность времени, Исаак соорудил и водяные часы, использовав для них коробку, выпрошенную у жены доктора Кларка — брата его хозяина. Эта деревянная коробка имела примерно 4 фута в высоту и по форме напоминала обычные настенные часы. На ней Исаак установил шкалу времени и стрелку, которая при помощи системы рычагов была присоединена к куску дерева в сосуде, медленно опорожняющемся через калиброванное отверстие. Капля капала за каплей, поплавок опускался ниже и ниже, увлекая за собой стрелочный механизм. Да, это действительно была старая клепсидра, хотя и в новом механическом оформлении.
В мансарде аптекарского дома была библиотека. Сюда, в мансарду, перетащил он и свои водяные часы. Монотонные звуки, капля за каплей, — и юный Исаак Ньютон, забывшийся за книгой. Его окружают труды по ботанике, анатомии, философии, математике, физике, астрономии и подобным им необычным предметам. Новый мир — мир Природы, требующей изучения, раскрылся перед ним.
Дом аптекаря, естественно, немало способствовал и занятиям химией. Склянки с латинскими названиями, опасные яды, странные реакции при смешении различных веществ, происходящие при этом взрывы, выделение газов, выпадение осадков, чудодейственные смены чистых цветов растворов не могли не околдовать пытливого Исаака, не породить в нём древней мечты увидеть однажды в закопчённом тигле золотое сияние.
Пришло и увлечение рисунком; стенам дома аптекаря суждено было воспринять всю силу новой страсти. Всевозможные птицы, звери, люди, корабли и деревья, рисованные углём, появлялись в самых неподходящих местах. Стены мансарды были сплошь увешаны рисунками в собственноручно сделанных Исааком рамках. Среди прочих рисованных шедевров выделялись: казнённый король Карл I, проповедник и поэт Джон Донн, а также мастер Грэнтэмской школы Стокс. Каждый рисунок был непременно снабжён аккуратно выполненной подписью: «Исаак Ньютон». Лишь на каких-то окружностях и прямых, которые стали изредка попадаться на стенах, нет удостоверения авторства — видимо, Исаак не считал их ещё стоящими проявлениями его дара.
Сюжеты рисунков юного Ньютона способны донести до нас, потомков, отголоски его внутреннего мира, его симпатий и увлечений. А современным психологам не дают покоя и другие материалы, совпадающие по времени с формированием личности Ньютона. Они проанализировали, например, содержание его тетрадей для латинских упражнений. Особенность их состоит в том, что каждому грамматическому правилу ученик должен был привести соответствующий пример, извлекаемый им порой из подсознания. Своеобразное «я» Ньютона, как считают психологи, проявляется даже в его латинских текстах. Сохранилось 350 фраз его латинских упражнений, первоначально взятых из какого-то учебника, а затем им изменённых. Среди тех предложений, которыми он заменил первоначальные тексты, есть утверждения, свидетельствующие, по мнению психологов, о его сложном, мятущемся сознании. Мир тревоги, разрушения, обречённости встаёт со страниц тетради для латинских упражнений:
«Он сломан», «Ваш дом скоро упадёт», «Его слава клонится к закату», «Корабль затонул», «Я боюсь», «Это тревожит меня».
Глухим эхом отдаются в грамматических примерах приказы и понукания его воспитателей:
«Я заставлю тебя сделать это», «Ты должен уйти», «Почему ты не встаёшь?», «Что ты делал? Говори!», «Покажи себя мужчиной», «Вас обязательно накажут», «Он должен быть наказан».
Из мира латинских упражнений — из мира юного Ньютона? — изгнано всё суетное: его истины — это истины правоверного пуританина:
«Чем лучше игрок, тем хуже человек», «Что ещё означает танцевать, как не выставлять себя дураком?», «Он не делает ничего, кроме того, что играет», «Чем больше денег, тем больше кредит», «Мы больше всего хотим того, что нам больше всего повредит», «Он не способен платить», «О нём говорят, что он расточитель», «У него даже нет денег купить верёвку, чтобы повеситься», «Я не распутничал». (В отношении последней фразы стоит дать пояснения. В школьных учебниках тех времён не только использовали всё богатство языка, но и не таили от учеников никаких жизненных секретов взрослых. В учебниках можно было часто встретить такие понятия, как «сводня», «проститутка», «рогоносец», «рогоделец».)
Иногда в его высказываниях звучат недоверие и подозрительность: «Я должен быть уверен, что он не причинит мне зла», «Вы одурачиваете меня», «С вашей стороны глупо верить ему», «Вы знаете ему цену», «Вы никогда не заставите меня поверить в эту сказку».
И — мотивы одиночества: «Никто меня не понимает», «Что станет со мной?», «Я хочу покончить со всем этим», «Я не способен ни на что, кроме слёз», «Я не знаю, что мне делать».
Фрэнк Мануэль, выудивший все эти сентенции из латинских упражнений Ньютона, поражается тому, что здесь совершенно отсутствуют позитивные чувства. Никогда не появляется, например, слово «любовь». Почти нет выражений радости, желания. Страсть звучит в упражнениях лишь тогда, когда речь идёт о ростбифе. Здесь — мир отрицания и запрещения, наказания и одиночества. Это мир высокомерных пуританских ценностей, ставших к тому времени частью существования Ньютона: жестокий самоконтроль, основательность, склонность к порядку, стремление с помощью своих добродетелей стать над всеми, выше всех.
Нужно, однако, ясно себе представлять, что громадное большинство учебных книг того времени, будучи подвергнуты такому же анализу, точно так же донесли бы до нас ту же неосознанную атмосферу страха, беспокойства, неуверенности. Ветер эпохи ещё не переменил направления, не задул ещё в паруса нового времени. Школьные книжки, учебники, тексты для чистописания, такие, например, как «Сокровищница каллиграфа», в качестве примеров содержали тексты, описывающие всевозможные людские неприятности, все несчастья, которые могут с непременным участием дьявола произойти в этой преходящей жизни. Нарушение строгих правил пуританского мышления и действия неизбежно приводило к болезненным последствиям, и Ньютон с юности воспринял этот несложный, но проникновенный тезис, завладевший им на всю жизнь. Возможно, конечно, что в случае Ньютона этот тезис упал на особо благодатную почву — из-за его слабости и изначальной обделённости судьбой.
Как-то раз, будучи в 1659 году в Линкольне, он купил себе первые книги: Пиндара и Овидия — стандартные книги для классного чтения в начальной школе. Особое впечатление произвела на Исаака, судя по его заметкам, третья книга «Метаморфоз» Овидия и стихи, начиная со 150-го. Там — сцена купания Дианы и наказания дерзкого Антиноя, тайком подглядывавшего за прекрасными купальщицами. Но не живописная сцена лесного купания девушек привлекает внимание юного Ньютона. Напротив, особое его удовлетворение вызывает Диана, превращающая дерзкого Антиноя в оленя, и собаки, рвущие своего бывшего хозяина на куски.
На полях третьей книги «Метаморфоз» Исаак методично выписывает имена всех собак, неотвратимо наказующих нарушителя. Здесь и Ламп, и Идоркея, и лютый Терон, и резвый Петрел, и чуткая Агра, и свирепый Гилей, недавно пораненный вепрем, и волчий сын Нап, и сторожевая Пимена, и Гарпия с двумя щенками, и Ладона со стянутым брюхом, и Тигрица с Алкеей, и Дромада, и белоснежный Левсон, и чёрный Азбол, и многосильный Лакон, и быстрый Аэлл, и косматая Лахнея, и Лабра с Артиодом. Это псы-мстители, не прощающие нарушения пуританской морали. Человек, нарушающий правила морали, будет растерзан псами Антиноя.
Прочтя «Метаморфозы» в контексте пуританского воспитания, любой мальчик того времени мог проникнуться скорее образами ужаса, мести и наказания, чем картинами идиллических страстей и привольной жизни на лоне природы.
Всю свою жизнь Ньютон не расставался ни с Библией, ни с собраниями греческих мифов и тем совмещал несовместимое, смешивая их в своём уме и воображении.
Пока же он оставался ещё мальчиком, ранимым и самоутверждающимся, напряжённо ищущим своё место ещё не в истории и обществе, а пытающимся всего лишь снискать понимание сверстников…
Такого урагана, который пронёсся в конце августа 1658 года, линкольнширцы ещё не видывали. Смолкли пересуды о возможной скорой смерти Кромвеля, протектора,[7] и его вероятном наследнике — лишь бы не это чёртово семя! С востока, с моря потянул холодный неистовый ветер, колющий быстрыми брызгами. Тяжёлые чёрные тучи с урчащим чревом стремительно приближались к Грэнтэму. Напор стихии всё усиливался и, казалось, приобретал уже мощь, с которой ничто не могло совладать, — деревья падали, скрученные неожиданным порывом, неистовый вихрь оставлял за собой лесные просеки, с грэнтэмской церкви сорвало крышу. Обитатели аптекарского дома, приникнув к окнам, с ужасом ожидали приговора стихии. Внизу хлопнула дверь.
— Вернись, Исаак! — закричали наперебой домочадцы, но шестнадцатилетний Заморыш уже унёсся во двор. Он выбежал и со двора, он уже на улице, на Хай-стрит, и занимается он весьма странным делом: прыгает встречь брызгам и ветру. После нескольких прыжков, уже с совсем мокрым лицом, он проделывает то же самое, но уже по ветру. А чёрточку на земле смывает страшный воздушный поток.
— Фут против ветра, шесть футов по ветру! — кричит Заморыш.
Почти через семьдесят лет, уже перед смертью, Ньютон впервые с 1658 года вспомнил о своём первом научном эксперименте.
…Ветер продолжался и в тот день, когда разнеслась по всей Англии весть о смерти Кромвеля. В тот день мальчики устроили на улице соревнование в прыжках. Исаак не выдержал, он вышел к сверстникам и стал спорить, что обскачет любого из них. Его осмеяли, но Исаак, уже приноровившийся к нраву ветра последних дней, смог разбежаться и прыгнуть так, что ветер подталкивал его в спину. Ко всеобщему изумлению, он выиграл! Но не честь и слава ожидали его, не признание его сверстников, а — опять! — обвинения в обмане, презрение, тычки и зуботычины. Посрамлённый, поднялся он к себе в свою одинокую мансарду.
(Стэкли видит в этом эпизоде модель будущих отношений Исаака Ньютона со своими коллегами, когда он, используя оружие, неподвластное другим, побеждал их и вызывал бешеную бурю раздражения.)
Представим себе: тяжело падают капли в водяных часах, разбивая гнетущую тишину на равные промежутки; юный Ньютон с книгой на коленях откинулся на кожаную спинку простого кромвелевского стула с грубо точёнными ножками. Глаза его открыты, но смотрит он не в книгу — он, решая вечные проблемы юности, пытается разгадать своё будущее…
В семье не хватало мужчины, мать Анна нуждалась в помощнике; она решила сделать Исаака подлинным хозяином всего своего достояния — и вулсторпского Манора, и земель, и скота. Единственное, что для этого требовалось сейчас от Исаака, — бросить Королевскую школу. Впрочем, он не высказал ни малейшего сожаления при расставании с этим почтенным заведением и с Грэнтэмом.
Аптекарь Кларк с учётом разрисованных углём стен, с учётом вбитых в стены и полы бесчисленных клинышков для солнечных часов и бесконечных нитей, опутывающих дом; с учётом неутихающих конфликтов по поводу бутербродов, вишен и тому подобного, также не без тайной радости воспринял весть о том, что Анна забирает своего семнадцатилетнего сына из Грэнтэмской школы. Правильно мать решила — пришла пора молодому Ньютону помочь ей, пора ему взглянуть на жизнь реально, узнать своё будущее и научиться наконец управлять разросшимся хозяйством.
Исаак приехал в Вулсторп с Пиндаром и Овидием в руках, с неясными мечтаниями в сердце. Был он невысок, очень худ и рассеян.
Верный старый слуга был приставлен к нему, чтобы обучить домашним премудростям, но, посланный, к примеру, смотреть за овцами, Исаак читал Овидия или мастерил ножом водяные колёса, строя при этом на ручейке небольшие плотины. Овцы тем временем разбредались по соседским пастбищам. Линкольнширские архивы сохранили протоколы суда в Колстерворте, где числится любопытная запись о том, что Исаак Ньютон оштрафован на три шиллинга четыре пенса за потраву, причинённую его овцами, на один шиллинг за то, что его свиньи паслись в чужом кукурузном поле, и на один шиллинг — за сваленный теми же свиньями забор.
В базарные дни мать Анна посылала его с верным слугой для продажи продукции имения и покупки необходимых городских товаров. Она втайне надеялась, что его увлечёт интересное дело торговли и расчётов, извлечения выгоды. Исаак же обычно просил слугу (и немного приплачивал ему для согласия), чтобы тот оставил его где-нибудь, обычно у подножия Спиттлгэйского холма в тени чужого забора, где он мог бы без помех позаниматься своими игрушками или почитать книгу. На обратном пути слуга забирал его. Если же Исаак и доезжал иной раз до Грэнтэма, то отнюдь не сворачивал на рынок, а спешивался обычно у Западных ворот, где был постоялый двор «Голова сарацина», и направлялся прямёхонько в дом аптекаря Кларка, где в мансарде его ждали непрочитанные книги.
Покидал он дом аптекаря лишь с наступлением вечера, когда с рынка начинали тянуться повозки сельских жителей. Кони неспешно двигались на юг, к Вулсторпу. От Южных ворот шёл крутой Спиттлгэйский холм — здесь нужно было облегчить подъём лошадям. Погружённый в свои думы, Ньютон не раз забывал на вершине холма опять сесть верхом на лошадь и вёл её под уздцы все десять миль до Вулсторпа. Говорят, был и другой случай, когда задумавшийся о чём-то Исаак упустил лошадь и пришёл домой, держа в руках лишь уздечку.
Домашним он казался несносным. Девять месяцев, проведённых Ньютоном дома, стали кошмаром и для него, и для близких, и для слуг. Среди грехов того времени, потребовавших покаяния и через три года, Ньютон записывает:
«Отказался выйти на двор, несмотря на просьбу матери»; «На всех набрасывался»; «Скандалил с матерью»; «С сестрой»; «Ударил сестру»; «Поссорился со слугами»; «Назвал Дороти Роуз клячей».
Он яростно сопротивляется судьбе, подталкивающей его к хозяйскому ремеслу. Теперь он тоскует о столь легко дававшейся ему школьной науке, ясно начинает ощущать своё, иное предназначение.
Ньютон привёз с собой в Вулсторп небольшую записную книжку, на первом листе которой торжественно, при матери, вывел дату покупки — март, 1659. Появились там и первые записи — следы чтения Овидия, которого он продолжал с увлечением штудировать. Следы обучения латыни прослеживаются явно, но нет ни малейших признаков обучения математике! А ведь всего через пять лет Ньютон подойдёт к самым её вершинам.
В записную книжку стал он заносить то, что впоследствии стало его «Садом», по его же определению — свои идеи и мысли, свои первые изобретения и эксперименты, свои вполне осуществимые и несбыточные проекты. «Сад» требовал времени и одиночества, хозяйство и ферма стали врагами «Сада». Ферма отвлекала его от любимых занятий, и он проникался к ней постоянно растущим отвращением. В одиночестве проводил он свои дни.
Домашних, конечно, раздражало, что он не проявлял ни малейшего интереса к работе по хозяйству и на ферме, как некогда не проявлял ни малейшего интереса к занятиям. Слуги перешёптывались между собою, убеждая друг друга в том, что Исаак — глупый и никчёмный человек, который никогда не сможет быть настоящим хозяином.
— Богатый наследник со странностями, — говорили о нём. В лучшем случае.
А он был рад, когда ему позволяли побыть одному, и проводил многие часы, забившись в углу своей «студии», мастеря что-то, рисуя картинки и помещая их в самодельные рамы. На фоне практических планов матери и реальных нужд хозяйства всё это выглядело непростительным ребячеством.
Лишь мастер Стокс, его грэнтэмский учитель, видел дальше других и судил лучше. Он восхищался способностями Исаака и не уставал всем доказывать, что для мира было бы громадной потерей, если столь редкий дар будет похоронен в деревенской глуши. Он настаивал на том, чтобы послать юношу обратно в школу, и готов был даже выплачивать за него деньги за ученье — сорок шиллингов в год (школа была бесплатной лишь для коренных грэнтэмцев). Он обещал подготовить Исаака и к университету. Он готов был поселить его в своей квартире при школе и помочь ему закончить полный курс обучения.
Советовали отдать Ньютона учиться и дядя Вильям Эйскоу, и брат жены доктора Кларка Гемфри Бабингтон, член Тринити-колледжа в Кембридже, и тихий странник, однажды нашедший приют у очага Анны, который видел Исаака, пасущего овец, а на самом деле — погружённого в свои мысли. Все они сыграли свою роль в том, что в конце концов почти все обитатели Манора признали, что настоящего хозяина из него не выйдет и нужно ему найти другое дело. Лишь мать была слепа. Мастер Стокс попросил жену поговорить с Анной. И Анна наконец согласилась.
Ньютон снова в Грэнтэме, он живёт теперь у мастера Стокса, во флигеле при школе, окнами глядящем на заросший травой церковный двор. Он увлечён Библией, грамматикой, чуть-чуть геометрией, легко запоминает сотни, тысячи имён, фамилий и дат из древней и классической истории, неплохо овладевает древнегреческим языком, немного французским, по-прежнему обожает классиков. Его время отдано работе ума и рук. Он не отвлекается ни на что иное. Любимая книга — Джон Бейтс «Тайны природы и искусства», купленная по случаю за два с половиной пенса. Ньютон переписывает из неё в свою записную книжку целые абзацы, касающиеся рисования, ловли птиц, изготовления чернил самых различных цветов и тому подобного. Там описаны, кстати, знаменитая ветряная мельница и столь же знаменитая коляска. Там есть сведения, как делать краски, как делать вино, и масса других интересных вещей.
Записные книжки Ньютона полны рисунков. Наброски телескопов, оптических экспериментов, алхимические символы, подробности анатомического строения человека и животных. В записной книжке он записал лично изобретённым шифром «старина Барли» (по имени учителя рисования) секреты смешения цветов и секреты композиции, очевидно заимствованные из книги Бейтса. Оттуда же, и только оттуда, мог Ньютон в своём пуританском мире извлечь картины обнажённых мужчины и женщины. И действительно, «Тайны природы и искусства» украшены полностраничными иллюстрациями, изображающими мужчину в виде Геркулеса и женщину рубенсовского типа.
Но особо сильное впечатление произвели на Ньютона книги Джона Уилкинса — одного из деятелей пуританского Просвещения, которые пестовали дух первооткрывательства и экспериментаторства задолго до того, как было создано Королевское общество.
Бытописатель того времени Джон Ивлин как-то посетил Уилкинса в Оксфорде. Он был поражён удивительными машинами, построенными механиком: «Он, Уилкинс, придумал полую статую, которая подаёт голос и даже говорит отдельные слова посредством скрытой трубочки, ведущей к кустам за домом; когда кто-то говорит через эту трубочку, находясь на большом расстоянии, это необычайно всех поражает. Наверху на чердаке у него есть целое собрание всевозможных призраков и теней, а также солнечных часов, оптических стёкол и многих других искусно выполненных технических курьёзов. Здесь и указатель пути (то есть компас), и термометр, и весы, и волшебные огни… в большинстве своём его собственного изготовления или изготовления его молодого способного ученика — господина Кристофера Рена».
Книга Дж. Уилкинса «Математическая магия» произвела на Ньютона поистине неотразимое впечатление. Это, разумеется, не первый пример того, как научно-популярная книга поджигает сердце юноши, и, наверное, далеко не последний. Он стал жадно искать другие сочинения Уилкинса и нашёл «Открытие нового мира на Луне», выпущенное в 1638 году и прямо направленное на защиту Коперниковой системы. С симпатией и пониманием описывает Уилкинс судьбу Коперника, приводит многочисленные и рискованные цитаты из Галилея и Кеплера и даже не боится открыть свою мечту — создать «махину», которая могла бы преодолеть земное притяжение и улететь на Луну. Из книги Уилкинса Ньютон мог впервые узнать о вечных двигателях и их всевозможных проектах.
Он проявил самый горячий интерес к задачам, поставленным Уилкинсом для решения его последователями. А именно: вопросам, связанным с созданием универсального языка и новой фонетической системы, различным системам стенографии и, наконец, передаче информации посредством секретных шифров.
Чтобы создать собственную фонетическую систему, Исаак строил всевозможные гримасы и придавал губам, языку и зубам всё новые и новые взаимные положения, складывал их самыми различными способами — рулетом, лодочкой и трубочкой, как это делают дети. Он хотел извлечь из своей гортани новые звуки, точно соответствующие буквам алфавита. Иначе: он хотел добиться нового звучания букв или найти новые грамматические нормы, точно соответствующие произносимым звукам.
С психологической точки зрения очень интересно содержание примера, который Ньютон использовал для иллюстраций своей фонетической системы. Это письмо к
«Любимый друг.
Все говорят, что ты болен. Я искренне сожалею об этом. Но я гораздо более сожалею о том, что ты получил эту болезнь (об этом тоже говорят) из-за того, что ты слишком много пьёшь. Я настоятельно желаю тебе сначала бросить напиваться. Тем ты поправишь своё здоровье. И, если Господу будет угодно сделать так, что ты поправишься, береги себя и живи здоровой трезвой жизнью последующие годы. Это будет очень приятно для всех твоих друзей и особенно для
твоего очень любящего друга.
И. Н.»
Система Ньютона — это совсем не исключено — могла бы быть принята и Королевским обществом, учредившим специальный комитет для усовершенствования английского языка. Можно смело утверждать, что ньютоновская система была нисколько не хуже, чем система самого Уилкинса или любая другая система, коих в те годы расплодилось множество.
Некоторые авторы изобретали новую рациональную систему английского языка в рамках всеобщего универсального знания, в рамках ещё не существующей энциклопедии определений и слов. Это движение необычайно импонировало Ньютону с его стремлением всё познать и затем всё заложить в некоторую стройную схему, привести всё к единому порядку, к общему знаменателю.
Он предпринял собственную попытку создать полную классификацию вещей и понятий. В его юношеском блокноте есть записи, объединённые названием: «Некоторые предметы, содержащиеся под общими заголовками». Это и есть, как считают исследователи, отражение ньютоновской схемы построения универсального языка. Громадный список, записанный секретным шифром «старина Барли», в его законченной форме объял бы весь мир. В нём есть даже «протектор Кромвель», что говорит о том, что список скорее всего создавался до 1660 года, то есть до Реставрации. Тогда Ньютону не было ещё и восемнадцати лет. Это — один из первых побегов в Ньютоновом «Саду».
Исаак составил 42-страничный каталог всевозможных понятий, разделённый на шестнадцать рубрик, самых разнообразных — «Искусства, ремёсла и науки», «Птицы», «Звери», «Одежда», «О церкви», «О болезнях», «Об элементах», «О рыбах», «О травах, деревьях, цветах», «О доме и домашней утвари», «О сельском хозяйстве», «Инструменты и предметы, относящиеся к ремёслам», «О родственниках, титулах, типах людей», «О человеке, его ощущениях и чувствах», «О пище и питье», «О минералах».
Некоторые исследователи, изучая эти перечни, подметили, что они представляют собой разновидность широко применяемого в наши дни ассоциативного теста, когда испытуемого просят быстро, без раздумий называть понятия определённого класса. То, что первым всплывает из памяти, порой бессознательно, может многое сказать о человеке, о его внутреннем мире. Нельзя ли, сочтя классификатор Ньютона за выполненный им психологический тост, выявить в его портрете те черты, что тщательно вытравлены и им, и его биографами — пуританами?
Даже через триста лет? Такие попытки, впрочем, делались.
Не могут ли эти «случайные» слова рассказать что-нибудь о юноше Ньютоне? Вряд ли, конечно, можно на основании анализа этих слов делать какие-либо далеко идущие заключения о внутреннем мире столь сложного человека, каким был молодой Ньютон. В лучшем случае это всего лишь тонкая щель, через которую можно разглядеть часть лица. Но поскольку никаких других источников о детских годах Ньютона, о его внутреннем мире, кроме сведений, содержащихся в «героических» биографиях Ньютона, в распоряжении исследователей нет, они вынуждены использовать и эту возможность узнать о Ньютоне-человеке. Одно, пожалуй, побуждает отнестись к этому своеобразному ретроспективному психологическому эксперименту серьёзно — списки не содержат обмана. Вряд ли Ньютон лукавил, когда составлял их, вряд ли рассчитывал, что его невинные изыскания станут предметом исследований.
Что ещё содержат страницы юношеских блокнотов Ньютона, один из которых лишь сравнительно недавно всплыл из глубины веков и был обнаружен среди неразобранных ньютоновских рукописей в одной из американских библиотек? Что взрастало в эти годы в ньютоновском «Саду»?
Проект реформы фонетической системы; первые черновики полной энциклопедии английского языка; вечный календарь; астрономические таблицы; решение несложных геометрических задач.
Учитывая возраст Ньютона тех лет — возраст становления, выбора будущей судьбы, интересно проанализировать одну из рубрик его всеобъемлющей энциклопедии, названную «Искусства, ремёсла и науки». Эта рубрика отличается особой полнотой. Здесь в обилии приводятся занятия, связанные с изготовлением и ремонтом колясок и экипажей, управлением ими, с уходом за лошадьми, с содержанием постоялых дворов, — и это так естественно для жителя Линкольншира, обитающего вблизи Колстерворта, известного перевалочного пункта на пути из Лондона к северу, в Йорк!
Секретный шифр хранит упоминания о профессиях, которые относятся к земледелию, животноводству, лесному промыслу. Там есть рыночный и лавочный народ, профессионалы моря и суши, служители гостиниц и церквей. Есть и представители учёного мира. Как истый пуританин, Ньютон не упоминает в своём списке о презираемых занятиях, но музыка есть, она — разрешена. В списке появляются скрипач, уличный музыкант, органист. Вовсе отсутствуют представители городских властей, но из круга рассмотрения не изгнаны такие профессии, как тюремщик и даже палач.
Всевозможные занятия людей рассмотрены вполне методически, в присущем Исааку духе. Ничто не упущено. Но и богатого выбора не хватает. Ньютон не прельщается ни властью, ни богатством, ни романтикой. Путь определён — его стезя ведёт его к священному сану, к службе в церкви или, возможно, в школе. Перед глазами примеры Вильяма Эйскоу, доктора Кларка и мастера Стокса.
…Подходит пора прощания с юношескими мечтаниями и сомнениями, с Грэнтэмской школой. Что вынесет из неё, из своего детства и юности загадочный и для потомков и для современников Исаак Ньютон?
С раннего детства его характерные черты — страсть к механике, ненасытное любопытство, способность имитировать и усовершенствовать. Особое предпочтение всему, что связано со временем и движением, — вспомним его водяные и солнечные часы, его змеев.
Склонность к систематизации, поискам связей между предметами и явлениями.
Честолюбие, подозрительность, осторожность и скрытность.
В одном из самых ранних исследований творчества Ньютона — в труде доктора Стэкли, датированном 1752 годом, делается первая серьёзная попытка выявить связи юношеских увлечений Ньютона с его научными достижениями. «Мне кажется довольно вероятным, что раннее мастерское владение сэром Исааком Ньютоном механическими приспособлениями и его мастерство в рисовании и проектировании сослужили ему хорошую службу в его экспериментальном пути в философии и подготовили прочный фундамент для развития его пытливого ума — его интерес к причинам и следствиям, его проникновенные исследования метода, который мог бы привести к желаемой цели, его глубокие суждения, настойчивость в нахождении решений и доказательств и в его экспериментах, громадная сила ума в построении размышлений, дедуктивные цепи, неустанная привязанность к вычислениям, неповторимый талант в алгебраических и других подобных методах анализа. И всё это объединилось в одном человеке и было у него в такой необычной степени, что стало архитектором, воздвигнувшим здание на фундаменте опыта, и оно будет стоять столь же вечно, сколь и материальные создания. Механические игрушки, искусство рисования сильно помогают в проведении экспериментов. Те, кто обладает этими талантами, понимают идею вещей несравненно более сильно и более точно, чем другие. Это искусство расширяет их кругозор, они видят глубже и дальше. Этот талант помогает выпестовать и ускорить их изобретения. Многие философы, тихо сидя в своих студиях и изобретая гипотезы, мечтали о талантах. Но путь сэра Исаака — это путь использования экспериментов…»
Важно ещё одно. Ньютон с детства твёрдо осознал, что знание — реальная и необоримая сила, понял, что именно знание даёт власть над вещами и даже над людьми. С другой стороны, Ньютон считал, видимо, что знание — ценность и капитал. Часто он рассматривал его как божественное откровение, даваемое лишь ему одному — избраннику божию. Отсюда его ревнивое отношение к знанию, его бесконечные секреты, шифрованные языки, скрытность. Он хотел бы обладать знанием в одиночку, но ему в целях самоутверждения приходилось время от времени демонстрировать мощь этого знания и тем самым раскрывать его для других.
Он оставался для окружающих загадкой. Школьники видели в нём интригана и хитреца; слуги — глуповатого, угрюмого, рассеянного, ворчливого и ленивого хозяйского сына. Обитатели Манора считали его способным разве что на рифмоплётство, существом, в общем, никчёмным. Они дружно возрадовались, когда им сообщили, что будущий хозяин не вернётся в Вулсторп, а надолго — на много лет — отправится учиться в Кембридж.
И вот он стоит, прощаясь, перед Грэнтэмской школой. Стокс со слезами на глазах произносит в его честь патетическую речь и призывает школьников также произнести какие-то приличествующие случаю слова. Стэкли, которого впоследствии пересказывал Кондуитт, утверждал (а ему об этом поведали грэнтэмские старики), что глаза мальчиков, прощавшихся с Ньютоном, были полны слёз. Стореры рыдали…
«Можно вообразить!» — не без сарказма комментирует эту идиллическую сцену историк Ричард Вестфолл.
…Ньютон прощается с детством. Не с юностью — это понятие изобретено позднее. В его душе, в его сознании — непрерывная и яростная борьба. Воспитание и образование тянут его к устоявшимся постным ценностям пуританской морали, природный талант — к волнующим откровениям научного открытия. Сосредоточившись в одинокой тишине, он смог разглядеть на солнечных часах своего детства наступление нового времени — времени просвещения и науки.
И вот:
мать Анна, скрепив сердце своё, собирает Исаака в дальнюю дорогу. Ему выделен лучший экипаж поместья — двуконная фура, крытая на случай дождя, снабжённая скамьями и обильными запасами сена — чтобы можно было ехать далеко, не тратясь на постоялых дворах. Под скамьи уложены окорок, круг овечьего сыра да бочонок с ключевой вулсторпской водой. В мешке Исаака самое необходимое: смена белья, домотканый плащ, прочные новые башмаки, на совесть сработанные местным деревенским сапожником.
А кроме того:
деньги — целых пять фунтов стерлингов, блокноты для записей, книга Сандерсона «Логика», вороньи перья, толстая и гладкая бумага, бумага слегка подсинённая, тонкий пергамент, плоская медная линейка, пара компасов, филиново крыло для промакивания чернил, разные гирьки, а также песты, нужные для смешения и растирания красок и вообще для изготовления смесей всяких веществ. Всё это должно было пригодиться в будущей жизни. Жаль, мать Анна строжайше запретила ему забрать из дома инструменты — пилы, ножи, топоры, долота. Лишь немногое удалось снести в фуру украдкой.
…Путь до Кембриджа занял три дня. Первую ночь провели в Сьюстерне, в имении, где Исааку принадлежали поля и пастбища. Слуга разбудил его ещё до рассвета, и весь день он клевал носом. Этому помогали и убаюкивающее движение фуры, и мерный скрип смазанных осей, и ставшая плоской и унылой местность. Они повернули в сторону Стилтона — нужно было объехать обширные болота, раскинувшиеся на значительной части линкольнских и кембриджских земель. Запомнился лишь пасмурный день и скачущие по болотам зайцы. 4 июня прибыли в Кембридж. Остановились в «Белом льве» — самом дешёвом из постоялых дворов.
Уже на следующий день Исаак предстал перед восемью старейшинами и мастером Тринити-колледжа, или колледжа святой и неделимой Троицы, которые устроили ему небольшой экзамен. Знания Исаака Ньютона оказались вполне удовлетворяющими не очень высоким требованиям — он говорил и писал по-латыни, а это было главное. Исаак, хотя и без блеска, «без гротов», как тогда говорили, доказал своё право на кембриджскую учёность, и ему вместе с одним из новых коллег была предоставлена обитель — самая тёмная и маленькая комнатка в здании колледжа. «Монах без кельи — что рыба без воды», — шутили старейшины, вручая Исааку тяжёлый резной ключ.
Далее торжественность момента была разменена на будничные детали. Он пошёл на рынок, купил там замок на дверь, большую бутыль чернил, блокнот, фунт свечей и ещё кое-какие мелочи. Теперь он мог отпустить и своего старого верного слугу, и материнскую фуру, и застоявшихся на постоялом дворе коней назад, в Вулсторп.
И остался Исаак один…
Вечером того же дня при дрожащем свете свечи внёс он первые записи в свою расходную тетрадь:
Со страхом, смешанным с восхищением, познавал он Кембридж, эту известную на всю Англию цитадель веры и учёности. После Вулсторпа и Грэнтэма Кембридж казался Исааку громадным и шумным. В нём жило почти шесть тысяч человек, а сейчас когда поднялись в верховья Стура корабли, привёзшие товары на Стурбриджскую ярмарку, здесь, казалось, собрался народ со всей Англии. Вдоль Кема, небольшой речки с низкими травяными берегами, стояли каменные громады колледжей и церквей, уже тогда насчитывавшие многие сотни лет.
Ещё в незапамятном XIII веке на берегах Кема поселились оксфордские монахи, вынужденные покинуть обжитые места из-за борьбы университета и города. С тех пор Кембридж стал как бы тенью старшего собрата, и так было до Елизаветы и Якова. За времена их правления Кембридж вырос чуть ли не впятеро и тогда же превзошёл Оксфорд.
Падение Кембриджа началось уже в начале века, и не только вспышка чумы, крестьянские волнения и обезлюдение были тому причиной. Может быть, дурную услугу оказала излишняя верноподданность Кембриджа, благодарного двору за своё возвышение. В душе кембриджцы всегда хранили верность короне. Воцарившись на престоле, Карл обещал университету долгий период расцвета. За это он требовал немногого — возможности вмешиваться в академическую политику. Постепенно он приобрёл прямо противоречащее формально действующему уставу право давать мандаты на назначение и смещение мастеров, что всегда было святым делом колледжей.
То же, впрочем, происходило и в годы революции, когда Кромвель, казнив Карла, изгнал из университета всех сторонников короны, невзирая на их учёные заслуги, и посадил своих ставленников. Революционные пуритане стремились разрушить до основания всю систему университетского образования, которую они справедливо связывали со схоластической философией и монархической теологией. Наука ссылалась на Аристотеля как на высший и незыблемый авторитет. Образование основывалось почти исключительно на изучении его трудов. Горячие головы предлагали вообще упразднить университеты. Люди умеренные предлагали ввести новую систему обучения.
Утопии Сэмюэля Хартлиба и «Пансофии» Яна Коменского вознесли на пьедестал натуральную философию, то есть, по существу, физические науки; новые революционеры стремились создать варево из идей естественной философии и пуританизма. Но в университетах не нашлось людей, способных на такой синтез, и, хотя зерно было посеяно, у реформаторов не было времени снять урожай: в мае 1660-го Кембридж праздновал Реставрацию.
Члены колледжей, все — в академических мантиях, возглавили праздничную процессию. Гремела музыка. Процессия направилась к рыночному холму. Там был прочитан указ о Реставрации. С крыши капеллы Кингс-колледжа грянул оркестр. Всю ночь жгли костры. На следующий день мэр, сопровождаемый олдерменами — все в оранжевых мантиях; вице-канцлер университета и доктора — тоже в оранжевом; регенты и бакалавры — в капюшонах, накинутых поверх чёрных мантий, а также свободные жители города — в вольной одежде и на конях, семь раз провозгласили здравицу в честь Карла II. Костры запылали снова. Солдаты, согнав музыкантов, палили залпами с крыши капеллы Кингс-колледжа. На рыночной площади повесили чучело Кромвеля. Круглая фетровая шапочка, «пайли», которая так нравилась пуританам, исчезла, и студенты опять нахлобучили квадратные «мортар-борды», или «соколы». А кембриджские остряки тут же поздравили пуритан с оквадратуриванием их круга.
Реставрация вступала в свои права. Изгнаны были почти все члены колледжей, назначенные Кромвелем и парламентом. Сменились мастеры колледжей. Преподавателям и студентам было не до занятий. В университете не стало ни денег, ни способных студентов, ни ведущих учёных. Кембридж приходил в состояние полного упадка.
…С Реставрацией сменился состав и в колледже Троицы. Прежний мастер, Джон Уилкинс, с детства обожаемый Ньютоном автор различных механических и химических опытов, фокусов и развлечений, вынужден был уйти из колледжа, поскольку он, любя короля, не отказался всё же от удовольствия жениться на вдовой сестре Кромвеля. Это обстоятельство было слишком подозрительным, чтобы Уилкинс мог оставаться в Кембридже. Его заменил Генри Ферн, деятель умеренного толка, который хотел провести переход от одного режима к другому как можно более гладко. При нём отдавалось должное и роялистам и «круглоголовым» — лишь бы они обладали учёным авторитетом. Впервые и те и другие получили равные шансы стать членами колледжа. Но 1662 год принёс с собой «Акт униформности», вновь недвусмысленно подтвердивший королевскую власть в университетах. В Кембридже воцарилась реакция. Либерал Ферн был заменён преданным королю Джоном Пирсоном. Он, к счастью, оказался способным администратором, резко улучшившим финансовое состояние колледжа и увеличившим приём студентов, в число которых попал и Ньютон. Сразу отметим, что позже Джон Пирсон произвёл на Ньютона сильное впечатление своими неортодоксальными взглядами на самое святое в колледже Троицы — на саму Троицу. И смутил тем Ньютона, зародил в нём семена вольнодумства.
Юный Ньютон пока слабо разбирался в тонкостях университетской жизни. Он был несказанно рад, что очутился в древних замшелых стенах колледжа святой Троицы, о котором так много слышал с детства. И преподобный Вильям Эйскоу, и брат миссис Кларк — Гемфри Бабингтон, оба — примеры учёности для молодого Ньютона — были питомцами Тринити.
…Тринити-колледж, основанный Генрихом VIII в 1546 году, был сравнительно молодым среди кембриджских патриархов. Король задумал и построил для колледжа просторное здание, в котором должны были жить мастер, а также шестьдесят членов колледжа и стипендиатов, посвятивших себя служению святой и неделимой Троице. Милостью Марии Стюарт добавлено было к этим шестидесяти ещё двадцать стипендиатов, а Елизавета приложила руку к разработке колледжского устава. Теперь, при Джоне Пирсоне, Тринити-колледж, казалось, вернул себе былое величие. Колледж насчитывал теперь четыреста человек, включая полноправных его членов — бакалавров, магистров и докторов, стипендиатов — «софистеров», студентов младших курсов, клерков, хористов, слуг и ещё двадцать бедняков, живущих согласно уставу колледжа на его подаяния.
Среди этих четырёхсот был теперь и Ньютон. Через несколько дней после приезда, а именно 8 июня, он увидел свою фамилию в списке университетских студентов и торжественно поклялся вместе с ними сохранять университетские привилегии, честь и независимость университета, защищать их своим голосом и советом, а также регулярно платить взносы за учёбу. Это была так называемая матрикуляционная клятва.
…Исаака посетило тогда щемящее чувство причастности — и к этим замшелым каменным стенам, задрапированным вьюнком и диким виноградом, и к памяти учившегося здесь Бэкона, и служившего здесь Эразма, и к его новым коллегам.
Он был готов к подвигу служения. Служения кому или чему? Он бы не смог, пожалуй, на это ответить. Может быть, его труд должен был послужить овладению вершинами современной науки, давно освоенной и преподаваемой в Кембридже? К сожалению — нет. Ньютон попал в Кембридж в самый тяжёлый и бесплодный период его истории. К тому времени университет уже давно превратился в фабрику по производству учёных степеней. Его интеллектуальная атмосфера была довольно затхлой, в чём Исааку пришлось весьма скоро и с сожалением убедиться.
Исаак оказался в Тринити на самой нижней ступеньке его социальной пирамиды. Он был зачислен в ранге «сабсайзера», то есть беднейшего студента, получавшего право на учёбу, прислуживая. В июле он получил некоторое повышение и стал «сайзером». По уставу колледжа учащиеся, именуемые «сайзерами», были бедными студентами, обучаемыми в университете бесплатно. Их было тринадцать человек. Трое прислуживали мастеру колледжа, остальные десять — старшим членам. Сабсайзеры были на ещё более низкой ступени, поскольку, выполняя функции сайзеров, должны были платить за питание. Оки обычно прислуживали младшим членам колледжа или богатым студентам.
В документах Кембриджа и в воспоминаниях современников не сохранилось имени «хозяина» Ньютона. Современные исследователи предполагают, что им был член колледжа Гемфри Бабингтон.
В книге решений Тринити значится колоритная запись, живописующая часть обязанностей сайзеров: «…Приказано также, чтобы ни один бакалавр или учащийся ни при каких условиях не заходил бы в верхние кладовые, а посылали бы для этого сайзеров, которые не должны оставаться там долее, чем требуется для этой цели под страхом штрафа 6 пенсов за каждый раз. Но если кто-нибудь из них влезет в окошко кладовой или ударит мясника или его слугу и это станет помехой для того, чтобы вновь послать его в кладовую, виновник подлежит суду мастера колледжа и старших его членов». Сайзеров часто можно было встретить на задворках колледжа, где располагались службы: пивоварня, хлебопекарня, птичник и конюшни.
«Героические» биографии Ньютона стыдливо опускали «сайзеровский» период его жизни, боясь подорвать его авторитет, и тем, возможно, лишали жизнеописание героя тех естественных эмоций, мотивов, которые не могли быть безразличны для его жизненного пути и его творчества.
Чтобы как можно ближе представить себе его моральное состояние в начале кембриджской жизни, сразу подчеркнём, что обязанности Исаака были, по существу, лакейскими. Он был слугой — будил хозяина на утреннюю церковную службу, чистил его башмаки, причёсывал, таскал ему пиво и хлеб из кладовых, топил его камин, прислуживал ему, скромно стоя позади за столом, и убирал его ночной горшок. За всё это сайзер Ньютон получал возможность учиться; но он не имел права выходить из здания колледжа, а в капелле мог стоять лишь в определённом углу, куда собирали и остальных отверженных. Никто из членов колледжа не мог без ущерба для своей репутации ни говорить, ни даже находиться рядом с сайзером.
Ньютон стал слугой, хотя раньше сам имел слуг и, как утверждают, особенно с ними не церемонился. Более того, он стал отверженным, и это обстоятельство, возможно, усугубило его будущую кембриджскую изоляцию и неизбежное одиночество. Но, спросит читатель, и будет прав, ведь Ньютон был, по существу, весьма богатым человеком? Почему же его положение в колледже не соответствовало его достатку? Мать давала ему на год около десяти фунтов, хотя её доход достигал семисот. Один из исследователей — Грегори Кинг, подсчитав примерные доходы жителей Англии того времени, пришёл к выводу, что мать Ньютона и он сам были среди полутора тысяч самых богатых людей во всей стране. И всё же факт остаётся фактом — Ньютон был в колледже сабсайзером, а затем сайзером. Видимо, прижимистость — родовая черта землепашцев Ньютонов брала своё и отметила в конце концов благородную, но некогда очень бедную Анну Эйскоу.
О том, как Ньютон проводил в Кембридже своё время, почти ничего не известно. Его болезненная ранимость, боязнь критики и полная невосприимчивость к ней, привычка секретить всё и вся, сжигать свои и чужие письма и бумаги привели к тому, что подробности его жизни в Кембридже восстанавливаются историками буквально по крупицам. Он не вёл дневников. То, что он рассказывал о своей юности на исходе лет, отличалось крайней схематичностью, краткостью и неточностью. Его кембриджские коллеги-студенты — а их были сотни — не смогли ничего рассказать о нём. Он прошёл сквозь их сознание совершенно не замеченным. Они его не запомнили, не смогли опознать даже тогда, когда он стал знаменит.
Да и «героическая» традиция, бытовавшая главным образом среди английских биографов Ньютона XVIII–XIX столетия, привела к тому, что из его жизнеописаний было полностью изгнано всё мирское и, по их мнению, недостойное. Это обстоятельство, возможно, придавало Ньютону большее величие, но, делая его полубогом, лишало обычной человеческой теплоты и привлекательности. Усилиями биографов-викторианцев Ньютон засиял на небосклоне науки как солнце — без единого пятнышка. У него не могло быть предтеч, наследников и соперников. Никто не мог встать рядом с ним ни в моральном, ни в интеллектуальном плане. Лишь теперь, благодаря усилиям исследователей конца XX столетия, подлинных создателей ньютонианы, образ его приобретает свои истинные пропорции, реальные масштабы и земное измерение.
…Ещё вчера — робкий деревенский мальчик с чувствами, заполненными тихими голосами сельской жизни, ещё вчера — нерешительный и подозрительный юноша, проводивший дни в уединении наполненной старыми книгами мансарды, оказался вдруг в центре напряжённой жизни крупного университетского города. И это оказалось совсем непохожим на то, что рассказывал когда-то дядюшка Эйскоу.
Фривольная мораль Реставрации быстро перешагнула пределы королевского дворца и Лондона и к тому времени преодолела уже кембриджские стены. Постная пуританская скука и тревожное безделье, властвовавшие в Кембридже во времена Содружества,[8] с возвращением Стюартов сменились тайным, но всеобщим разгулом, в который активно включились богатые «вестминстерцы». Превыше всего стали цениться умение пить, курить и обращаться с дамами.
На досках объявлений колледжей висели строгие приказы: студентам категорически воспрещалось посещать таверны, пивные и кофейни, которых расплодилось в Кембридже великое множество. Эти приказы никто и не думал исполнять.
Студентов подстерегали ещё более страшные опасности — весьма притягательные для молодых мужчин дома, где их ждали опытные женщины. В колледжах распространялись списки заведений, которые было строжайше запрещено посещать, с их точными и полными адресами. И все знали, что услуги девушки в трактире «Королевский бык» оцениваются в шесть пенсов, а книга Светония «Жизнь двенадцати цезарей» стоит в кембриджской книжной лавке сорок шиллингов. И шли по пути экономии.
Время от времени руководство колледжей предпринимало (безнадёжные, впрочем) меры по наведению порядка. Сокурсника Ньютона Ричарда Смита изгнали из колледжа за «потерю человеческого облика от постоянного пьянства». Его, пребывающего в блаженной бесчувственности, подобрали прямо во дворе колледжа. За «скандальное поведение» изгнали ещё и Джона Янга, а горничной — «вдове Пауэлл» отныне запретили посещать комнаты студентов и членов колледжа.
Кого интересовали в этой обстановке золотые руки и острый ум Ньютона, его необычайные способности? Кому нужны были его солнечные и водяные часы, его умение определять по тени время года и день недели? Кому нужно было будить в нём стремление к общению, увидеть в нём остроумного и разговорчивого человека? Некому было открыть в нём эти таланты. Он навсегда остался замкнутым, мрачным, рассеянным и молчаливым.
Несомненно, мешало его положение сайзера, которое сковывало его возможности приобрести друзей или даже собеседников. Не будем забывать о его строгих, принятых им ещё в школе пуританских канонах поведения, совершенно чуждых морали Реставрации, морали Кембриджа.
Были и другие причины, сулившие Ньютону одиночество. То, что он был на год старше остальных студентов, может быть, было не столь уж важно. Важно то, что ему не удавалось скрывать своё превосходство. Началось с того, что он застал своих сокурсников играющими в шашки. Преодолевая себя, попросился сыграть. Может быть, если бы Ньютон был обычным сайзером — бедняком, одетым в ошмётки и обноски, — его бы в кампанию не допустили, но Ньютон одевался соответственно достатку семьи — добротно и чисто: его приняли. (Он не только прилично одевался. В его расходной тетради есть записи о том, что он доплачивал шесть пенсов за право сидеть за столом, а не прислуживать в качестве сайзера, за более удобное место на службе в церкви.) Без малейшего усилия Ньютон выиграл у всех подряд. Причём выигрывал на спор у любого и каждого, если только ему давали первый ход. Может быть, для того, чтобы быть вместе с этими учениками, имена которых ныне канули в вечность, ему стоило бы и проиграть. Но проигрывать он не умел и не хотел.
Не принесло ему популярности и то, что он без раздумий давал деньги взаймы. Его кембриджские тетради хранят тщательные записи о ссуженных и полученных назад деньгах. Он давал деньги в долг Генри Джермину, Барнаму Оливеру и Френсису Вилфорду, хотя делать это было строжайше запрещено. В правилах поведения студентов говорилось: «Никогда и никому не занимайте и никогда ни у кого не одалживайте денег и вещей». Нужно сказать, что сокурсники Ньютона особенно охотно брали в долг именно у него; он никогда не отказывал, не брал процентов и мирился с невозвращёнными долгами. И всё равно оставался одиноким и всеми отвергнутым.
Однажды ему повезло. Повезло за счёт очередного невезенья. Школяр, к которому его подселили, пригласил к себе весёлую компанию. Ньютон чувствовал себя не в своей тарелке и вышел сначала на поросший молодой травой булыжный «квадрангл» — внутренний двор Тринити, затем, когда совсем стемнело, пошёл гулять по тёмным кембриджским улицам, тишина которых то и дело взрывалась смехом, доносящимся из окон комнат, где веселились студенческие компании. И тут, на пустынных кембриджских улицах, встретил он ещё одного одинокого и отверженного — Джона Викинса — и разговорился с ним. Через полвека сын Джона Викинса рассказывал такую «забавную», по его словам, историю.
«Сосед отца по комнате во всём противоречил ему и постоянно с ним спорил. Однажды, не выдержав, отец пошёл прогуляться и встретил господина Ньютона, одинокого и покинутого. Постепенно разговорившись, они выяснили, что причина их отчуждённости одна и та же, и уговорились сделать так, чтобы их теперешние мучители мучили бы друг друга. При первой возможности они исполнили своё намерение и поселились вместе. Они жили вдвоём до тех пор, пока мой отец не покинул колледж…»
(В ньютоновских расходных книгах встречаем запись: «Шиллинг — носильщику, при переезде в другую комнату».)
Действительно, он прожил с Джоном Викинсом более двадцати лет. Известно, что Викинс помогал ему в экспериментах, набело переписывал его рукописи. Были ли они друзьями — сказать, однако, трудно. Уж очень одинок и не похож на других был Ньютон. Скорее всего Викинс испытывал к нему особое чувство уважения и восхищения.
…Ньютон постепенно вживался в кембриджские порядки. Он свято исполнял все предписания сурового устава и этим ещё более отдалял себя от общей массы студентов, относившихся к своим обязанностям спустя рукава. Он, например, вставал очень рано, дважды в день ходил в капеллу, был там уже в семь утра и затем в пять вечера, как и было установлено для всех лиц моложе сорока лет. В воскресенье он, как предписывалось уставом, вставал ещё раньше и в этот день «больше внимания обращал не на тело, а на душу». Воскресный день должен был быть посвящён только богу. Если остальные студенты легко нарушали этот завет и, будучи в воскресной компании, вели разговоры на любые темы, а не только на религиозные, Ньютон не нарушал это правило лишь потому, что ему не с кем было эти темы обсуждать. Был и неписаный устав Кембриджа, который гласил: считай, что каждый твой день — это день последний, и соответствующим образом проведи его. Ньютон так и поступал. Троицын день, 15 мая 1662 года он провёл, например, составляя список своих грехов. Он аккуратно занёс их в свой блокнот, предварительно зашифровав в системе Шелтона. В список попали все его вулсторпские и грэнтэмские прегрешения. Добавились и новые: «Делал яблочный пирог в воскресенье вечером»; «Брызгался водой в Твой день»; «Мылся в лохани в Твой день», «Вёл праздные беседы в Твой день и других случаях»; «Был невнимателен во время службы»; «Отдавал своё сердце деньгам, учёбе и удовольствиям больше, чем Тебе»; «Имел нечистые мысли, действия и мечты»; «Не жил в соответствии с моей верой: не желал Твоего причастия»; «Не боялся Тебя так, чтобы не обидеть Тебя»; «Боялся людей больше, чем Тебя»; «Вытирался полотенцем Вилфорда, чтобы не пачкать своё»; «Помогал Петиту делать его водяные часы в двенадцать часов ночи в субботу»; «Слишком много сердца отдавал деньгам».
Ньютон всеми силами боролся с дьявольскими искушениями, и каждый раз, заходя в таверну, что происходило, впрочем, крайне редко, или немножко выпив, или проиграв в карты, или совершив какие-нибудь другие экстравагантные для него поступки, он винился в этих грехах. Он винился в них в своей записной книжке, куда вносились эти, не соответствующие его нормальному образу жизни траты. Грехи отмечены в его записных книжках как события реальной жизни, вместе со штопкой носков и стиркой.
Как можно понять из записей двадцатилетнего Ньютона, он с детства внедрил в своё сознание как смертные грехи ложь, эгоизм, насилие, потерю контроля над своими чувствами и действиями. Он был истинным сыном своего пуританского века. И — своего университета, известного как твердыня правоверного англиканства, ставящего своих питомцев на высшие посты церкви, разрешающего им переводить и толковать Библию. Церковная учёность, церковная мораль и церковные книги — самые сильные первые влияния университета на молодого Ньютона.
Церковные книги находили в Кембридже даже там, где им быть не пристало. Совсем недавно, в Иванов день, в брюхе гигантской трески, продававшейся на кембриджском рынке, нашли церковную книгу с тремя благочестивыми трактатами — скорее всего свидетельство неразборчивости рыбы, ставшей свидетельницей кораблекрушения. О зловещем знамении узнали и вице-канцлер университеты, и мастеры колледжей. Даже появление кометы вряд ли вызвало бы большую тревогу.
А университетские школяры, для которых не было ничего святого, сочинили тут же весёлую песню, смысл которой заключался в том, что если теперь вместе с рыбой им будут доставляться и книги, то каждый вскоре станет обладателем неплохой библиотеки. Книги были дороги — куда дороже трески, студенты их не покупали. Даже библиотека Тринити-колледжа была довольно бедной. И содержала в себе совсем не те книги, которые нужны были Ньютону.
Истинная наука, сверкавшая на континенте именами Галилея и Декарта, никак не могла завоевать Кембридж. И даже соотечественник Фрэнсис Бэкон, ярый проповедник новой индуктивной философии, ни в коей мере не получил признания в своей alma mater — Тринити-колледже, не смог покачнуть авторитета царящей здесь аристотелевской философии.
Ярче всего научный ренессанс проявился в Италии, Франции и Голландии. Возрождение гуманизма, интерес к экспериментальной науке разрывали путы средневековой философии. Студенты всех стран континента гранили каменные полы университетов Италии, ставшей в то время центром мировой науки и культуры. Были среди них и англичане. Вернувшись, они пробовали внедрить на родине хоть какие-то новшества. Подобный энтузиазм, однако, не встречал ни малейшей поддержки. В библиотеках держали совсем не те книги, которыми пользовались на континенте. Как и в средние века не научные труды, а религиозные трактаты царили на пыльных полках.
Когда Ньютон поближе познакомился с системой кембриджского обучения, его ожидало большое разочарование. Учебный процесс находился в состоянии полнейшего развала. Лекций практически не читали, причём члены колледжа мало занимались и «тьюторством» — натаскиванием студентов, только в тех случаях, когда им нужно было немного подзаработать. Викинс рассказал Ньютону, что когда-то в Кембридже существовала система, при которой тьюторы выполняли по отношению к своим студентам родительские обязанности, были, как говорилось, in loco parentis.[9] Некогда тьюторы были непременной частью отлаженного учебного механизма. Они, случалось, разрабатывали для каждого студента свою программу обучения и натаскивали его по ней. При непослушании же и нерадивости употребляли розги. Сейчас и эта система пришла в полное запустение. Тьюторы в основном занимались сбором денег и строго следили лишь за тем, чтобы платежи от студентов поступали в срок. Неудивительно, что оканчивающие Кембриджский университет не знали даже признаков четырёх элементов Аристотеля, не говоря уже о других материях, больше отвечающих науке нового времени.
Тьютором Ньютона оказался Бенджамен Пуллейн — эллинист, позже профессор кафедры богословия, кафедры, некогда принадлежавшей Эразму Роттердамскому. Никакой дружбы, никакой близости и понимания между Ньютоном и его тьютором не возникло. И самое лучшее, что мог сделать Пуллейн для Ньютона, — это предоставить его самому себе, как предоставил он самим себе остальных своих подопечных.
В плачевном состоянии находились и учебные программы Кембриджа. Дядюшка Эйскоу, отправляя Исаака в Кембридж, дал ему с собой свой учебник логики Сандерсона, по которому он учился тридцать лет назад. Когда Ньютон в первый раз переговорил со своим тьютором, он понял, что в Кембридже время остановилось. Первой книгой, которую ему предлагалось изучить, была именно «Логика» Сандерсона, излагающая идеи Аристотеля.
(Купленную на рынке в Кембридже тетрадь-блокнот Ньютон заполнял с двух сторон: с одной стороны шла аристотелевская логика, с другой — аристотелевская этика.)
Учебные программы были практически теми же, что и в прошлом столетии: сначала риторика, латинский и греческий языки. Здесь пуританский университет, каким стал Кембридж после гражданской войны, постоянно встречался с трудностями при изучении древних авторов, весьма свободных в сюжетах и высказываниях. Особенно фриволен и недопустим был Марциал, но он извечно был в программе, и тьюторы стыдливо рекомендовали «выпускать при чтении некоторые места». Основным столпом обучения оставался по-прежнему Аристотель. После логики и этики студенты переходили к аристотелевской же философии. Обучение заканчивалось формальными диспутами студентов, сокрушавших друг друга Аристотелевыми силлогизмами. Именно знание этих силлогизмов, способность приводить их точно по тексту, правильно интерпретировать, использовать в споре были главной меркой испытания студентов. Публичный диспут был кульминацией и окончательной целью всего обучения.
С углублением деградации университетской науки, с существенным упрощением самого процесса обучения эти живописные диспуты на площадях и залах стали сначала бессмысленным представлением, а затем и вовсе исчезли. Защита диссертаций в публичных диспутах также потеряла свой смысл. Крушение аристотелевских доктрин и перипатетических[10] методов обучения было очевидно, но замены им найдено не было.
Царство идей Аристотеля не могло, конечно, обойтись и без аристотелевской физики. Представление о ней молодой Ньютон получил из книги Иоганнеса Магируса «Перипатетическая физиология». Здесь содержалась аристотелевская «Космология», здесь были аристотелевские концепции света, и именно отсюда молодой Ньютон выписал первый аргумент против телесности, корпускулярности света, а именно то, что в этом случае Солнце быстро бы истощилось. Здесь он вычитал кое-что о метеорах, о радуге. Но книга его не заинтересовала. Он бросил её на полпути, хотя мир Аристотеля оказал на него глубочайшее влияние. От Аристотеля он взял законы строгого мышления. Именно Аристотель дал ему пример системы, которая могла привести ошеломляющее разнообразие природы и горы разрозненных фактов в единую картину, в единую систему мироздания.
В тетрадке Ньютона имеется упоминание о Галилее. Это говорит о том, что Ньютон рано узнал о нём. Есть и курьёзная запись о системе Коперника:
«СИСТЕМА МИРА ПО КОПЕРНИКУ
Опиши окружность, для зодиака, раздели её на 12 знаков или 360 градусов. Помести Солнце в центр. Поставь центр Земли почти на 4 солнечных диаметра от центра Солнца по направлению к земному афелию, т. е. на два градуса по направлению к 4-му градусу Рака. Опиши его орбиту или окружность, такую, чтобы диаметр Солнца был 697-й частью её, т. е. 38 минут. Раздели её на 365 равных частей, и пусть каждая часть соответствует движению Земли в течение одного дня и 1 мин.
Или так: поставь центр Юпитера на расстоянии одного градуса от центра Солнца. Опиши окружность, как было указано выше, поставь новый центр на расстоянии двух градусов от Солнца, на той же стороне. Опиши вокруг него окружность и раздели её на 365 частей. Или так…»
Ньютону нравилось изучать латинский язык. Не только как источник учёности древних авторов, но и как живой язык мировой науки. Научные труды учёных всего мира выпускались тогда на латинском языке — для знающих латынь языкового барьера не существовало.
Он изучал греческий, хотя, возможно, и не так старательно.
Знал немного древнееврейский — во всяком случае, достаточно для того, чтобы разобрать кое-какие отрывки из Ветхого завета в оригинале. Немецкого он не изучал совершенно, а французским владел едва-едва.
Особое внимание уделялось в Кембридже изучению Библии. Оттуда черпали кембриджские знатоки представления о добре и зле, о благородстве характеров и изяществе манер. Библия была главным учебником жизни. Ньютон не сомневался в том, что всё описанное в этой книге — святая правда, всё было на самом деле, реально существовало и происходило. А очевидные несуразицы относил на счёт плохого перевода и условного зашифрованного языка, которым она написана.
Библия, по его мнению, была одной из двух великих книг человека. Второй же была сама книга Природы, которую Ньютон не уставал наблюдать. В феврале 1664 года, в сумерках, он обнаружил двойной ореол вокруг Луны и сделал об этом пометки в своей записной книжке. Интересно, что в описании Луны приводятся подробности: окраски кругов, их дуговые размеры. Это говорит о том, что Ньютон пользовался какими-то измерительными инструментами.
В записных книжках Ньютона, относящихся к трём годам начального курса обучения, — следы увлечения астрологией, фонетикой, попытки создать универсальный язык, основным свойством которого, как считал молодой Ньютон, должна стать строгая классификация предметов, явлений и концепций. Целью такого языка должно было бы стать преодоление барьеров непонимания между людьми. Как это характерно для одинокого Ньютона! В записных книжках содержатся его заметки и вычисления, относящиеся к определению музыкальных интервалов, математическому осмыслению кварты и квинты; он размышляет по поводу своих наблюдений рефракции света, делает заметки, связанные с обработкой линз и ошибками, аберрациями линз. Здесь же его математические заметки, связанные с извлечением корней — робкие переходы к «биному Ньютона». Чуть позже — наблюдения знаменитой кометы 1664 года.
Это плоды досуга «старшего софистера» — выпускника начального трёхлетнего курса обучения Кембриджского университета. Если присмотреться к темам его «развлечений» повнимательней, можно увидеть в них истоки многих будущих достижений великого мастера науки.
Первые три года пребывания Ньютона в Кембридже никак не отмечены. Он не отличался в занятиях, не получал стипендии — 4 фунта в год, хотя её дали почти всем ученикам Пуллейна. Теперь ему нужно было попасть в число «сколеров»,[11] то есть студентов старших курсов. Здесь, как и везде в Кембридже, важны были не успехи в учёбе, а влияние и связи. (В мае 1663 года четырнадцатилетний герцог Монмутский — незаконный сын Карла II — «заслужил» в Тринити звание магистра искусств. Когда он прибыл для получения диплома, его сопровождала свита из тридцати всадников. В честь новоявленного учёного был дан банкет и сыграна собственными силами комедия в Большом зале Тринити-колледжа.) В колледже давно уже свила гнездо привилегированная группа учеников Вестминстерской школы, автоматически переходивших в число «сколеров». Добрая половина членов колледжа пришла из Вестминстера. Для Ньютона страшнее всего было то, что выборы в число «сколеров» проводились тогда раз в четыре года. За всю университетскую жизнь Ньютона он смог использовать один-единственный шанс — выборы 1664 года. Если бы Ньютон не был избран в тот раз, он не был бы избран никогда. И пришлось бы ему уехать назад, в Вулсторп.
Но, даже имея в виду столь неблагоприятные перспективы, Ньютон не стал нажимать на занятия по классической кембриджской схеме и хладнокровно предался своим «развлечениям», работе в своём «Саду» — иными словами, тому, что никак и никем не могло быть тогда, казалось, оценено.
Выборы должны были состояться в апреле 1664 года, а Исаак никак не мог заставить себя взять в руки и дочитать наконец «Перипатетическую физиологию» Магируса. Попробовал взяться за «Риторику» Воссиуса и «Этику» Эвстациуса и тоже не смог дочитать их до конца. Он лишь торопливо пробежал их глазами, видимо, с единственной целью — оставить их вечный отпечаток в своей блестящей памяти для того, чтобы сдать экзамены.
Экзамены проводились в капелле и продолжались три дня. Первый, утренний экзамен продолжался с семи до десяти часов, вечерний — с часу до четырёх. Парадно одетые члены колледжа важно ступали меж рядов, время от времени указующим перстом поднимая очередного «прозелита», который, волнуясь, давал ответы на устно задаваемые каверзные вопросы.
Так или иначе чудо свершилось. 28 апреля 1664 года Ньютон был избран сколером и впервые получил стипендию. По-видимому, здесь дело не обошлось без мощной поддержки Гемфри Бабингтона. Бабингтон очень редко бывал в колледже — он проводил там лишь месяц в году. К счастью для Исаака, в 1664 году этот месяц пришёлся на апрель.
Для Ньютона окончилась позорная жизнь сайзера. Колледж предоставлял ему теперь тринадцать шиллингов и шесть пенсов в год на питание и столь же крупную — тут нет иронии: надо вспомнить тогдашний масштаб цен — сумму «на благочестивые расходы». Главное же было не это. Для него куда важнее было то, что с 28 апреля 1664 года Ньютон получал четырёхлетнюю отсрочку от возвращения домой. Впереди его ожидали четыре года занятий. И если бы через четыре года, в 1668 году, он, предварительно став бакалавром, получил бы ещё и степень магистра искусств, он мог бы провести в Кембридже ещё сколь угодно долгое время, добиваясь членства в колледже. И это было для него счастьем.
Учение стало единственной страстью его жизни. Работая, он забывал о еде и о сне. Его сосед по комнате Викинс не раз засыпал при свете свечи и, просыпаясь рано утром к службе, видел в неверном свете кембриджского утра фигуру сидящего в той же позе в углу за столом Исаака. Тот не замечал Викинса, как не замечал ничего вокруг. Он был совершенно счастлив.
Теперь он, освобождённый наконец от томительного ожидания и насильственно навязанных предметов, смог осмотреться и выбрать себе по душе занятия из тех, что рассыпаны были вокруг. И находил для себя всё новые и новые интересы. Сколеры толпой рвались на городскую площадь, где удавливанием казнили разбойника с большой дороги: они жадно ловили предсмертные его хрипы, проклятия и признания в новых и новых ужасных преступлениях; во все глаза смотрели, как вешают женоубийцу; улюлюкали стоящему у позорного столба стряпчему, предавшему интересы клиента, и богохульнику, горланившему нечестивые куплеты на Стурбриджской ярмарке. Сколера Ньютона мы не смогли бы увидеть в этих хохочущих, гогочущих, веселящихся толпах.
Не было его и с иными, чинно сидящими в тиши келий и библиотек и бисерной латынью вышивающими на пергаменте бесконечные узоры учёных слов. В подавляющем большинстве их усердием рождались на свет всё новые и новые богословские или философские трактаты. Старательные искали новый смысл у Аристотеля, честолюбивые комментировали богословов древности, надеясь приобщиться к славе их; самые дерзкие давали новые интерпретации священного писания. Математикой и натуральной философией — сиречь физикой, не интересовалась в Кембридже, казалось, ни одна живая душа. Все учёные силы отданы были изучению классиков — Аристотеля и старых христианских богословов. В Кембридже всерьёз считали, что все сколько-нибудь стоящие идеи высказаны тысячи лет назад. В университете любили повторять высказывание монаха XIII века Бернарда Шартрского, уже тогда утверждавшего, что карлики видят далеко лишь потому, что стоят на плечах гигантов. Под гигантами имелись в виду классики. Авторитет мысли опирался на седую древность.
Были в Кембридже и несколько излюбленных исследовательских сюжетов, увлёкших не одного сколера и заполнивших собой не один громадный том in quarto. Одни пытались доказать, что все языки мира: и греческий, и латинский, и английский, и французский, и испанский, и итальянский, и все без исключения прочие — произошли от праязыка, на котором говорили Адам и Ева, то есть древнееврейского. Проблески случайного сходства между языками народов, живших в самых разных концах света, казались им поистине божественным указанием на глубинные связи, в реальности никогда не существовавшие.
Другие зачитывались трудом Джозефа Мида «Ключ к Апокалипсису», где он, основываясь на туманных намёках, сходстве имён королей, совпадениях в хронологии, пытался выявить в «Откровении Иоанна Богослова» связь исторических и библейских событий. Книга считалась вершиной теологической мысли и недостижимым идеалом подлинной учёности.
Мы говорим: не был Ньютон ни с теми, ни с другими, но это не совсем правда. И даже совсем неправда, ибо последующие многотрудные занятия Ньютона убеждают нас: нельзя было жить в Кембридже и не дышать кембриджским воздухом, не впитывать кембриджских обычаев и нравов, не принимать его научных идеалов.
Но было в Кембридже и иное. Тенденции догматизма противостояли философы-неоплатоники, и первый среди них — Генри Мур, тоже из Линкольншира, уроженец Грэнтэма, учитель доктора Кларка, брата аптекаря Кларка, у которого когда-то жил Ньютон. Мур одно время увлекался картезианством[12] и считал Декарта самым трезвым и правдивым философом в христианском мире. В книге «Бессмертие души», вышедшей в сайзерские годы Ньютона, Мур горячо поддерживал это учение. Несомненно, что Ньютон находился под сильным влиянием Мура. В его записную книжку, относящуюся к кембриджским годам, вписано несколько цитат «из книги «Бессмертие души» блестящего доктора Мура». На другой странице, под заголовком «Об атомах», говорится о том, что существование находящихся в движении маленьких неделимых частиц «доказано и вне любых контроверсий».
Через много-много лет Ньютон признался одному из своих друзей, что когда-то был картезианцем. В годы учения Ньютона это было проявлением самобытности и даже мужества. Декарту не было места в Кембридже. Он вызывал подозрения. Он не только не входил в программу, но был прямо запрещён. Считалось, что его религиозные взгляды «оскверняют Евангелие». Лишь фрондирующая часть университетской публики могла позволить себе щеголять знанием Декарта.
…Необычайно интересно листать кембриджский блокнот Ньютона, относящийся к началу 60-х годов. Это единственный источник, раскрывающий сложную внутреннюю жизнь автора, практически не получившую отражения в его письмах и научных трудах. Только здесь, на страницах блокнота, он позволяет себе высказать суждения о природе чувств, мечты, фантазии, памяти, воображения. Его волнует одно — как всё это способствует творчеству? Нет ли у человека чувств, ещё не изученных? И вот мелькнула в блокноте заметка об опытах по телепатии, которые демонстрировал коллегам студент из Оксфорда — его научили этому цыгане. Видимо, Ньютон серьёзно размышлял о телепатии как об одном из способов взаимодействия на расстоянии. Не мог ли бог внушить таким способом свои откровения пророкам? Не являются ли справедливыми сведения об излечении ран на расстоянии посредством прикладывания неких порошков к оружию, нанёсшему рану? Нет ли здесь связи с притяжением пылинок к янтарю и магнита — к железу? Нет ли связи с силой тяжести, приковывающей людей к Земле?
Записи такого рода соседствуют со всё более частыми обращениями к Декарту. То, что Декарта столь настойчиво изгоняли из колледжей, лишь прибавляло Ньютону охоты заняться им. Как только он открыл первую страницу «Начал философии», он понял, что это именно то, что он искал — и не находил — в Кембридже. Он без колебаний принял декартовские идеи. А Пуллейн, тьютор, был доволен, что Исаак Ньютон полностью перестал докучать ему своими бесконечными вопросами.
Механическая философия Декарта рисовала мир находящимся в вечном и непрерывном движении. Вихри материи создавали в пространстве живые и сильные клубящиеся потоки. Тяжесть тел объяснялась истечением маленьких невидимых частиц, ударяющихся во все тела и тянущих их вниз.
Но сразу же скажем, и это видно из примеров: записи Ньютона — это не конспект «Начал философии». Он преломляет идеи Декарта по-своему, пытается развить их и приходит к неосуществимому — вечному двигателю, столь естественному при вечном движении декартовских вихрей.
«Если бы лучи тяготения можно было остановить, отразить или повернуть, тогда можно было бы «одним или двумя способами, изображёнными здесь, создать вечное движение», — записывает в блокноте Ньютон. Такие же вечные двигатели предложены Ньютоном там, где он — по Декарту — размышляет о магнетизме.
В этих заметках — наброски, эскизы будущих теорий, принятие и отвержение Декарта. Он совершенно не удовлетворён декартовским объяснением природы света и сопровождает его описание своими возражениями. К записям о небесных телах и их орбитах он добавляет замечание, сводящееся к тому, что по картезианской теории света затмения Солнца и Луны, а также пасмурная погода должны были бы быть невозможными, ибо и Земля, и Луна, и облака могут передавать давление вихрей.
Вызывает протест Ньютона тезис Декарта о том, что различные цвета суть различные пропорции смешения света и тьмы. Если это так, считает Ньютон, то отпечатанный лист книги, представляющий собой чёрные буквы на белом листе, должен казаться на некотором расстоянии цветным. Не нравится Ньютону и объяснение Декартом морских приливов с помощью лунных вихрей, разгоняющих морскую гладь. Нельзя ли это проверить при помощи специальных приборов? Ньютон приходит к необходимости эксперимента — весьма необычная мысль в Кембридже 1664 года.
Сначала он проводит опыты в своём воображении. И это — не пассивное наблюдение природы. Ей задаются прямые, порой каверзные вопросы. «Да» или «нет»? Природу вопрошают в воображении, и из имеющегося жизненного опыта, опыта прошлого общения с природой, получают ответ.
Множество теорий и гипотез, выдвинутых до Ньютона, дразнят его воображение. Собственно, основных направлений мысли о строении природы и вещества было тогда три — «врождённые свойства» и дальнодействие Аристотеля, атомизм Эпикура и Гассенди и вихри Декарта. На примере страниц кембриджского блокнота, где говорится о движении, можно увидеть, как различные теории воспринимаются Ньютоном. Яростная атака на аристотелевское объяснение стремления тела продолжать движение по прямой линии после того, как причина движения устранена (стрела, выпущенная из лука, камень — из пращи), сменяется твёрдой уверенностью в том, что источник продолжающегося движения — «естественная тяжесть». Здесь явственно ощущается влияние Эпикура и Гассенди, с атомистическими идеями которых Ньютон познакомился из книги последователя Гассенди, члена Королевского общества Уолтера Чарлетона «Физиология». По Гассенди, каждый атом обладает специфическим видом движения — тяжестью. Это — и не средневековый «импетус», и не грядущая ньютоновская инерция. В атомах Гассенди — отрицание первого и предчувствие, ожидание второго.
Многозначительной выглядит в записной книжке Ньютона краткая запись, явно сделанная под влиянием фразы из книги Чарлетона: «В философии не может быть государя, кроме истины… Мы должны поставить памятники из золота Кеплеру, Галилею, Декарту и на каждом написать: «Платон — друг, Аристотель — друг, но главный друг — истина».
Ньютон благодарен Декарту за своё введение во храм механистической философии. Но его смущает непременно вихревое движение декартовских частиц материи, он отделяет частицы от вихрей, оставляя частицы и отрицая вихри, и переходя тем самым к философии Эпикура, следовавшего путём Демокрита. Связь философий Эпикура и Ньютона ещё глубже: не Эпикур ли призывал к уединённой жизни, направленной на отсутствие страданий, здоровье тела, безмятежность духа, преодоление страха перед суевериями и смертью? Не он ли предлагал преодолевать эти страхи познанием природы?
В записных книжках можно найти явные следы знакомства Ньютона с трудами Кеплера, с его «вселенским кубком» и системой мира. Есть замечание о том, что материя, вызывающая падение тел, должна действовать так, как если бы она была сосредоточена не только на поверхности тела, но и в его толще.
Есть следы чтения «Левиафана» атеиста Гоббса, трудов главного естествоиспытателя Англии — Роберта Бойля, «Диалогов» Галилея. А в конце 1664 года в записной книжке появляются первые ньютоновские наблюдения и эксперименты. Они начинаются с описания знаменитой кометы 1664 года.
…Она была неожиданной. Поразительно яркая, она была видна чуть ли не год во всём свете — в Европе, Америке и Азии. Адриен Озу в Париже, Джованни Кассини в Риме, поляк Ян Гевелий приникли к окулярам телескопов: не могут ли орбиты комет быть эллипсом, параболой или гиперболой? Не могут ли они оказаться замкнутыми, а период обращения таким, что комета будет доступной для повторного наблюдения? У Пьера Пти в Париже были основательные подозрения, что он наблюдает ту же комету, которую видели в 1618 году. Теория Коперника, «пифагорейская гипотеза» тем самым распространялась на загадочный мир комет. А у Роберта Гука и Кристофера Рена в Лондоне возникла мысль, что между небесными телами могут существовать силы притяжения, зависящие, возможно, от квадрата расстояния.
В то время Ньютон усердно занимался оптикой, шлифовал стёкла, делал галилеевы телескопы. Он решил наблюдать за кометой, надеясь извлечь из её поведения суждение о правоте или неправоте Декартовой вихревой гипотезы.
Ньютон наблюдал комету больше месяца, ночами, с конца 1664 года. Комета довела его почти до бесчувствия. Бессонница, головные боли, слабость одолевали его, но он каждый раз упрямо распахивал окно, направляя в небо свой самодельный телескоп. Он потерял представление о времени, почти утратил способность заниматься и что-либо воспринимать. Но он смог извлечь пользу даже из этого. Борясь с бессонницей ранним вставанием, он сохранил эту полезную привычку на всю жизнь.
Комета оказалась яростной противницей Декарта. Вместо того, чтобы двигаться в том направлении, куда движутся планеты, куда гонят их декартовские вихри, она упрямо летела назад. Похоже было, что не вихри Декарта управляли её движением, а нечто иное. Какая-то другая сила действовала между телами Солнечной системы. Иные законы управляли движением планет.
Видимо, и истинные законы оптики были отличны от тех, что предлагал Декарт. Оптические эксперименты Ньютона начинаются с исследования им зрения и зрительных ощущений. Иногда он, закрыв веко, сдавливал пальцами своё глазное яблоко, и перед ним возникали странные картины — новые краски, новые цвета, новые формы. Точки, палочки, зигзаги самых различных оттенков проплывали перед глазами. А иногда он закрывал один глаз и смотрел другим на Солнце до тех пор, пока все светлые предметы не оказывались красными, а тёмные — синими, пока ему не казалось, что он ослеп. А после того, как «движение духов» в глазу почти затухало, то есть после того как предметы приобретали свою естественную окраску, он закрывал глаза и вызывал в своём воображении образ Солнца. Когда он снова открывал глаза, светлые предметы вновь казались красными, а тёмные — синими. Из этого Исаак заключил, что воображение способно возбудить в оптическом нерве столь же сильное ощущение, что и само Солнце. Он едва не испортил себе глаза и в конце концов был вынужден запираться на несколько дней в тёмной комнате перед тем, как повторить свои эксперименты по «световым фантазиям». Он надеялся, что темнота даст ему возможность возродить и зафиксировать какие-то новые ощущения, невиданные фигуры, странные образы, проплывающие перед глазами.
Свои вопросы к природе Ньютон суммирует в «Вопроснике» — своеобразной исследовательской программе, выраженной в форме вопросов к природе. Он начал задавать их ещё в 1664 году, ещё до того, как стал охотиться за кометой. «Вопросник» набросан торопливым почерком, совсем непохожим на тот, который был свойствен его «сайзерским» годам. Новая программа исследований захватила его, и он торопливо, увлечённо записывает то, что с ней связано. Ясно видно: записи делались в период подъёма, творческой спешки.
Его вопросы к природе («Questiones quaedam philosophicae») собраны под сорока пятью заголовками… Здесь есть основные проблемы устройства мира, строения материи, определения времени, пространства, движения, различных качеств — таких, например, как текучесть, мягкость; рассуждения о природе света и цветов, зрения, чувств в целом. Есть заметки о склеивании тел, капиллярном действии, поверхностном натяжении. «Вопросник» содержит явные следы влияния Мура. Здесь есть главы «О Боге», «О творении», «О душе», «О сновидениях». Ньютон бесстрашно врывается в самые тёмные углы философии и естествознания. Мир Аристотеля покинут навсегда. Мир Декарта находится под сильнейшим подозрением.
Благодаря записным книжкам, которые Ньютон заполнял в Кембридже своими заметками о прочитанном и продуманном, но в основном — записями о расходах, мы можем получить некоторое представление о подробностях его кембриджской жизни.
Самым большим пожирателем денег Исаака был тьютор Пуллейн, которому Ньютон должен был уплатить пять фунтов за подготовку к званию бакалавра и ещё пять — за подготовку к званию магистра искусств. Раз в квартал он должен был платить также и Агате — горничной. Если он и позволял себе иногда купить немного вишен, мармелада, кекса, шербета, сладкого крема и даже вина, он обязательно заносил подобные расходы в рубрику «пустых трат», а не в рубрику «трат праведных», куда собирались сведения о купленной одежде, книгах и всяких академических расходах. Туда же, впрочем, попало и пиво.
Сначала в его расходных тетрадях безраздельно господствуют мармелад, пирожки и апельсины, но с 1664 года среди расходов мало-помалу начинают значиться инструменты и книги.
(Он стал тратить деньги на книги, хотя книги стоили очень дорого, иной раз фунт и больше. А холщовый кафтан стоил пять шиллингов, пара тёплых чулок — три шиллинга. Три шиллинга шесть пенсов платили за кожаные башмаки.)
Начинает расти его впоследствии столь обширная библиотека. Он купил «Хронику» Кохолла, «Историю английских династий» и «Четыре царства» Слейдена — путаную книгу, в которой в основу понимания истории положена книга пророка Даниила. В идею четырёх царств Ньютон свято верил до конца своей жизни. Она связывала для Ньютона бога и историю. История становилась божественной, а бог — историческим.
Мир Ньютона полон вопросов, полон смысла, полон мыслей, идей и увлечений.
…В его комнате, в его келье стыли на столе овсяная каша-размазня, молоко, варёные яйца. То, что должно было быть горячим обедом, становилось холодным завтраком. Ньютону было не до еды и не до сна. Год 1664-й стал началом научного творчества Ньютона, в этот год впервые зацвёл его «Сад».
В марте 1664 года в устоявшейся кембриджской жизни случилось важное, хотя и не привлёкшее особого внимания школяров событие: Исаак Барроу в присутствии университетских старейшин в парадных мантиях прочёл в Тринити-колледже первую лекцию в качестве лукасианского профессора математики. Кафедра была создана всего год назад, и расходы на её содержание, расходы немалые, взял на себя некий Генри Лукас, поставивший одно лишь непременное условие — первая кафедра математики в Кембридже должна называться его именем.
Исаак Ньютон — в числе немногих (очень немногих!) слушателей. Он ловит каждое слово. Ведь лекции Барроу в точности отвечают сегодняшним увлечениям Ньютона, подстёгивают его интерес к математике — к математике как средству постижения природы.
Курс, прочитанный профессором Барроу, был довольно элементарен. Но так или иначе, именно с началом лекций Барроу совпадает — и вряд ли это случайно — возникновение у Ньютона страсти к математике.
…Незадолго до смерти Ньютон, беседуя с английским математиком Абрахамом де Муавром, сказал, что начало его математических увлечений связано с покупкой им на Стурбриджской ярмарке 1663 года книги по индуистской астрологии. Книга была дорога, покупка её была событием. Причина покупки: Ньютон хотел узнать, что произойдёт с ним в будущем, какие события ждут его завтра, какие беды и несчастья подстерегают за углом? Но книга, оказалось, требовала от желающего узнать своё будущее изрядных математических познаний — там нужно было, например, рассчитывать площади и объёмы облаков, что было невозможно без знания элементарной тригонометрии, которую Ньютон не изучал. Пришлось купить книгу и по тригонометрии. Но и она оказалась непонятной! Автор всё время взывал к Евклиду. Ньютону пришлось снова разориться и обратиться к истокам. Тут он обнаружил, что многие теоремы, которые он раньше считал очевидными, даже «пустяковыми», имели глубокий смысл. Он с удовольствием дочитал книгу до конца и стал большим специалистом по евклидовой геометрии, что было особенно приятно Барроу — ведь именно он был издателем трудов Евклида в Кембридже.
Читал Ньютон и «Геометрию» Декарта. В ранних биографиях Ньютона рассказывается о том, как, прочтя две или три страницы, он понял, что это выше его разумения. Начал сначала и продвинулся странички на две дальше. Повторяя приём, он прочёл книгу до конца. Эта история, конечно, поражает воображение, но совсем не соответствует истине, да и реальному ходу научения любого человека — даже Ньютона, который всегда начинал с простого и лишь затем переходил к сложному. Правда, делал он это необычайно быстро, быстрее всех других своих знакомых и незнакомых коллег.
Совсем недавно обнаружили выразительные следы тщательнейшего изучения Евклида молодым Ньютоном. Этот небольшой штрих позволил понять, как пришёл Ньютон и к декартовской геометрии.
Ньютон рассказывал друзьям своей старости:
— Проглядев список своих кембриджских расходов за 1663–1664 годы, я увидел, что в 1664 году, будучи старшим софистером, я приобрёл сборник Схоутена и «Геометрию» Карта — уже зная эту «Геометрию» и «Ключ» Утреда по крайней мере за полгода до этого. Тогда же я взял почитать работы Валлиса. Делая зимой 1664/65 года выписки из Схоутена и Валлиса, я открыл метод бесконечных рядов. А летом 1665 года, будучи вынужден уехать из Кембриджа из-за чумы, я вычислил площадь гиперболы с точностью до пятьдесят второго знака… Это было в Будби, в Линкольншире…
Что же за книги взял себе в математические поводыри Ньютон?
Первая — это учебник Вильяма Утреда. Утред умер всего 3–4 года назад, оставив себе памятником труд по арифметике и правило умножения чисел столбиком. Ван Схоутен был попроще — обычным учителем, перелагавшим на немудрёный школярский язык сложные геометрические эссе Виета и Декарта.
А вот Франсуа Виет был, возможно, первым, кто понял, как алгебра нужна геометрии. Отринув путы общепринятого в те поры словесного объяснения математических операций, он ввёл изящнейшее выражение известных и неизвестных величин посредством букв и использовал специальные обозначения для указания степеней. Создав элементарную алгебру («анализ»), он сам вписал в неё первые главы, дав известную формулу связи между корнями и коэффициентами уравнений. (Франсуа Виет знал и иную, тайную славу: его математический талант помог разгадать сложнейший шифр, которым пользовались для переписки испанский король Филипп II и его наместник в Нидерландах Фарнезе, и тем оказал большую услугу своей стране и её королю — Генриху IV французскому.)
Но именно Декартова геометрия стала для Ньютона главным откровением. В «Аналитической геометрии» алгебра шла рука об руку с геометрией, извлекая из этого альянса неведомые ранее преимущества. Система прямоугольных координат с осями «x» и «y», алгебраическое толкование различных геометрических понятий открывали перед математиками новые горизонты, а может быть, и просто новый мир.
Декарт ввёл в математику существующий до сих пор алгебраический стиль обозначений. Первые буквы алфавита он отдал заданным, известным величинам, а последние — неизвестным. Многие ворчали, не признавая Декартовых новаций. Паскаль смеялся над ними, а Чирнгауз ругательски ругал. Но, заменив цифровые обозначения буквенными, Декарт дал математикам необычайную свободу и лёгкость. Буквы позволяли подмечать то, что раньше тонуло в цифрах, в громоздких арифметических выкладках. В математику вошла диалектика. Рано или поздно должно было появиться дифференциальное и интегральное исчисление.
Это неизбежно должно было случиться и потому, что на математику наступала практика. Морские капитаны, чиновники адмиралтейства, астрономы, оптики, механики, торговцы требовали от математики решения заботящих их задач: найти точные размеры тел сложной формы. Вычислить объём винной бочки! Найти центр тяжести некоторой фигуры! Определить форму орбиты планеты! Определить площадь замысловатого участка земли! Нарисовать точную карту новой территории! И ещё великое множество задач и проблем требовало от математики односложного и прямого ответа.
Многие из этих задач известны с древности, но лишь математики XVII столетия разработали эффективные приёмы, связанные с использованием бесконечно малых величин, завершившиеся величайшим открытием Ньютона — дифференциальным и интегральным исчислением.
Ньютон подошёл к этому своему открытию лишь после того, как уже вдоволь наигрался на декартовой плоскости с кривыми второго порядка, любимыми Пьером Ферма. Здесь был Олимп знаний времени, но Ньютон даже не остановился на нём, без усилия и передышки перейдя к кривым третьего порядка. Он быстро оснастил эти кривые, как Пьер Ферма, осями, вершинами, центрами, диаметрами и асимптотами, произвёл классификацию этих кривых и проработал их теорию.
Невозможно представить себе другой пример столь быстрого расцвета математического гения. За год-два провинциал, неофит, ничем пока себя не проявивший школяр смог не только вписать новые главы в самые сложные страницы анализа, но и превратиться в основоположника современной математики.
На рождество 1664 года, в свой день рождения, Исаак решил сделать самому себе подарок: составить список задач, которые он ещё не решил. Сначала их было двенадцать, затем число их росло, одни заменялись другими (о чём свидетельствуют чернила разной плотности в кембриджском блокноте), пока их не стало двадцать две. Задачи были такого типа: найти оси, диаметры, центры, асимптоты различных кривых, сравнить кривизну их с кривизной круга, найти наибольшую и наименьшую кривизну, построить касательную к кривой…
А уже через несколько дней после рождества он получил подарок и от Кембриджа — его произвели в бакалавры. Без всяких экзаменов, без унизительного стояния на «квадрагезиме» — арене позора. Если бы он не миновал этой неизбежной ступеньки, он должен был бы в конце концов избрать для себя один из двух путей — или вернуться в Вулсторп и стать помимо своей воли полновластным хозяином поместья, или же принять священный сан и получить в лучшем случае — приход Северного Уитэма, приход его отчима — Барнабы Смита, а в худшем — место домашнего священника у какого-нибудь аристократа или разбогатевшего торговца, по существу, место мальчика на побегушках, подходящая партия для горничной, конечно, в том случае, если на неё не польстится дворецкий.
А экзаменов не было потому, что комета 1664 года сказала правду. Пронёсся слух о том, что из Лондона наступает чума. Сколеров подходящего стажа произвели в бакалавры без излишних формальностей.
…А может быть, это было и неплохо — то, что он с опозданием узнал классическую геометрию. Для него уравнения были не просто иллюстрацией геометрических построений, но имели собственный смысл, отражая собой саму Природу…
Внимание его сосредоточивалось не столько на кривых, сколько на уравнениях. Он изучал уравнения, описывающие всевозможные кривые, всячески упрощал их, используя самые неожиданные оси координат. Он свободно обращался с декартовой плоскостью, легко передвигал по ней прямые и кривые, видя за этим изменения соответствующих уравнений и их корней, без устали сталкивал на плоскости различные фигуры, с любопытством наблюдая за их взаимодействием. Уже в мае 1665 года он нашёл теорему, переоткрытую в 1720 году его последователем Колином Маклореном: о числе точек пересечения двух кривых разных порядков.
«А вот теперь, — вспоминал Ньютон, — я расскажу ещё о том, каким образом я впервые получил ряды… В начале моих занятий математикой, когда я натолкнулся на работу знаменитого Валлиса, я рассматривал те ряды, путём интерполяции которых Валлис получал площадь круга и гиперболы…»
Из последней фразы видно, что Ньютон шёл к своему открытию вполне традиционным путём — через квадратуры. Упрощённое вычисление сложных площадей всегда было одной из центральных задач математики. Исстари известны способы точного вычисления площадей квадрата, прямоугольника, треугольника. И всё. Но исстари же известно, что площади, ограниченные кривыми линиями, вычислять чрезвычайно сложно. И даже не из-за бесконечного разнообразия кривых линий. А из-за того, что различные кривые линии трудно наложить одна на другую. Как определить, например, что один эллипс именно вдвое больше по площади, чем другой?
Во времена Ньютона математики делать этого не умели.
Но как мог Архимед делить шар на две части, объёмы которых находились бы в заданном отношении?
— Немыслимо, чтобы Архимед решил эту задачу случайно, — рассказывал на лекциях Барроу, большой знаток древних геометров, — решить её можно только угадыванием, месяцами чёрной и неблагодарной вычислительной работы. Он, несомненно, пользовался каким-то аналитическим методом, который скрывал…
Ньютон пока изучал, как проводится вычисление площади различных фигур. Площадь круга, например, можно очень грубо оценить, вычисляя площадь вписанного в него квадрата. Эта «площадь круга» будет, конечно, меньше площади круга. Зато отпала необходимость вычислять площадь, ограниченную кривой линией. Площадь вписанного восьмиугольника уже ближе к площади круга, вычислить её тоже можно. Площадь 128-угольника практически точно соответствует площади круга. Площадь круга можно вычислить, и вполне точно, если поставить задачу найти предел — площадь вписанного в круг бесконечно-угольника, сторона которого бесконечно мала. Точно так же можно вычислить площадь, ограниченную любой кривой линией, — если заменить её множеством прямоугольников или других легко вычисляемых фигур с бесконечно малой стороной.
Именно этой тропой шёл профессор геометрии Оксфордского университета Джон Валлис, один из основателей Королевского общества, автор книги «Арифметика бесконечного», работ по теории удара, приливов и отливов, звука и тяготения; а кроме того — сотрудник кромвелевской разведки, отгадчик секретных шифров роялистов (нужды практики не оставляли математику в покое).
Валлис шёл от Кавальери — он превращал сложные кривые в ступенчатые пирамиды. Иногда ему удавалось подобрать законы, управляющие высотой ступенек, и выразить их с помощью бесконечных рядов. (Он и не подозревал тогда, что занимается примитивным интегрированием.)
Валлис широко использовал метод интерполяции — поиск неизвестных членов математического ряда, лежащих между известными. Изучая один из валлисовских примеров — частный случай бинома (1–
Разработка в 1664–1665 годах биномиального разложения для какого угодно целого положительного показателя была крупнейшим научным достижением Ньютона, сравнимым по своему значению с открытием дифференциального и интегрального исчисления. Он сразу же находит для своего открытия выразительные применения. Записывает ряды для выражения сегмента и сектора круга, синуса, арксинуса, логарифмической функции. С помощью рядов Ньютон мог теперь изучать свойства функций, делать приближённые вычисления. В алгебре ряды были не менее важны, чем десятичные дроби в арифметике. Сам Ньютон говорил:
«Как десятичные дроби обладают тем преимуществом, что выраженные в них обыкновенные дроби и корни приобретают в некоторой степени свойства целых чисел, так что с ними можно обращаться как с последними, так и буквенные бесконечные ряды приносят ту пользу, что всякие сложные выражения можно с их помощью привести к бесконечному ряду дробей, при этом с небольшой затратой сил удаётся преодолеть трудности, в другом виде представляющиеся почти непреодолимыми».
Ньютон стал главным создателем исключительно продуктивного метода разложения в ряды и расплодил их громадное разнообразие там, где раньше была лишь геометрическая прогрессия и несколько других частных видов.
Как-то, уже во время чумы 1665 года, когда он поселился в Вулсторпе, он решил, как обычно, прогуляться по большой северной дороге. Задумавшись, он отмахал по мощёному тракту несколько миль и не заметил, как очутился уже в Будби Паньель, где настоятелем служил член Тринити-колледжа Гемфри Бабингтон, его бывший «хозяин». Бабингтон встретил Исаака тепло, обласкал, вёл с ним учёные разговоры. В результате Ньютон прожил у маститого кембриджца несколько дней и за эти дни полностью навёл в своей голове порядок относительно рядов. Здесь, в Будби, было спокойно. Здесь была богатая библиотека, где ничто не мешало читать и размышлять, не опасаясь упрёков в безделии и бесконечных понуканий. Именно здесь Ньютон решил опробовать свой биномиальный ряд для вычисления площади гиперболы. Формула получалась очень простая. Она позволяла определять площадь с любой точностью, зависящей лишь от терпения я усидчивости, — она определялась тем количеством членов ряда, которым довольствовался искатель площади гиперболы.
Ньютон просидел всё утро, добавляя и добавляя новые члены ряда и повышая точность. Десять знаков, двадцать, тридцать… Когда перед Ньютоном было уже 52-значное число, его позвали обедать. И хорошо сделали, поскольку где-то на сороковых знаках он допустил ошибку.
Хотя позднее Ньютон создал общие методы разложения в степенные ряды, он до старости сохранил особую любовь и привязанность к простому биномиальному ряду.
…Новое увлечение и новая чёрная бакалавровская мантия с белым воротничком всё больше отдаляли его от детской мечты — жениться когда-нибудь на мисс Сторер. Маленькая фигурка её, смутные воспоминания о проведённых вместе детских годах меркли в его воображении перед пронзительным светом математической истины. Сейчас он чувствовал себя способным решить проблемы, которые веками волновали человечество. При одной мысли об этом он ощущал глухой и мощный ток крови, бешеное нетерпение и ненасытную страсть первооткрывателя. Конечно, он останется в Кембридже навсегда. Потом он станет магистром, затем членом колледжа, может быть, профессором. Он знал, что членам колледжа запрещено жениться. Ньютон не жалел об этом. Его любовью стала математика…
Немало ещё людей, которые знают о Ньютоне лишь то, что связано с рассказом о яблоке.
Царица грозная, Чума
Теперь идёт на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой…
Что делать нам?
Комету 1664 года наблюдал не только Ньютон. Её видела вся Англия. Незадолго до рождества мелкий клерк, сохранивший в самые тяжкие дни верность Стюартам и за это награждённый Карлом II должностью крупного чиновника Адмиралтейства, — Сэмюэль Пепис, сидя в уютной гостиной своего роскошного лондонского дома, записал в дневнике — позже столь знаменитом: «Здесь много говорят о том, что по ночам видна комета». И ещё через несколько дней: «Сейчас необычайно холодно. Наступил долгий морозный сезон. Комета видна очень ясно».
Комета была страшным знаком, предупреждением небес о предстоящих несчастьях, насылаемых на страну, на народ, на монарха за их прегрешения. Говорили, что комета — знак наказания за пьянство и распутство, царившие при дворе, за вседозволенность и нечестивость, за отказ от пуританской морали Кромвеля.
Как бы сомневаясь в том — все ли правильно поймут недоброе знамение, небеса представляли в предупреждение и другие вещие знаки. Все — страшные. Астрологи наблюдали за кровавым Марсом и видели, что он подходит близко, слишком близко к жёсткому беспощадному Сатурну. Это могло означать лишь одно — предстоящий вскоре конец света и Страшный суд. С ужасом указывали на дневное небо — там облака образовывали странные фигуры, напоминающие гробы. В морозной тишине разносились неслыханные странные звуки.
В канун рождества в Лондоне было тревожно. Город погрузился в зимнюю темноту, как никогда страшный холод сковал дома и жителей. Темза подмёрзла у берегов. Вдоль реки чадили факелы. Они помогали лоцманам прокладывать путь к докам, указывали направление другого берега тем, кто задержался в центре, на левой стороне. На узких улицах тоже горели факелы. Дрожащие огни помогали отыскать дорогу горожанам, спешащим к холодным своим постелям. Постепенно и дымные таверны, полные пьяного пения, и респектабельные дома богатых лондонцев, наглухо запертые и молчаливые, потонули во мраке наступающей лондонской ночи, тишина которой прерывалась лишь монотонной скороговоркой стражников: «Ночь холодна, всё спокойно…»
В ту ночь колокола всех лондонских звонниц возвестили страшную весть: на одном из домов появился красный крест — знак чумы. Чума была на пути к Лондону, чума, как всадник Апокалипсиса, приближалась к столице. И копьё его было занесено.
В те времена, как, впрочем, и позднее, англичане считали, что всё дурное приходит из-за границы. Но напрасно перехватывали в нижнем течении Темзы вражеские голландские корабли, напрасно устраивали долгие карантины для судов из России и Индии. Чума гнездилась в самом Лондоне, в его грязных подпольях, полных крыс. Крысы прокапывали далёкие ходы и давно уже соорудили под Лондоном своё царство ночи и болезни, которое неизбежно должно было вступить в столкновение с царством дневным. Знаки чумы — окружённые розовыми кругами точки — рано или поздно должны были появиться у лондонцев. Да и как могло быть иначе, если тот же самый вельможный Сэмюэль Пепис не имел в доме туалетной комнаты. В городе не было ни канализационной системы, ни системы водоснабжения. Он был завален гниющими отбросами. Зловонные ручьи, потоки нечистот текли к Темзе.
Но ещё хуже было за городскими стенами, где жил беднейший лондонский люд, бродяги и преступники, где ютились бездомные. Там, где сейчас располагается шикарная Нью-Оксфорд-стрит, раньше стояла маленькая церковь святого Жильса-на-полях, служившая местом, где преступники, осуждённые на повешение, получали последнюю чашу перед тем, как тюремная карета отвозила их тенистыми лиственными переулками на виселицу в Тайберн. Когда в апреле 1665 года задержавшаяся весна согрела, наконец, трущобы вдоль тайбернской дороги в приходе святого Жильса, земля начала источать смрад. То ли города слишком быстро росли, и новые кварталы строились на свалках и кладбищах, то ли другие были на то причины, только смрад разложения возвестил лондонцам весной 1665 года приход Большой чумы.
Никакие методы лечения не годились для борьбы с чумой. Пациенты умирали в один-два дня. Скоро стало не хватать гробов, не было покоя от меланхолического звона погребального колокола. Похороны были запрещены, но этим распоряжением пренебрегали; каждые похороны превращались в источник новых смертей. Бедные старухи соглашались за несколько шиллингов осматривать больных. Люди бежали, бросая дома. На рыночных площадях глашатаи зачитывали списки умерших и советы, как уберечься.
Аптекарь Уильям Бокхэрт, магазинчик которого помещался недалеко от таверны «Белое сердце» в приходе святого Жильса, пытался выяснить причину болезни, но знаний его не хватало. Он пытался лечить тем, что согревал больных, помещая на их грудь щенков мастифа, давал глотать анисовку, предлагал избегать рыбы, некоторых сортов фруктов и овощей. Он считал, что лучшим средством лечения и предотвращения болезни будет херес, принимаемый примерно по пинте в день. Оставаясь человеком своего времени, он смог, однако, опровергнуть многие ходячие представления о борьбе с чумой. Так, он доказал полную бесполезность ношения амулетов, курения табака, питья бренди и окуривания помещений. Он оставил лучшее описание чумы и умудрился, исследовав тысячи больных, не заболеть. (Впоследствии, когда с чумой было уже покончено и в Англии, и во Франции, и в России, и в Чехии, и в Голландии, и в Испании, он рассказал обо всём этом на заседании Королевского общества, президентом которого был Ньютон.)
Магистрат распорядился заколотить все зачумлённые дома вместе с их обитателями, а потом и огородил район наибольшей смертности — весь приход святого Жильса. Соорудили баррикады из камней, поставили часовых.
В конце апреля Сэмюэль Пепис записал: «В городе большие опасения относительно болезни, возникшей в Лондоне. Говорят, два или три дома уже закрыты. Боже, защити нас всех!»
Центр города продолжал жить прежней жизнью. Молодые люди резвились в лесах и полях недалеко от северных стен. Богатая и сановная публика ходила в театры на южном берегу Темзы или в королевский театр на Дрюри-лэйн, где начинала свою карьеру несравненная Тритти-Витти, только что оставившая торговлю апельсинами. Сэмюэль Пепис, Джон Ивлин и Кристофер Рен усердно посещали собрания Королевского общества. Там ставил свои эксперименты и рассуждал о законах тяготения великий фантазёр Роберт Гук.
С майским потеплением под натиском чумы пал Холборн. Колокола уже не звонили — они не успевали отмечать смерти. День и ночь погребальные кареты сновали по улицам в могильном молчании. Тишина была настолько глухой, что можно было слышать, как Темза бьётся об арки Лондонского моста. Лондонцы с надеждой смотрели на быстрины Темзы, думая, что широкая и могучая река преградит путь чуме. Но она воровски перешла по старому, застроенному мосту на другой берег, неспешно захватила Клеркеннуэлл, Криппилгейт. Её поступь пугала медлительностью и неотвратимостью.
Наступала очередь Сити. Осенью был поражён Уайтчепель. Затем чума достигла западных приходов Саутарка. Наступая к западу, чума покидала восточные районы города и оставляла после себя пустые улицы, заколоченные дома и лавки, гробы, составленные прямо у дверей. Член Королевского общества Натаниэль Ходжес получил разрешение и произвёл первое анатомическое вскрытие умершего от чумы молодого человека.
Городские бродяги поднимались ещё до восхода солнца, боясь, чтобы их не приняли за больных и не увезли в чумной карете хоронить заживо. У ворот вновь заколоченных домов с живыми покуда обитателями встали стражники. Им платили по шиллингу в день. Чумные сёстры, запертые вместе с больными в заражённых домах, получали столько же за неделю. Недостатка в добровольцах не было — Лондон был полон безработных. Было приказано убивать всех собак и кошек, за каждую тушку платили по два пенса. Столько же платили за каждого выявленного больного. Школы были закрыты. Никто ничего не брал из рук незнакомцев, монеты в лавках хранили в воде.
Король и двор переехали в Хэмптон-Корт. Чума меж тем по мощёным дорогам преодолевала мили от города к городу. Норвик — торговый центр на перекрёстке дорог, пал одной из первых её жертв. Чума медленно продвигалась на север, к Ньюкаслу, по дорогам угольных торговцев, по проторённым путям перекочевала в Колчестер, двигалась в сторону Питерборо и Кембриджа.
В Кембридже воцарилась паника. Вместе с потоками беженцев к нему двигалась чёрная смерть. Члены колледжей, бакалавры, школяры и младшие студенты переписывали из старых книг противочумные рецепты. Невзирая на различие философских школ, искали их и у Галена, и у Парацельса. И главное — совпадало. Нужно было бежать подалее от людей, от болезни, от оживлённых дорог, от перенаселённых городов.
Важно было знать, как обезопасить себя. Книги рекомендовали клистиры, слабительное, рвотное, корень жалейки, драконову воду. Сатану изгоняли с помощью Вельзевула. Записывали рецепты профилактических средств: «Возьми кору ясеня, фунт зелёных грецких орехов. Мелко поруби. По горсти вдовушки и вербены. Две драхмы шафрана. Полей самым сильным уксусом, который сможешь достать — четыре пинты. Затем пусть всё кипит на малом огне. Потом положи в закупоренном сосуде на ночь на уголья. После того подогрей ещё раз на медленном огне. Слей воду. Лежи в постели, тепло укрывшись одеялом. Две унции этой воды пить».
Записывали лекарства — на случай заражения.
«Возьми цыплёнка, или молодого каплуна, или куропатку, или три или четыре жаворонка, добавь немного телячьих ножек, апельсин и лимон, порежь на кусочки. Полфунта свежих корней козельца, порезанные и засахаренные корки апельсина, засахаренные стебли дягеля — анжелики, настойку розы, барбариса, чёрной смородины, корицы, мускатного ореха, нюхательную соль кипятите вместе с квартой воды и квартой белого вина».
Были лекарства и для бедных: съедать по утрам вместе с хлебом и маслом двенадцать лепестков руты. Совсем ничего не стоили магические заклинания: пега, тега, сега, доцемена, мега.
Кембридж готовился. Запретили Стурбриджскую ярмарку. Прекратили службы в церкви святой Марии, занятия в школах.
В мае Исаак получил несколько строк от матери Анны. Вот что сохранилось от этого послания:
6 мая 1665 года
«Исаак
(…) получила твоё письмо и понимаю что ты (…) письмо от меня с твоей одеждой но (…) никто тебе (…) что дарят тебе твои сёстры (…) передают свою любовь и моей материнской люб (…) тебе и молитвами господу от тебя (…) твоя любящая мать
Анна.»
Ни слова о чуме! Ньютон решил бежать в Вулсторп и ждал лишь официального разрешения уехать.
Только восьмого августа 1665 года Джон Пирсон собрал членов колледжа и студентов в Тринити-холле. Он, призывая на всех благодать божию, распускал колледж по случаю чумы до лучших времён. Студентам, уезжающим в деревню, разрешено было получить на руки полуторамесячное довольствие.
Подписи Ньютона на документе о получении денег нет — он, не выдержав, покинул колледж на неделю раньше.
Исаак взял с собой сушёные стебли анжелики, набор ароматических трав, положил в сумку трёхдневный запас пищи, купил в дорогу немного испанского вина. И уж конечно, взял с собой и блокноты, и книги, и призмы, и линзы. Он не собирался терять время.
Дорога была тяжёлой. Несмотря на запреты, на север тянулись колонны беженцев — на повозках и пешком. Рассказывали, что вокруг лютуют разбойники. Говорили, что одеты они плакальщиками и носят на плечах гроб. Стражники обходили их стороной. Лишь позже узнали, что в гробах прятали награбленное добро.
В Вулсторп он прибыл на четвёртый день. Домашние перепугали его теплотой своих приветствий — он думал только об опасности заражения.
Со временем он немного освободился от своих страхов. Вокруг простирались наливающиеся осенней тяжестью поля и луга Линкольншира — вольного края, где живут, трудясь и наслаждаясь. Выйдя из дома, он оглядывался вокруг, но уже не видел шпилей грэнтэмской и уитэмской колоколен: он стал близорук.
Что-то заставляло его по-новому, пристальней, всматриваться в обычное, знакомое, забытое. Исаак стал различать и яркие цвета, и нежные оттенки растений. Он полюбил нежно-жёлтые цветки анемонов и золотистые цветы асфоделии. Он обнаружил вблизи Вулсторпа редкое растение с ягодами благородного малинового цвета, сок которых можно было использовать как чернила — они давали на бумаге сочный синий цвет.
Исаак изумлённо наблюдал богатство природы, создавшей все эти переливы цветов, их тончайшие оттенки. Можно ли найти какую-то систему в этом бесконечном разнообразии? Можно ли разгадать язык, которым написана книга Природы?
Здесь, в Вулсторпе, рядом с матерью Анной, он чувствовал себя спокойно. Чума проходила стороной по северной дороге, видной из окон Манора, и не затронула имения. Здесь он ничего не боялся, он был счастлив. Как и раньше, много лет назад, в гражданскую войну, опасность, грозившая со стороны северной дороги, миновала их.
Когда однажды, в думу погружён,
Увидел Ньютон яблока паденье,
Он вывел притяжения закон
Из этого простого наблюденья.
Дом в Вулсторпе, где Ньютон родился и провёл чумные годы, годы с 1665-го по 1667-й, сейчас превращён в музей. Над узкой и низкой входной дверью — мемориальная табличка. Войдя в дом, посетитель оказывается в низком помещении с холодными каменными полами, неожиданно просторном по сравнению с внешними обводами дома. Пологая лестница со стёртыми ступенями ведёт на второй этаж. Левая по коридору комната — это спальня, где родился Ньютон. Первое, что бросится здесь в глаза, — это рисунок яблони на стене. Над камином — мраморная доска с известными словами Александра Поупа: «Природы смысл был вечной тьмой окутан. — Да будет свет! — рек Бог, — и вот явился Ньютон».[13] В комнате справа он жил в молодые годы. Её уголок, теперь освещённый окнами, выходящими на юг — к саду и на восток — к реке, раньше был тёмным — окна были заложены для снижения оконного налога. Здесь, в этом уголке, была его «студия» и нехитрые предметы, сохранившиеся в ней, — простой кромвелевский стул, почерневший небольшой стол, чернильница, ручка, медные линейки — были, возможно, свидетелями великого вдохновения молодого гения.
Яблоневый сад в южной части имения шумит листвой и сейчас. До сих пор в нём произрастают потомки той самой яблони. А сама она, постаревшая и засохшая, превратилась сейчас в скамью, на которую считает долгом присесть всякий посетитель.
Да, сильна и неистребима легенда о яблоне! Гегель говаривал, что три яблока сгубили мир — яблоко Евы, яблоко Париса и яблоко Ньютона. Если мир кто-то и сгубил, то уж, конечно, не эти плоды. Но легенды и мифы необычайно живучи. Самый молодой из мифов — миф о яблоке Ньютона — уже четверть тысячелетия прочно укоренён в сознании человечества. Не будем упрямиться и тоже расскажем историю о яблоке.
Уже на склоне лет, будучи восьмидесятипятилетним стариком, Ньютон рассказывал о яблоке посетившему его Вильяму Стэкли. Ньютон в тот день был в благодушном, приподнятом настроении. Вот что вспоминает Стэкли об этой встрече, состоявшейся 15 апреля 1726 года.
«После обеда погода была тёплая, мы перешли в сад и стали пить чай под сенью яблонь. Мы были вдвоём. Среди прочего он мне рассказал, что обстановка этого дня напоминает ему ту, которая была, когда ему в голову пришла идея тяготения. Она была вызвана падением яблока в тот момент, когда он сидел, погружённый в свои думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он, почему не в сторону, а к центру Земли? У материи должна существовать некая притягательная сила, сосредоточенная в центре Земли. Если материя притягивает другую материю, должна существовать пропорциональность её количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко. Должна, стало быть, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью и простирающаяся по всей Вселенной».
Здесь три главные идеи — идея всеобщего тяготения, то есть распространение земного понятия тяжести на весь небесный мир («всю Вселенную»), идея пропорциональности тяготения массам тел («количеству материи») и, наконец, идея «взаимности», выраженная впоследствии в третьем законе Ньютона («яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко»). Здесь для легенды о яблоке не хватает двух важных вещей — упоминания о том, что всё это произошло во время чумных лет, то есть в 1665–1667 годах, и упоминания о законе обратных квадратов, являющемся необходимой частью закона всемирного тяготения.
Впрочем, воспоминания Стэкли — отнюдь не единственный источник легенды о яблоке. Примерно через год, уже перед самой смертью, Ньютон рассказал ту же историю Генри Пембертону. Вот как описывает эти события Пембертон:
«Во времена своего одиночества он стал размышлять о силе тяготения. Эта сила, как обнаружилось, не слишком сильно снижается на самых дальних расстояниях от центра Земли, до которых мы можем подняться, — на вершинах самых высоких зданий и даже на вершинах самых высоких гор; ему казалось естественным, что эта сила должна распространятся гораздо дальше, чем обычно считают. Почему бы не до Луны? — спросил он себя. И если так, это должно оказывать влияние на её движение. Возможно, она остаётся за счёт этого и на своей орбите. Хотя сила тяжести на небольших расстояниях от центра Земли — на тех, на которых мы можем поместить себя, ослабляется и не очень заметно, вполне возможно, что там, где находится Луна, эта сила может значительно отличаться от той, что существует на Земле. Чтобы вычислить, какова может быть степень этого снижения, он предположил сначала, что если Луна удерживается на орбите силой тяготения, то несомненно, что и главные планеты вращаются вокруг Солнца той же самой силой; сравнивая периоды нескольких планет с их расстояниями от Солнца, он обнаружил, что если какая-либо сила, подобная тяготению, держит их на их орбитах, то эта сила должна снижаться в квадратичной пропорции с увеличением расстояния».
В этом воспоминании есть важная информация о том, как Ньютон пришёл к закону обратных квадратов — через третий закон Кеплера («сравнивая периоды… с расстоянием от Солнца»). Важно ещё одно — в словах Пембертона нет привязки к чумным годам, к Вулсторпу и яблоку. Речь идёт лишь об одиночестве Ньютона — состоянии, в котором он пребывал по меньшей мере первые полвека своей долгой жизни.
Но откуда вообще взялась у Ньютона идея сопоставить силу тяжести на поверхности Земли с силой тяжести на крышах высоких зданий, на вершинах гор или, добавим, на дне глубоких колодцев? Нам неизвестно, чтобы Ньютон проводил подобные опыты в свои чумные годы или когда-нибудь позднее. Почему же он столь уверенно говорит о том, что сила тяжести незначительно меняется с высотой?
Не знал ли он об одном выступлении Роберта Гука, сделанном как раз во время чумы?
21 марта 1666 года Роберт Гук прочёл на заседании лондонского Королевского общества свой мемуар об опытах над изменением силы тяжести в зависимости от расстояния падающего тела от центра Земли. Он измерял силу тяжести с помощью маятника и не обнаружил серьёзных различий. Уже в мае Гук сообщил Королевскому обществу, что природа силы, удерживающей планеты на их орбитах, по его мнению, подобна той, что производит движение маятника. Более того, Гук утверждал, что сила, управляющая движением планет, изменяется в некоторой зависимости от расстояния.
Знал ли Ньютон об этих экспериментах и идеях Гука? Мы можем только гадать. Но это и неважно. Проблема тяготения уже витала в воздухе. Потребности практической астрономии давно поставили её в повестку дня.
Интересно, что в воспоминаниях Пембертона есть сад, но нет яблока. Нет в них и какого-либо упоминания о массах — важнейшем элементе закона всемирного тяготения.
Так что же, не было яблока?
Это невозможно!
Как могло не быть яблока в известном яблоневом саду славящегося сидром Линкольнширского графства?
…Яблоко упало на тёплую, прикрытую редким райграссом землю. То ли синицы разыгрались, распрыгались среди ветвей, то ли северный ветер, обогнув каменные стены Манора декартовым вихрем, мягко ухватил ветку и потряс её. Яблоко, сначала неподвижно висевшее на своём черенке, оторвавшись от веточки, полетело вниз всё быстрее, пока наконец не шлёпнулось о разогретую осенним солнцем землю.
Ньютон, проводив яблоко взглядом, прервал свои размышления по поводу Декарта и его механики. Он задумался над увиденным. Как он задумывался над всем, что его окружает. Как он задумывался над первопричинами и первоначалами всех вещей и явлений.
Почему яблоко упало?
Потому что оно обладает тяжестью — обыденным свойством всех предметов, над причинами и особенностями которого задумывались многие ещё с Платона. Платон считал — причиной тяжести является притяжение Земли. Его ученик Аристотель, пытаясь разгадать сущность притяжения, считал, что тяжесть — изначальное свойство тела, его извечная склонность соединяться с себе подобными, занять определённое место. Это объяснение удовлетворяло людей тысячи лет.
До Коперника — великого реформатора неба.
Коперник понял, что царившая в его время система Птолемея и его последователей не допускает рационального объяснения небесных движений и приводит вследствие этого к уродливой картине мира.
«…Твоё святейшество, вероятно, не только изумится тому, что я осмелился выпустить в свет плоды стольких ночей труда, — писал Коперник в посвящении папе, — сколько тому, каким образом мне могла прийти мысль, что Земля движется, тогда как все математики утверждали противное. Да и вообще казалось, это было против здравого человеческого смысла. Не скрою от твоего святейшества, что на размышление о другом способе вычисления движений небесных тел меня навело исключительно разногласие математиков по этому вопросу… они не могут доказать того, к чему стремятся. А главного — именно формы Вселенной и симметрии её частей — они не смогли ни отыскать, ни вычислить. Они делают то, что сделали бы, если б взяли из разных картин руки, ноги, головы и другие части, даже прекрасно нарисованные, но без необходимой пропорциональности, и сложили бы всё это в один рисунок: получился бы, конечно, урод, а не человек…»
Коперник полагал, что тяжесть — это естественное устремление, которым божественное провидение одарило части для их сочетания в единое совершенное целое — сферу. Он, оставаясь, по существу, на позициях Аристотеля, смог тем не менее впервые указать на родство тяжести и тяготения. Коперник считал, что тяжесть как указанное выше «устремление» свойственна, вероятно, Солнцу, Земле, Луне и другим блуждающим светилам, которые благодаря этому свойству и сохраняют свою шарообразную форму. Тяжесть Коперника относится к каждой планете и небесному телу в отдельности. Всемирного тяготения у него нет.
Новый «индуктивный» метод в науке, настаивающий на поисках правды не в дедукции, не в силлогизмах и формальной логике, но в самих вещах, в эксперименте, был впервые практически применён придворным врачом королевы Елизаветы Вильямом Гильбертом.[14] В своей книге «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле», вышедшей в 1600 году, он описал более шестисот специально поставленных экспериментов над магнитными телами, которые привели его к чрезвычайно важному и неожиданному для современников выводу о том, что Земля представляет собой гигантский сферический магнит. Этот вывод Гильберт сделал на основании того, что магнитное поведение «терры» (Земли) было в некоторых отношениях полностью тождественно магнитному поведению небольшой намагниченной железной сферы — «тереллы» («землицы»). Нужна была большая научная смелость для того, чтобы перекинуть мост логической необходимой связи между двумя явлениями столь разного масштаба.
В книге «О магните» взаимодействие Земли и Луны сравнивалось с взаимодействием магнита с железом, а в одном из посмертных сочинений Гильберта указано, что Земля и Луна влияют друг на друга как два магнита, причём пропорционально своим массам. Многих потрясли выводы Гильберта, и даже Галилей сказал, что они «достойны удивления».
Великий предшественник Ньютона — Гильберт считал, что тяжесть — это «врождённое» влечение одного тела к другому и частей — к целому. В пределах одной планеты действует обычная тяжесть, между небесными телами — сила тяготения магнитного происхождения. «Сила, истекающая из Луны, достигает Земли; подобным же образом магнитная сила Земли пробегает небесное пространство до Луны; обе силы при встрече складываются в определённых соотношениях. Действие Земли, однако, гораздо значительнее вследствие её большей массы… Взаимодействие, однако, не сближает тел наподобие магнитных сил, а лишь заставляет их непрерывно вращаться одно около другого».
Кеплер поддержал точку зрения тех, кто считал, что тяжесть есть стремление однородного к соединению. В бессвязных, противоречивых, порой причудливых и фантастических откровениях Кеплера есть тем не менее много тонких замечаний. Он считал, что тяготение — это взаимное стремление друг к другу однородных, родственных тел. Камень и Земля — родственны. Они притягиваются друг к другу, причём «гораздо более камень притягивается к Земле, чем Земля — к камню».
«Если бы два камня были помещены вблизи друг от друга в каком-либо месте мира, вне круга действия третьего сродственного тела, то эти камни сошлись бы в промежуточной точке, причём каждый из них приблизился бы к другому на такое расстояние, каким является громада второго камня сравнительно с первым. Если бы Земля и Луна не удерживались своей естественной силой или любой ей равнозначной каждая на своей орбите, то Земля приблизилась бы к Луне на 1/54 часть расстояния, а Луна опустилась бы к Земле на остальные 53 части его, и здесь бы они соединились; всё это, однако, в предположении, что плотности и той и другой равны и одинаковы. Если бы Земля перестала притягивать свои воды, то все воды морей поднялись бы и втекли в тело Луны».
У Кеплера планеты впервые не блуждают по небу самопроизвольно. Их движение, по Кеплеру, происходит под влиянием некоторого внешнего агента — «движущей души» планетной системы, спрятавшейся в Солнце. Солнце — источник действия, «виртуса». Действие Солнца ослабевает с расстоянием. Планеты тоже обладают «виртусом»; более того, планеты обладают способностью осознания своего положения, наделены свойством чувствовать величину углов и даже синусов этих углов. Впрочем, все эти гипотезы, считает Кеплер, не что иное, как «дым». Не являются ли планеты, вопрошает Кеплер, просто гигантскими магнитами, как полагал Гильберт в отношении Земли?
Кеплер видел влияние притяжения в земных приливах, он видел его и в обнаруженных Тихо Браге особенностях движения Луны, — здесь Кеплер подозревал совместное действие и Солнца, и Земли. Однако до полного осознания и количественной формулировки закона всемирного тяготения Кеплеру было далеко.
Галилей откровенно смеялся над выводами Кеплера: «Из всех людей, рассуждавших об этом замечательном явлении — о приливах и отливах моря, — больше всех удивляюсь я Кеплеру; будучи человеком свободного и острого ума и владея теорией движений, приписываемых Земле, он стал потом уделять внимание и соглашаться с мнением о влиянии Луны на воды, о скрытых качествах и подобных детских выдумках» (Галилей совершенно не понял и не оценил законов планетного движения Кеплера. И вследствие этого в своих идеях относительно планетного движения, принимая уже систему Коперника, Галилей не смог предложить ничего нового по сравнению с Гиппархом и Птолемеем).
Декарт был против придания тяжести статуса изначального свойства тел; тяжесть, по Декарту, зависела от формы, величины и движения тел. Тяжесть вызывается подталкиванием тел «сзади» тонкой материей, находящейся в непрерывном вихревом движении. Это движение возникает вследствие вращения Земли, отбрасывающей частицы небесной материи за счёт центробежной силы. Но поскольку эти частицы удаляются от Земли, другие тотчас же должны устремиться к Земле. Они-то и подталкивают тела, создавая силу тяжести.
Это — первая последовательно механическая концепция тяжести, не требующая введения для объяснения «врождённых свойств» или божественного вмешательства.
Вот несколько мазков к пёстрой картине представлений о тяжести и тяготении, с которыми встретился убежавший из Кембриджского университета, от чумы домой, к матери в Вулсторп, студент Ньютон. Теперь ему предстояло из всего этого конгломерата идей и догадок создать свой знаменитый закон всемирного тяготения. Какая-то неясная идея подспудно вызревала в его сознании. Она была расплывчата, не поддавалась ясной формулировке, постоянно встречала неразрешимые, казалось, препятствия.
Сам Ньютон, спрямляя путь к великому достижению, писал о своём открытии так: «В начале 1665 года я нашёл метод приближённого вычисления рядов и правило для преобразования в ряд двучлена любой степени. В тот же год, в мае, я нашёл метод касательных Грегори и Шлюзиуса и уже в ноябре имел прямой метод флюксий, а в январе следующего года — теорию цветов, а в январе следующего года я имел начало обратного метода флюксий. В том же году я начал размышлять о том, что тяготение распространяется до орбиты Луны, и (найдя, как вычислить силу, с которой шар, катящийся внутри сферы, давит на её поверхность) из кеплеровского правила периодов планет, находящихся в полукубической пропорции к расстоянию от центров их орбит, вывел, что силы, которые держат планеты на их орбитах, должны быть обратно пропорциональны квадратам расстояний от центров, вокруг которых они обращаются; и таким образом, сравнив силу, требуемую для удержания Луны на её орбите с силой тяжести на поверхности Земли, я нашёл, что они отвечают друг другу. Всё это было в два чумных года — 1665-м и 1666-м. Ибо в те дни я был в расцвете творческих сил и думал о математике и физике больше, чем когда-либо после…»
О, эти приоритетные споры! То, что приведено выше, написано в самый разгар схватки с Лейбницем — через полвека после описываемых событий. Память — плохой консультант в делах полувековой давности, тем более когда на старые воспоминания наложены суровые реалии последних лет жизни, омрачённых жестоким — не на живот, а на смерть — спором о приоритетах…
Вот откуда берётся легенда об Anni Mirabilles, «годах чудес»
Сегодняшние исследователи бесстрастней и справедливей. Устанавливая истину, они не умаляют величия Ньютона. Наоборот! Развенчивая очередные околонаучные мифы — о яблоке и о «годах чудес» — Anni Mirabilles, они лишают гениальность Ньютона мистического ореола внезапного богоданного откровения и в то же время придают его творчеству неспешную, истинно баховскую величавость и родовое достоинство. Этими последними исследованиями фигура Ньютона, столь выпадавшая раньше из контекста его эпохи и его окружения, вновь возвращается к своим предтечам, учителям и коллегам, к собственному таланту и безустанному труду. Недаром наиболее полная из современных биографий Ньютона, написанная Р. Вестфоллом, названа: «Ни дня отдыха».
Основа открытий Ньютона в области всемирного тяготения, сделанных в чумные годы, восходит к кембриджским студенческим годам, к тому времени, когда в тетрадях двадцатидвухлетнего Ньютона появляется «Вопросник» — грандиозная программа исследования по физике, охватывающая не только природу, но и бога.
Воображение кембриджского студента тогда захватила механистическая философия Декарта. Естественно, это получило отражение в его тетради. Там, в «Вопроснике», записана главка «О неистовом движении», ясно выявляющая влияние на него Декарта и его книги «Начала философии», вышедшей в 1644 году и оказавшей громадное воздействие на кембриджских платоников, в частности на Генри Мура. Ньютон позже признавался, что одно время он был ярым картезианцем — это было как раз тогда, в Anni Mirabilles.
Точно известна дата начала увлечения Ньютона декартовской механикой — 20 января 1665 года. Освобождённый неделю назад от «стояния на квадрагезиме» — сдачи бакалаврских экзаменов, он занимался тем, что ему нравилось.
В «Мусорной тетради», унаследованной от отчима Барнабы Смита, под датой 20 января 1665 года значится: «Об отражениях».
Название «Об отражениях» лишь тайными, но, несомненно, существующими и нерасторжимыми узами связано с исследователями по свету. Речь идёт об отражениях типа тех, которые испытывают бильярдные шары — об отражениях при ударе, упругом соударении, столкновении тел. Это основа декартовской физики, решающей все проблемы движения в рамках единой материи — пространства, где движение непрестанно передаётся от тела к телу, прибавляется одному и убавляется от другого при неизменной его вечной сумме. Вот что пишет Ньютон:
«Акс. 100. Всякое тело естественно продолжает оставаться в том состоянии, в котором оно находится, до тех пор, пока оно не будет изменено какой-либо внешней причиной, так… тело, однажды приведённое в движение, всегда будет сохранять скорость, количество и направление своего движения.
Сравним с Декартовым: «…Всякая вещь пребывает в том состоянии, в каком она находится, пока ничто её не изменит…» У Декарта это не принцип механики, но принцип философии и природы — речь идёт о сохранении состояния покоя, движения и даже формы тела.
Второй закон Декарта гласит: «Всякое движущееся тело стремится продолжать своё движение по прямой». Это уже закон механики. Декартом фактически сформулирован принцип инерции. Следующий закон Декарта гласит: «Если движущееся тело встречает другое, сильнейшее, оно ничего не теряет в своём движении; если же оно встречает слабейшее, которое может подвинуть, оно теряет столько, сколько тому сообщает…»
Последний закон Ньютон сразу отверг, как содержащий неточности и ошибки. Было неясно, что имел в виду Декарт под «сильнейшим» и «слабейшим» — понятиями, которыми широко оперировал.
Ведь сила движения в том смысле, в котором, видимо, определял её Декарт, должна была бы зависеть и от скорости тела, и от самого тела (не забудем, что понятие массы тогда ещё не было разработано). Таким образом, декартовская сила — это сила движущегося тела, неотрывная от тела, фактически — сила его удара.
Ньютон не ссылается на Декарта, не опровергает его. Видя его очевидные ошибки, он пытается выработать свои законы движения. Одно время, как можно понять из рукописей, ему удаётся отделить силу от тела, отделить причину от следствия. Обязательно ли причиной изменения состояния тела должен быть удар? Нет ли иных причин?
Здесь и возникает образ яблока, висевшего до поры до времени на ветке, а затем упавшего по строго вертикальной линии на землю и ударившего её. Не удар вызвал изменение состояния движения ранее неподвижного яблока, а некоторая внешняя причина, отличная от удара. Внешняя сила. Может быть, сила тяжести? Тогда сила должна иметь совсем иное определение. Не такое, как у Декарта. Может быть, такое, как Ньютон набрасывает в одном из своих черновиков: «Сила — это давление или напор (натиск) одного тела на другое»? Сила Ньютона отделяется от тела, становится внешней причиной движения.
Декарт писал в «Трактате о свете»: «Если одно тело сталкивается с другим, оно не может сообщить ему никакого другого движения, кроме того, которое потеряет во время этого столкновения, как не может и отнять у него более, чем одновременно приобрести себе».
Ньютон: «Чтобы разрушить любое количество движения в теле, потребуется столько же силы, сколько требуется, чтобы создать такое движение». Так было сначала, под явным влиянием Декарта. Потом формулировка меняется: «Равные силы будут производить равные изменения в равных телах… ибо теряя или приобретая одно и то же количество движения, тела подвергаются тому же изменению своего состояния; в том же теле равные силы будут приводить к равным переменам».
Тело стало объектом приложения внешних сил, являющихся и причинами движения, и причинами перемен его характера. Это новая, революционная концепция силы. Концепция Ньютона. Возможно, она навеяна яблоком. Во всяком случае, в «Вопроснике» сила Ньютона ещё внутреннее присуща телу, как у Декарта. Теперь, в 1665 году, она стала иной. Она практически превратилась в то понятие, которым мы оперируем сегодня.
Всё более углубляя свою концепцию силы, всё более удаляясь от Декарта, всё больше концентрируясь скорее на изменениях в движении, чем на самом движении, Ньютон постепенно приходит к ещё одному важному выводу, который в принципе мог бы быть навеян тем же падением яблока.
…Яблоко и Земля. Земля и Луна. Две системы тел. В одну систему входят два небесных тела, а в другую — небесное и земное или два земных. Как считать — могут ли эти столь различные тела подчиняться одним и тем же законам? А кстати, различны ли эти тела?
Телескоп Галилея и его «Звёздный вестник» проложили первые шаткие мостики через пропасть между земным и небесным, мирским и идеальным — между хрустальными сводами планет и грешной землёй, между небесными и земными движениями.
Галилей увидел многое из того, что недоступно было другим. Направив на небо телескоп, Галилей обнаружил земное, отнюдь не божественное строение Луны, «уши» Сатурна, спутники Юпитера, неизвестные звёзды Млечного Пути. Всё укрепляло его в правильности Коперниковой теории, и он стал её ревностным проповедником.
Кратеры на Луне, подобные кратерам Земли, открытые Галилеем, подрывали мнение схоластической философии о том, что Луна в силу её небесного происхождения должна была бы обладать и идеально гладкой круглой формой, будучи частью идеальной небесной сферы.
Галилей видел и то, что метеориты — небесные тела — очень похожи на земные камни или руды. Ничего особенного, божественного в них не было. Это наводило на мысль и о земном, обычном характере движения небесных тел, о единстве законов, управляющих земными и небесными движениями.
До Галилея господствовало убеждение в коренном различии земных и небесных движений. Если земные тела могли двигаться куда угодно и как угодно, по любым тракториям, то в небесах царил порядок — там были божественные сферы, там властвовало движение по идеальным орбитам — окружностям.
В гелиоцентрической системе Коперника сама Земля превратилась в обычную планету, а Кеплер определил, что движение планет происходит не по совершенным окружностям, а скорее по не столь уж совершенным эллипсам. В «Новой астрономии» Кеплер писал: «Главная моя ошибка заключалась в том, что я считал орбиту планеты совершенной окружностью. Эта ошибка оказалась тем более злостным врагом моего времени, что основана была на авторитете великих философов».
Идеальный небесный мир на глазах терял своё совершенство и вместе с ним своё особое место в механике.
Незадолго до смерти Галилео Галилея фирма Эльзевиров в Лейдене напечатала его последнюю книгу «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению». Как было указано на обложке, труд этот принадлежал перу «синьора Галилео Галилея, рысьеглазого, экстраординарного философа и математика мудрейшего великого герцога Тосканского». Обращение к фауне в титуле учёного означало, что он состоял членом «Академий рысьеглазых», «Академии Линчей» — высшего научного учреждения Италии, и, следовательно, как рысь, которой приписывалось необыкновенно острое зрение, способен был видеть то, чего не видят другие. Галилей первым свершил святотатственное — применил к движению небесных тел те законы механики, которые он обнаружил при исследовании вполне земных машин и механизмов, безмолвных и послушных человеческих слуг. Старый стиль мышления уходил в прошлое. Природа становилась независимой от умозрений её наблюдателей и, порой даже казалось, от воли её создателя. Каноны схоластической философии пали, но замены им не было. Материальное единство мира, продемонстрированное Галилеем, требовало и единства законов, управляющих им.
В поисках величины, характеризующей движение, Галилей ввёл «импето», или «моменто», — количество движения, определяемое массой и скоростью. Подобная же величина использовалась и Декартом, который писал: «Я принимаю, что во всей созданной материи есть известное количество движения… Так, если камень падает с высокого места на землю, то в случае, когда он не отскакивает, а останавливается, я допускаю, что он колеблет землю и передаёт ей своё движение. Но так как часть земли, приведённая в движение, содержит в себе в тысячу, например, раз более материи, чем в камне, то, передав им своё движение, он может сообщить только в тысячу раз меньшую скорость».
Это — Земля и яблоко Декарта.
Земля и яблоко: Земля и камень, соударяющиеся друг с другом, камень, бьющий Землю, но не тяготеющий к ней, как яблоко Ньютона.
А кембриджские платоники отреагировали на открытие Галилея весьма своеобразно, в духе своей концепции «божественной полноты». Сходство Земли с другими планетами, открытое Коперником и Галилеем, привело их к возврату не то что к Платону и Плотину, но к Ямвлиху и Проклу, к иерархии добрых и злых духов (чем выше сфера, тем важнее её обитатели). Не населены ли планеты промежуточными между богами и людьми существами, которые управляют королями и придворными?
Фактически это был возврат к управляемым ангелами небесным сферам, к иерархической Вселенной Аристотеля. Ньютон поражался живучести этой теории, пришедшей от греков через магометанство в христианство. Католическая церковь добавила свои краски: подобно тому, как в обществе были папа, епископы, архиепископы, императоры, короли, дворяне и рыцари, в небе существовала не менее сложная иерархия девяти ангельских хоров, каждый из которых управлял определённой частью Вселенной, своими планетными сферами.
как говорил шекспировский герой.
Галилей и Коперник намекнули на единство механических законов Земли и неба, Ньютону предстояло теперь создать на их основе новую систему мира, в которой бы не было места ни ангелам, толкающим небесные сферы или планеты с помощью своих крылышек, ни вихрям Декарта, выполняющим, по существу, те же функции.
Главное в механике Декарта — соударение тел. Именно здесь, при исследовании системы двух тел, Ньютону удалось получить особенно интересные результаты. Он приходит к выводу о том, что тела при столкновении действуют одно на другое, причём «взаимные силы их столкновения» равны и приводят к равным изменениям их движения. Здесь — полпути между декартовским столкновением и ньютоновским третьим законом: «действие равно противодействию».
Ньютону всё время мешала путаница в понятиях внутренних и внешних сил. Рассматривая, например, круговое движение тел — движение камня, вращаемого на верёвке, он вслед за Декартом считал, что сила, стремящаяся удалить тело от центра вращения, есть внутренняя сила тела, та самая, которая стремится сохранять тело в движении. Сравнение с равномерным прямолинейным движением приводило к смешению понятий силы, массы и импульса, определения которых не были тогда известны. Ньютон отверг принцип инерции и тем самым отодвинул свои открытия на несколько лет. И вместе с тем Ньютон был уже близок к введению инерции. В своём мемуаре «О тяжести и равновесии жидкостей», написанном приблизительно в эти же годы, мы встречаем «Определение 15. Тела являются более плотными, если их инерция более сильная, и более разреженными, если их инерция более слабая».
Интересен подход молодого Ньютона к проблеме кругового движения. Здесь нет привычного декартовского соударения тел — и Ньютон, как и в своих математических работах, совершает предельный переход от прерывного к непрерывному, от удара к тяге. Он рассматривает тягу как совокупность бесчисленных непрерывно следующих друг за другом ударов. Сделав так, Ньютон пришёл к важнейшим выводам. Он, в частности, вывел (конечно, неявно и без использования понятия массы) формулу для центробежной силы.
А получив значение центробежной силы, Ньютон тотчас же применил формулу для проверки выводов Галилея. Книга Галилея «Беседы» только что, в 1665 году, появилась в Англии в издании Солсбери. В «Диалогах» Галилей устами своего Alter Ego[15] Сальвиати отвечает критику Коперниковой системы, который ехидно вопрошает:
— Если Земля вращается, почему же с неё не слетают ничем к ней не прикреплённые люди, животные и дома?
Ответ Сальвиати — в том, что против центробежной силы (впрочем, это понятие только ещё будет изобретено Гюйгенсом) действует сила тяготения. Причём, судя по измерениям ускорения свободного падения, проведённым Галилеем, эта сила больше той, что вызывает стремление тела удалиться от центра его вращения. Ньютон решил вычислить, во сколько раз сила тяжести превосходит ту, которую мы теперь называем, по Гюйгенсу, центробежной, и, используя данные Галилея из «Диалогов», нашёл, что это соотношение равно 144 или около того.
Затем он решил проверить Галилея и приведённое им значение для ускорения свободного падения. Он изготовил конический маятник с длиной подвеса в 81 дюйм и углом наклона 45 градусов и вычислил, исходя из характера его колебаний, что свободно падающее тело в первую секунду пролетает 200 дюймов, то есть примерно вдвое больше, чем было указано у Галилея. Соответственно больше получалось и отношение силы тяжести к центробежной силе. В статье, написанной через несколько лет, Ньютон снова вернулся к проблеме и вновь уточнил соотношение. Оно получилось равным 350.
Теперь он был способен сделать следующий шаг, к которому могло бы привести его падающее яблоко, — перебросить мост между «бытовой» тяжестью и силами, действующими между планетами.
И Ньютон сделал этот шаг. Он сравнил «стремление Луны удалиться от центра Земли» и силу тяжести на поверхности Земли. И получил соотношение несколько более 4000.
Затем он подставил в свою формулу для центробежной силы данные из третьего закона Кеплера (кубы радиусов планет относятся как квадраты их периодов вращения по круговым орбитам) и получил следующее: «Стремление к удалению от Солнца будет обратно пропорционально квадратам расстояний от Солнца».
Это важнейшая составная часть будущего закона всемирного тяготения. Но даже и не это главное. К такой формуле, тем более без масс, выводимой из третьего закона Кеплера и круговых орбит, подходили в то время многие. Важнее было то, что закон обратных квадратов, применённый к Земле и Луне, дал отношение силы тяжести на орбите Луны по сравнению с силой тяжести на поверхности Земли 1: 3600, ибо именно 3600 есть квадрат шестидесяти, а шестьдесят — это то количество земных радиусов, которое, как считал Ньютон, составляет расстояние от Земли до Луны.
Здесь важна сама идея сопоставить центробежную силу Луны с её притяжением к Земле. Никак нельзя исключить, что переход из системы Земля — яблоко как системы сугубо земной к системе Земля — Луна как системе сугубо небесной был навеян именно яблоком. Лишь свободный переход из одной системы в другую мог означать всеобщий характер закона всемирного тяготения.
Вот что можно было узнать из манускрипта № 3958, проанализированного Д. Херивелом, А. Р. Холлом, Л. Розенфельдом, Р. Вестфоллом и ранее пролежавшего среди неразобранных бумаг Ньютона не одну сотню лет.
Несомненно, именно об этой неопубликованной своей работе вспоминал в старости Ньютон. То, что она написана
Фактом остаётся то, что первая проверка выводов Галилея проводилась Ньютоном в спешном порядке и почти наверняка в чумные годы в Вулсторпе. Об этом свидетельствует хотя бы то, что соответствующие расчёты беспорядочно записаны на обратной стороне материнского договора на сдачу внаём земли — в таком виде они стали известны через сотни лет. Не имея под рукой точных данных, Ньютон взял размеры Земли и величину ускорения свободного падения из книги Галилея.
В годы вулсторпского уединения правильные выводы Ньютона как бы пробиваются через его во многом неверные представления, заимствованные у Декарта. То, что Ньютон той поры — это ещё далеко не Ньютон «Начал», подтверждает его рукопись «Законы движения», относящаяся к первым послеучебным и послечумным годам. В ней царствует соударение тел. Но оно, конечно, уже не то соударение, которое встречается в «Мусорной тетради». Здесь делается попытка найти общее решение вопроса столкновения тел при любых видах движений — прямолинейном и вращательном. Силы Ньютона пока — это силы внутренние, создающие абсолютное движение в абсолютном пространстве. Он как бы не знаком ещё с инерцией тел, с понятием массы. Его взгляды пока ещё не совместимы с его же будущим законом всемирного тяготения, предполагающим взаимодействие на расстоянии, без всякого соударения и непосредственного контакта.
Тому есть доказательства.
На форзаце принадлежавшей Ньютону книги Винцепта Винга «Британская астрономия», вышедшей в 1669 году, то есть через три года после чумы, найдены заметки, из которых напрашивается странный вывод: и после 1669 года Ньютон не вполне точно осознавал значение закона обратных квадратов. Несовпадение силы тяготения и центробежной силы для Луны он объяснял тем, что, кроме тяготения, на Луну действует ещё некий декартовский вихрь. Для сопоставления — ещё один рассказ об открытии закона тяготения. Теперь он принадлежит Джону Кондуитту:
«В 1666 году он вновь оставил Кембридж… чтобы поехать к своей матери к Линкольншир, и в то время как он размышлял в саду, ему в голову пришло, что сила тяжести (которая заставляет яблоко падать на землю) не ограничена определённым расстоянием от Земли, а что сила должна распространяться гораздо дальше, чем обычно думают. Почему бы не до Луны? — сказал он себе, и если так, это должно влиять на её движение и, возможно, удерживать её на орбите, вследствие чего он решил вычислить, каков мог бы быть эффект такого предположения; но поскольку у него не было тогда книг, он использовал общеупотребительное суждение, распространённое среди географов и наших моряков до того, как Норвуд измерил Землю, и заключающееся в том, что в одном градусе широты на поверхности Земли содержится 60 английских миль. Расчёт не совпал с его теорией и заставил его довольствоваться предположением, что наряду с силой тяжести должна быть ещё примесь той силы, которой была бы подвержена Луна, если бы она переносилась в своём движении вихрем…»
Если говорить о законе всемирного тяготения в том виде, как мы его знаем сегодня и заключающемся в том, что каждый объект Вселенной притягивается к любому другому объекту с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, то до него в чумные годы было, конечно, ещё очень далеко.
Биографы Ньютона, настаивающие на том, что открытие этого закона снизошло на него как божественное откровение, внезапное озарение, на самом деле принижают его заслуги. Для того чтобы найти этот закон, нужно было смести завалы старой аристотелевской философии, принять философию «механическую» и затем в чём-то отвергнуть и её, сделать правильные умозаключения из сопоставления земных и небесных движений, а, сопоставив их, разработать теорию, подтвердить её неоднократно на совпадении рассчитанных и реальных небесных явлений. И в то же время ещё и противостоять неизбежной критике картезианцев и других механистических философов-современников, которые неизбежно увидели бы в законе всемирного тяготения возрождение аристотелевской концепции врождённых качеств!
Да, не так-то это было просто — открыть закон всемирного тяготения. Недаром до полного его экспериментального подтверждения, до его торжества — возвращения в 1759 году кометы в соответствии с предсказанием Галлея, сделанном на основе закона всемирного тяготения Ньютона, нужно было ждать почти сто лет.
Открытие обратно-квадратичной зависимости тяготения от расстояния, может быть, как раз и не было самым крупным достижением Ньютона. Эта зависимость вполне могла быть предвосхищена, исходя из широко проводившихся в то время опытов по свету и оптике, в которых освещённость всегда была обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света. Её можно было бы получить из законов Кеплера и механики Гюйгенса. Заслуга Ньютона в том, что он увидел связь между земной тяжестью и небесным тяготением. Возможно, именно в этом сыграло решающую роль знаменитое яблоко.
Почему же Ньютон нигде не заявил о своих открытиях и идеях, не спешил сообщить о них другим? Может быть, он хранил идеи, как старый ремесленник секреты своего мастерства?
А может быть, он, не вынося критики, избегал естественной реакции на очевидные несовершенства своих идей? Никто не даст ответа на эти вопросы, но одно ясно — решиться отдать свои идеи на суд обществу было для него не менее сложно, чем решить задачу.
Он был очень требователен к себе — возможно, более требователен, чем другие, охотно обсуждавшие с коллегами свои ещё не вполне выношенные идеи. И в этом была одна из причин его грядущих бурных конфликтов, горячих, острых споров за приоритет.
Так что же, было яблоко или не было его? Были Anni Mirabiles, «годы чудес», или не было их? Выло и то и другое. Было яблоко, были «годы чудес». Но не было божественного откровения, не было ещё тех открытий, которые случатся через несколько лет благодаря новым, поступившим со стороны идеям, благодаря неустанному труду и концентрации внимания Ньютона на определённых, точно выбранных задачах.
Так уж был он устроен — когда идея западала ему в голову, он думал о ней неотрывно, до тех пор, пока не становилось ясным окончательное решение.
В этом ему помогало всё. В том числе — яблоко. Вот почему яблоко Ньютона не менее реально и вечно, чем яблоко Евы и яблоко Париса. Вот почему оно навсегда останется в истории нашей цивилизации.
В марте 1666 года старейшины университета, убедившись в том, что «слава господу, колледжи не подверглись заражению чумой», послали уведомления членам колледжей и студентам с предложением вернуться к занятиям.
Мать Анна прокалила письмо над каминным огнём, затем повесила выветриваться в чулане на бельевой верёвке, потом проколотила меж двумя плоскими камнями, и лишь затем отдала Исааку.
Ко дню благовещенья, в марте 1666 года, Ньютон прибыл в Кембридж. К его удивлению, несколько героев — добровольных стражей Тринити-колледжа, оставшихся в его древних стенах, гулких коридорах и пустых комнатах, оставшихся на верную смерть, защитившись лишь невообразимым количеством профилактического средства, сильно подкреплённого хересом, — не погибли ни от чумы, ни от своего противочумного снадобья.
Тринити заполнялся, но о занятиях никто не думал. Голландские корабли стояли на Темзе и угрожали Лондону. Предсказания кометы продолжали сбываться, а Ньютон в это время заканчивал две свои математические статьи.
В июне, в связи с новой чумной волной Ньютон снова уехал в Вулсторп и пробыл там до конца апреля 1667 года. Студенты разъехались по всей стране, те, кто побогаче, — в родовые имения в деревенской глуши, те, кто победнее, — в окрестные кембриджские деревни, под наблюдение тьюторов. Считалось, что занятия тем самым не прекращены. Пуллейн не настаивал, чтобы Ньютон был с ним, и Исаак с радостью уехал в Вулсторп.
В сентябре до Вулсторпа донеслись вести о новом несчастье — Большом лондонском пожаре. Первые искры его блеснули в доме королевского булочника в Пудинговом переулке недалеко от теперешнего Лондонского моста. Дом вспыхнул, как вязанка хвороста, — и это было естественно, ибо он был полон хвороста для поддержания огня в печах. Огонь стал распространяться по городу. Все были убеждены, что это козни иностранцев: Англия воевала с Голландией, ревниво смотрела на Испанию и подозревала во всём Францию. В городе могло найтись множество чьих-нибудь тайных агентов. Католики могли бы работать на Францию, а «круглоголовые» — на Голландию. Огонь тем временем быстро распространялся. Лишь собор святого Павла, самое высокое здание Европы, стоял, пока не тронутый пламенем. Но в конце концов не устоял и собор.
В этом гигантском пожаре погибло всего шестеро; сгорело тринадцать тысяч двести частных домов стоимостью четыре миллиона фунтов, 87 приходских церквей стоимостью 250 тысяч фунтов, конторские здания стоимостью миллион фунтов. Повреждения собора святого Павла оценивали в два миллиона, а сгоревшие товары — в четыре миллиона.
Старый Лондон сгорел, и некоторым членам Королевского общества, и в частности Кристоферу Рену и Роберту Гуку, поручено было создать новый город — Лондон будущего.
…Но даже страшные вести о чуме, о пожаре, о предстоящем вскоре судном дне (год 1666-й был определён астрологами и предсказателями всех мастей как год Страшного суда) не смогли сейчас привлечь сколько-нибудь пристального внимания Ньютона. Он был не способен думать о чём-нибудь, кроме своих флюксий. Он не мог спать, ощущая умом и сердцем, всем существом своим близость крупнейшего открытия… Теперь, после освоения рядов, был расчищен широкий путь к разработке основ интегрального и дифференциального исчисления. Сам Ньютон вспоминал:
«Намёк на метод я получил из способа Ферма проведения касательных; применяя его к абстрактным уравнениям прямо и обратно, я сделал его общим. Г-н Грегори и д-р Барроу применяли и улучшили этот метод проведения касательных. Одна моя статья послужила оказией для д-ра Барроу показать мне его метод касательных до включения его в 10-ю лекцию по геометрии. Ибо я — тот друг, о котором он там упоминает».
Действительно, в ходивших по рукам спискам работ Ферма, в письмах, порхавших между учёными, содержались важные идеи, заложенные в основу исчисления бесконечно малых. Ньютон не входил ещё в число тех, кому посылают научные письма, но Барроу наверняка был одним из активных корреспондентов английских и континентальных математиков. Барроу мог сообщить и, видимо, сообщил Ньютону то, что при жизни Ферма так никогда и не было опубликовано.
Пьер Ферма, парламентский советник из Тулузы, только что умер. Он был почитателем Декарта и внёс серьёзные усовершенствования в его метод координат. Почитателем, впрочем, своеобразным, не раз вступавшим с ним в споры. Он дал уравнения прямой линии и кривых второго порядка. Проводя касательные к кривым, Ферма мог оценивать их кривизну, умел находить максимумы и минимумы кривых, их точки перегиба. Другими словами, он осуществлял уже примитивное дифференцирование и решение дифференциальных уравнений. Он мог и интегрировать, ибо умел рассчитывать площади, ограниченные кривыми линиями — любыми, в том числе дробными и отрицательными степенными функциями. Но Ферма не видел ни малейшей связи между этими процессами!
Шотландский астроном Джеймс Грегори, человек с трагической судьбой (он ослеп, проводя астрономические наблюдения, и рано умер), предтеча Ньютона и в исчислении бесконечно малых, и в гораздо большей степени — в изобретении зеркального телескопа, был тогда совсем молодым ещё человеком — всего на четыре года старше Ньютона. Но он многое успел. Он знал метод касательных, мог вычислять площади сектора круга, гиперболы и эллипса. При этом он широко пользовался не только рядами, но и логарифмами, что было по тому времени новинкой. В логарифме математика XVII века впервые встретилась с функцией непрерывно изменяющегося аргумента. Это было и возвратом к старым как мир кинетическим традициям, восходящим чуть ли не к Аристотелю, к средневековой оксфордской школе калькуляторов, к ученикам знаменитого французского математика XIV века Никола Орема. В то же время это было и громадным шагом вперёд. Некоторые современные исследователи в области истории математики считают, что «труды Непера и других математиков XVII века, связанные с открытием логарифмов, оказали гораздо более глубокое влияние на творцов дифференциального исчисления, чем исследования, относящиеся к проведению касательных и отысканию наибольших и наименьших значений, которые послужили скорее поводом к открытию этого исчисления».
Кинетическая традиция, например, чётко прослеживалась и у самого Исаака Барроу. Ньютону была близка манера Барроу рассматривать различные линии и фигуры как результат движения. Линия — след движущейся точки. Поверхность — след движущейся линии. Это давало возможность физической трактовки математических операций. Можно было, например, представлять переменные как прямолинейные участки пути, проходимые с некоторой скоростью за единицу времени.
У Барроу было и другое. Он, возможно, первым увидел связь между нахождением квадратур и построением касательных к кривым, стал догадываться о том, что это взаимообратные операции. На одном из его чертежей — две кривые. Площади криволинейных трапеций, образуемых одной из них, осью абсцисс и ординатами пропорциональны ординатами другой кривой. Тем самым он оторвал будущее понятие интеграла от площади, сделав его отрезком прямой линии. Интеграл и дифференциал становились обыкновенными функциями переменной величины.
Барроу был уже близок к пониманию производной как скорости процесса — он считал, что свойства любой кривой линии могут быть определены из геометрического сложения переменных вертикальной и горизонтальной скоростей. Но нужен был новый шаг — решительный и смелый, порывавший с традициями современной Ньютону математики. Делая этот шаг, нужно было отказаться от некоторых несомненных прежде достижений математической мысли.
Да, нужно признать сразу: многие исследователи считают — и справедливо, — что методы бесконечно малых у Ньютона не могли быть названы строгими. И тому есть причины, оправдание и даже похвала. В истории математики, как и в истории любой науки, бывали периоды, когда требование абсолютной точности доказательств тяжёлыми веригами опутывало творцов, стоящих на пороге великих достижений, сплошь да рядом связанных с необходимостью отрыва от земли, свободного полёта фантазии.
Таким строгим методом с античных времён и до времён Ньютона был «метод исчерпания» или «Архимедов метод». Этот метод, придуманный в IV веке до нашей эры Евдоксом, поддержанный Аристотелем и ставший фундаментом евклидовой геометрии, на первый взгляд, казалось бы, вовсе не исключал свободный полёт фантазии, прозрение, отгадку, интуицию. Всё это было возможно и даже приветствовалось. Но; нужно было каждый раз обязательно доказать, что полученный с их помощью результат отличается от истинного результата менее, чем на любую наперёд заданную величину. В противном случае результат не считался доказанным.
Жёсткие путы налагались этим правилом на математиков. Мало кто посмел бы рискнуть представить на суд учёных коллег новое слово своё, не подкреплённое доказательством методом исчерпания.
Попробовал Кавальери попытаться разработать алгоритм интегрирования, вывести свою «линейную сумму» — прототип интеграла, но ревнители строгости быстро отбили у него охоту вольничать.
И всё же! Именно Кавальери предложил новый, никак не доказуемый методом исчерпания метод «неделимых» математических «атомов» — бесконечно малых, но всё же не нулевых величин. Торричелли говорил о нём:
«Несомненно, геометрия Кавальери — это истинно царская дорога посреди запутанных зарослей математического терновника! Метод Кавальери следует самой природе. Жаль мне древней геометрии, которая — не зная или не желая знать учение о неделимых, оставила нашему веку в наследство лишь злополучное убожество!»
— Долой Евклида и Архимеда, да здравствует Кавальери! — повторяли с Торричелли молодые математики. А ревнители травили Кавальери, который, устав от борьбы, жаловался друзьям:
— Все эти придирки и споры, скорее философские, чем геометрические, для меня крайне мучительны… Считаю неправильным тратить время, которое ещё осталось мне для работы, на эти пустяки.
И не отвечал на критические нападки. Многие не поняли идей Кавальери или поняли их не так. Торричелли, например, счёл, что навсегда избавлен от обязанности представлять доказательства. Плотина была прорвана — и математики, впав в иную крайность, свободно жонглировали теперь нулями и бесконечностями, сходящимися и несходящимися рядами.
Неделимые были подозрительны. Их третировали ревнители строгости, их не признавали христианские богословы:
— Всякие науки истинны, кроме тех, что основаны на предположении, что непрерывное состоит из неделимых!
Богословы предупреждали:
— Если допустить, что мир состоит из материальных неделимых и пустоты, то получится, что духовный мир — это продукт чистой материи, что ересь.
Монах Кавальери, естественно, страшился таких обвинений. Он разъяснял:
— Я никогда не решался утверждать, что непрерывное составлено из неделимых, лишённых, конечно, какой бы то ни было толщины. Нельзя составить, как делает Кеплер, большие тела из мельчайших тел. Неделимые — это следы «текущей», «флюентной», движущейся плоскости, пересекающей данную линию, фигуру или тело и оставляющей на ней во все моменты времени след. Ведь время, как говорили пифагорейцы, состоит из отдельных моментов!
Возврат к кинетическим традициям древних философов-пифагорейцев вызывался расцветом механики и астрономии. Статическое интегрирование точек заменялось кинематическим интегрированием траекторий. Другими словами: линия перестала интересовать исследователей как таковая — линия стала следом движущегося реального тела, описанием реального процесса. И вот, изучая метод Валлиса, Ньютон понял, что он представляет собой гораздо более удобный и универсальный инструмент, чем считал сам Валлис. Ньютон понял, что валлисовские квадратуры есть частные случаи единого процесса, который мы по сегодняшней классификации назвали бы интегрированием — операцией, обратной дифференцированию. И более того. Если Валлис считал, что площади под кривыми есть статистические суммы бесконечно малых площадей, то Ньютон, следуя Барроу, воспринимал эти площади кинетически. Его площади описываются движущейся точкой. Он достиг непрерывности движения там, где Валлис видел ступеньки. Решающий шаг — описание кривых точкой, движущейся при определённых условиях. Возможно, этот шаг связан с лекциями Барроу. Именно идея движения принесла от Кавальери термин «флюксии» — «текущие», термин, которым Ньютон характеризовал свой метод. Движение предполагало введение новой переменной — времени и нового понятия — скорости, эквивалентного современной производной.
Ньютон считал, что любая кривая линия — это след движущейся точки. Элементы этого движения всё время меняются, причём в разной степени, находясь в то же время в некоторой связи между собой, определяемой уравнением. Если знать уравнение кривой, то можно в любой заданный момент времени при любом значении «x» узнать изменения или «флюксии» этих элементов.
В более позднем «Трактате о квадратуре кривых» Ньютон пишет:
«…Я рассматриваю математические величины не как состоящие из очень маленьких частей, но как описываемые с помощью непрерывного движения. Линии описываются и, следовательно, порождаются непрерывным движением точек, поверхности — движением линий, пространственные фигуры — вращением сторон, интервалы времени — непрерывным течением и т. д. Это порождение имеет место в природе вещей и может каждодневно наблюдаться по движению тел… Следовательно, рассматривая эти величины, которые равномерно увеличиваются и порождаются этим увеличением, становясь больше или меньше в соответствии с большей или меньшей скоростью, с которой они увеличиваются и порождаются, я искал метод определения величин из скоростей движения или приращений, при которых они порождаются; и, назвав эти скорости движением или приращения флюксиями, а порождённые величины флюентами, я постепенно пришёл к методу флюксий, который я и использовал в 1665 или 1666 году при решении задачи о квадратуре кривой».
Найти концепции движения достойное место в исчислении бесконечно малых помогало богатое физическое и геометрическое воображение Ньютона. Он легко представлял себе различные положения фигур, их возможные трансформации при перемещении, смещении тел, движений осей. Своим умственным взором он ясно видел, например, как круг превращается в эллипс, и видел при этом, какие изменения происходят в процессе подобного превращения в формулах. Он не смог пока найти алгоритма дифференцирования и каждый раз показывал красочную процедуру с конкретными кривыми. И чувствовал необходимость прийти к более общим выводам.
Великая заслуга Ньютона — кинетическое обоснование процесса исчисления бесконечно малых. Но и здесь у него был фундамент. Один из исследователей его творчества пишет, «что по принятой им теории плоскости получается в результате движения линий и т. п. Об этом твердили и писали и пифагорейцы, и христианские богословы, и Кавальери. Равным образом и в изучении кривых, как неких траекторий, возникших в результате сложения двух скоростей, направленных по ординатам, Ньютон тоже не был пионером; здесь Ньютон имел предшественников в лице дю-Вердю и Торричелли. Основная и величайшая заслуга Ньютона в том, что он противопоставил друг другу флюксию как скорость процесса и флюенту как, так сказать, общий результат процесса в каждый отдельный момент». Он увидел в дифференцировании и интегрировании то единство, которого никто до него не понимал.
Следует подчеркнуть, что, хотя Ньютон всё время рассматривает как бы механическое движение в пространстве и во времени, он специально оговаривает, что слово «время» носит у него чисто условное значение. Это могла бы быть любая другая величина, возрастающая равномерно и к которой могли бы быть отнесены другие изменяющиеся величины. Производная у Ньютона — это относительная скорость
В октябре 1666 года работа окончена. Ньютон пишет мемуар, начинающийся словами: «Следующие предложения достаточны для решения задач посредством движения». Это — систематическое изложение метода флюксий. Здесь мы находим намётки будущих дифференциалов — столь важного в последующем развитии математики понятия. В мемуаре Ньютон представляет собственный метод квадратур, даёт предложения для упрощения уравнений до форм, пригодных для интегрирования. Есть здесь и таблицы интегралов, и разложение в ряды некоторых функций. Однако сколько-нибудь постоянного обозначения для интеграла у Ньютона ещё нет. Возможно, что он не хотел снабжать специальным названием и обозначением сущность, не имеющую однозначного и единственного определения: ведь неопределённые интегралы находят с точностью до постоянной.
…В возрасте 24 лет Ньютон познал самоуважение, увидел своё отличие от других и своё превосходство. Его надежды и мечты, как выяснилось, имели под собой основания. Не напрасно страдал он от своего одиночества. И причиной этому одиночеству была его необычность, его дар.
Интересно, что он никогда не пытался опубликовать свой октябрьский трактат 1666 года. Он хранил свои секреты, как ремесленник или алхимик. Он решил пользоваться своими открытиями в одиночку и тем временем усовершенствовать метод флюксий. Он считал себя слишком молодым для того, чтобы занимать собой публику, а свой метод — слишком уязвимым для критики.
Октябрьский мемуар, оставшийся в бумагах Ньютона в виде черновика, был впервые опубликован лишь через триста лет.
За открытием Ньютона стояли не только его талант и одержимость. За ним стояли практические потребности техники, торговли и мореплавания, механика Галилея и Декарта, астрономия Коперника и Кеплера, математическое свободомыслие Кавальери и его последователей. Сделать своё открытие Ньютон смог, лишь повернувшись спиной к прошлому и находя подтверждение новым методам не в строгих доказательствах, а в обилии полученных им и подтверждающих этот метод результатов.
Звоны благовещения известили о начале пасхального семестра, а Ньютон всё ещё не мог расстаться с Вулсторпом. Он вернулся в Кембридж лишь в конце апреля 1667 года.
В послечумном Кембридже было оживлённо. Его пустовавшие квадратные дворы, гулкие залы ожили, наполнились толпами уставших от вынужденного безделья студентов. Учёные слова снова полились с долго молчавших кафедр, заработали на полную мощность типографии, выпускающие толстые фолианты.
А Ньютон с тоской вспоминал о Вулсторпе — там каждый день приносил ему радость открытия; здесь, в Кембридже, его поджидали осенью тяжёлые дни выборов. Провал на них был бы равнозначен для него крушению университетской карьеры. Выборов не проводили уже три года, и число претендентов за это время значительно превысило число вакансий. Да и откуда было бы взяться этим вакансиям? Правда, умер поэт Каули; два члена колледжа, будучи в подпитии, свалились с лестницы и разбились насмерть; столь же непредсказуемые причины принесли ещё малую толику мест. А претенденты подпирали — каждый год оканчивали университет всё новые питомцы Вестминстерской школы, шедшие по «мастерскому списку», по мандатным письмам короля. Неизменяемость состава колледжа свидетельствовала о злоупотреблениях. Согласно уставу членом колледжа нельзя было оставаться долее семи лет — к окончанию этого срока ему необходимо было получить должность в колледже, например, стать профессором или тьютором. В противном же случае, приняв священный сан, идти на церковную службу. Но члены колледжа вовсе не желали расставаться со своей сладкой жизнью! Они всеми силами упирались, правдами и неправдами избегали назначения и вели праздную и распутную жизнь. Они держались в колледже по полвека, старились здесь и умирали. Кембридж был полон бессильных, полусумасшедших, давно выживших из ума стариков, не знающих жизни и не изведавших труда.
Викинс рассказывал про одного из таких:
«Ему больше восьмидесяти, он не выходит из комнат ни днём ни ночью, помыкает сайзером. А в туман тихо спускается по лестнице, вооружившись толстой палкой, и делает для моциона круг-другой по двору колледжа. И когда видит на земле червяка, всегда останавливается, внимательнейшим образом осматривает его, а затем неистово растирает его в прах палкой, приговаривая: «Вот тебе, проклятому! Ты меня уже не съешь!»
Даже лукасианский профессор Барроу не смог бы сейчас помочь Ньютону, ибо по стажу работы в колледже был всего одиннадцатым, а комиссия состояла из восьми старейшин, в число которых, правда, входил Гемфри Бабингтон.
В этой обстановке поведение молодого Ньютона кажется с чисто практической кембриджской точки зрения до странного легкомысленным. Упиваясь воспоминаниями о недавних вулсторпских подвигах, он то и дело возвращается к своим работам, что-то доделывает, уточняет. Он совершенно не занимается тем, что должно стать предметом его испытаний и чем он столь откровенно пренебрегал во время учения. Ни математика, ни астрономия, ни физика, ни химия будущих экзаменаторов не интересовали. Неужели его так ослепляла надежда на поддержку Бабингтона? Он, казалось, нисколько не заботился о предстоящих экзаменах. Как следует из его расходных тетрадей, он истратил чуть ли не фунт на то, чтобы отпраздновать наконец своё вступление в бакалавры, несколько раз посещал со знакомыми таверны, проиграл 15 шиллингов в карты. Другие статьи его расходов тоже не свидетельствуют о серьёзной подготовке к экзаменам. Он истратил полтора фунта на всяческие инструменты, включая небольшой токарный станок. Масса денег ушла на его бакалаврскую прюнелевую мантию, ниспадающую до земли, на башмаки с пряжкой, на камзол до колен с рядом бесчисленных пуговиц, на «мортар-борд» — четырёхугольную чёрную шляпу с большими полями, на чёрный плащ с широченными рукавами и безбрежным капюшоном. (Униформа бакалавра была куплена им с таким расчётом, чтобы её можно было перелицевать в мантию члена колледжа. Он, как видно, совершенно не собирался оставаться за бортом.)
Экзамен продолжался три дня, каждый день по шесть часов. Мастер Пирсон предложил испытуемым философские темы для разработки. Трёх дней не хватило, и с позволения мастера дан был и четвёртый. По его завершении претенденты сдали свои сочинения, снабжённые сведениями об имени, возрасте и месте рождения.
Ранним прохладным утром 1 октября 1667 года звон малого колокола, раздавшийся со стороны звонницы Тринити-колледжа, призвал старейшин в капеллу — там им предстояло избрать по результатам испытаний своих будущих коллег. А назавтра малый колокол вновь призвал к себе старейшин, но уже вместе с девятью новыми членами колледжа, в том числе с Исааком Ньютоном. Это означало для него конец неопределённости и начало научных занятий в академическом городе рядом с людьми, во многом подобными ему, обладающими теми же правами и обязанностями и в то же время бесконечно от него далёкими. Будущее виделось ему светлым и многообещающим. Хотя и было нечто, его омрачающее: когда его посвящали в члены колледжа, он дал клятву, в которой подтверждал, что принимает всей своей душой истинную религию Христа, объектом своих научных изысканий изберёт теологию, а после семи лет пребывания в степени магистра примет священный сан или же покинет колледж. Но всё это было ещё далеко, могло показаться сейчас несущественным. Главным было то, что сейчас он стал младшим членом колледжа. Затем, когда он получит степень магистра искусств, а это произойдёт автоматически через девять месяцев, он будет избран полным членом, а там, возможно, и старшим. Улучшилось и его финансовое положение. Он теперь получал два фунта в год стипендии, фунт с небольшим — на форму и 10 фунтов в год «бенефиций» — за счёт прибылей колледжа от его пивоварни и хлебопекарни.
Хотя он и не удостоен был ещё чести обедать под портретом Генриха VIII кисти Гольбейна за «высоким столом» в Тринити-холле и оставался по-прежнему со стипендиатами, он стал уже обладателем права на хорошую комнату. Через несколько дней, а именно 5 октября, мастер Пирсон выделил ему «духовную камеру» — это была большая комната рядом с капеллой, в северном углу большого двора Тринити. Согласно традиции и правилам этой комнатой Ньютон мог располагать по своему усмотрению и даже сдавать её внаём, что он и сделал. Сам он продолжал в целях экономии жить в одной комнате с Викинсом, деля с ним полученную выручку.
И всё же денег не хватало. На рождество, на своё двадцатипятилетие, Ньютон поехал в Вулсторп, к матери. Вернулся он с тридцатью фунтами. Они в основном ушли на новую мантию. Ведь 1 апреля он должен был получить в числе других степень магистра. Эта честь обходилась довольно дорого. Он должен был уплатить два фунта проктору, пять с половиной — колледжу, кое-что было оставлено и в таверне. Но будучи магистром искусств, он смог теперь — и это случилось 7 июля — стать полным членом Тринити-колледжа. Теперь его стипендия возросла почти до трёх фунтов в год, а деньги, выделяемые на форму, — до двух фунтов. Но главное — увеличились его доходы с владений Тринити-колледжа — они равнялись теперь 25 фунтам. Кроме того, он получил привилегию сидеть «под Генрихом VIII», пить пиво в Большом зале Тринити из высокой серебряной кружки с крышкой и право беспрепятственной игры в мяч на лужайке Тринити-колледжа. В новые обязанности Ньютона входило и наставничество — он стал тьютором. В его ведение попал Леже Скруп, носитель почётного звания «феллоу-коммонер»: так назывались богатые стипендиаты, имевшие возможность платить за привилегию сидеть за «высоким столом». Сам факт того, что Ньютону предложили такого влиятельного студента, означал или его большой авторитет или то, что у него были в колледже весьма высокие покровители и почитатели. О Скрупе и его отношениях с Ньютоном ничего не известно. Даже в списке жертвователей колледжа — в самом полном списке лиц, которые тем или иным образом были связаны с Тринити-колледжем, — Скруп не значится, как, впрочем, не значится и Ньютон.
Сохранились программы, составленные Ньютоном для своих питомцев (всего их было три): он делил занятия студентов на две части — лекционную (гуманитарные и естественные науки, греческий язык и математика); и занятия с тьютором (логика, этика, география и хронология).
Теперь, став человеком весьма обеспеченным, Ньютон занялся по-настоящему и своим жильём. Он накупил замазки, шпаклёвки, штукатурки, нанял рабочих и маляров, вместе с Викинсом купил кушетку, постелил на полу кожаный коврик, абонировал ледник. Он купил новое бельё и покрывало для кровати, скатерть, салфетки, ещё один ковёр.
Получив некоторую свободу в деньгах, Ньютон смог позволить себе съездить в Лондон. Об этом путешествии сохранилось немного сведений, однако расходные книжки Ньютона свидетельствуют, что время он там провёл неплохо, истратив громадную сумму в пять фунтов. Он побывал наверняка и в Королевском обществе. Ещё год назад он проявил к нему острый интерес, купив довольно дорогую книгу Спратта «История Королевского общества». Он стал покупать и «Философские труды», выпускаемые Обществом, из которых узнавал о новых работах Бойля и Гука. Записей о том, что он посетил Королевское общество или как-то вступил в контакт с кем-либо из его членов, не сохранилось, да и время, может быть, было неподходящее. Лондон лежал в руинах и пепелищах. На месте сгоревших кварталов прокладывались новые магистрали, расчищалось место для нового собора святого Павла. Работами руководил маленький горбун, чьё имя произносили с благоговением — Роберт Гук.
Вживаясь в своё новое состояние, Ньютон стал постепенно приходить к одному выводу: Кембридж смертельно болен. Теперь, с высоты его нынешнего положения, он мог видеть и причины этого. Цитадель науки и образования постепенно превращалась в садок королевских синекур. Рекомендательными письмами короля ставили и снимали канцлеров, вице-канцлеров, мастеров, членов колледжа, присваивали учёные степени. В 1671 году в фавор вошёл герцог Букингемский, и король ничтоже сумняшеся назначил его канцлером университета. Члены сената безропотно и единодушно проголосовали за его назначение, да ещё благодарили короля за возможность свободного волеизъявления. Через три года герцог впал в опалу. Столь же единодушно и безропотно сенат освободил его от должности и заменил незаконнорождённым сыном короля герцогом Монмутским. Нежелательные для короля фигуры никогда не избирались, невзирая на любые научные и педагогические заслуги. Такое положение приводило к тому, что учебные занятия и наука в университете были заброшены. Забыты были прежние дискуссии и споры. Мало кто придерживался установленного порядка сдачи экзаменов. Редко выполнялась торжественная клятва членов колледжа принять священный сан. Профессора проводили большую часть года в других городах или своих имениях. Некоторые совсем не показывались в университете, а те, кто жил в Кембридже постоянно, предавались всевозможным порокам, в первую очередь пьянству. Восемь профессоров Тринити в полной мере наслаждались преимуществами, которые дают синекуры. Прежние строгости университетской жизни были забыты, ограничения исчезли. Суббота перестала быть в Тринити постным днём и днём воздержания от спиртных напитков.
Забвению идеалов науки и образования в Кембридже способствовал сложившийся там принцип старшинства. Лишь стаж пребывания в членах колледжа был поводом для продвижения. Судьба члена колледжа зависела исключительно от тех несчастий и перемещений, которые случались с людьми, раньше ставшими полноправными членами. Образ преуспевающего кембриджца того времени — льстец, лодырь, бонвиван, куряка и пьяница. Говаривали, и не без оснований, что и собаку нельзя доверить подобным воспитателям.
Несколько обособленно стоял Гемфри Бабингтон, родственник аптекаря Кларка и дядя той, кому были посвящены юные помыслы Исаака. Человек трезвого ума, сорокашестилетний Бабингтон питал к двадцатипятилетнему Ньютону поистине отцовские чувства. Он одним из первых оценил исключительную одарённость своего подопечного. О каждой встрече с Ньютоном Бабингтон аккуратно поверял своему дневнику. Отказавшись подписать кромвелевскую клятву верности Содружеству, Бабингтон вместе с поэтом Абрахамом Каули и многими другими был изгнан из университета. Реставрация принесла ему почести и звание королевского доктора литературы — памятник его стойкому роялизму. Его лекции изобиловали цитатами из Овидия, Гомера и Цицерона, а единственный научный труд был свидетельством громадной, но бессистемной эрудиции.
Но в окружении молодого магистра были и другие лица…
…Всматриваясь в туманные кембриджские дали, вызывая в своём воображении тихое течение речушки Кем, каменные мосты, нависшие над её кувшинками, крепостные стены колледжей, грязноватые булыжные мостовые, весёлые таверны и кофейные домики, колоритных «таун энд гаун» — городских и университетских жителей Кембриджа, и, наконец, самого Ньютона — чаще всего замкнутого, отрешённого, то в чёрной мантии спешащего на лекцию или в стихаре — в церковь, то в затрапезном, прожжённом кислотами камзоле гуляющего в зелёном дворике при келье, — мы чаще всего застаём рядом с ним ещё одного человека…
Он невысок, стремителен в движениях, Нездоровое бледное лицо усталого человека, покрытое ранними морщинами, одежда неряшлива. Во рту — неизменная трубка: заядлый курильщик всевозможного зелья.
Видимо, несмотря на свой столь нереспектабельный вид, этот человек пользуется у Ньютона тем не менее громадным уважением. Рядом с ним он становится ещё более молчаливым и жадно впитывает у Исаака Барроу, своего учителя — а это он, — его научные доктрины, его взгляды на философию, науку, его мысли о природе и боге, о короле и парламенте, его рассказы о путешествиях в дальних странах.
Барроу — известный эрудит, знаток древних языков, математик, физик и богослов, прекрасный рассказчик и один из самых знаменитых английских проповедников. Его литературный язык был образцом для многих поколений, а его поэмы — любимым чтением двора.
Сейчас он, закончив блестящее повествование о своём падении в альпийскую пропасть и счастливом спасении от пиратов, рассказывает Ньютону о Декарте. Декарт — это больное место Барроу, ибо, восхищаясь им, он многое у Декарта не принимал, склоняясь более к кембриджским неоплатоникам и, в частности, к Муру, с которым дружил. Вечный спор о душе и материи, который Декарт скорее решал в пользу материи, Барроу определённо решал в пользу духа.
— Я восхищаюсь Декартом, — говорил Барроу, помогая себе жестами, не в силах унять энергию своего внутреннего вечного двигателя, явно превышающую потребности его небольшого складного организма и заставляющую его непрерывно двигаться, ходить, размахивать руками. — Декарт мог математически охватить мир, мог формулировать прямо и недвусмысленно мировые законы. Но как мог Декарт, оставляя себе движение и материю, отказаться от духовного и нематериального? Что же, по мнению Декарта, бог — это какой-нибудь плотник или механик, который знает лишь законы материи и движения? Или он просто кукольник, дёргающий за верёвочки созданных им же марионеток? Мир Декарта лишён движущей пружины! А именно — души, некоей нематериальной сущности, управляющей движением материи.
Ньютон молчал. Вопрос был совсем не простым. А он не хотел бы выдвигать неподтверждённых гипотез.
— Возьмите магнетизм, — убеждал Барроу Ньютона, — разве можно механическими движениями объяснить страннейшее влечение железа к магниту? А притяжение пылинок к янтарю? Здесь нечто большее, чем просто механическое движение и материя. Здесь присутствует что-то более возвышенное — любовь, взаимное стремление. А говоря о живых организмах, разве можно свести их стремление друг к другу, к сближению и совокуплению чисто механическими причинами? Недаром Аристотель знал десятки видов движения — даже политические. Декарт хитёр, он считает, что каждое естественное тело — живые существа, овощи, минералы, камни и тому подобное — составлено из двух частей, которые, по его мнению, совершенно различны и им разделены. Людей он разделил на душу и тело — на нежную, чистую, но и сильную душу и чёрное, косное, нечистое и слабое тело. А разделить эти две сущности можно лишь огнём! Так что Декарт в некотором смысле сделал шаг назад по сравнению с герметическими философами. Они шли правильным путём, решая вопросы с помощью эксперимента. Декарт же ничего подобного не делает. Он совершенно крив в своей методологии.
— Почему же? — только и мог вставить Ньютон.
— А потому, — отвечал Барроу, — что Декарт изобрёл, как он считает, самый лучший способ рассуждения, а именно такой: не учиться у вещей, а налагать на вещи его собственные законы. Сначала он намечает в своей голове некоторые физические правила, которые кажутся ему подходящими из некоторых самых общих соображений, затем он позволяет себе снизойти до общих принципов природы и уж затем постепенно переходит к частностям, которые можно извлечь из принципов, которые он формирует, не консультируясь с природой…
Каждая такая беседа тревожила Ньютона, заставляла думать о самых сложных проблемах, существующих в мире, о Природе и боге, о Декарте, о Муре, о самом Исааке Барроу.
Исаак Барроу был истинным интеллектуальным отцом Ньютона. Он направлял молодого выпускника в науке, философии, в религии, привил свои взгляды на эксперимент, индукцию, математизирование в философии. Впоследствии он помогал ему быстро проходить последовательные ступени академической карьеры и получить профессорский пост. Кроме совершенно исключительного в кругу кембриджцев кругозора, он обладал ещё двумя редкими качествами: житейской мудростью и добротой. И ещё: он чрезвычайно высоко ставил своего ученика. Барроу не раз говорил, что в том, что касается математики, он по сравнению с Ньютоном смыслит не более ребёнка. Когда студенты задавали ему сложные вопросы, он сразу же отсылал их к Ньютону.
Барроу был всего на двенадцать лет старше Ньютона. С детства его отличала необычайная живость в движениях, непоседливость и физическая сила. Он причинял своим родителям и учителям столько беспокойства, что его отец в вечернем молитвенном экстазе не раз воссылал господу мольбу, что если уж угодно тому будет взять к себе раньше срока одного из его детей, то пусть это лучше будет Исаак. Барроу обучался в Тринити, где уже в 1649 году стал членом колледжа. Дальше его университетская карьера, казалось, пришла к концу: в 1655 году он вынужден был эмигрировать, ибо был роялистом и католиком. Так он попал во Францию, затем в Восточную Европу и Малую Азию. Путешествие было опасно и полно приключений, о которых можно было бы написать отдельный роман. С Реставрацией он смог вернуться в Англию, где королевским мандатом получил должность профессора греческого языка в Кембриджском университете, то есть занял ту самую кафедру, которую некогда занимал мудрец Эразм. Затем он некоторое время занимался геометрией в Оксфорде, где встретил будущих «виртуозов» — членов Королевского общества и попал в компанию истинных естествоиспытателей. Потом ему повезло ещё больше: выше уже упоминалось, что некий Лукас пожертвовал Кембриджскому университету деньги на создание математической кафедры его имени. Он был дерзок, Генри Лукас. Раньше создание кафедр было привилегией лишь королей. Но университетское начальство, давно не получавшее щедрых подарков, приняло предложение Лукаса.
Профессорское жалованье по лукасианской кафедре выплачивалось в размере ста фунтов годовых из доходов с земель в Бедфордшире. По своему рангу кафедра приравнивалась к главнейшей — кафедре богословия, а должность лукасианского профессора — к должности мастера большого колледжа.
Когда встал вопрос о подборе первого лукасианского профессора, Барроу широко воспользовался тем большим авторитетом, которым обладал в Тринити и Кембридже в целом. Он, по-видимому, имел большое влияние на адвоката Роберта Рауворта и университетского печатника Томаса Бука, которые согласно завещанию Лукаса были ответственны за назначение лукасианского профессора. Поэтому именно Барроу написал своей рукой те требования, которые к этой должности предъявлялись. Он составил их таким образом, что не могло возникнуть ни малейшего сомнения: для занятия должности подходил только один человек в мире — Исаак Барроу.
Профессор Барроу читал лекции по математике и оптике. И Барроу попросил своего молодого коллегу Исаака Ньютона помочь ему в этом.
В 1668 году Ньютон заканчивает работу по просмотру и подготовке к изданию лекций своего учителя. Их название «Лекции по геометрии и оптике». В «Послании к читателю» — согласно старинному обычаю так начинались все курсы кембриджских лекций — можно встретить первое упоминание имени Ньютона в печати. Это звучит следующим образом: «Наш коллега д-р Исаак Ньютон (муж славный и выдающихся знаний) просмотрел рукопись, указал несколько необходимых исправлений и добавил нечто и своим пером, что можно заметить с удовольствием в некоторых местах». Имя Ньютона встречается и в тексте лекций Барроу, где говорится о совместно проведённых исследованиях.
Вполне естественно, что Барроу был в курсе работ Ньютона по бесконечным рядам и флюксиям. Именно поэтому он перепугался за своего молодого друга, получив из Лондона от господина Коллинса посылочку с новой книгой Меркатора «Логарифмотехния».
…Коллинс был, возможно, одной из самых удивительных фигур, порождённых наукой середины XVII столетия — наукой, только ещё приобретающей международный характер, свои журналы, регулярные связи между учёными, свои общества. Он добровольно возложил на себя обязанности «живой научной газеты» подобно тому, как несколько ранее сделал это во Франции аббат Мерсенн. Коллинс вёл регулярную переписку с английскими и континентальными учёными и сообщал в своих письмах, порой толстых, как научные трактаты, о новинках научной мысли и, что греха таить, — о последних научных сплетнях. В те годы издатели избегали печатать научные книги — они плохо расходились; Коллинс решил издавать их сам, быть и редактором их, и продавцом. Он, конечно, не прочь был при этом и подзаработать: секретарь и член Совета плантаций, ведавшего американскими территориями, он не получал жалованья; Стюарты ему не платили, поскольку считали, что все служат только во имя своей личной корысти. Жена его была прачкой столового белья королевы. Ей тоже не платили годами, а когда погашали долги, каждый раз оказывалось, что деньги давно обесценивались очередной войной. Но она была дочерью королевского повара и посему Коллинс мог особенно не заботиться о деньгах и жить у своего тестя в Вестминстерском дворце.
Примерно в 1669 году Коллинсу стало известно, что лорд Браункер стал разрабатывать способ вычисления площади гиперболы с помощью бесконечных рядов. Меркатор использовав эту идею и валлисовский метод, дал в 1668 году в «Логарифмотехнии» новое решение проблемы. Он смог понять, что бесконечные ряды являются весьма простым способом вычисления логарифмов. Это было выдающееся событие в математике, поскольку впервые площадь криволинейной плоской фигуры была вычислена с помощью новых методов аналитической геометрии Декарта. В начале 1669 года Коллинс послал книгу Меркатора Барроу.
Барроу, получив книгу, сразу же оценил то беспокойство, которое Ньютон должен был испытать в связи с очевидным приоритетным диспутом, который маячил впереди. Сам Ньютон ясно понимал, что раз уж Меркатор применял ряды к нахождению квадратур, то следующим шагом неизбежно должно было стать открытие флюксий. С выходом книги Меркатора множество учёных обратились к его методам, и Коллинс начал получать большое количество писем. Лорд Браункер сообщил, что ему удалось использовать ряды для нахождения площади круга, Джеймс Грегори тоже работал в этом направлении. Продолжал работать и Меркатор. Ньютон об этом и не знал, но вполне мог предположить, что события движутся именно в этом направлении. Использование бесконечных рядов носилось в воздухе, а математики кругом были весьма опытные.
Просмотрев работу Меркатора, Ньютон понял, что четыре года назад он пришёл к гораздо более общим выводам. По настоянию Барроу он в страшной спешке набросал сочинение, частями которого послужили его ранние работы. В нём он описал и метод флюксий. Название было придумано такое: «Об анализе уравнений с бесконечным числом членов» («De analysi…»). Барроу буквально вырвал «De analysi…» из рук Исаака.
20 июля 1669 года
«… [один мой друг] замечательной гениальности в этом отношении, принёс мне на другой же день несколько статей, в которых он разработал методы вычислений величин, подобные тем, что употребляет господин Меркатор для гиперболы, но гораздо более общие…»
Статья была отослана со следующим сопроводительным письмом:
31 июля 1669 года
«Посылаю Вам статьи моего друга, как я и обещал… Прошу Вас в соответствии с его желанием, использовав их так, как Вы сочтёте нужным, тотчас же возвратить их мне… Прошу при ближайшей возможности дать мне знать о том, что Вы получили их с тем, чтобы я мог быть уверен, что они у Вас; я боюсь за них. Вверяю их почте лишь потому, что не могу более медлить…»
Уже в десятых числах августа Коллинс имел в своём распоряжении статью «De analysi…». Её содержанием было применение бесконечных рядов к вычислению квадратур и описание общего метода флюксий из старого октябрьского трактата 1666 года.
«Мы не знаем ничего, к чему бы этот метод не мог бы быть применён, — писал автор, — причём самыми различными способами… В то время как обычный анализ оперирует с уравнениями с конечным числом членов… этот метод всегда оперирует бесконечными уравнениями, вследствие чего я никогда не колебался присвоить ему название анализа. Естественно, что выводы из него не менее определённы, чем выводы [из обычного анализа], а уравнения не менее точны…»
В самом конце статьи Ньютон кратко описывает метод касательных, являющийся по отношению к методу квадратур обратным. В статье с исчерпывающей полнотой описано то, что стало впоследствии дифференциальным и интегральным исчислением.
…Единственное, чего удалось добиться пока Ньютону, — это договориться с Барроу о том, чтобы тот не сообщал Коллинсу имени автора. Но Коллинс чрезвычайно высоко оценил работу, и Барроу не выдержал, нарушил слово.
20 августа 1669 года
«…Его имя — Ньютон. Он член нашего колледжа и совсем ещё молодой человек — всего год назад он получил диплом магистра. Он с несравненной гениальностью достиг большого прогресса в этой области…»
Ньютон и не подозревал, что Коллинс, получив статью «De analysi…», широко распространит её по всей Европе. Коллинс, испытывая гордость за свою нацию, разослал статью по всему миру. Он послал её Джеймсу Грегори в Шотландию, Рене де Шлюсу в Голландию, Жану Берте во Францию. Он послал эту статью в Италию для Дж. А. Борелли и своим соотечественникам лорду Браункеру, Ричарду Таунлею и Томасу Строуду. И Коллинс, и Барроу считали, что статью необходимо немедленно опубликовать. Они сочли удобным сделать её приложением к готовящейся к печати книге Барроу «Лекции по геометрии и оптике». Однако Ньютон не согласился на это и, вообще, казалось, был против того, чтобы о его методе знал кто-либо, кроме непосредственно заинтересованных лиц. Несмотря на то, что этот эпизод заканчивает попытку публикации статьи «De analysi…» и тем самым кладёт первый камень в знаменитый диспут о приоритете с Лейбницем, статья отнюдь не прошла для Ньютона бесследно.
Ошибётся тот, кто скажет, что должность лукасианского профессора полностью удовлетворяла честолюбивого Исаака Барроу. Он метил повыше. Он считал, что отказ принести клятву верности Кромвелю и его долгие скитания заслуживают более щедрой награды. Чувствуя, что Карл II стал о нём забывать, он решил напомнить о себе и сочинил большую помпезную поэму под названием «Слёзы Кембриджа» в память об отравленной сестре короля. Сила искусства неодолима. Король решил сделать Исаака Барроу придворным капелланом.
29 октября 1669 года лукасианская кафедра перешла к «остроумнейшему мужу Исааку Ньютону». Ньютон рассказывал впоследствии, что Барроу сделал это исключительно для того, чтобы уступить ему дорогу. Викторианские биографы вторили ему, утверждая, что Барроу уступил кафедру Ньютону лишь потому, что не мог этого не сделать. Слишком уж ярок был новый математический гений. Слишком уж неуютно было бы лукасианскому профессору Исааку Барроу рядом с простым членом колледжа Исааком Ньютоном. Он вынужден был сделать это и из доброжелательности, и попросту согласно здравому смыслу. Не в силах конкурировать с Ньютоном, он навсегда забросил математику. Однако нравы того времени и, в частности, обычаи английских университетов начисто исключают такой справедливый, благородный и альтруистический жест. Барроу, уступая кафедру Ньютону, прекрасно знал, что впереди его ожидает значительно более высокая должность, а именно должность королевского капеллана. Но нельзя отрицать и того, что без помощи Барроу Ньютону никогда не удалось бы стать лукасианским профессором. В представлении на должность он ярко описал заслуги своего питомца, «автора замечательной работы «De analysi…», продвигающей английскую математику на самые передовые позиции в мире.
Что же входило теперь в обязанности двадцатисемилетнего Ньютона — лукасианского профессора? Во-первых, он должен был читать лекции по геометрии, астрономии, географии, оптике, статике и другим математическим дисциплинам. Каждую из этих тем он должен был читать в течение трёх академических семестров, раз в неделю. Каждый год он должен был сдавать в университетскую библиотеку экземпляры десяти прочитанных лекций. За каждую пропущенную лекцию профессор уплачивал штраф сорок шиллингов. Предусмотрен был штраф — значительно больший, пять фунтов — и за непредставление лекций в библиотеку. Профессор во время семестра не мог покидать университет более чем на шесть дней. Если требовалось больше, он должен был получить разрешение вице-канцлера, который никому не отказывал. Профессор был обязан два часа в неделю посвящать ответам на вопросы студентов и разъяснению трудностей курса. Студенты на эти консультации почти никогда не ходили.
Ньютон получал теперь существенную прибавку к жалованью и право носить оранжевую мантию. Теперь он мог быть снят со своего поста лишь в следующих случаях: если бы он совершил какое-нибудь серьёзное преступление, например, оскорбление монарха, ересь, участие в раскольнической секте, предумышленное убийство, крупное воровство, внебрачную связь, лжесвидетельство и клятвопреступление.
Ньютон тщательно готовился к лекциям, но на них, как и на лекции Барроу, мало кто ходил. Ньютон сравнивал себя с Софоклом, который играл в пустом театре без зрителей, без труппы и без хора. Это было прямым следствием пренебрежения студентами своими обязанностями, в чём они брали пример с профессоров. Профессор арабского языка, например, давно уже прибил на дверь аудитории плакат: «Завтра профессор арабского идёт в пустыню» — и вообще прекратил читать лекции. Если кто-нибудь забредал иногда на его лекцию, Ньютон обычно читал ему полчаса; если его встречали в аудитории пустые стены, он уходил через пятнадцать минут. Интересно, что ни один из окончивших Кембриджский университет не смог впоследствии припомнить, чтобы он когда-нибудь слушал лекции у Ньютона.
Читал он лекции регулярно или нет — доподлинно неизвестно. Можно лишь утверждать, что он сдал конспекты лекций в библиотеку. Видимо, поначалу он относился к лекционному курсу серьёзно, но затем, как и Бappoy, превратил свою должность в синекуру, использовал её возможности для проведения научной работы. То, что он сдал в библиотеку, и то, что было названо «Лекциями по оптике», является в действительности отчётом о напряжённейшей научной работе Ньютона в области оптики, проведённой и в период его профессорства, и значительно раньше, в 1666–1669 годах. Увлёкшись проблемой цветов, Ньютон стремился выжать из своего мозга всё, что было возможно. Он всячески понукал, подстёгивал его, приводил во всё более активное и ясное состояние. Для того, чтобы улучшить мыслительные способности, зафиксировать внимание, обострить память, он гнал от себя посторонние мысли, «возвышал свой дух», умерщвляя плоть, ограничил себя малым количеством хлеба, небольшим количеством вина и воды. Рядом с ним страдал и Викинс. Опыты требовали участия помощника, обязанности которого Викинс взял на себя. Ему помогал кое в чём и Бабингтон. Известно, например, что он одолжил Ньютону для работы по определению кривизны линз путём измерения их фокусного расстояния объектив собственного телескопа.
Эксперименты по цветам тонких плёнок Ньютон делал примерно в то время, что и Гюйгенс. Оба они следовали за стремительным Гуком, но попытки Гюйгенса были обречены, ибо мастерство Ньютона в проведении экспериментов было неподражаемым.
Сложность установления контакта выпуклой поверхности линзы с плоской поверхностью стекла очень удивляла Ньютона и приводила его к размышлениям о внутреннем строении материи. Когда он заливал между линзой и стеклом воду, он сразу видел явление капиллярности, которое тоже привлекло его внимание. Кругом были загадки и возможные открытия. Следовало только необычайно тщательно и с умом за них взяться.
…Впрочем, это было неплохо — то, что ни студенты, ни старейшины колледжей не посещали лекций Ньютона. Ведь то, что он читал или, точнее, что он писал в «Лекциях по оптике», сданных в библиотеку Тринити-колледжа как оправдание профессорского жалованья, многим пришлось бы не по нраву.
— Недавнее изобретение телескопов, — говорит Ньютон, — столь изощрило большинство геометров, что кажется, в оптике не осталось ничего неизведанного и нет места для новых открытий. Но учившие доселе о цветах делали это либо на словах, как перипатетики, либо стремились исследовать их природу и причины, как эпикурейцы и другие более новые авторы. То, о чём учили перипатетики в отношении цветов, если и верно, то для нашей цели не имеет никакого значения, ибо они не касались ни способов, коими цвета возникают, ни причин их разнообразия; чтобы не излагать этой дурной философии, покажем только, что рассуждения её, такие, например: у форм существуют другие формы и у качеств другие качества, — глупы и смешны…
Что касается мнения других философов, то они утверждают, что цвета рождаются либо от различного смешения тени со светом, либо от вращения шаров или колебания некоторой эфирной среды, если полагать свет возникающим от импульса колеблющейся среды, переносимого в сетчатку глаза… Все эти мнения сходятся в общей ошибке, предполагая, что модификация света, проявляющего отдельные цвета, не свойственна ему по происхождению его, а приобретается лишь при отражении или преломлении… Я не вижу препятствий для того, чтобы приступить к исследованию природы цветов, в которой ничто не считалось бы не относящимся к математике… Точно так же, как астрономия, география, мореплавание, оптика и механика почитаются науками математическими, ибо в них дело идёт о вещах физических, небе, земле, корабле, свете и местном движении, точно так же и цвета относятся к физике, и науку о них следует почитать математической… Я надеюсь на этом примере показать, что значит математика в натуральной философии, и побудить геометров ближе подойти к исследованию природы, а любителей естествознания — сначала выучиться геометрии, чтобы первые не тратили всё своё время на бесполезные для жизни человеческой рассуждения, а вторые, старательно выполнявшие до сих пор свою работу превратным способом, разобрались бы в своих надеждах, чтобы философствующие геометры и философы, применяющие геометрию, вместо придумывания всевозможных домыслов сейчас всюду восхваляемых, укрепляли бы науку о природе высшими доказательствами…
Да, если бы подобное услышали старейшины, вряд ли Ньютон смог бы занимать лукасианскую кафедру так много лет. К счастью, богословы и философы не знали физики и не интересовались ею…
…Он продолжал заниматься и математикой. Его понуждали к этому как лекции, которые он обязан был читать, так и два весьма энергичных человека: Исаак Барроу и Джон Коллинс, знавшие его способности и не дававшие им покоиться втуне. В 1669 году Барроу предложил Ньютону просмотреть и аннотировать алгебру Герарда Кингхюйзена, только что переведённую Джоном Коллинсом с голландского на латинский. В ноябре 1669 года Ньютон побывал в Лондоне и встретился с Коллинсом.
«Я никогда прежде не видел мистера Исаака Ньютона, который моложе Вас, а теперь встречался с ним уже дважды. Первый раз — довольно поздно в субботу вечером, у него в гостинице. Я предложил ему добавить гармоническую прогрессию, что он обещал сделать и прислать. Затем встречался с ним на следующий день, когда пригласил его на обед.»
Коллинс определённо хотел завлечь Ньютона в сети своих научных связей. Он подарил ему экземпляр «Механики» Валлиса, неустанно искал и находил разнообразные поводы для писем к нему, и преуспел: в архивах сохранилась интенсивная научная переписка между Ньютоном и Коллинсом.
Летом 1670 года Ньютон закончил свои заметки к Кингхюйзену. Хотя эта работа и не содержит каких-то новых идей, как, скажем, статья о флюксиях, именно она сделала его известным среди математиков. Именно по этой работе о Ньютоне-математике узнал Джон Валлис. Коллинс не посылал ему статьи «De analysi…», поскольку боялся плагиата, коему Валлис был привержен. Валлис восхитился блестящим владением Ньютоном алгебраическими методами и стал настаивать, чтобы Ньютон написал свой собственный трактат по алгебре, который, по его мнению, был бы никак не хуже кингхюйзеновского.
В июне 1670 года Ньютон послал Коллинсу окончательный вариант заметок к Кингхюйзену. Вставал деликатный вопрос об авторстве.
«…Остаётся один вопрос, а именно — о титульном листе. Если Вы напечатаете те изменения, которые я сделал в авторском тексте, это может быть сочтено невежливостью и может быть неприятно автору Кингхюйзену — отцу книги, текст которого значительно изменился по сравнению с тем, каким он его создал. Но я считаю, что будет безопасно, если после слов «латинский перевод» будет добавлено: «усовершенствованный другим автором» или что-нибудь в этом духе.»
Коллинс стал уговаривать Ньютона, доказывая, что его имя на титуле труда привлечёт к нему внимание старейшин Королевского общества, которые смогут таким образом с ним познакомиться. Коллинс не понимал, что тем самым губит идею. Он имел неосторожность послать текст примечаний Ньютона ему для просмотра и решения некоторых новых частных задач. Ньютон ответил лишь через два месяца. Смысл ответа таков: поскольку он фактически сочинил своё собственное новое введение в алгебру, пусть лучше труд Кингхюйзена выходит таким, каким он был. Коллинсу не суждено было вновь увидеть эту рукопись.
А Ньютон превратил своё введение в методически выверенный «Трактат о методах бесконечных рядов и флюксий» («De methodis…»), обобщение трактата «De analysi…» и октябрьского трактата 1666 года. Трактат «De methodis…» остался неоконченным. Он работал над ним зимой 1670 года, потом поехал домой, потом наступила весна. Летом он ещё не вернулся к своим бумагам и отложил это до следующей зимы, надеясь, что зима принесёт подходящее настроение. В мае 1672 года Ньютон написал Коллинсу о том, что «лучшая половина» трактата написана. Через год он всё ещё не нашёл времени окончить его. Он так никогда и не вернулся к этому труду. Чем объясняется такое сдержанное отношение Ньютона к столь важной в его жизни работе? Может быть тем, что лондонские книгопродавцы не брали книг по математике, которые приносили им убытки? Печатанию подобных книг обычно помогало Королевское общество, но Ньютон ещё не мог претендовать на его поддержку, как, например, Барроу. Конечно, если бы этот труд увидел Коллинс, если бы он каким-то образом попал ему в руки, он бы, конечно, перевернул Землю, чтобы напечатать его. Но Ньютон обрубил все возможности для опубликования труда, практически прекратив переписку с Коллинсом. Чтобы избавиться от нападок книгопродавца Питса, которого он подвёл с печатанием комментариев к Кингхюйзену, он дал ему четыре фунта отступных? Далее не понукаемый ни Барроу, ни Коллинсом, он практически оставил свои математические исследования и обратился к химии.
А может быть, дело было просто в том, что уходила молодость, а вместе с ней и любовь к математике? Ньютон никогда уже не совершит столь ярких математических открытий, никогда не вернётся к своим математическим увлечениям.
— Старики не занимаются математикой, — говаривал он, — лишь один старик любит математику — это доктор Валлис.
И всё же время от времени ему приходилось возвращаться к математическим проблемам. Чаще всего не по своей воле, а под давлением внешних обстоятельств. В декабре 1672 года Коллинс сообщил ему, что Рене де Шлюс, математик из Голландии, разработал метод касательных, сходный с Ньютоновым, и собирается опубликовать его в «Философских трудах». Приоритет Ньютона опять был поставлен под угрозу. Получив статью для просмотра, Ньютон тут же вернул её Коллинсу, пояснив, что в ней приводится лишь один частный пример того более общего случая, который он разработал. Вскоре с запросом об этом обратился секретарь Королевского общества Ольденбург, а через него и Шлюс, который хотел подробностей. Ньютон отказался их представить.
Тяжбам учёных семнадцатого столетия способствовала сама научная обстановка того времени — отсутствие или недостаток научных журналов, замена их книгами и письмами. Оба метода имели свои недостатки — писание книг занимало много времени, а переписка имела ограниченный круг читателей. Наука же, особенно математика, активно подталкиваемая практикой, развивалась быстро. Это приводило к переоткрытию уже открытого, а нередко и к плагиату.
Ньютон к тому времени стал уже известным математиком, и к нему обращались со всех концов страны. Королевский землемер Джон Лэйси обратился к нему с просьбой помочь рассчитать площади сложной формы. Коллинс подкинул ему задачку на проценты: «Определить, при какой учётной ставке (N %) сумма В, положенная в банк, через 31 год будет стоить А?»
18 февраля 1670 года
«Сэр…вот решение задачи о процентах, и, если Вы найдёте его стоящим, можете поместить его в «Философских трудах», только без моей подписи, ибо я не вижу ничего желательного в славе, даже если бы я был способен заслужить её. Это, возможно, увеличило бы число моих знакомых, но это как раз то, чего я больше всего стараюсь избегать…
Много обязанный Вам, Ваш слуга
И. Ньютон.»
Ньютон оказывал большую услугу вычислителям-практикам. Один из них, Джон Смит, по просьбе Коллинса получил разрешение переписываться с Ньютоном. Смит рассчитывал для практических целей таблицы квадратов, кубов, квадратных и кубических корней и других функций для всех целых чисел от единицы до десяти тысяч. Раздавленные тяжестью вычислительной задачи, он просил у Ньютона помощи и совета. Ньютон послал ему объяснение биномиальной теоремы. Смит, понявший, что ему не нужно будет теперь извлекать сотни корней с точностью до 10–11 знаков для каждого числа, был безмерно счастлив благодаря Ньютону. А тот с удовольствием поработал над этой проблемой, увлёкся ею и заложил основы современной теории интерполяций, впоследствии описаной в неконченном мемуаре 1676 года. Он определяет интерполяцию как способ нахождения ординаты кривой между двумя её известными точками.
В самом начале 1673 года в Лондон приехал Годфрид Вильгельм Лейбниц. Этот молодой немецкий дипломат из Майнца с прошлого года жил в Париже, где свёл знакомство с самыми известными учёными и членами Французской академии. Учителем его был сам Христиан Гюйгенс. Лейбниц прибыл в Лондон в январе, а уже в феврале стал членом Королевского общества. После отъезда ему удалось наладить активную переписку как с Ольденбургом, так и с Коллинсом, которые и сообщили ему о важных открытиях Ньютона, в частности, о его методе бесконечных рядов. Лейбниц пока помалкивал о своих успехах и больше спрашивал о чужих. Он понимал, что будущее человека материально не обеспеченного во многом зависит от его научных достижений; он старался не растрачивать раньше времени своего научного капитала. В апреле 1675 года он получил от Коллинса большое письмо с подробными разъяснениями всего сделанного Ньютоном в области бесконечных рядов. Размышляя на эту тему, Лейбниц осенью 1675 года самостоятельно набрёл на методы дифференциального и интегрального исчисления.
Ньютон в то время даже не подозревал о существовании математика Лейбница, не знал о его работах. Не знал он и о том, что содержание его переписки с Коллинсом и кое-что из его работы «De analysi…» были известны Лейбницу. Конечно, если бы Лейбниц работал в другой области, он немного смог бы извлечь из того, что ему было послано. Но он в совершенстве знал проблему, знал конечный результат. Более того, он знал, что задача была решена с помощью бесконечных рядов.
В 1676 году Ольденбургу удалось убедить Ньютона ответить на письма Лейбница. Лейбниц просил Ньютона объяснить, как он получил ряды, выражающие синус угла, если дана дуга, и дугу, когда дан синус. Ньютон направил Лейбницу через Ольденбурга два письма, впоследствии послужившие для него основанием для обвинений Лейбница в плагиате, — знаменитые «Epistola prior» и «Epistola posterior». В письмах содержались выжимки из трудов «De analysi…» и «De methodis…». Он полностью раскрыл биномиальную теорему и дал девять примеров её применения. Ньютон утверждал, что, используя ряды, можно определять площади, объёмы, центры тяжести и т. д. Он писал, что знает алгоритм того, что мы назвали бы теперь дифференцированием и интегрированием, но не дал его описания.
«Из всего этого можно видеть, насколько эти бесконечные уравнения расширяют границы анализа; с их помощью можно совладать практически с любыми задачами, кроме численных задач Диофанта и подобных им. И всё же даже все эти результаты, вместе взятые, не являются универсальными, пока не используются некоторые усовершенствованные методы использования бесконечных рядов… Но как действовать в этих случаях, сейчас нет времени объяснять…»
Лейбниц не мог скрыть своего восхищения.
26 июля 1676 года
«Ваше письмо содержит более ценные идеи по анализу, чем множество толстых томов, которые опубликованы по этим вопросам… Открытие Ньютона стоит его гения, который так ярко заявил о себе в его оптических экспериментах и в его катодиоптрической трубе.»
Однако, продолжал Лейбниц, он и сам знает кое-что о бесконечных рядах и может предложить свой метод преобразований, в связи с чем он хотел бы задать Ньютону несколько вопросов.
Лейбниц поспешил в Лондон и пробыл там десять октябрьских дней по пути в Ганновер, где он получил место при дворе герцога Брауншвейг-Люнебургского. Единственное, что удалось ему, — это встретиться с Коллинсом, который, будучи довольно слабым математиком, не смог поддержать перед Лейбницем престижа своей страны. Чтобы как-то скрасить явно слабое впечатление, которое он произвёл на Лейбница, Коллинс показал ему свои архивы, в том числе полный текст «De analysi» и письмо Ньютона о его методе касательных.
Заметки, сделанные Лейбницем при этом посещении — их раскопали историки, — указывают на его большой интерес к рядам и полное отсутствие интереса к тем местам в письмах Ньютона и в «De analysi», которые имели прямое отношение к дифференциальному и интегральному исчислению. Создаётся впечатление, что они его не заинтересовали лишь потому, что он их уже энал.
Коллинс не рассказал Ньютону об этом посещении. Лейбниц тоже старался не упоминать о том, что́ он видел у Коллинса. Коллинс, чувствуя некоторую вину, настаивал, чтобы Ньютон поскорее опубликовал свои труды. А Ньютон, занятый бесконечной перепиской и дискуссиями по проблеме цветов, не хотел ввязываться в новое дело. Не зная ничего о визите Лейбница, он через неделю после того, как Лейбниц отбыл в Ганновер, написал «Epistola posterior», которое Викинс старательно переписал перед посылкой в Лондон. В письме Ньютон подробно раскрывал, как он пришёл к биномиальной теореме, а также сообщал о многих своих неоконченных математических проектах. Он снова и снова возвращается к методу флюксий, снова и снова говорит о бесконечных рядах. Метод флюксий он так и не раскрывает, описывая его лишь в анаграмме. Он намекает на то, что метод, которым он обладает и который описан в работе «De analysi…», содержит метод касательных, позволяющий находить максимум и минимум функций.
«Основание этих операций фактически довольно очевидно, но, поскольку я не могу дать сейчас их объяснения, я предпочитаю раскрыть их следующим образом:
Gaccdaeae 13 eff 7i 319 n 404 qr 4s 8t 12 yz
На этом основании я пытался упростить теории, которые связаны с нахождением квадратур кривых, и пришёл к некоторым общим теоремам.»
Затем он иллюстрирует свою теорему примерами. Это письмо многое раскрывает, но ещё больше содержит загадок. Анаграмма скрывает следующий текст: «Дано уравнение, включающее любое число текущих количеств, найти флюксии, и наоборот». В конце письма другая анаграмма скрывает метод решения дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов:
5 accdae 10 eff h 12 i… rrr sssss ttuu.
Ньютон утверждал, что пишет кратко, ибо разработал эти теории давно и сейчас они уже не представляют для него интереса; вот уже пять лет он ими не занимается. Он упоминает и о том, что ещё не окончил работу «De methodis…», поскольку никак не может заставить себя возвратиться к ней. В сопроводительном письме Ольденбургу Ньютон писал: «Надеюсь, что это письмо настолько полностью удовлетворит господина Лейбница, что для меня не возникнет необходимости писать ещё что-нибудь по этому вопросу. У меня в голове сейчас другое, всякие отвлечения нежелательны…»
Лейбниц, будучи прекрасным математиком, быстро разгадал шифр, но не смог вникнуть в смысл написанного Ньютоном. В ответном письме, написанном в июне 1677 года, Лейбниц прямо раскрывал свой метод дифференциального исчисления.
Лейбниц в противовес конкретному, эмпиричному, осмотрительному Ньютону был в области исчисления крупным систематиком, дерзким новатором. Он с юности мечтал создать символический язык, знаки которого отражали бы целые сцепления мыслей, давали бы исчерпывающую характеристику явления. Этот амбициозный и нереальный проект был, конечно, неосуществим; но он, видоизменившись, превратился в универсальную систему обозначений исчисления малых, которой мы пользуемся до сих пор. Он свободно оперирует знаками
Лейбниц видел в своих дифференциалах и интегралах всеобщий метод, сознательно стремился к созданию жёсткого алгоритма упрощённого решения ранее нерешавшихся задач.
Ньютон же нисколько не заботился о том, чтобы сделать свой метод общедоступным. Его символика введена им лишь для «внутреннего», личного потребления, он её строго не придерживался. Советский математик А. Шибанов пишет: «Склоняясь перед непререкаемым авторитетом своего великого соотечественника, английские учёные впоследствии канонизировали каждый штрих, каждую мельчайшую деталь его научной деятельности, даже введённые им для личного употребления математические знаки». «Над английской наукой тяготела традиция почитания Ньютона, и его обозначения, неуклюжие по сравнению с обозначениями Лейбница, затрудняли прогресс», — добавляет голландский учёный Д. Я. Стройк.
Ньютон на письмо Лейбница не ответил.
Он ревниво считал, что открытие принадлежит ему навечно, если даже оно было запрятано лишь в его голове; он искренне полагал, что своевременная публикация не приносит никаких прав: первооткрывателем перед богом всегда останется тот, кто открыл первым.
Телескоп Ньютона можно назвать увертюрой ко всей его дальнейшей деятельности.
…Смельчаки, у которых любопытство пересиливало страх божий, глядя в небо, давно не довольствовались уже глазами. Одним из первых, изучавших небо с помощью телескопа, был Галилей.
— «Мне удалось наконец соорудить столь превосходный инструмент, что в него можно видеть предметы в тысячу раз более крупными и в тридцать раз более близкими, чем простым глазом», — рассказывал Галилей. С помощью на самом деле весьма грубого инструмента Галилей смог тем не менее совершить небесный переворот. Его Вселенная, описанная в «Звёздном вестнике», вышедшем в марте 1610 года, столь же отличалась от Вселенной Коперника, сколь Вселенная Коперника от небесного свода Птолемеева «Альмагеста».
На Луне Галилей обнаружил горные хребты, Юпитера одарил четырьмя спутниками, а Сатурн снабдил «ушами» — так увидел он знаменитые кольца Сатурна. Сколько новых сокровищ звёздного неба подобрал он, прежде невидимых! Млечный Путь распался на мириады звёзд, открыв бездну ещё более глубокую, ещё более жуткую, ещё более немыслимую. Телескоп Галилея метался по звёздному небу, бесполезно пытаясь сосчитать, по его выражению, «звёздные стада».
Невозможно вообразить себе сегодня степень потрясения общества, вызванного открытиями Галилея. Но не успев опомниться, переварить, пережить величие открытий, новую Вселенную, люди — странные создания, любопытство которых превосходит мудрость! — стали строить всё более мощные телескопы, стремясь подобрать ещё не замеченное «рысьеглазым» Галилеем. Лучшие телескопы Галилея имели фокусное расстояние в три фута, а уже через пятьдесят лет французы замахнулись на стофутовый телескоп. Трубы гнулись, дрожали, ломались, не выдерживали таких длин; решили делать «воздушные» телескопы, с фокусным расстоянием в 200 футов, но уже без всяких тубусов и труб, с разделёнными лишь темнотой ночи объективом и окуляром.
Появлялись всё новые телескопы. Кеплер предложил заменить в Галилеевом инструменте вогнутую окулярную линзу выпуклой — это увеличило поле зрения, хотя небо в результате перевернулось. Трубы кеплеровского расчёта быстро вытеснили трубы Галилея: в них можно было получать действительное изображение, использовать нитяное перекрестье для ловли светила и микрометр для определения его положения. Лондонский оптик Джон Ярвелл в лавке, расположенной рядом с собором святого Павла, предлагал телескопы шести различных видов и силы (он же предлагал лупы, зажигательные стёкла, обычные и солнечные очки).
Естественно, подумывали и о вогнутых зеркалах, известных с древности. Уже в 1626 году такой телескоп построил Чезаре Караваджи, занимался этим делом в 1632 году и ученик Галилея Бонавентура Кавальери, знаменитый математик. Он решил, что телескопы-рефлекторы «никогда не дойдут до совершенства труб со стёклами». Математик Джеймс Грегори, устав улучшать линзовый телескоп-рефрактор, отчаявшись получить от оптиков доброкачественные стёкла, а от механиков — прочные трубы, решил сделать зеркальный телескоп-рефлектор. Видя недостатки телескопов, состоявших только из зеркал — многочисленные отражения и, как следствие, неизбежные потери, — Грегори решил не упорствовать в идее «зеркальности», а использовать совместно зеркало и линзу. Новая конструкция описана в книге «Optica promota», изданной в 1669 году в Лондоне. Была даже предпринята попытка построить телескоп Грегори длиной в 6 футов: однако и лучшие лондонские оптики — Рейос и Кок — не смогли отполировать параболического зеркала. Грегори подумывал заказать зеркало голландским мастерам, но не успел осуществить это намерение — он ослеп от наблюдений и вскоре скончался.
Из дневника Ньютона известна точная дата начала его работ в области совершенствования оптических приборов — 25 марта 1666 года. Казалось, самое интересное в науке заключалось тогда в астрономии, но Ньютона звёздные стада Галилея увлекали мало. По причине близорукости сам он редко занимался астрономическими наблюдениями. Но книгу Декарта «Диоптрика» прочёл от корки до корки и хорошо изучил это руководство для оптиков-практиков. По рецепту Декарта он даже построил специальный станок для шлифования линз несферической формы.
Став членом колледжа и профессором, Ньютон не изменил своим привычкам. Он продолжал собственноручно мастерить всевозможные приспособления. Центр его научных интересов, естественно, переместился ближе к оптике, ведь он читал студентам лекционный курс по этому предмету. Собственноручно изготавливая линзы на своём шлифовально-полировочном станке, Ньютон пытался проверить положения оптических трактатов Кеплера и Декарта, придирчиво проверял все принятые ими гипотезы. Он методически, одну за другой испытывал конструкции и схемы различных оптических инструментов. Естественно, он пришёл и к галилеевскому телескопу. Испытывая его, Ньютон постелено пришёл к выводу о том, что этот телескоп действительно обладает серьёзным, неисправимым недостатком, так называемой сферической аберрацией — размыванием изображения при сильном увеличении, принципиальной, как тогда казалось, невозможностью получения резкого изображения сразу всех точек предмета.
Ньютон пытался совершенствовать галилеевский телескоп, подбирая всевозможные радиусы линз, тратя долгие часы на шлифовку всё новых и новых стёкол. Как и Декарт, он пытался использовать параболические и гиперболические поверхности. Делать такие стёкла было очень трудно, гораздо труднее, чем изготавливать обычные сферические чечевицы. Необходимо было, непрерывно вращая рукоятку станка, необычайно твёрдо держать в другой руке шлифовальный инструмент. Нужно было сочетать круговое движение машинки с одновременным продвижением вдоль оси параболы или гиперболы. Делать это следовало необычайно медленно в аккуратно, с тем, чтобы стёкла получились абсолютно гладкими и прозрачными.
Заключительная стадия испытания каждой линзы — проверка её совершенства путём сбора в фокус собираемых лучей. Ньютон подметил, что изображения, даваемые линзами, всякий раз окружены очень тонкой цветной каёмкой. Какие бы усилия ни прилагал он, чтобы прогнать каёмку, она появлялась вновь и вновь. Каёмка была очень слабой, на неё попросту не обращали внимания великие предшественники Ньютона. А он установил, что точно такие же тончайшие цветные ободочки на изображении есть у всех телескопов и всех линз при любой их форме и точности обработки. Ньютон решил, что именно этот дефект наряду со сферической аберрацией затрудняет достижение резкости изображения в линзах и телескопах.
Хроматическая аберрация, как стали впоследствии называть это явление, была открыта Ньютоном случайно, но лишь в том смысле, в каком вообще можно говорить о случайности в научных открытиях. Даже если предположить, что это была случайность, которая могла бы одарить любого, занявшегося подобной работой, и даже если отвлечься от того, что такая случайность прошла мимо «рысьеглазого» Галилея, мудрейшего Декарта, трудолюбивейшего Кеплера, то и тогда заслуга Ньютона весьма велика.
Он извлекает из своего «случайного» открытия всё, что может извлечь мощный гений: систематически и тщательнейшим образом изучает «мелкое» явление, не зная покоя и отдыха до тех пор, пока полностью не вскрывает его причин, пока перед ним не выстраивается цепь новых следствий. И то, что он дошёл до причин этого «малого» явления, привело его к великому прозрению: открытию сложного состава белого цвета. Из изученного явления Ньютон делает и практические выводы. Он решает, что бессмысленно совершенствовать телескопы-рефракторы, увеличивая размеры линз, улучшая их качество и тщательно их полируя. Столь же бесполезно увеличивать размеры тубуса. Никакие ухищрения: новые формы линз и усложнение их поверхностей не могли спасти линзы и телескопы от хроматической аберрации — маленькой цветной каёмочки в изображении.
Ньютон-лектор, вещая в гулкой пустоте аудитории своим немногочисленным слушателям о премудростях оптики, мог с полным основанием говорить так:
— Изучающие диоптрику — науку о линзах — воображают, что зрительные приборы могут быть доведены до любой степени совершенства… Для этой цели придуманы были разные инструменты для притирания стёкол по гиперболическим, а также параболическим фигурам, однако точное изготовление таких фигур до сих пор никому не удавалось. И вот для того, чтобы не тратили далее труд свой на безнадёжное дело, осмеливаюсь я предупредить, что, если бы даже всё происходило удачно, всё же полученное не отвечало бы ожиданиям. Ибо стёкла, коим дали фигуры наилучшие, какие для этой цели можно придумать, не будут действовать и вдвое лучше сферических зеркал, отполированных с той же точностью. Говорю это не для осуждения авторов-оптиков. Однако нечто, и притом очень важное, было оставлено ими для открытия потомкам. Так, я обнаружил в преломлениях некую неправильность, искажающую всё…
Что именно за «неправильность» — Ньютон умалчивал. Он рассказывал студентам многое, но не говорил главного — о цветной каёмочке. Эта каёмочка была его открытием, его собственностью, его богатством. Он хотел заявить о своём открытии лишь тогда, когда его уже невозможно будет смести потоком неизбежной критики.
Ньютон понимал, что цветная каёмочка возникает по той же причине, по которой стеклянная призма даёт цветное пятно. Любая линза уже по своей сущности имеет в разных точках разную толщину, как и призма.
Нужно было избавляться от линз, и Ньютон стал подумывать об изготовлении небольшого вогнутого зеркала, которое имело бы те же оптические характеристики, что и выпуклая линза, но не имело бы её неравномерной толщины. Это зеркало Ньютон решил использовать вместо первой собирающей линзы — объектива обычного телескопа.
Телескоп Ньютона, разумеется, сильно напоминал телескоп Грегори. Но зеркало Грегори было чрезвычайно сложно изготовить — оно было параболическим. Ньютон выбрал более простую сферическую форму. Телескоп Грегори имел в середине зеркала отверстие для наблюдения предметов обычным путём, то есть смотря вперёд, с помощью лучей, отражённых от плоского зеркала, размещённого в середине трубы. Изменение Ньютона было революционным: он поместил на пути лучей от вогнутого зеркала маленькое плоское наклонное зеркало, отражавшее лучи к стенке трубы, — там было проделано отверстие и помещена линза-окуляр. Теперь астроном, чтобы увидеть небо, должен был смотреть не в его сторону, а куда-то вбок и внушать себе, что небо находится именно там, где он его видит.
«Сэр… инструмент, который я сделал, был не более 6 дюймов в длину, с апертурой чуть больше дюйма и плоско-выпуклым очковым стеклом толщиной от 1/6 до 1/7 дюйма. И таким образом он увеличивает примерно в 40 раз по диаметру с достаточной чёткостью. Это лучше, чем у шестифутовой трубы. Однако из-за плохих материалов, из-за отсутствия должной полировки он не даёт такого отчётливого изображения, как шестифутовая труба. Думаю, что с его помощью можно открыть столько же, сколько с помощью трёх- или четырехфутовой трубы, особенно если объекты светящиеся. Я видел с помощью её Юпитер, резкий, круглый, и его спутников, и серп Венеры. Итак, сэр, я дал Вам краткое описание этого небольшого инструмента, который, хотя сам по себе удовлетворителен, всё же может быть рассматриваем лишь как модель того, что может быть сделано подобным образом, поскольку я не сомневаюсь, что в своё время этим методом могут быть сделаны и шестифутовые трубы, которые будут действовать, как действовали бы шестидесяти- или стофутовые трубы, сделанные обычным путём… И это, каким бы это утверждение ни показалось парадоксальным, является необходимым следствием экспериментов, которые я проделал и которые касаются природы света…»
«…каким бы это утверждение ни показалось парадоксальным…» Удивительное время! Молодой гений видит очевидный для всех, и в том числе для него, парадокс в том; что практические достижения могут быть плодами научных изысканий! В том, что этот парадокс со временем перестал существовать, большая заслуга Ньютона, заслуга «Ньютоновой революции».
Время Ньютона было удивительным. Многие современные представления тогда только зарождались, многие с тех пор канули в Лету, многие разительно переменились. С тех пор изменилось само представление о науке, о её роли в обществе, изменилось содержание научных понятий, коренным образом изменилась организация науки, формы общения учёных.
Копия письма Ньютона неизвестному адресату была обнаружена в архиве Коллинса. Именно через Коллинса об этом телескопе узнали многие учёные, в том числе члены Королевского общества. Через Коллинса же Ньютону было сообщено о том, что было бы желательно увидеть этот телескоп в Лондоне, и сделан намёк на то, что неплохо было бы подарить телескоп королю.
Но это было невозможно! Телескоп, построенный Ньютоном в 1668 году, оказался весьма несовершенным. Изображения получались тусклыми и размытыми. Чтобы что-нибудь чётко увидеть, приходилось «подгадывать» положение телескопа и глаза. Уже через два-три месяца зеркальная поверхность безнадёжно потускнела. Ньютон решил сделать второй экземпляр, и при этом постараться избежать недостатков первого. Главным было, как понимал Ньютон, обеспечить качество полировки зеркала — требования к полировке, как он выяснил, были гораздо более жёсткими, чем к шлифовке линз. Но и само изготовление зеркала требовало и большого ремесленного мастерства, и громадного трудолюбия, и попутного проведения всё новых и новых исследований.
29 сентября 1671 года
«…Сначала я расплавил одну медь, затем положил туда мышьяк и, сплавив, размешал всё вместе, остерегаясь вдыхать ядовитый дым. Затем добавил олова и снова, после очень быстрого его расплавления, всё перемешал. После этого сразу всё вылил…»
Особые трудности вызывала, как говорилось, полировка.
Вот как происходил процесс изготовления зеркала, по описанию его в ньютоновской «Оптике», вышедшей почти через тридцать пять лет. Ньютон сделал две круглые медные пластины, по шесть дюймов в диаметре, одну выпуклую, другую вогнутую, точно притёртые одна к другой. К выпуклой пластине он притирал металл вогнутого зеркала, которое нужно было полировать до тех пор, пока оно не принимало форму пластинки и не было готово к полировке. Затем он покрывал пластину очень тонким слоем смолы, капая расплавленной смолой на металл и нагревая его; чтобы сохранить смолу мягкой, он в это время притирал её смоченной вогнутой пластиной. Потом брал очень тонкую золу, отмытую от больших частиц, и, положив немного на смолу, втирал её вогнутой пластиной до тех пор, пока не прекращался шорох; после этого он две-три минуты быстрыми движениями притирал, сильно прижимая, металл зеркала к смоле. Смолу он присыпал свежей золой, втирая её снова до исчезновения шума и после этого, как и прежде, притирал пластину к зеркалу. Эту работу он повторял до тех пор, пока металл не отполировывался. Напоследок он в течение изрядного времени притирал его со всей силой, при этом часто дыша на смолу, чтобы держать её сырой, не подсыпая уже свежей золы…
Слухи о новом телескопе распространились быстро. Через Коллинса о нём узнали и Гук, и Рен, и Таунлей, и Флемстид, и многие другие старейшины Королевского общества, которые считали, что пора бы им уже его и показать. В конце 1671 года Барроу привёз телескоп в Лондон. На телескопе была многозначительная надпись, сделанная самим Ньютоном: «Первый отражательный телескоп». Этим Ньютон подчёркивал, что он является не столько изобретателем телескопа-рефлектора, сколько изготовителем его действующей модели.
Телескоп был показан и королю, и в Королевском обществе, причём и во дворце, и в Грешем-колледже телескоп произвёл сенсацию. В Королевское общество телескоп попал лишь после того, как король вдоволь насладился им, насмотрелся на звёзды и планеты и полностью его одобрил. В обществе телескоп понравился всем, даже господину Гуку, хотя он тут же стал говорить о том, что ещё в 1664 году сам сделал небольшую трубку — примерно в дюйм длиной, чтобы класть её в кармашек для часов, — которая действовала лучше, чем любой телескоп в 50 футов длиной, сделанный обычным способом.
«Однако Большая чума, — продолжал Гук, — которая случилась тогда, а потом и Большой пожар, после которого мне пришлось вести перестройку города, привели к тому, что мне было недосуг; отдавать же изготавливать его шлифовщикам я не стал, дабы не узнали они моего секрета…»
Телескоп, конструкция которого была до сих пор скрыта Ньютоном под шифрованной анаграммой, вызвал громадный интерес и в одно мгновение вознёс Ньютона в число известных и почитаемых людей. Его кандидатуру тут же выдвинули в Королевское общество. И дело заключалось не только и, может быть, даже не столько в самом Ньютоне, сколько совсем в ином: Англия в те времена стремилась демонстрировать всему миру своё величие, в том числе и научное.
2 января 1672 года
«…Необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы защитить это изобретение от узурпации иностранцев…»
6 января 1672 года
«Сэр, читая Ваше письмо, я был удивлён, увидев, как много внимания и заботы отдаётся в нём тому, чтобы обеспечить мне собственность на моё изобретение, чему я до сих пор придавал так мало значения. И поскольку Королевскому обществу угодно считать, что оно достойно поддержки, я должен известить, что это потребует гораздо больше усилий от него, чем от меня, поскольку я, не желая сообщать о нём, мог оставить это изобретение в моём личном владении ещё в течение многих лет… И я очень ценю честь, оказанную мне епископом Сарумма, предложившим меня кандидатом, что, как я надеюсь, в дальнейшем позволит мне удостоиться избрания в общество, и, если так, я буду пытаться в дальнейшем доказать свою признательность за это, сообщая обо всём том, что мои слабые и одинокие попытки будут приносить в направлении продвижения ваших философских замыслов.
Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой,
И. Ньютон.»
Предложение о вступлении в общество было для Ньютона чрезвычайно лестно. Оно давало ему возможность войти в число людей, которых он втайне считал наиболее близкими по духу. Ведь в Кембридже он был один, как в пустыне. Здесь же сверкало целое созвездие умов, с которыми он жаждал общаться. То, что его столь легко приняли в этот избранный круг, и то, что телескоп вызвал столь большой энтузиазм, необычайно поразило Ньютона. Следуя весьма строгому настоянию членов Королевского общества, желавшего оградить английский приоритет от иностранных посягательств, он тут же сделал описание инструмента, которое должно было быть немедленно отослано всем видным иностранным учёным.
11 января он был заочно принят в члены Королевского общества. Это произошло на том же заседании, на котором обсуждался телескоп. И если вопрос о приёме изложен в протоколах сухо и кратко, то второй вопрос получил гораздо более широкое освещение.
«…На заседании было уделено внимание совершенствованию телескопов посредством сокращения их размеров и тому образцу, который был прислан сюда для изучения, был осмотрен королём, а также президентом, сэром Робертом Мореем, сэром Полом Нилом, доктором Кристофером Реном и господином Гуком; все они составили о нём весьма лестное мнение и решили: описание и схема этого прибора должны быть посланы секретарём специальным письмом господину Гюйгенсу в Париж с тем, чтобы сохранить это изобретение за автором, который 6 января 1672 года написал мистеру Ольденбургу из Кембриджа, изменив и расширив описание инструмента, которое было послано ему ранее для просмотра перед тем, как оно могло бы пойти за границу».
Посылая описание телескопа Гюйгенсу, Королевское общество совершило невинный подлог, написав, что описание телескопа было представлено 1 января. Впрочем, опасения были отнюдь не напрасными, поскольку почти одновременно с Ньютоновым телескопом появился и телескоп, построенный французским мастером Кассегреном. Но Кассегрен опоздал.
Да, не случайно, не случайно называли Королевское общество близнецом Королевской компании африканской торговли — оба общества одновременно организовались, объединяли общих членов и равно рьяно защищали интересы нации.
Теперь Ньютону предстояло доказать работоспособность своей конструкции постройкой крупного зеркального телескопа. Общество готово было выделить для этого некоторую сумму.
«…Телескоп, упомянутый здесь, был впоследствии послан в Королевское общество, которое дало мистеру Коку распоряжение сделать подобный, но четырёх футов длины, который и был сделан… Глаз через маленькое отверстие, в котором размещено было плоско-выпуклое стекло, видел на отражающей пластинке объект, увеличенный, как в обычном телескопе сорока и более футов длины, причём без цветового искажения. Зеркало и отражающая пластинка сделаны так, что при нужде их можно вынуть и вытереть. Они ещё не вполне довольны металлом и полировкой отражающей пластинки, но испытывают сейчас «лапис османдиус» — чёрный камень, который привозят с горы Гекла, в Исландии, и другие материалы…»
Королевское общество заказало большой зеркальный телескоп Кристоферу Коку, известному оптику. Сначала речь шла о четырехфутовом телескопе, а потом общество размахнулось и на шестифутовый. Ни тот, ни другой изготовить не удалось из-за несовершенства зеркал. Кок, лучший шлифовальщик Лондона, не смог справиться с задачей, хотя Ньютон постоянно консультировал его. Была последняя надежда — обратиться к Гуку, но тот отказался совершенствовать чужой инструмент. При жизни Ньютона отражательный телескоп так и не был построен. Да и его маленький телескоп быстро испортился — уже в марте 1672 года зеркало начало тускнеть и вскоре совершенно потемнело.
Казалось бы, фиаско с постройкой телескопа должно было бы принести Ньютону глубокое разочарование. Но нет: телескоп и на самом деле стал увертюрой его научной жизни, в которой прозвучали многие основные темы его будущих больших работ. Телескоп привёл его и в Королевское общество — туда, куда он всей душой стремился, где были его единомышленники, где его понимали и ценили, где был его настоящий дом.
Возрождение вызвало к жизни новые, неведомые ранее сообщества учёных людей — научные академии. Началось с Италии. Флорентийская «Академия Платона», неаполитанская «Академия тайн природы», римская «Академия Витрувия», римская же «Академия деи Линчей» — «Академия рысьеглазых», членом которой был Галилей, тосканская «Академия деи Чименто» — «Академия опыта», украшением которой стал ученик Галилея Торричелли. Затем последовали Англия, Франция, Россия…
С середины 1640-х годов в Лондоне, а с начала 1650-х — в Оксфорде возникли кружки учёных-любителей, «виртуозов»,[17] как они себя называли, регулярно собиравшихся для обсуждения всевозможных научных проблем. Лишь две темы были запрещены: религия и политика. Любители уговорились еженедельно, в определённый день и час, встречаться и обсуждать научные новинки. Как вспоминал один из участников этих встреч, «…мы беседовали о циркуляции крови, о венозных клапанах, о гипотезе Коперника, о природе комет и новых звёзд, о спутниках Юпитера, об овальной форме Сатурна, о пятнах на Солнце…об усовершенствовании телескопа, о взвешивании воздуха…». Этот «невидимый колледж» окончательно оформился 28 ноября 1660 года после лекции Кристофера Рена, профессора астрономии в лондонском Грешем-колледже. Собравшиеся после лекции джентльмены решили создать «Колледж для содействия физико-математическому экспериментальному учению».
В 1662 году король Карл II взял «невидимый» колледж «под своё милостивое покровительство». Возникло лондонское Королевское общество.
Вместе с покровительством короля и новым названием общество получило хартию, герб, жезл и книгу для записи новых членов. В хартии от имени короля было записано: «Мы давно и окончательно решили между собой расширять границы не только империи, но также науки и ремёсел. Поэтому мы одобрительно относимся к любой форме познания, в особенности же к философским исследованиям и, в частности, к таким, которые с помощью экспериментов пытаются сформулировать новую философию или же усовершенствовать старую. И посему, чтобы те исследования, которые до сих пор не могли заблистать ни в одной части мира, смогли бы ярко воссиять у нас и чтобы в будущем образованный мир видел в нас не только защитников веры, но и поклонников и покровителей всякого рода истины…знайте, что мы… постановили… учредить общество, состоящее из президента, совета и членов, которое будет именоваться Королевским обществом». Основные принципы общества, видимо, выработаны Робертом Гуком. Вот что осталось с тех времён в его рукописных заметках:
«Целью и назначением Королевского общества являются:
— дальнейшее познание экспериментальным путём явлений природы, полезных ремёсел, производства, практической механики, двигателей и изобретений (всего того, что не имеет отношения к богословию, метафизике, морали, политике, грамматике, риторике или логике);
— попытка воскресить полезные ремёсла и изобретения, преданные ныне забвению;
— исследование всех естественных, математических и механических систем, теорий, принципов, гипотез, оснований, явлений и экспериментов, упомянутых или введённых в практику любым значительным автором древности или современности, с целью создания законченной и обоснованной философской системы, объясняющей все явления природы и искусства, и составления обоснованного представления о причинах вещей…»
Извещая о создании Королевского общества, известный мемуарист. Дж. Ивлин так описал его задачи: «Улучшать практическое и экспериментальное знание для роста науки и всеобщего блага человечества». Речь, таким образом, шла ни более ни менее как о всеобщем благоденствии!
На гербе общества был начертан девиз, поистине достойный Фомы неверующего: «Nullius in verba» — «Ничто на слово». Этот девиз отражал твёрдое намерение членов общества пестовать критику и скептицизм в обсуждениях, опираться лишь на эксперимент и прочно установленные факты, забыть про догмы и авторитеты. В первое время Роберт Гук — куратор экспериментов — делал более сотни опытов ежегодно. Затем эта цифра вследствие Большой чумы, Большого пожара и других причин стала снижаться и уже к 1670 году упала впятеро. Но не явилось ли одной из причин и то, что покровитель общества хохотал до упаду над участниками заседаний, которые под руководством славного Роберта Бойля пытались взвесить воздух?
В число членов общества вошли первоначально 94 члена-основателя и 21 член совета, все — люди с положением или научными заслугами. Были среди них и наслаждающиеся сочетанием обоих достоинств: математик Уильям виконт Браункер, химик Роберт Бойль, сын одного из богатейших англичан — графа Корка, химик сэр[18] Кенелл Дигби, астроном сэр Пол Нейл; политэконом сэр Уильям Петти, Джон Уилкинс и доктор медицины, личный врач короля Тимоти Кларк.
Среди основателей общества были практически все крупные учёные Лондона, Оксфорда и Кембриджа — Исаак Барроу, Роберт Гук, Джон Валлис, Сет Уорд, Фрэнсис Уиллоуби, Кристофер Рен, а также образованные джентльмены,[19] служащие, врачи, церковнослужители, два мемуариста — Джон Ивлин и Сэмюэль Пепис и даже поэт — Джон Драйден. Был и издатель — Генри Ольденбург, который в 1665 году предложил за свои деньги и под свой интерес выпускать журнал «Philosophical Transactions» — «Философские труды».
Основатели Королевского общества провозгласили приверженность свою экспериментальному методу Фрэнсиса Бэкона. В идеальном университете Бэкона, описанном в «Новой Атлантиде», изучали не Аристотеля и Галена, но Природу во всех её проявлениях. Ничто не миновало внимания «виртуозов» — ни математика, ни натуральная философия, ни химия, ни медицина, ни, наконец, техника и сельское хозяйство. Но не забудем и ненасытный интерес общества к всевозможным курьёзам и чудесам, уродцам и привидениям, демонам и волшебникам, к неоплатонизму и герметизму, к Парацельсу и алхимикам.
Натуральная философия — здесь — ещё вовсе не физика, лучше сказать — это зародыш будущей физики. Но уже обсуждаются по существу и кинематика, и динамика, и звук, и оптика, и теплота, и магнетизм с электричеством.
Тон в обществе задавал, конечно, его единственный неродовитый сочлен (сын провинциального пастора) и единственный оплачиваемый сотрудник Роберт Гук. И, поскольку он был по существу и по преимуществу физиком, добрая треть заседаний была посвящена именно натуральной философии.
Хотя к 1670 году число членов общества возросло до двухсот пятидесяти, регулярно посещали его собрания лишь человек пятьдесят. Исследователь Роберт Франк-младший из Лос-Анджелесского университета в Калифорнии, изучив, кто состоял членом общества, подсчитал, что их средний возраст, составлявший в 1664 году приблизительно сорок пять лет, повысился в 1680 году до пятидесяти. Эти цифры не лишены интереса и смысла. Они означают, что большинство членов общества родились между 1615 и 1630 годами и были молоды в то время, когда на небосклоне науки засверкали имена Гарвея, Галилея и Декарта, когда изобрели хинин и впервые разрезали труп чумного больного, когда природа доверчиво раскрылась вширь и вглубь благодаря телескопу и микроскопу. Они были восприимчивы к новым идеям — и к Декартовым вихрям, и к бойлевскому атомизму. Они взрослели в период социальных, политических и религиозных катаклизмов. Они читали «Новую Атлантиду» Фрэнсиса Бэкона не через скептические старческие очки, а широко раскрытыми глазами питаемых надеждами юношей.
Да, широко распахнутые на мир глаза, неуёмное любопытство и смелость — вот черты членов Королевского общества его первых лет. Чтобы представить себе, из кого тогда состояло общество, можно привести в пример его президента времён ньютоновских «Начал» Сэмюэля Пеписа, известного мемуариста, заполнившего своей автоматической ручкой — одной из первых в мире — тысячи страниц, до сего времени служащих одним из главных источников по интеллектуальной истории Англии.
Он писал книги по садоводству, пытался обогатить английскую флору новыми растениями, привезёнными из Америки и Азии, боролся с лондонским смогом, безнадёжно пытаясь очистить воздух английской столицы. Он не упускал случая побывать на ампутации в парижском госпитале, увидеть собственными глазами пытки в тюрьме Шатле и купить секреты у бродячих фокусников. Он представил обществу описание дромадера, который, по его мнению, был «чудовищным зверем, подобным верблюду, но гораздо больше», и притащил на очередное заседание собственноручно отколотые им от гигантских мегалитических столбов в Стоунхендже куски гранита. И, чтобы уж дать полное представление о научном лице Пеписа, отметим, вскользь, что, хотя он и был магистром искусств Кембриджа, знаний ему определённо не хватало: он для собственного удовольствия разучивал по вечерам таблицу умножения.
Другому знатному «виртуозу», Джону Ивлину, ничего не стоило засунуть руку в пасть льву, чтобы потрогать его язык и убедиться, что он такой же шершавый, как язык кота. Ивлин описал первые эксперименты с напитком из орешка «кола» — будущим «кока-кола» — и помогал создавать плавильную печь новой конструкции. Внимания Ивлина не избежал и милометр — измеритель расстояния, который устанавливался на экипажах, его он усовершенствовал. Он исследовал погремушки виргинских гремучих змей и останки несчастного шестидесятифутового кита, выбросившегося на берег близ Гринвича. Он ввёл в английский обиход коньки — ещё до чумы их испытывали перед восхищённой публикой на замёрзшем озере в Сент-Джеймском парке.
И даже самоё смерть, не боясь её, некоторые члены Королевского общества считали «великим экспериментом». Так её назвал Джон Уилкинс, великий популяризатор науки, любимый автор юноши Ньютона, лёжа на своём смертном ложе и испробуя для лечения по совету Гука и собравшихся у его постели членов Королевского общества «кварту сидра, нагретого раскалёнными докрасна ракушками» и «шпанскую мушку на вены». Интерес к науке в то время бы всеобщим — он отражал большую потребность в ней нового буржуазного общества.
Маколей писал. «Для изящного джентльмена было почти необходимостью уметь поговорить о воздушных насосах и телескопах, даже знатные дамы по временам считали приличным высказывать любовь к знанию. Они приезжали в каретах шестернёю смотреть диковины Грешем-колледжа и испускали крики восторга, видя, что магнит действительно притягивает иголку и что микроскоп показывает муху размером с воробья».
Типичные для общества фигуры Пеписа и Ивлина олицетворяют жадность нового поколения к экспериментальной науке, к знанию, к исследованию мира и природы. Эти счастливцы уже сбросили цепи схоластики, но не познали ещё уз настоящей науки. А уже наступало время — и о нём возвестили и новое буржуазное общество, и новая протестантская религия, и новые страны, и новые корабли, и новые машины в мануфактурах — когда одного лишь отрицания Аристотеля, энтузиазма и любопытства было недостаточно, чтобы познать истинное строение природы. Чтобы на обломках науки средневековья построить науку нового времени, нужны были не только новые факты, не только новые гипотезы и даже не только новый метод. Всё это уже было, теперь стал необходимым их синтез. Кто-то позже назовёт это ньютоновской революцией.
…И вот — явился Ньютон…
Другая цепь следствий, которая зацепилась за маленькие радужные каёмочки, привела к гораздо более серьёзному результату. Недаром Ньютон в одном из писем в Королевское общество о телескопе делает замечательную приписку:
18 января 1672 года
«…Я хотел бы, чтобы в Вашем следующем письме Вы известили меня о том, сколько времени будут ещё продолжаться еженедельные заседания общества, поскольку… я хотел бы, чтобы было заслушано и обсуждено моё сообщение о некотором философском открытии, которое навеяло мне мысль сделать указанный телескоп; я не сомневаюсь, что оно будет воспринято с гораздо большим удовлетворением, чем сообщение об инструменте, поскольку, по моему суждению, это необычайнейшее, если не самое значительное открытие, которое до сих пор было сделано в отношении действий природы.»
Беспокойство, которым пронизано письмо Ньютона, понятно — уже давно прошли слухи, что Королевское общество, прежде собиравшееся всенепременно каждую неделю, стало теперь отходить от этого славного обычая; по многу недель — и зимой, и весной, и ранним летом, как гласят протоколы, «заседаний не было ввиду недостатка собравшихся». О лете и говорить не приходится — с конца июня до середины октября на заседания вообще никто не ходил. Интерес Ньютона к дням следующих встреч легко объясним — он, видимо, спешил.
Как ясно из письма, Ньютон чужд ложной скромности. Он прекрасно понимает существенность своего открытия — этих маленьких радужных каёмочек, которые многие видели, но которым никто не придал значения.
Когда он понял это? Видимо, в разгар чумы, в 1666 году. В тот год он изготовил длинную полоску чёрной бумаги, закрасил одну половину её ярко-красным цветом, другую — ярко-синим, а затем обмотал её несколько раз тонкой нитью очень чёрного шёлка так, что нити на фоне цветных полос казались пересекающими их резкими чёрными линиями.
Затем, ярко осветив бумагу свечой, он с помощью собирательной линзы получил в её фокусе на очень белой бумаге резкое изображение чёрных нитей, пересекающих красную полосу. В это время чёрные линии синей полосы были совершенно не в фокусе, размыты. Если, наоборот, он наводил фокус на чёрные линии синей полосы, ему приходилось для этого пододвигать белую бумагу примерно на дюйм с половиной ближе к линзе. Вывод напрашивался сам собой. Фокусные расстояния линзы для разных цветов различны, а это, по-видимому, делает в принципе невозможным постройку мощного телескопа обычной конструкции с резким изображением. Другой вывод тоже был ясным, тоже напрашивался. Лучи от синей полоски больше преломляются, чем лучи от красной полоски, — это установлено.
Но откуда берутся синий и красный цвета в цветовом пятне, образующемся после преломления солнечного белого цвета призмой? Не состоит ли солнечный свет из смеси различных цветов?
Размышляя об этом, Ньютон перешёл к своим знаменитым опытам с призмой, купленной по случаю на Стурбриджской ярмарке ещё в 1664 году.
Впоследствии, в своём сообщении в Королевском обществе ив «Оптике», вышедшей через тридцать с лишним лет, Ньютон подробнейшим образом рассказывал о своих знаменитых экспериментах. Учитывая уникальность этого описания, знаменующего новый образ и новое понимание науки, приведём его полностью:
«В начале 1666 года, то есть тогда, когда я был занят шлифовкой оптических стёкол несферической формы, я достал треугольную стеклянную призму и решил испытать с её помощью прославленное явление цветов. С этой целью я затемнил свою комнату и проделал в ставнях небольшое отверстие с тем, чтобы через него мог проходить тонкий луч солнечного света. Я поместил призму у места входа света так, чтобы он мог преломляться к противоположной стене. Сначала вид ярких и живых красок, получавшихся при этом, приятно развлёк меня. Но через некоторое время, заставив себя присмотреться к ним более внимательно, я был удивлён их продолговатой формой; в соответствии с известными законами преломления я ожидал бы увидеть их круглыми. По бокам цвета ограничивались прямыми линиями, а на концах затухание света было настолько постепенным, что было трудно точно определить, какова же их форма; она казалась даже полукруглой.
Сравнивая длину этого цветного спектра с его шириной, я выявил, что она примерно в пять раз больше. Диспропорция была столь необычна, что возбудила во мне более чем обычное любопытство, стремление выяснить, что же может быть её причиной. Вряд ли различная толщина стекла или граница света с темнотою могли вызывать подобный световой эффект. И я решил вначале всё же изучить именно эти обстоятельства и попробовал, что произойдёт, если пропускать свет через стёкла различной толщины, или через отверстия различных размеров, или при установлении призмы вне помещения, так, чтобы свет мог преломляться перед тем, как он сужается отверстием. Но я выяснил, что ни одно из этих обстоятельств не является существенным. Картина цветов во всех случаях была той же самой.
Тогда я подумал: не могут ли быть причиной расширения цветов какие-либо несовершенства стекла или другие непредвиденные случайности? Чтобы проверить это, я взял другую призму, подобную первой, и разместил её так, что свет, следуя через обе призмы, мог преломляться противоположными путями, причём вторая призма возвращала свет к тому направлению, от которого первая отклоняла его. И таким образом, думал я, обычные эффекты первой призмы будут разрушены другой, а необычные усилятся за счёт многократности преломлений. Оказалось, однако, что луч, рассеиваемый первой призмой в продолговатую форму, второй призмой приводился в круглую настолько чётко, как если бы он вообще ни через что не проходил. Таким образом, какова бы ни была причина удлинения, оно не является следствием случайных неправильностей.
Далее я перешёл к более практическому рассмотрению того, что может произвести различие угла падения лучей, идущих от различных частей Солнца. И из опыта и расчётов стало мне очевидно, что различие углов падения лучей, идущих от различных частей Солнца, не может вызвать после их пересечения расхождения на угол заметно больший, чем тот, под которым они ранее сходились, величина же этого угла не больше 31–32 минут; поэтому нужно найти иную причину, которая могла бы объяснить появление угла в два градуса сорок девять минут.[20]
Тогда я стал подозревать, не идут ли лучи после прохождения их через призму криволинейно, и не стремятся ли они в соответствии с их большей или меньшей криволинейностью к различным частям стены. Моё подозрение усилилось, когда я припомнил, что часто видел теннисный мяч, который при косом ударе ракеткой описывает подобную кривую линию. Ибо мячу сообщается при этом как круговое, так и поступательное движения. Та сторона мяча, где оба движения согласуются, должна с большей силой давить и толкать прилежащий воздух, чем другая сторона, и, следовательно, будет возбуждать пропорционально большее сопротивление и реакцию воздуха. И по этой самой причине, если бы лучи света были шарообразными телами (гипотеза Декарта) и при их наклонном продвижении из одной среды в другую они приобрели бы круговое движение, они должны были бы испытывать большее сопротивление от омывающего их со всех сторон эфира с той стороны, где движения согласуются, и постепенно отгибались бы в другую сторону. Однако, несмотря на всю правдоподобность этого предположения, я при проверке его не наблюдал никакой кривизны лучей. И кроме того (что было достаточно для моей цели), я наблюдал, что различие между длиной изображения и диаметром отверстия, через которое проходил свет, было пропорционально расстоянию между ними.
Постепенно устраняя эти подозрения, я пришёл наконец к experimentum crucis, который был таков: я взял две доски и поместил одну из них непосредственно за призмой окна, так что свет мог следовать через небольшое отверстие, проделанное в ней для этой цели, и падать на другую доску, которую я разместил на расстоянии примерно 12 футов, причём в ней также было проделано отверстие с тем, чтобы часть свата могла пройти через неё. Затем я разместил за этой второй доской другую призму таким образом, что свет, пройдя через обе эти доски, мог следовать сквозь призму, снова преломляясь в ней, прежде чем он упадёт на стену. Сделав так, я взял первую призму в руку и медленно повёртывал её туда и сюда, примерно вокруг оси, так что разные части изображения, падавшего на вторую доску, могли последовательно проходить через отверстие в ней, и я мог наблюдать, на какое место стены отбрасывает лучи вторая призма. И я увидел посредством изменения этих мест, что свет, стремящийся к тому концу изображения, к которому происходило наибольшее преломление первой призмой, испытывал во второй призме значительно большее преломление, чем свет, направленный к другому концу. И таким образом была открыта истинная причина длины этого изображения, которая не может быть иной, чем то, что свет состоит из лучей различной преломляемости, которые независимо от различия их возникновения падают на различные части стены в соответствии с их степенями преломления…»
Это полнокровное описание, направленное поначалу Ньютоном в Королевское общество и вскоре напечатанное в «Философских трудах» под названием «Письмо г-на Исаака Ньютона, профессора математики Кембриджского университета, содержащее новую теорию света и цветов», является маленьким шедевром нового типа научного исследования, ставшим образцом для многих поколений учёных. Ньютон не придерживается никаких гипотез; мысль чётко регистрирует результаты эксперимента, эксперимент устраняет малейшие сомнения мысли.
На страницах этого краткого мемуара воскресают забытые традиции древних геометров, простота и доказательность Евклида. Каждое предположение тут же сопровождается его экспериментальным изучением. Эксперименты приводят к теоремам, теоремы проверяются опытом, они дают возможность предсказывать будущие явления. Ньютон ничему не верит на слово, строго следуя и девизу Королевского общества «Ничто на слово», и Бэкону, и Декарту, начавшему свою книгу «Начала философии» с призыва всё подвергнуть сомнению.
Гигантское многообразие экспериментального материала, накопленного в оптике до Ньютона, уложилось теперь в скупые и чёткие формулировки. Ньютон сделал действительно крупнейшее открытие. Его выводы весьма многозначительны:
«1. Точно так же, как лучи света различаются по степени их преломления, точно так же они различаются и по их склонности проявлять тот или иной частный цвет. Цвета не являются качествами света, происходящими из-за преломлений или отражений в естественных телах (как обычно считают), но суть естественные и прирождённые качества, различные в различных лучах…
2. Одной и той же степени преломляемости всегда соответствует один и тот же цвет, а одному и тому же цвету всегда соответствует одна и та же степень преломляемости. А связь между цветами и преломляемостью очень точна и чётка: лучи либо точно согласуются в обоих отношениях, либо пропорционально в них же не согласуются.
3. Образцы цвета и степень отклонения, свойственные каждому отдельному сорту лучей, не изменяются ни преломлением, ни отражением от естественных тел, ни любой иной причиной, которую я смог наблюдать».
Ньютон полностью отказался от физиологического критерия восприятия и оценки цветов. Он связал конкретные цвета с конкретным углом преломления и тем самым превратил их оценку из субъективной в научную. Первичный цвет для Ньютона — это тот, который уже не может быть разложен призмой на другие цвета. Ньютон проводил чёткое различие между физиологическим восприятием цвета и его объективными характеристиками. Вспомним его эксперименты с придавливанием глазного яблока, когда перед глазом возникали цветные радужные картины, движущиеся пятна, целые миры, образованные лишь физиологическими ощущениями, не существующие реально. Или взять, например, последействие ретины, когда изображение остаётся на сетчатке ещё некоторое время после того, как глаза закрыты. Или цветовую слепоту — ту, которая не даёт людям возможности правильно оценить цвет того или другого тела. Произвольность этих ощущений привела Ньютона к мысли проводить оценку цветов на твёрдой научной основе, так, чтобы эта оценка могла быть подтверждена и повторена. Здесь-то и лежит основной водораздел между мировоззрением Гука и Ньютона.
Гипотезы Гука и теории Ньютона, несмотря на уверения Ньютона, на самом деле не имели между собой ничего общего. Первые были плодом раскованного ума, иногда чрезвычайно остроумным, чаще — фантазией художника, вторые были строгой реальностью, соком самой жизни. Теории Ньютона делали возможным развитие физики как точной науки. Она стала всё больше приближаться к математике и всё больше отдаляться от философии.
Письмо с описанием экспериментов и выводов, посланное Ньютоном издателю «Философских трудов», должно было перед опубликованием пройти апробацию в Королевском обществе, быть там заслушано и обсуждено. Это и произошло 8 февраля 1672 года.
«Решено торжественно поблагодарить автора от имени общества за очень талантливое исследование и известить его о том, что общество полагает, что оно весьма подходит, в случае согласия автора, для опубликования, — как с целью более удобного рассмотрения её философами, так и для устранения незначительных недочётов, содержащихся там, так и для защиты автора против возможных неосновательных претензий других лиц. Решено также, чтобы исследование было занесено в регистрационную книгу. Желательно также, чтобы епископ Солсберийский, господин Бойль и господин Гук внимательно ознакомились бы с ним, оценили бы его и дали бы отзыв о нём обществу».
Это была первая научная статья Ньютона. Тот необычный резонанс, который получила столь небольшая по объёму работа, её громадное влияние на судьбу Ньютона и судьбу науки в целом вынуждают наших современников более внимательно отнестись к тому новому, что привнесла она в мир научного исследования.
Эта статья знаменует наступление новой науки — науки нового времени, науки, свободной от беспочвенных гипотез, опирающейся лишь на твёрдо установленные экспериментальные факты и на тесно связанные с ними логические рассуждения. Пристальное наблюдение, чёткая классификация многих разрозненных ранее явлений, нахождение в них общих черт, сути и первопричины, извлечение из них некоторых закономерностей, которые могут дать представление о поведении вещей и явлений в ещё не изученных ситуациях. Наука получает дар предвидения.
Сейчас, в конце XX века, трудно оценить сенсационность и необычность этой маленькой статьи Ньютона. Но самые глубокие умы семнадцатого столетия быстро разглядели в небольшом письме «сумасшедшие идеи», приводящие в конце концов к взрыву устоявшихся и привычных представлений, которые, в свою очередь, лишь недавно одержали верх над аристотелевской метафизикой.
И вызов, содержащийся в этой небольшой статье, был принят. Нужно было поставить на место этого тридцатилетнего, ничем ещё себя не зарекомендовавшего кембриджского профессора. Для противников новой доктрины страшным было лишь одно — она была неуязвима для метафизической критики — критики с общих философских позиций. Ответом на неё могли быть только конкретные факты или конкретные выводы из фактов. Для того чтобы опровергнуть Ньютона, нужно самому придумать эксперименты, самому проделать их, провести критическое сопоставление. А это гораздо труднее, чем измышлять гипотезы.
Но невозможно свести различие лишь к ньютоновским экспериментам, даже столь изощрённым. Наука семнадцатого столетия полна экспериментальных работ — о необходимости их толковали и Гильберт, и Бэкон, и Галилей, а позже и Бургаве, и Нолле. Бесчисленны экспериментальные научные трактаты XVII–XVIII веков по механике, химии, магнетизму и электричеству, авторы которых также избегали гипотез, и накапливали факты, полагая, что наука равна эксперименту. А эксперимент Ньютона органически сочетался с теоретическим объяснением, нахождением универсальных причин, выводом физических закономерностей с предсказанием нового. Это не просто эксперимент, а эксперимент, составляющий неотъемлемую часть ньютоновского метода исследования.
Ньютон стал знаменитостью. Однако известность несла ему не только венец славы, но и терновый венец, о котором он размышлял в детстве. Его радужное настроение сменилось глубокой депрессией. Он старался замкнуться в своей скорлупе, не желая ввязываться в многочисленные споры, на которые его открыто вызывали. Он не был приспособлен для этих ожесточённых баталий, для бесконечных словопрений и фехтования цитатами из классиков. Но его упорно выволакивали каждый раз на свет божий, заставляя снова и снова отражать очередные критические удары.
Своим решением Королевское общество решило внимательно ознакомиться со статьёй Ньютона и дать на неё отзыв. Отзыв был написан Гуком и оглашён им же на заседании 15 февраля 1672 года. В отзыве, чрезвычайно лестном и превозносящем Ньютона за его великие открытия в области цветов, автору воздаётся глубокое уважение.
«Я изучил исследование господина Ньютона о цветах и преломлении лучей и был немало порадован» — так он начинается. Суть возражений Гука вскрывается позже. Больной чахоткой Гук — в Королевском обществе считали, что он не оправится, — просидел над отзывом несколько часов подряд. Это было для него подвигом усидчивости. В отзыве было высказано чрезвычайно сильное возражение Ньютону, ответить на которое удалось лишь через сотни лет.
Гук напал на весьма узкое место в Ньютоновой теории — утверждение о том, что в луче белого света содержатся все цвета. По мнению Гука, утверждать так равносильно тому, что говорить о наличии всех музыкальных тонов в воздухе органных мехов или струнах смычковых инструментов. Куда проще, считал Гук, объяснить разложение белого цвета в призме искажением в ней простого волнового движения. Он пишет: «Признаюсь, я не вижу ни одного неопровержимого аргумента, который смог бы убедить меня в определённости сказанного. Ибо все эксперименты и наблюдения, которые я проделал до сих пор, и даже те самые эксперименты, о которых пишет он, мне кажется, доказывают одно: белый свет — это не что иное, как импульс или движение, проникающее через однородную и прозрачную среду, и что цвет — это не что иное, как возмущение этого света при передаче импульса другой прозрачной среде, например, при преломлении, что чернота и белизна есть не то иное, как обилие или недостаток невозмущённых лучей света, и что цвета… суть не что иное, как эффект искажённого хода движения, вызванного преломлением. Однако, как бы ни был я убеждён в своей гипотезе (которую я не выдвинул бы без предварительного проведения нескольких сотен экспериментов), я всё же был бы рад получить от господина Ньютона предложение об experimentum crucis, который мог бы отвратить меня от неё. Но то, о чём он пишет, не вызовет поворота в моём понимании, поскольку одно и то же явление может быть объяснено как его гипотезой, так и моей, причём без каких-либо трудностей или особого обучения. Я берусь указать и другие гипотезы, отличные от его и моей, которые будут давать тот же эффект. Не хотел бы быть понятым так, что я выступаю против его теории, поскольку она — лишь гипотеза; я с максимальной готовностью соглашаюсь с ней в каждой её части и считаю её весьма тонкой, остроумной и способной разрешить все явления цветов, но я могу думать о ней только как о гипотезе, отнюдь не столь определённой, как математическое доказательство».
Прослушав отзыв Гука и переслав его Ньютону, общество решило, если Ньютон, конечно, не возражает, напечатать его в «Философских трудах», но сделать это позже, после статьи Ньютона, «поскольку господин Ньютон может счесть неуважением публикацию резкого опровержения его исследования, которое было встречено в обществе столь громкими аплодисментами всего лишь несколько дней назад».
Казалось бы, ничто — ни мемуар Ньютона, ни отзыв Гука, ни реакция Королевского общества — не предвещало бури, которой, возможно, страстно желал бы секретарь общества Ольденбург, давно недолюбливавший Гука и находивший множество способов отравить ему настроение.
20 февраля 1672 года
«Сэр, я получил Ваше [письмо] от 19 февраля. Просмотрев замечания Гука по поводу моего исследования, я был обрадован тому, что даже столь проницательный рецензент не смог сказать ничего, что могло бы хоть в какой-то части ослабить его. Поскольку я придерживаюсь пока что прежнего суждения, я не сомневаюсь, что даже при более пристрастном изучении будет с определённостью обнаружена та правда, которую я утверждаю…
В письме монсеньора Гюгениуса (так в латинизированной форме в письме назван Гюйгенс. —
И. Ньютона.»
Как видно из письма, на статью поступил отзыв и от Гюйгенса. Относительно теории цветов Гюйгенс не спорил — она показалась ему «остроумной», хотя, как он говорил, нужно было «ещё посмотреть, как она согласуется с экспериментами». С другой стороны, Гюйгенс, развивавший мысли Декарта по поводу природы света и разработавший вместе с Гуком волновую теорию света, не мог согласиться с Ньютоном, критиковавшим гипотезу двух первичных цветов — красного и синего, с помощью которых якобы можно было создать все остальные. Это основная причина того, что через три месяца его суждения в оценке Ньютоновой работы несколько меняются.
«…То, что Вы опубликовали в последнем номере «Трудов», во многом усиливает его доктрину цветов. В то же время причина цвета может быть и несколько иной, и мне кажется, что он должен быть удовлетворён тем, что его достижения со временем могут стать гипотезой. Кроме того, если бы то, что лучи света в их первоначальном состоянии были некоторые красными, некоторые синими и так далее, было правдой, то было бы очень трудно объяснить на механических принципах, в чём же состоит это различие цветов».
Гюйгенс необычайно прозорлив — для объяснения потребовались сотни лет.
Ньютон долго обдумывал свой ответ Гуку — почти полгода. Его ответ — образец полемического мастерства. Уходя от главного и фактически неотразимого вопроса Гука, Ньютон сосредоточил внимание на слабых сторонах высказываний самого Гука. Интереснее всего то, что Ньютон вопреки множеству его толкователей совершенно не выступает, как и его учитель Барроу, категорическим сторонником одной из двух альтернативных теорий природы света и вовсе не является убеждённым сторонником корпускулярной гипотезы. Более того, создаётся впечатление, что Ньютон хотел бы создать компромиссную теорию света, примиряющую корпускулярную и волновую гипотезы, устраняющую их недостатки и объединяющую достоинства.
Ответ построен очень продуманно. Ньютон возвращается к теориям Гука несколько раз, причём каждый раз доводы Ньютона становятся всё более и более сокрушительными.
На статью пришли и другие отзывы. Первый печатный отзыв — от иезуита отца Игнациуса Пардиза, профессора натуральной философии в колледже Клермон, в Париже. Он написал письмо прямо в «Философские труды», где оно и было опубликовано. Пардиз говорил, что работа Ньютона опровергает все имеющиеся сегодня гипотезы о природе света, однако он не может понять, как все эти гипотезы могут рухнуть из-за какого-то одного эксперимента с какой-то призмой. Революции в науке, на его взгляд, так не делаются. Теория Ньютона, по его словам, полностью основана на одном эксперименте, в котором лучи входят в тёмную комнату через отверстие в ставне, проходят через призму и затем падают на стену или на бумагу и там не образуют круглой фигуры, как ожидалось бы в соответствии с принятыми правилами отклонения лучей. Пардиз не мог поверить, что с помощью столь простого эксперимента могут обрушиться те законы, которые столь просто утвердились в научных сообществах Франции, Англии, Голландии и Италии. И посему Пардиз дал собственное толкование продолговатой форме изображения в эксперименте Ньютона.
Профессор был весьма точен, осторожен и вежлив в своих критических замечаниях, почти не задел Ньютона, и тот подготовил весьма тщательно продуманный и вежливый ответ. Главный упор Ньютон делал на то, что он не предлагал никаких гипотез о природе света. «Я не могу не считать ошибкой, что достопочтенный отец называет мою теорию гипотезой… она содержит лишь вполне определённые вновь открытые свойства света, которые можно легко доказать и которые, если бы я не считал их правдой, я скорее отбросил бы как бесполезные и пустые спекуляции, чем известил бы о них даже в качестве гипотезы».
Пардиз, прочитав ответ Ньютона и проведя соответствующий эксперимент, понял, что он не вполне точно разобрался в смысле ньютоновской работы. Он прислал извинение, в котором признавал, что experimentum crucis был им не понят, и славил «блестящего Ньютона».
Тем не менее Ньютон решил ещё раз пояснить ему свои эксперименты и изложить во втором письме свой научный метод, который он называл «золотым правилом науки». «Лучшим и наиболее безопасным методом философствования, как мне кажется, — писал он, — должно быть сначала прилежное исследование свойств вещей и установление этих свойств с помощью экспериментов, а затем постепенное продвижение к гипотезам, объясняющим эти свойства. Гипотезы могут быть полезны лишь при объяснении свойств вещей, но нет необходимости взваливать на них обязанности определять эти свойства вне пределов, выявленных экспериментом. Ибо, если бы можно было с помощью гипотез судить об истине и реальности вещей, то мне непонятно, как могла бы быть достигнута какая-либо определённость в любой науке; ведь можно изобрести множество гипотез, объясняющих любые новые трудности… Что касается того, что почтенный отец называет мою доктрину гипотезой, я думаю, это происходит только оттого, что он использует слово, которое первым пришло ему на ум, так как в практике термин «гипотеза» часто присваивается всему тому, что объяснено в философии: причиной того, что я исключаю это слово, было моё желание предотвратить излишнее употребление термина, которое могло бы оказаться пагубным для истинной философии».
К сожалению, далеко не столь благоприятным исходом окончились другие споры Ньютона. И здесь, кроме научной остроты и нового научного содержания, которые несли статьи Ньютона, сыграли свою не последнюю роль личные качества людей, их судьбы, характеры и обстоятельства.
Вяло, с оговорками, но в целом положительно отозвался о статье молодой Флемстид. Поступил положительный отзыв от сэра Роберта Моррея, первого президента Королевского общества, обнаруживший его полное незнакомство с предметом и непонимание его. Прочёл, но не оценил статью проживавший тогда в Париже Готфрид Вильгельм Лейбниц, совсем ещё неизвестный, только пробивающий себе путь в натуральной философии.
Таунлей же признал статью настолько восхитительной, что настоял на публикации её латинского варианта. Джеймс Грегори писал Коллинсу: «Я был крайне поражён опытами мистера Ньютона: они, по всей видимости, вызовут великие перемены во всей системе натуральной философии, если только факты верны, в чём, впрочем, я не сомневаюсь».
Ньютон стал полноправным членом европейского сообщества естествоиспытателей. Уже в начале мая, всего лишь через четыре месяца после того, как он послал свой телескоп в Лондон, он получил двенадцать писем и написал одиннадцать ответов. Все они касались или телескопа или цветов. Его одиночество окончилось, но нельзя сказать, чтобы столь резкая перемена его радовала. Для Ньютона необходимость спорить и доказывать то, что казалось ему очевидным, оборачивалась душевной травмой, приступами беспокойства и отчаяния. Ещё никогда в жизни он не был в центре внимания — столь обострённого и в целом недоброжелательного. Он мечтал о том, чтобы его оставили в покое.
1672 год
«…Я не намерен более заниматься философскими предметами. Надеюсь, Вы не поймёте превратно, если увидите, что я перестану делать что бы то ни было в этой области. Думаю, Вы не откажетесь и содействовать моему решению, по возможности устраивая так, чтобы я не получал никаких возражений или касающихся меня философских писем…»
Но теперь это было просто невозможно.
6 октября 1674 года в «Философских трудах» был опубликован отзыв «ученейшего Френсиса Линуса», профессора математики в колледже английских иезуитов в Льеже. Когда-то этот Линус своими возражениями Бойлю по поводу концепции воздушного давления вынудил его провести эксперименты, приведшие к закону Бойля — Мариотта. В его отзыве работа Ньютона разносилась в пух и прах. Автор рецензии утверждал, что он сам тридцать лет проводил подобные эксперименты и действительно обнаруживал овалы, о которых писал Ньютон, но истинной причиной, как считал ученейший иезуит, является вовсе не то, о чём пишет Ньютон, а попросту рассеянный свет, который получается или из-за того, что призма была поставлена слишком далеко от отверстия, или же из-за того, что солнце в момент наблюдения было заслонено облаком и высветило соседние облака. Вот истинная причина овального, а не круглого изображения. «Если бы Ньютон не совершил этих досадных оплошностей, у него получились бы идеальные круги», — писал Линус.
Ольденбург, только и ждавший чего-нибудь «горяченького», тут же переслал письмо Ньютону, настоятельно требуя скорейшего ответа. Разжигая страсти других, он получал громадное удовлетворение. В данном случае переписка вообще была ненужной, поскольку абсурдность выдвинутых обвинений была очевидна.
Ньютон был весьма недоволен Ольденбургом и написал ему довольно сердитое письмо.
5 декабря 1674 года
«Сэр, я давно уже решил не заниматься более вопросами усовершенствования философии. И по этой причине я буду настаивать на исключении меня из участия в регулярных философских дискуссиях… Если Вы сочтёте это подходящим, у Вас есть способ избежать позора, навлекаемого на себя Фр. Линусом своими широковещательными заявлениями в печати. Направьте ему пояснение из моего второго ответа Пардизу и скажите ему (но не от моего имени), что эксперимент, как и был описан, был проведён в ясные дни и что призма была размещена рядом с отверстием в окне, так что свет не имел возможности рассеиваться, и что цветные изображения получены не параллельно, как в его предложениях, а поперёк оси призмы.
Ваш покорный слуга
Ис. Ньютон.»
Этот бесплодный спор, затянувшийся на долгие годы — спор выживающего из ума профессора с блестящим молодым Ньютоном, втянутым в этот беспредметный спор людьми, желавшими лишь развлечься за счёт других, — не принёс ничего, кроме больших потерь времени и резкого ухудшения характера Ньютона, который стал ещё более подозрителен, скрытен, молчалив и беспощаден к коллегам. Непререкаемым тоном школьного учителя Линус вещал о якобы полученных им важных научных результатах — и говорил об очевидном. Он ничего не слышал из того, что говорили ему, он ничего не читал. Вместо этого он посылал в «Философские труды» всё новые и новые письма, в которых обвинял Ньютона в беспечности, неаккуратности, неточности экспериментов и неправильной интерпретации результатов. Более абсурдные утверждения трудно себе вообразить. К кому-кому, а к Ньютону они никак не могли относиться. Научная ошибка воспринималась им как тяжкий, смертный грех, как измена высшему своему предназначению. Ошибка могла была быть сделана только по дьявольскому наущению. За неё не было прощения.
13 ноября 1675 года
«Сэр, когда Вы показали мне второе письмо господина Линуса. я, припоминаю, сказал Вам, что по моему суждению ответ в письменной форме не нужен, поскольку спор идёт не о каких-либо коэффициентах и отношениях, но моей честности по отношению к экспериментам, которую он отвергает… Но это может быть решено не осуждением, а лишь посредством появления нового эксперимента…я же, хотя и не могу представить себе это, всё же подозреваю, что господин Линус не делал никаких экспериментов с тех пор, как познакомился с моей теорией, и находится в плену своих старых заметок и наблюдений, сделанных до того, как он приобрёл какую-либо идею о наблюдении формы цветного изображения. Я бы пожелал ему, таким образом, перед тем как он будет писать любое ответное письмо, попытаться ещё раз проделать эксперимент для своего удовлетворения.»
Линус, однако, не удовлетворился, экспериментов не проводил, а писать продолжал. Лишь смерть этого назойливого критика, умершего от пандемии гриппа, поразившей в то время множество стран и скосившей сотни тысяч людей, главным образом пожилых, помешала дальнейшему развитию событий.
Знамя Линуса подхватил Гасконь, его молодой коллега, человек, не только совершенно не способный к экспериментам, но и не способный, кроме того, к пониманию всего, что сделано другими. Тоном школьного педанта он вновь возглашал о непогрешимости ученейшего Линуса и о его явном превосходстве над молодым выскочкой Ньютоном, покушающимся на мудрость старших.
Третий из той же «команды», иезуит Антуан Лукас, включился в спор уже тогда, когда Ньютон был истощён. Это очень обидно, потому что как раз Лукас оказался весьма проницательным физиком и весьма тонким оппонентом. Он указывал Ньютону на вещи, стоящие внимания. Будь Ньютон потерпеливее на этот раз, он, возможно, пришёл бы к открытию способа борьбы с хроматической аберрацией. Лукас признавал вытянутую форму изображений, но он получил в эксперименте не такое большое удлинение, как у Ньютона, — не 5, а 3,5 — может быть, вследствие того, что использовал другие стёкла. Ньютон обычно использовал полые стеклянные призмы, в которые наливал воду с добавлением различных веществ — например, свинцового сахара — для увеличения коэффициента преломления. Таким образом, расхождение было несущественным. Ньютон, однако, уже потерял терпение и не мог спокойно слышать голосов из Льежа.
Он не выдержал. Он считал, что его открытия всем понятны и ясны, и все тут же должны принять их. Он был не против споров, но полагал, что в споре идей, как в скрещении шпаг, должна была рождаться искра нового знания; здесь же этого явно не происходило. Он слишком сильно превосходил своих соперников, а в некоторых случаях, увлекаясь борьбой, и сам не видел их сильных сторон и здравых мыслей.
(Надо сказать, что многие учёные тех времён, избегая опасной ревности коллег, вообще ничего не выносили на их суд. Галилей скрывал многие свои открытия чуть не до конца дней своих. Он понимал, что чем свежее идея, тем большую критику она вызовет.)
Тем временем пришёл новый отзыв от Гюйгенса. Если раньше теория Ньютона казалась ему «остроумной», а потом стала «возможной», то теперь она «противоречила общепринятым воззрениям». Ньютон на замечания Гюйгенса отвечать не стал. Но в январе 1673 года Гюйгенс прислал Ольденбургу новые, ещё более жёсткие критические замечания. Он настаивал на том, что для объяснения световых явлений достаточно признания двух сортов цветов — жёлтого и синего. Другие цвета образуются их смешением. Из жёлтого и синего можно, например, сделать глубокий красный и ярко-синий цвет.
«Я также не понимаю, — писал Гюйгенс, — почему господин Ньютон не хочет согласиться с двумя цветами: жёлтым и синим, поскольку было бы гораздо проще объяснить различия между этими двумя, чем различия в столь широком разнообразии других цветов. С тех пор, как он выдвинул свою гипотезу, он не смог убедительно показать, в чём состоит природа и различие цветов, он показал только, что, конечно, важно, их различные преломляемости».
Опять механистическая философия! Опять требования яркой, красочной, механически понятной картины, которую не мог предложить ни Ньютон, ни кто-либо другой. Ньютон не стал поначалу отвечать, предположив для самоуспокоения, что письмо Гюйгенса Ольденбургу имело частный характер.
Но в конце концов Ньютон не выдержал — написал письмо Гюйгенсу. Он объяснял, что теория двух цветов не может его удовлетворить, ибо эксперименты показывают, что все другие цвета равноправны с этими двумя и не могут быть получены из красного и синего или жёлтого и синего. Он убеждал Гюйгенса в том, что гипотеза двух цветов нисколько не проще, чем многоцветная гипотеза. Никто ведь не удивляется тому, что волны на море или песчинки на берегу обнаруживают бесконечное разнообразие. Почему же корпускулы светящихся тел должны производить только два сорта лучей?
7 апреля 1673 года
«Могу уверить Вас, что господин Ньютон — человек весьма порядочный; он также один из тех, кто нелегко откажется от тех вещей, которые считает необходимым высказать».
Гюйгенсу, главе европейских естествоиспытателей, не понравилось обращение с ним как с мальчиком.
10 июня 1673 года
«…Видя, что он столь ревностно относится к своей доктрине, я не хочу более спорить с ним».
Под занавес он сделал несколько ледяных замечаний и прекратил дальнейшую переписку.
Духовное учёное братство, братство, о котором одиноко мечтал Ньютон в Кембридже, оказалось составленным из врагов, подозрительных и недоброжелательных. Дружная оппозиция статье Ньютона со стороны Гюйгенса, Гука, Пардиза, льежских иезуитов оказалась для Ньютона тяжёлой травмой. Он решил навсегда отказаться от дальнейшей публикации своих работ.
8 марта 1673 года
«Сэр, я прошу Вас содействовать тому, чтобы я не состоял далее членом Королевского общества, поскольку, хотя я и ценю этот орган, я всё же вижу, что никак не могу оказаться ему полезным, ибо не могу из-за расстояния принимать участие в его собраниях; я желаю выйти из числа его членов».
А Коллинсу Ньютон разъяснил и истинную причину своего желания покинуть общество, явно рассчитывая на то, что она тут же будет всеобщим достоянием. Он написал, что «желает уйти, ибо стремится исключить прискорбные случаи подобного рода на будущее». В ответ на письмо Ньютона Ольденбург поспешил с уговорами, предложил простить ему задолженность по взносам и уверял во всеобщей к нему любви членов общества и полном их уважении, а также извинился от имени неназванного лица за нарушение корректности.
Ньютон был полностью удовлетворён, обещал в дальнейшем игнорировать неправильные действия, жертвой которых он стал. Но он решил полностью порвать с натуральной философией.
18 ноября 1676 года
«Сэр, я обещал послать Вам ответ господину Лукасу в следующий вторник, но я подумал, что вряд ли закончу его к тому сроку, который наметил, ибо к тому времени мне нужно будет изготовить ещё и копию; прошу Вас потерпеть ещё с неделю. Я вижу, что сделался рабом философии. Но как только я покончу с делом господина Лукаса, я решительно скажу ей «прощай» навеки, за исключением того, что я буду делать для своего личного удовольствия, или того, что останется для выхода в свет после моей смерти; ибо я вижу, что человек должен решить или не обнародовать ничего нового, или же сделаться рабом, защищающим это новое.
…Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой. И. Н.».
Он написал ещё два послания Лукасу, причём в один день. Одно — ответ на первое письмо Лукаса, а другое — на его же третье письмо, от февраля 1677 года. Второе письмо Ньютона — письмо отчаявшегося, затравленного человека.
«…Может ли один человек заставить другого ввязаться в диспут? Почему я обязан удовлетворять Вас? Кажется, Вы считаете, что и этого недостаточно — бесконечно предоставлять возражения, покуда Вы не сможете убить меня моей неспособностью ответить на все вопросы или же покуда я не стану достаточно нахален, чтобы не доверять Вашему собственному суждению в выборе наилучшего возражения. Откуда Вам известно, что я не считаю их слишком слабыми для того, чтобы требовать ответа и лишь, уступая Вашей настойчивости, собрался ответить на одно или два из лучших возражений? Откуда Вы знаете, какие иные причины, продиктованные благоразумием, могли заставить меня уклоняться от соревнования с Вами? Но я предпочту не объяснять этих вещей подробнее, поскольку не считаю Вас подходящим для дискуссии субъектом и поэтому намекаю Вам на это только в частном письме… Я надеюсь, Вы поймёте, насколько мало я имею желания разъяснять Ваши труды на публике; пожалуйста, имейте это в виду, если хотите иметь со мной дело в будущем…»
Он решил публично растоптать Лукаса. И несмотря на это, Лукас вновь написал ему! Ньютон не ответил. Потом Обри сообщил, что ещё одно письмо Лукаса дожидается его в Лондоне.
июнь 1678 года
«Господин Обри, мне известно, что у Вас есть для меня письмо от господина Лукаса. Умоляю, воздержитесь от пересылки мне чего-либо подобного».
На этом окончилась переписка о цветах. Теперь уже никто не мог больше понукать его: Ольденбург умер, переписку с Коллинсом он прекратил навсегда. Гук, избранный после смерти Ольденбурга секретарём общества, был неподходящим кандидатом, чтобы служить передатчиком информации. Ньютон снова оказался в полной изоляции. О глухоте её можно судить хотя бы по тому факту, что он написал письмо — кому бы думали? — своему давнему обидчику Артуру Стореру! И Сторер, живший в Америке, ответил. Он был, видимо, тоже одинок.
Годы, последовавшие за публикацией первой статьи Ньютона, были проведены им в Кембридже. Изредка он наезжал в Лондон, изредка — в Вулсторп. Часть летних каникул 1672 года он провёл в Бедфордшире, откуда тёк ручеёк его доходов в виде земельной ренты, обеспечивающей жалованье лукасианского профессора. Вернувшись в Кембридж, он тут же внезапно уехал в Стоук-парк в графстве Нордхемптоншир, где провёл две недели.
В 1673 году в Тринити из Лондона вернулся Барроу, теперь уже в качестве мастера Тринити-колледжа, и одиночество Ньютона было несколько скрашено. Карл II, указом которого был назначен Барроу, подчеркнул, что этим назначением оказывается честь «лучшему учёному мужу Англии».
Барроу помог Ньютону получить в колледже хорошую комнату на втором этаже, за главными воротами Тринити, имевшую выход по лестничке в собственный дворик.
Ньютон заплатил порядочные деньги, чтобы привести комнату в порядок. Он заказал кузнецу красивые каминные решётки, вызвал маляров, чтобы выкрасили заново стены, выбрал у гардинщиков новые портьеры и покрывала для кровати, уплатил за ледник, за ремонт камина, купил два кресла с ручками, восемь кресел без ручек, шесть стульев, десять подушек, шесть кресел, отделанных русской кожей. Жил он по-прежнему с Викинсом, а после того, как тот стал всё реже и реже появляться в Кембридже, пока не пропал совсем, один.
В августе 1674 года Ньютон отправился в Лондон. Он участвовал в торжествах по случаю назначения юного герцога Монмутского, незаконного сына короля Карла II, канцлером Кембриджского университета. Вице-канцлер и главы колледжей решили, что на церемонии должны присутствовать по шесть представителей самых крупных колледжей и по три — других колледжей. Их красочные мантии должны были украсить процессию, направляющуюся к дому канцлера. С утра в Дерби-хауз собралось чуть не 500 человек. Здесь были и аристократы, и торговые нувориши, и бывшие выпускники университета. В четыре часа было объявлено, что герцог готов принять их. Королевские телохранители расчищали проход через толпы любопытствующих. Шествие начали молодые педели, затем шли университетские служители и доктора — представители факультетов в соответствующей рангу и заслугам форме. На Ньютоне была приличествующая его положению оранжевая просторная мантия и квадратная чёрная шляпа. Герцог принял их у дверей Лестер-хауза, где на ступенях был установлен трон; трон окружали мушкетёры; подходить слишком близко к герцогу было запрещено.
Всё закончилось праздничным обедом в пиршественной зале дворца. В нескольких кратких, но сильных выражениях герцог выразил своё удовлетворение от добровольного волеизъявления университета, которое, как он считал, и совершенно справедливо, отражает и доброе отношение к нему его отца, Карла II. Король выразил своё удовлетворение правильной позицией университета и пожертвовал ему триста фунтов для раздачи служащим…
За обедом новый канцлер вдоволь веселился, но не забывал строго спрашивать вице-канцлера и глав колледжей об исполнении уставов университета. И те отвечали, что уставы, к сожалению, слишком часто нарушаются: студенты любят посещать таверны, а посещать церковную службу не любят. А в кофейных домиках и тавернах Кембриджа можно встретить порой и весьма высокопоставленных университетских особ.
С членами Королевского общества в тот свой приезд в Лондон Ньютон встречаться не пожелал.
Не следует думать, что кембриджская жизнь Ньютона была совсем уж лишена треволнений. Одной из причин чувства неустроенности было то, что в 1675 году наступал крайний срок пребывания Ньютона в качестве члена Тринити-колледжа. Чтобы остаться членом колледжа, он должен был принять священный сан. А это для Ньютона, не верящего в Троицу, было невозможным. Это было невозможно и для Ньютона-учёного, поскольку поворачивало его вплотную к иной стезе — церковной.
Ньютон решил поехать в Лондон и добиться разрешения короля оставаться членом совета колледжа, не принимая сана. Разрешение было получено, что свидетельствует о протекции, которую Ньютон имел при дворе. Видимо, его заступником был Барроу.
В течение этого визита он несколько раз посетил Королевское общество и произвёл на его членов очень глубокое впечатление. Ньютон встретился здесь наконец с Робертом Бойлем, к трудам которого относился с особенным почтением.
На заседании 11 марта 1675 года зачитывался новейший мемуар Бойля, обнаружившего свечение гниющего мяса. Оппонентом выступал Гук. Он по-прежнему не верил в иные, кроме собственной, теории света.
— Свет есть колебательное или дрожательное движение среды, — говорил Гук. — Как в звуке пропорциональные колебания производят различные гармонии, также и в свете посредством смещения пропорциональных и гармоничных движений получаются различные странные и приятные цвета. Одни колебания ощущаются ухом, другие глазом.
Но вот что было интересно: Гук отказался от своей теории двух основных цветов!
По поводу высказываний Гука и говорили между собой знаменитый Бойль и молодая надежда английской науки — Ньютон. Бойль приветствовал остроумные гипотезы Ньютона, но более всего хвалил его за телескоп, за зеркала и линзы, которые тот сделал своими руками.
— Хотя мои условия, — сказал богач Бойль, — слава богу, дают мне возможность проделывать эксперименты руками других людей, я всё же так не поступаю и не уклоняюсь от разрезания собак, волков, рыб и даже крыс и мышей собственными руками. Когда я работаю в своей лаборатории, я не боюсь испачкать рук замазкой или угольным карандашом.
У Ньютона было о чём поговорить с Бойлем. Ведь он, как ему упорно казалось, в своих алхимических опытах уже вплотную подошёл к получению философского камня. А у Бойля была «философская глина» — необходимый для этого компонент. Но он не знал, как отнёсся бы Бойль к такой просьбе, раскрывающей знание его тайных занятий; не знал он и о том, как отнёсся бы Бойль к его тайным занятиям. И разошлись они, как не представленные друг другу члены тайного братства, не поговорив о том, о чём более всего им бы хотелось поговорить.
— И всё-таки, — почти вернувшись, продолжал Бойль, — что стоит за вашими экспериментами по цветам? Как можно было бы, по-вашему, объяснить феномен цветов? Ведь у вас как будто бы нет вообще никакой гипотезы?
— Почему же? — ответствовал Ньютон, слегка задетый тем, что даже Бойль толкует о гипотезах. — Сейчас я пытаюсь поставить капкан на неуловимого зверя — эфир…
Бойль рассмеялся.
— Ну что же, ловите вашего зверя. Хотя в том лесу побывало уже немало других охотников. Гук, например. Да и сам Декарт притаился в кустах!
На следующем заседании, 14 марта, дискуссия о причинах света продолжалась. Гук прочёл мемуар о природе и свойствах света. Теперь он опирался на свои опыты по дифракции. У членов Королевского общества вполне могло сложиться впечатление, что дифракцию открыл именно Гук. Но дифракцию открыл Гримальди, а Гук лишь исследовал её…
Как и Ньютон… Он понял, что отмалчиваться далее нельзя. Наука движется быстро. Всё неизбежно переоткрывается другими. Нужно спешить!
Хотя Гук был всего лишь на семь лет старше Ньютона, он успел ко времени их знакомства сделать необычайно много. В чём-то его судьба напоминала ньютоновскую. Он родился слабым, болезненным, жил без отца. Никто не ожидал, что он доживёт до зрелых лет. Детство и юность провёл в одиночестве, конструируя всевозможные механические приспособления. Как и Ньютон, он увлекался математической магией, солнечными часами, водяными мельницами. Дом отца — священника на острове Уайт — долго был его единственным пристанищем: из-за слабого здоровья и постоянных головных болей он не смог посещать школу.
Затем он в Лондоне, в знаменитой Вестминстерской школе. Ему повезло — первым его воспитателем стал доктор Бастби, розги которого, выведшие в люди многих великих людей, вошли в фольклор британских университетов.
Всякие занятия перепробовал Гук — мучимый жестокой аллергией на масляные краски, учился у лондонского живописца, имея неразвитый слух, пел в церковном хоре. Наконец он в Оксфорде, сабсайзер, как и Ньютон. Но ещё он и ассистент Уиллиса — одного из будущих основателей Королевского общества. Он познакомился с Джоном Уилкинсом, Уильямом Петти, Кристофером Реном, Робертом Бойлем. Бойль переманил его к себе. Он недавно построил в Оксфорде большую лабораторию. Там Гук вместе с Бойлем занимался усовершенствованием воздушного насоса, изобретённого магдебургским бургомистром Отто фон Герике. Бойль был чрезвычайно строг к себе и доброжелателен к другим. А Гук уже тогда обнаружил худшие стороны своего характера, за глаза обвиняя Бойля в том, что он присваивает многие усовершенствования воздушного насоса, принадлежащие ему, Гуку.
Гук увлекался всем, чем угодно, даже летающими машинами, действующими мускульной силой. Когда он убедился, что человеческие мускулы слишком слабы, чтобы поднять в воздух сколько-нибудь существенный вес, он стал создавать искусственные мускулы.
Там, в оксфордском учёном кружке Гук заинтересовался усовершенствованием часов. И изобрёл невиданное: часы со спиральной пружиной, с балансиром и анкерным механизмом, то есть механические часы сегодняшнего дня. Знакомые Гука настаивали на патентовании; условия патента Гука не удовлетворили, и его изобретение никак не было документально подтверждено. Впоследствии, когда в 1674 году вышла книга «Horologium Oscillatorum» Гюйгенса с описанием часов со спиральной пружиной, Гук утверждал, что секретарь Королевского общества Ольденбург, знавший устройство механизма, сообщил о нём Гюйгенсу. Это и стало началом смертельной вражды между Гуком и Ольденбургом.
Гук был человеком бешеной умственной активности. Он мог свободно рассуждать на любую тему. У него в то же время были и золотые руки, он был способен всё сделать сам, мог самостоятельно провести любой эксперимент. Опыты, которые не получались у самых искусных экспериментаторов, у него проходили с блеском. У него всё работало, всё выходило так, как должно было быть.
Именно этим он снискал к себе глубочайшее уважение членов будущего Королевского общества, и именно этим объясняется их почётное предложение — стать единственным платным сотрудником общества, куратором экспериментов. За казённую квартиру в Грешем-колледже и тридцать фунтов в год он должен был еженедельно показывать в обществе несколько новых экспериментов. Его обязанности были сформулированы так: «Представлять обществу каждый раз, когда оно заседает, три или четыре значительных эксперимента, не ожидая компенсации до тех пор, пока общество само не сочтёт необходимым вознаградить его за труды». (Не забудем, что Гук по социальной табели о рангах того времени был единственным членом Королевского общества, которого нельзя было считать «джентльменом».)
Гук изучал влияние погоды на показания барометра, изобрёл проекционный фонарь, подводный колокол, метод телеграфии, зуборезный станочек для часов. Он открыл вращение Марса и первым обратил внимание на двойные звёзды. Гуку принадлежит идея использовать в качестве нуля температуры точку замерзания воды, которая, как он выяснил, всегда отличается завидным постоянством. Он проверял все сомнительные эксперименты, предлагавшиеся Королевскому обществу, он обеспечил сбор многочисленных фактов и систематизацию явлений, которые потом смогли стать материалом для строительства новой науки. В Королевском обществе он поставил более четырёхсот опытов. И кроме всего прочего, коллекционировал для общества всевозможные редкости и курьёзы, поражавшие его воображение. Он собирал их где только мог, покупал, выменивал, получал в дар, уговаривал подарить или завещать обществу. В музей Королевского общества были, например, доставлены: живородящий страус, растение, выросшее в желудке дрозда, кожа смуглого мавра с седой бородой и волосами; «но более всего достойны описания часы, приводимые в движение магнитом и предназначенные для определения на море расстояний до континентов по долготе».
Пламя лондонского пожара высветило неизвестные ранее стороны его гения. Пожар потребовал вмешательства научных сил. Правительство обратилось в Королевское общество с просьбой разработать план переустройства Лондона, и естественно, в первую очередь эта нелёгкая и почётная задача встала перед Реном и Гуком. Гук был молод, он с необычайным энтузиазмом и энергией взялся за дело. Будучи назначен городским землемером и инспектором строительных работ, он разработал несколько проектов перестройки Лондона, проложив сквозь пепелища и кладбища каминных труб прямые магистрали. Он создал на бумаге Лондон будущего. Этот город был, конечно, невозможен. Широкие проспекты, намеченные им, неизбежно сносили чьи-то дома, вторгались в частные владения, ущемляли чьи-то интересы. К Гуку стала обращаться масса людей, предлагавших взятки. Они были не против магистралей, но хотели бы, чтобы эти магистрали пролегли по другим местам. Гук с негодованием выпроваживал их, но на их место приходили другие визитёры. Гук стал одним из главных архитекторов нового Лондона. Он построил больницу под названием «Бедлам» и королевский лекарский колледж. Он хвастал, что заработал на этом кучу денег, и показывал в доказательство большой кованый сундук.
Гук был весьма общительным человеком, любил проводить время с друзьями в весёлых тавернах (только в его дневниках насчитывается более двухсот их наименований), основывать тайные общества и секретные клубы. Ричард Уоллер предпослал посмертному сборнику научных работ Гука введение, в котором он описал его характер, привычки и внешность. Вот что он пишет: «Что касается его личности, то он отнюдь не был изгоем, хотя был сильно горбат. Я слышал от него и других, что когда-то он был строен — примерно до шестнадцати лет, но с тех пор он стал развиваться неправильно из-за излишнего увлечения гимнастическими упражнениями на турнике… Он остался и низкорослым, хотя, судя по ногам, он должен был бы быть выше среднего роста. Он был активным, неустанным гением, почти до самых своих последних дней спал очень мало, редко ложился спать раньше 3–4 часов утра, притом редко спал в постели; чаще всего он продолжал свои научные изыскания всю ночь, компенсируя это лишь кратким дневным сном. Характер его был меланхоличным, недоверчивым и ревнивым, что с годами становилось всё заметней».
Интеллект невиданной мощи. Благородный характер и романтические порывы, сочетающиеся с подозрительностью, мелочностью, цинизмом, ревностью, обидчивостью. Головные боли, изнуряющие болезни, непрерывный тяжёлый труд. Кто-то сказал, что он жил умирая. Неустроенная семейная жизнь, запутанные любовные истории, всегда заканчивающиеся плачевно, роман с племянницей, угрюмый темперамент, злой язык, нескончаемые обвинения окружающих в том, что они украли у него плоды его труда. И, несмотря на это, — большое уважение, авторитет и, может быть, даже любовь, которыми он пользовался в обществе. Научную работу он, как и Ньютон, рассматривал как своё высшее божественное предназначение. Но бешеная нагрузка Гука в Королевском обществе, неимоверное количество экспериментов, которые приходилось ему подготавливать, не могли позволить ему сосредоточиться на чём-нибудь одном. Он, как бабочка, вынужденно порхал от цветка к цветку, наслаждаясь всё новыми и новыми научными открытиями. Его называли «донжуаном от науки».
Главный труд, который он оставил — «Микрография», — увидел свет в 1665 году. Ньютон приобрёл эту книгу и внимательнейшим образом изучил её, хотя впоследствии, в разгар приоритетных споров, этот факт отрицал.
(Курьёзное свидетельство чтения Ньютоном «Микрографии» — это использование в его первой научной статье понятия experimentum crucis — «решающий эксперимент». Этот термин мог бы показаться знакомым — ещё Ф. Бэкон использовал подобный в «Новой Атлантиде». Но Гук, цитируя Бэкона по памяти, ошибся. Вместо бэконовской instantia crucis — «решающей инстанции», он употребил в сходном смысле словосочетание experimentum crucis — оно-то и перешло в ньютоновскую работу.)
«Микрография» Гука — крупнейшее событие в истории физической оптики. Гук первым изучил цвета тонких плёнок и смог объяснить явления, происходящие в них, с точки зрения своей волновой теории. Он смог объяснить и взаимодействие цветовых волн, он переоткрыл вслед за Гримальди, дифракцию, исследуя искривление света при его прохождении рядом с лезвием бритвы. Построенные им самим микроскопы помогли ему создать приводимые в его «Микрографии» прекрасные иллюстрации строения насекомых и растений. Клеточное строение растений описано им впервые. Его совместная с Гюйгенсом колебательная теория света, по существу — волновая теория, сильно опережала своё время. Должно было пройти по меньшей мере два столетия, чтобы она была оценена по достоинству.
В 1678 году вышла книга «О восстанавливающей силе…», в которую вошли рассуждения Гука, возникшие под впечатлением его многочисленных бесед с известным часовщиком Томасом Тампионом. Здесь дана была, наконец, расшифровка той анаграммы, которую уже в течение трёх лет пытались разгадать коллеги Гука по Королевскому обществу. Три года назад Гук опубликовал странную работу под названием: «Десяток изобретений, которые я намереваюсь опубликовать». Одним из десяти «изобретений» была «Истинная теория упругости и жёсткости». Однако под заголовком было лишь несколько букв, которые можно было бы рассматривать только как заявку на приоритет в том случае, если бы за три года кто-нибудь пришёл бы к тем же, что и Гук, выводам.
Но ненужной оказалась анаграмма, никто за три года не пришёл к тем выводам, и он мог раскрыть свою тайну. Расшифровка анаграммы дала следующий результат: «Каково удлинение, такова и сила». Это как раз то, что вошло теперь в инженерную и строительную практику под названием «закона Гука».
И всё же, несмотря на все эти замечательные заслуги, которые сделали бы честь любому учёному, и даже многим учёным, навсегда внесли бы их имена в пантеон самых великих, Гука практически забыли. Необычайно яркая звезда Ньютона затмила его звезду.
Трудно представить себе двух более различных по научному стилю исследователей, чем Ньютон и Гук. Романтически настроенному, лёгкому на открытия и изменение направления мысли Гуку противостоял несколько медлительный, но пронзительно-зоркий и основательный Ньютон. Ньютоном двигала чистая страсть к познанию, которая не позволяла ему допускать малейших отклонений от научной истины. Любая критика выводила его из себя, повергала его в тревогу и беспокойство, которые он мог погасить лишь яростной атакой на покушающихся. Он готов был испепелить, уничтожить тех, кто мешал пробиться росткам научной истины.
Более чем неудачным сочетанием для этих сторон характера Ньютона были черты личности Гука — ревнивого, обиженного, считающего, что все идеи, которые появляются на горизонте, все эксперименты, выполненные кем-то, были ранее предложены и сделаны им. При этом он часто бывал прав, поскольку проделал собственными руками, как никто, много опытов. Обладая острой наблюдательностью, он обнаружил десятки новых явлений и закономерностей. Не имея, однако, времени остановиться на каждом из них, он шёл всё дальше и дальше, к новым явлениям и новым законам, как беспечный завоеватель, не оставляющий на покорённых землях ни своего флага, ни вооружённых фортов; те, кто шёл за ним, всегда рисковали получить обвинение в плагиате, но и всегда могли его оспорить, поскольку осваивались на новых землях основательнее.
Будущему неизбежному конфликту Ньютона и Гука способствовало и их различное положение: изолированно живущий в научной пустыне Кембриджа, ничем, кроме науки, не озабоченный Ньютон, имеющий возможность погрузиться в самые глубокие слои научного исследования, способный сосредоточиться на любом факте и явлении, покуда они не становились для него кристально ясны, пока он не мог объяснить их с помощью выдвигаемых им обоснованных гипотез, пока он не мог подтвердить свои прогнозы с помощью специально поставленных экспериментов. Всё, что он делал, он делал основательно, точно, раз и навсегда.
С другой стороны, вечно спешащий Гук, в суете изготавливающий всё новые и новые приборы для Королевского общества, подготавливающий в неделю 3–4 новых эксперимента, порой очень сложных, не способный присесть, сосредоточиться или даже собрать свои рассеянные наблюдения в нечто целое, не способный уточнить свои же данные. То, что другие шли по его стопам и, как ему казалось, присваивали себе открытое им, повергало его в неисчислимые страдания. Их слава больно ранила его.
И всё же было между ними сходство, была тоненькая ниточка, которая могла бы их соединить, будь они немножко другими. Это сходство их стремлений создать модель Вселенной, построенной на вполне объяснимых принципах механики, материи и движения, и заменить наконец этой системой систему Аристотеля. Оба они считали целью науки открытие и классификацию явлений, оба они стремились извлечь из науки пользу для практики. У них было много общего и в научном методе. В предисловии к своей «Микрографии», посвящённой Королевскому обществу, Гук заявлял:
«Правила, которые вы предписали себе для развития философии, являются лучшими из всех тех, которым когда-либо следовали. В особенности в том, чтобы избегать догматизации и исключать гипотезы, которые недостаточно обоснованы и не подтверждены опытом. Этот путь кажется наилучшим и должен предохранить как философию, так и естествознание от их прежнего извращения. Так заявляя, я тем самым обвиняю, может быть, и собственный подход к этому сочинению. В нём, может быть, найдутся выражения, которые кажутся более утвердительными, чем позволяют ваши предписания…»
Как характерно признание Гука, проглядывающее в последних строчках отрывка! Оно относится к волновой теории света, которая ничем не могла быть тогда подкреплена и доказана, кроме того, что она не противоречит, как и корпускулярная доктрина Ньютона, некоторым экспериментам… Их спор предстояло разрешить лишь далёким потомкам.
В написанном Гуком продолжении «Новой Атлантиды» Бэкона есть строки о его научном идеале. Он хотел бы сделать как можно больше новых научных открытий с целью их немедленного практического применения. У Ньютона же практические применения открытий всегда были укутаны лёгкой дымкой перспективы. Даже занятия Гука принципом тяготения имели чёткую практическую направленность: с его помощью он хотел решить проблему определения точной долготы на море. Ньютон же, решая загадку тяготения, больше думал о Системе Мира.
Ньютон — упорный труженик — никогда не отвлекался от темы, пока не исчерпывал её до конца. Если он и думал в это время о чём-то другом, он считал это для себя отдохновением, дивертисментом. Ньютон провёл, возможно, лишь пять или шесть экспедиций в страну неведомого, в то время как Гук провёл их многие сотни. Но Ньютон каждый раз возвращался с весьма основательным научным багажом, с коллекциями, законами, картами, шкурами зверей и семенами злаков. Всё доставленное им сохранилось на века. От Гука остался лишь закон Гука. Рукописи Гука после его смерти попали в руки Ричарда Уоллера, который, публикуя их, посвятил их — кому бы? — Исааку Ньютону. После смерти Уоллера остатки рукописей Гука перешли к Уильяму Дерхаму, другу Ньютона, который опубликовал часть их в 1726 году. Большинство бумаг Гука безвозвратно исчезло. Лондон перестроился таким образом, что следов проектировки Гука в его улицах и площадях не осталось. Бедлам, спроектированный им, срыли. Инструменты, которые он своими руками построил для Королевского общества, были или украдены или развалились со временем — ничего не осталось. Не сохранилось ни одного портрета Гука, хотя точно известно, что они существовали. Потеряна его могила, неизвестно даже кладбище, где он похоронен.
Причина столь яростной оппозиции Гука по отношению к статье Ньютона вполне ясна и объяснима: и доктрина Ньютона, и гипотеза Гюйгенса-Гука не могли быть в то время строго доказаны. Корпускулярно-волновой дуализм света — мирное решение споров Гука и Ньютона, принадлежит лишь двадцатому веку. И Гук, и Ньютон были каждый по-своему правы. Но вот оно — отличие таланта от гения: если Гук насмерть стоял на своей волновой гипотезе, то Ньютон признавал и корпускулярную и волновую, надеясь даже создать компромиссную теорию.
Гении видят на сотни лет вперёд.
Бесконечная тяжба с оппонентами выбивала Ньютона из колеи. После первого опыта он не мог больше писать о цветах. Но понимал, что для поддержания своей позиции в Королевском обществе, ему нужно было бы представить туда какой-то новый мемуар. Ньютон стал собирать сохранившиеся наброски. Просмотрев их, он решил кое-что добавить, что заняло несколько дней. Викинса засадил за переписку. В результате появились две работы: «Трактат о наблюдениях», который стал зародышем второй части будущей книги «Оптика», и «Гипотеза, объясняющая свойства света, изложенные в нескольких моих статьях».
В сопроводительном письме Ньютон пытался разъяснить изменение своей позиции.
«Сэр, когда-то я обещал никогда не обнародовать гипотез о свете и цветах, боясь, что это послужит средством вовлечения меня в пустые споры; надеюсь, однако, что провозглашённое мною ранее решение не отвечать ни на что, похожее на возражения… всё-таки сможет защитить меня от этой опасности.
…Я счёл, что подобная гипотеза сделает значительно нагляднее тот мемуар, который я Вам обещал; как раз на этой неделе у меня выдалось свободное время, и я не удержался, наскоро собрал свои мысли и добавил гипотезу, не заботясь о том, покажется ли она возможной или невероятной…
…По перечёркиваниям и вставкам между строк Вы можете видеть, что гипотеза набросана наскоро, и я не имел времени её переписать, что заставляет меня оставить за собой право сделать добавления; я хотел бы также, чтобы Вы вернули мне как эту, так и другие статьи по миновании надобности…»
В очередном письме Ольденбургу, поясняющем подробности одного из опытов (стекло при опытах по электричеству должно быть ближе к столу, чем он утверждал ранее), содержится примечательная приписка.
14 декабря 1675 года
«…Прошу передать мой почтительный привет г. Бойлю, если Вы его увидите, и поблагодарить его за беседу, которой он меня удостоил этой весной. Моя идея поймать эфир в западню, как ему угодно было выразиться, думается мне, не так смешна, как ему казалось…»
В «Гипотезе» Ньютон впервые делится своими мыслями о внутренней структуре материи и устройстве природы.
Прежде всего он решил показать своему основному оппоненту — Гуку, что корпускулярная доктрина вовсе не противоречит его вибрационной гипотезе. «Гипотеза о телесности света, если бы я предлагал таковую, имеет значительно большее родство с собственной гипотезой оппонента, чем это ему, по-видимому, известно; колебания эфира полезны и необходимы и в той и в другой. Ибо, если предположить, что лучи света являются малыми телами, испускаемыми во все стороны светящими субстанциями, то лучи эти, ударяясь о преломляющую или отражающую поверхность, должны бы возбуждать в эфире колебания столь же необходимо, как камни в воде, когда они в неё брошены».
Речь идёт не более не менее как о компромиссной, корпускулярно-волновой теории света!
«Если бы мне пришлось принять какую-нибудь гипотезу, — продолжает автор, — я выбрал бы эту, но высказанную в более общей форме, без определения того, что такое свет, кроме того, что он есть нечто, способное возбуждать колебания в эфире…» «Я заметил, — пишет далее Ньютон, — что головы некоторых великих виртузов очень склонны к гипотезам… Сам я не буду принимать ни этой, ни какой-либо другой гипотезы… Однако, излагая гипотезу, во избежание многословия и для более удобного представления её, я буду иногда говорить о ней так, как будто бы я её принял и верю в неё».
Какова же эта гипотеза? Прежде всего предполагается, что «существует некая эфирная среда, во многом имеющая то же строение, что и воздух, но значительно разреженнее, тоньше и эластичнее. Немаловажным аргументом существования такой среды является то, что движение маятника в стеклянном сосуде с выкачанным воздухом прекращается почти столь же быстро, как и на открытом воздухе. Нельзя, однако, предполагать, что эта среда есть однородная материя: она складывается частью из основного косного тела эфира, частью из других различных эфирных газов во многом подобно тому, как воздух слагается из косного тела воздуха, перемешанного с различными парами или выдыханиями. В пользу такой разнородности, по-видимому, говорят электрические и магнитные истечения, а также тяготение. Может быть, общий остов природы не что иное, как различные сплетения некоторых эфирных газов или паров, конденсируемых как бы осаждением, подобно тому, как пары сгущаются в воду, или выдыхания в более грубые субстанции, хотя и не столь легко».
В существовании эфирной среды Ньютона убеждает не только неверно истолкованное им затухание колебаний маятника в вакууме — в этом Ньютона убеждают магнитные и электрические явления, оказывается, тоже исследованные им.
Ньютон, признавая эфир, тем не менее категорически отказывается от мнения Гука и Декарта, предполагающих, что колебания эфира — это и есть свет. «Свет не эфир, не его колебательное движение, но нечто иное, распространяющееся от светящихся тел. Желающие могут предполагать его агрегатом различных перипатетических свойств. Другие могут предполагать, что свет — множество невообразимо малых и быстрых корпускул различных размеров… Некоторые просто сочтут это начало духовным, хотя можно указать и механическое начало; но я предпочитаю обойти этот вопрос… Во избежание пререканий и для общности гипотезы пусть каждый останется при своём. Чем бы ни являлся свет, я предполагаю, однако, что он состоит из лучей, отличающихся один от другого по таким случайным признакам, как толщина, форма или сила, подобно тому как отличаются песчинки на берегу, морские волны, лица людей и все другие естественные предметы того же рода. Почти невозможно найти среди вещей одного рода вещи без какого-либо случайного отличия».
Почему же Ньютон отходит от «колебательно-эфирного» направления? Видимо, он слишком категорично разделял природу звука и света. Полагая колебания эфира продольными, как при звуке, он естественно приходит к выводу о том, что, «если бы свет был колебанием эфира, он должен бы всегда сильно расходиться по кривым линиям в тёмную или покоющуюся среду, нарушая все тени и направляясь по кривым порам или проходам, как звук». Ньютона всё же мучают сомнения. Не всё укладывается в его схему. Например, в каждом прозрачном теле, по мнению Ньютона, имеются поры различных размеров, а «…эфир находится в наибольшем разрежении в наименьших порах; поэтому эфир в каждой поре должен обладать различной разреженностью, и свет должен преломляться при переходе из каждой поры в соседнюю, что должно привести к рассеянию и уничтожению прозрачности тела…».
С помощью «гипотезы» Ньютон смог объяснить многие (но не все) явления, связанные с преломлением, отражением, прозрачностью и непрозрачностью тел. Теперь настала пора объяснить цвета. «Тела различных размеров, плотностей или качеств при ударе или другом действии возбуждают звуки различных тонов, а следовательно, и колебания в воздухе различных толщин».[21] Я предполагаю также, что лучи света, ударяясь о жёсткую преломляющую поверхность, возбуждают колебания в эфире. Эти лучи, что бы они собой ни представляли, различаются по величине, напряжению или силе и возбуждают колебания различных толщин… Концы волосков оптического нерва, которыми вымощена или облицована сетчатка, являются преломляющей поверхностью такого рода. Когда лучи ударяются об эти волоски, они должны возбуждать там указанные колебания. Эти колебания (подобно звукам рога или трубы) будут пробегать вдоль водянистых пор или кристаллических сердцевин волосков, через оптические нервы в чувствилище (сам свет сделать этого не может). В чувствилище, предполагаю я, они вызывают чувство различных цветов, соответственно своей толщине и смешению… Возможно, цвета различаются по своим главным степеням: красной, оранжевой, жёлтой, зелёной, синей, индиго и глубоко-фиолетовой на том же основании, как звук в пределах октавы располагается по тонам…»
Ньютону удаётся, используя, по существу, волновую теорию света, объяснить возникновение колец, видимых между пластинкой и плотно прижатой к ней линзой, называемых сегодня «кольцами Ньютона». В своём объяснении Ньютон, по существу, анализирует движение волн в упругой среде, правда, он считает их продольными, подобно звуковым.
Мемуар Ньютона полон намёков — в некоторых фразах явно угадываются идеи, связанные с его будущим законом всемирного тяготения. Здесь есть и распространение законов тяготения на Солнечную систему в целом, и тщательно скрытый, но понятный посвящённым закон обратных квадратов. Касается Ньютон и причин тяготения. Он считает, что оно вызывается непрерывным током эфира к Земле.
Эта статья Ньютона — пир гипотез, во время которого главный герой этого пира то и дело провозглашает себя аскетом и трезвенником. Затея Ньютона, однако, не удалась. Его «ход конём» — засталбливание гипотез при провозглашении полного отказа от них — был легко разгадан. И, следовательно, диспута избежать, конечно, не удалось. Прочитанная статья сразу же вовлекла Ньютона в бешеный водоворот страстей, споров, возражений и обвинений. Статью читали два дня — 9 и 16 октября 1675 года, и затем обсуждали на двух встречах после рождественских каникул, а мемуар «О наблюдениях» обсуждался с 20 января до 10 февраля. Два месяца внимание общества было приковано целиком к Ньютону. Статьи вызвали в Королевском обществе большой переполох. Несмотря на то что Ньютон весьма деликатно обошёлся с Гуком и его гипотезой, Гук никак не был удовлетворён. Он считал, что Ньютон покушается теперь на открытое лично им явление дифракции и на его вибрационную теорию. И это имело самые плачевные последствия.
Новая статья Ньютона опять поступила на отзыв Гуку. Он снова высоко отозвался об экспериментальном мастерстве Ньютона, но не удержался от того, чтобы не присоветовать ему бросить заниматься бесполезными исследованиями и оставить поле экспериментов по цвету тем, кто уже разработал тонкие и удовлетворяющие экспериментам гипотезы. Он рекомендовал Ньютону лучше заняться усовершенствованием телескопа. Это было бы чрезвычайно полезным и важным для общества. В отзыве и явно, и неявно проскальзывала мысль о том, что всё сделанное Ньютоном было ранее проделано им, Гуком.
«16 декабря 1675 года продолжалось слушание гипотезы Ньютона… Господин Гук сказал, что всё основное, о чём говорилось, уже содержится в его «Микрографии» и что мистер Ньютон немного продвинулся вперёд только в частностях».
Мемуар Ньютона был отклонён и не рекомендован для публикации.
Отзыв Гука поступил в Совет общества тайно от Ньютона, но Ольденбург тут же сообщил ему, что таковой отзыв имеется, и более того — точно передал его содержание. Предчувствуя добрую ссору, Ольденбург потирал руки. Он советовал Ньютону защищаться. В своём письме Ньютону он нарисовал положение даже несколько более мрачными красками, чем оно было в действительности.
Ньютон не был расположен к спору. Понимая, что Гук разозлился на него в основном за то, что он не принял его гипотезы, Ньютон в своём ответе написал, что гипотеза Гука столь же соответствует ньютоновским экспериментам, сколь и любая другая, и он не может отдать предпочтения ни одной из них. Только поэтому он вынужден отбросить их все.
Нечего и говорить, что о письме Ньютона Ольденбург тут же оповестил Гука. Гук, ознакомившись с ответом, ещё более озлобился. Пользуясь тем, что Ньютон наезжает в Лондон редко и живёт в тиши кембриджского уединения, а он бывает в Королевском обществе каждый день и фактически им управляет, он убеждал членов общества в том, что Ньютон украл все свои идеи из книги «Микрография».
Видя, что общество начинает наводняться чужаками, такими, как Ньютон, Гук решил создать внутри его узкий секретный кружок лиц, с которыми можно было бы проводить в обществе определённую политику. Именно там, на заседании тайного кружка, была без Ньютона обсуждена его теория цветов.
11 декабря 1675 года
«Здесь, в кофейне Джо, мы начали новый клуб. Господин Хилл Хоскинс, Лодовик и я, а также господин Обри рассуждали насчёт новой гипотезы господина Ньютона».
Через две недели кружок превратился в «Новый философский клуб», члены которого обязались «никому не говорить о том, что здесь было раскрыто, никому не говорить о том, что мы вообще имели какую-либо встречу». В клуб вступил и сэр Кристофер Рен, тем самым придав ему большой вес.
Снова и снова члены клуба возвращались к статьям «господина Ньютона». Из дневника Гука: «Обсуждали последние статьи господина Ньютона. Я показал, что господин Ньютон использовал мои гипотезы об импульсах и волнах».
Несмотря на засекреченность нового клуба, Ньютон всё же вскоре узнал о тайном «конклаве» и обвинениях Гука.
10 января 1676 года
«Сэр, я Вам обязан за Вашу прямоту, заключающуюся в том, что Вы знакомите меня с инсинуациями мистера Гука… Единственная вещь, которую я написал и о которой он может сказать, что она взята из его гипотезы, — это способность эфира вибрировать… Утверждения о том, что эфирные вибрации — это свет, принадлежит ему, но то, что сам эфир может вибрировать, — это (я полагаю) взято из фонтана, находящегося повыше; то, что эфир — более тонкая материя, чем воздух, и что воздух есть вибрирующая среда, — это известные принципы, которым я и следую. Я бы хотел, чтобы мистер Гук показал мне, что пусть не вся сумма гипотез, которые я выдвинул, есть инсинуация, но хотя бы часть из них взята из его «Микрографии»; но тогда я также ожидаю, что он покажет, что является его личным вкладом… К вещам, которые я заимствовал у Декарта, пожалуйста, добавьте ещё и то, что все части твёрдых тел имеют колебательные движения; иначе он будет говорить, что я взял у него и то, что я говорю о тепле, и то, что он сам заимствовал из Декарта…»
И Ньютон, и Гук видели, что развитие событий приобретает неблагоприятный оборот не только для их личных отношений, но и для развития философии. Гук первым протянул руку дружбы.
«Мне кажется, что и Ваши и мои работы направлены к одной цели, а именно к раскрытию истины, и я полагаю, что мы должны выслушивать взаимные возражения, пока и поскольку они не переходят в выражение открытой вражды. Наши с Вами головы равно настроены на то, чтобы получать самые точные выводы причин из эксперимента. Если бы, таким образом, Вы выразили бы желание обмениваться со мной соображениями о подобных материях посредством частной переписки, я бы с радостью принял это… Я признаю, что столкновение двух соревнующихся, каждого из которых довольно трудно победить, может произвести свет, даже если их столкнули за уши лоб в лоб чужие руки, чужие инициативы и чужие намерения. Но подобное столкновение скорее произведёт не свет, а нездоровую жару…»
«Я ничего более не желаю, чем избежать в вопросах науки всякого дальнейшего состязания, которое может иметь место в печати, и поэтому я с радостью принимаю Ваше предложение о частной переписке. То, что делается перед многими свидетелями, редко оканчивается только поисками истины; а то, что имеет место между друзьями в частном порядке, больше заслуживает названия консультации, чем состязания. И я надеюсь, что именно это и будет между Вами и мной».
«Я искренне ценю Ваши замечательные умозаключения, я сужу по ним, что Вы пошли в этом деле гораздо дальше, чем я. Считаю, что для исследования этого предмета невозможно было бы найти более подходящего и более способного человека, чем Вы».
«Вы переоцениваете мои возможности по исследованию этого предмета…»
Завязалась переписка. Гук пытался убедить Ньютона в том, что многие вещи были сделаны им раньше и были бы доведены до необходимой степени совершенства, если бы не его обременительные обязанности, если бы он только имел на это время. Это была правда, но не в этом была сейчас суть. Суть была в одном — кто прав?
Один из исследователей науки того времени сравнил Гука и Ньютона в этой переписке с двумя деревенскими парнями, неумело размахивающими друг перед другом шляпами с перьями и в поклоне говорящими друг другу комплименты. О, если бы научные споры можно было решить по договорённости! За всем этим внешним политесом стояли и булавочные уколы, и едкие замечания. Гук и Ньютон в принципе не могли примириться, имея на двоих всего одну научную истину.
Во имя возможного примирения Ньютон покривил душой, признав большой вклад Гука в оптику. На самом деле он так отнюдь не считал, и в строках его знаменитого письма от 5 марта 1676 года можно увидеть скрытую издёвку.
«То, что сделал Декарт, было хорошим шагом. Вы многое добавили к нему в некоторых отношениях, и особенно, сделав предметом естественнонаучного рассмотрения цвета тонких плёнок. Если я видел дальше, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов».
Последняя фраза, часто цитирующаяся в ньютониане, обычно вырывается из контекста и тем приобретает несколько искажённый смысл.
…Когда-то средневековый учёный монах Бернард Шартрский сравнивал своих современников с карликами, вскарабкавшимися на плечи гигантов. Он говорил, что они видят дальше и больше, чем их предшественники, не потому, что сами имеют больший кругозор, но потому, что вознесены мудрецами древности на высоту их гигантского роста. Взятая в её первоначальном виде и смысле, эта фраза, как видно, имеет апологетический характер, призывает к догматизму. Приглаживая образ Ньютона, многие позднейшие исследователи считали, что фраза о карликах, стоящих на плечах гигантов, у Ньютона означает его уважение и благодарность по отношению к его предшественникам-гигантам. К сожалению, эта черта совершенно не свойственна Ньютону. В этом можно легко убедиться, открыв любую его работу. Если вникнуть в контекст переписки Ньютона и Гука тех времён, фраза никак не может означать того, что за ней обычно видят. В лучшем случае это — двусмысленность. В худшем случае, который многим исследователям представляется наиболее вероятным, эта фраза — издевательская, учитывая малый рост горбуна Гука.
…С 1675 года Ньютон не посылал в Королевское общество ни одной статьи по оптике и по цвету, хотя и продолжал активно заниматься этим. Его интересовали вопросы преломления лучей в тонких пластинках, дифракция, двойное преломление в кристаллах исландского шпата. У него накапливался большой материал, который он никак не мог сейчас опубликовать. Ему мешал Гук, ему мешало непонимание Королевского общества и учёных в других странах. Он должен был ждать.
24 октября 1676 года
«…Частые отвлечения от работы, которые сейчас стали происходить из-за разных писем, полных возражений и прочего, сильно мешают мне в работе и заставляют обвинять себя в неблагоразумии, поскольку в охоте за тенью я пожертвовал истинно ценной вещью — своим покоем…»
С Ньютона начинается эра полной зрелости человеческого ума.
Если бы не Галлей, эта работа, по всей вероятности, не была бы задумана; а если бы была задумана, то не была бы написана; а если бы была написана, то не была бы напечатана.
Шёл август 1684 года. Время было неспокойное. Галлей привёз в Кембридж тревожные слухи. Поговаривали, что короля Карла II хватил удар. Его старательно лечили: ставили банки, дважды пускали кровь, давали рвотное и слабительное и затем, после того как стало лихорадить, заставили принимать порошки и подвергли операции на голове. («Правда, не такой кардинальной, как его отца», — шёпотом добавил Галлей.) Ещё раз пустили кровь. Близкий конец был очевиден. Будущее вновь стало неопределённым. Недавно исчезнувшая с неба комета, комета 1682 года, которую позже назовут именем Галлея, предсказывала бедственное — disaster, что следовало из самого этого слова, происходившего от астрологического: «зловещая звезда».
Галлей привёз только что выпущенную Королевским обществом книгу «Cometomantia» — отклик на комету, попытка подвести научную базу под кометные несчастья. «Если признать, что кометы загрязняют и воспламеняют воздух, а также истощают сок Земли, то отсюда логически вытекает, что они служат причиной бесплодия почвы, порчи и высыхания её плодов, а это, естественно, ведёт к смерти, голоду и нужде. И в качестве неизбежного следствия всего этого мы должны ожидать болезней, моровых поветрий, смертей и особенно внезапных кончин многих великих мира сего, ибо таковые ранее и легче других становятся жертвами, поскольку изысканность их стола и роскошный образ жизни, а иногда также великие заботы и бдения, ослабляющие и изнуряющие их тело, делают их более подверженными, нежели подлый люд».
Не грозит ли комета грядущим появлением папистов, домашних алтарей и католических крестов? Не зажгутся ли новые костры, не восстанут ли старые плахи, не зазвенит ли над новыми шеями остро наточенный топор?
Галлей, однако, приехал не затем, чтобы показать пророческую книгу и рассказать о тревожных слухах. Он рассчитывал получить у Ньютона ответ на давно уже мучающий его вопрос: какова была бы орбита этой злосчастной кометы или вообще какого-либо небесного тела, если бы притяжение к Солнцу подчинялось закону обратных квадратов?
Кометы и их небесные пути имели в жизни Галлея особый смысл и значение. Высокий, худощавый сын лондонского мыловара был на четырнадцать лет моложе Ньютона. Он с детства льнул к окуляру телескопа и знал ночное небо не хуже, чем Библию, которую досконально изучил, и именно поэтому во многом и успешно конфликтовал с официальной верой, делая это, однако, менее осторожно, чем Ньютон, — открыто. Галлей заявил о себе как астрономе ещё юношей, когда он составил первые точные карты южного неба. Для этого он, добившись рекомендательного письма Карла II, отправился на остров Святой Елены, Заслуги его были оценены званием «Тихо Браге южного неба». Обладая бурным, порой необузданным воображением, он был способен и на глубочайшие прозрения, и на беспочвенные фантазии: он был убеждён, например, в том, что внутри Земли обитают люди. Он был храбр — сам испытывал изобретённый им водолазный колокол; остроумен — определял относительные площади английских графств, взвешивая на весах их вырезанные по карте изображения, а возраст Земли — по изменению солёности Мирового океана. Талантлив — он был у основания космологии, геофизики, океанографии, метеорологии, демографии. Он был одновременно учёным-филологом (арабистом) и морским волком. Но что больше всего его интересовало, что задевало его воображение, бросало вызов его любопытству и остроумию и что — единственное — в конце концов прослабило его имя на века — это кометы.
Он увлёкся ими, будучи в Париже. Шёл 1680 год, ему исполнилось двадцать четыре. Директор Парижской обсерватории Джованни Кассини дал ему расчёты орбиты сиявшей в то время в парижском небе большой кометы. Комета, по мнению Кассини, двигалась по круговой орбите, как и планеты. Галлей же считал, что Кассини неправильно определил путь кометы: она движется уж, конечно, не по кругу.
А по прямой линии! Галлей сравнивал результаты наблюдений парижских астрономов со своими расчётами. И — безнадёжно запутывался. Можно было добиться совпадения практически любых двух точек из наблюдённой и вычисленной орбит, но тогда все другие точки расходились, причём в беспорядке. Это, казалось, подтверждало старое астрономическое поверье: кометы — это вестники небесного беспорядка, вещающие о переменах времён и состояний.
Придерживаясь мнения о том, что кометы движутся по прямой линии, Галлей как бы «выпрямил» суждение помощника Тихо Браге — Иоганна Кеплера, пражского придворного математика, волшебника и музыканта.
Орбиты планет, по мнению Кеплера, не окружности, а эллипсы; расстояние от Солнца и скорость их подчинены законам музыкальной гармонии, музыке сфер. В стройной системе, созданной богом-математиком, космические бродяги-кометы оставались неприкаянными странницами, кочующими по своей воле, без определённой судьбы. Они нарушали мировой порядок и в стройной полифонии Кеплера звучали отвратительным диссонансом. Стремясь устранить это впечатление, Кеплер решил, что путь кометы напоминает путь ракеты при фейерверке: она вспыхивает и разгоняется, а потом падает, — долгий прямолинейный участок оканчивается резким снижением. Тогда, учитывая неточность измерений Кеплера, пути комет сходились с расчётом.
— Если они и не выглядят прямыми линиями, — убеждал Кеплер, — это объясняется лишь движением Земли вокруг Солнца. — Тем самым он привлекал себе на помощь великого поляка Николая Коперника, а сопротивляющихся тут же определял в лагерь замшелых сторонников Аристотеля.
Говорить об искривлении пути кометы было в то время равносильно повороту в сторону старых аристотелевских представлений! Каждый, кто решался на такое предположение, автоматически навлекал на себя подозрение в косности взглядов. Прогрессивный Галлей, разумеется, почитал безнадёжно старомодными взгляды гданьского астронома Яна Гевелия, полагавшего, что пути комет «никогда не бывают столь безупречно прямыми, как настаивают Кеплер и другие».
Комету, за которой охотился Галлей в 1682 году, видели многие на Земле, но редко кто видел её дважды — как позднее показал сам Галлей, она, возвращаясь, появляется над Землёй раз в 75–76 лет. Её видели в Китае почти за две тысячи лет до Галлея, её видел юноша Юлий Цезарь, она изображена на вышитом дамами одиннадцатого века знаменитом гобелене, где есть надпись: «Дивятся звезде» — там король Гарольд сидит на троне в ожидании своей грядущей неизбежной погибели в битве при Гастингсе. Её видел Джотто и изобразил на фреске в Падуе, предположив, что комета — это Вифлеемская звезда, в сиянии которой поклонялись мальчику Иисусу волхвы. Её видели в разное время и Христофор Колумб, и Леонардо да Винчи, и королева Елизавета I. Иногда голова её была круглой и величиной с бычий глаз, и от этой головы отходил павлиний хвост, простиравшийся на треть небесной тверди.
Галлей наблюдал за этой кометой в ранние утренние часы в своей домашней обсерватории в Айлингтоне. Как бы предчувствуя её грядущую роль в своей жизни, он покидал супружескую постель во время медового месяца и наводил телескоп на косматое чудище. Его наблюдения не подтвердили «прямолинейной» гипотезы.
Оставалось обратиться к Ньютону.
— Эллипс, разумеется, — ответил Ньютон и добавил: — Я вычислил это. У меня где-то есть доказательство. — И пошёл рыться в кипах бумаг, заполнявших стол.
И тогда Галлей поразился ещё больше. Но он поразился не тому, что орбиты комет должны быть эллиптическими — об этом догадывались многие; он сам размышлял об этом и временами приходил к тому, что они могут быть сильно вытянутыми эллипсами. Галлея поразило замечание Ньютона о том, что он
—
Об историческом визите Галлея к Ньютону не сохранилось документов. Ньютон нигде не записал о нём и не отразил его в своих письмах. Всё, что мы знаем об этой встрече, известно из писем Галлея Ньютону той поры, из заметок Ньютона времён спора его с Лейбницем в 1713 году, и из его воспоминаний, сделанных в весьма преклонном возрасте. Это с его слов рассказал впоследствии Кондуитт о знаменитой встрече. Историк же Б. Коэн, занявшийся реконструкцией встречи, выяснил одну интересную деталь. Вряд ли беседа проходила так, как её описывают, вряд ли Ньютон имел доказательство и вряд ли случайно он не нашёл его в своих бумагах.
Дело в том, что такого доказательства существовать просто не может. Под действием силы, падающей с квадратом расстояния, небесное тело совсем необязательно должно двигаться по эллиптической орбите. Его путь может быть прямолинейным, направленным к центру силы, или же криволинейным; он может быть и кругом, и эллипсом, и параболой, и даже гиперболой — любым коническим сечением.
Скорее всего неправильно передано содержание вопроса Галлея. Скорее всего Галлей спросил Ньютона следующее: «По какому закону должна была бы изменяться сила, если бы небесное тело двигалось по эллиптической орбите?»
Галлея в данный момент необычайно интересовала связь формы орбиты небесного тела с силой, удерживающей его на ней. Изучив гармонические пропорции Кеплера, Галлей решил, что центростремительная сила при круговой орбите должна снижаться пропорционально квадрату расстояния.
Он не помнил, когда это произошло, какого числа. Но была среда — это он помнил точно, — когда он, Галлей, повёл Кристофера Рена и Роберта Гука в кофейню и там поведал им о своём открытии. Рен стал было горячо обсуждать речи Галлея, но Гук неожиданно заявил о том, что он давно уже знает этот принцип и что с помощью этого принципа можно определить законы небесных движений, что, кстати, им, Гуком, уже и сделано.
И кое в чём Гук был прав.
Год 1666-й, год чумы, год необычайно яркого взлёта таланта Ньютона, был удачным и для Гука. В марте того года Гук рассказывал в Королевском обществе о возможных экспериментах с силой тяжести, призывая к численной оценке изменения этой силы. А уже в мае он прочёл сообщение «Об искривлении прямолинейного движения под влиянием притягательной силы».
Видно было, что Гук всерьёз размышляет о тяготении и его законах. Об этом свидетельствует и представленная им в 1674 году работа «Попытка доказать движение Земли посредством наблюдений». И вот что там было:
«Я изложу теперь систему мира, которая отличается во многих отношениях от до сих пор известных, но которая во всех отношениях согласуется с обычными законами механики. Она основана на трёх предположениях. Первое заключается в том, что все без исключения небесные тела обладают способностью притяжения или тяжести, направленных к центрам, благодаря которым тела не только удерживают свои собственные части и препятствуют им улетучиваться в пространство, как это — мы видим — делает Земля, но, кроме того, они притягивают также все другие небесные тела, находящиеся в сфере их действия; следовательно, не только Солнце и Луна влияют на тело и движение Земли, и Земля на них, но также Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн значительно влияют своей притягательной силой на движение Земли точно так же, как Земля имеет значительное влияние на движение этих тел. Второе предположение заключается в том, что все тела, однажды приведённые в прямолинейное и равномерное движение, продолжают это движение по прямой линии до тех пор, пока какие-либо другие силы не отклонят и не обратят это движение в движение по кругу, эллипсу или другой более сложной кривой линии. Третье предположение в том, что притягательные способности проявляются с большей силой по мере того, как тела, на которые они действуют, приближаются к центру, откуда силы исходят. Каковы же последовательные степени возрастания сил на различных расстояниях, я ещё не проверил на опыте…»
Гуку, однако, недосуг заняться этим исследованием вплотную, он очень занят, у него много обязанностей, Гук продолжает: «Я смею обещать тому, кто преуспеет в этом предприятии, что он в этом принципе найдёт определяющую причину величайших движений, которые имеются во Вселенной, и что его полное развитие будет настоящим усовершенствованием астрономии».
Здесь он оказался провидцем.
Что касается Ньютона, он в конце 1684 года послал Галлею обещанное доказательство. Так и осталось неизвестным, было оно у него раньше или он сочинил его заново.
Сам Ньютон относит визит Галлея к весне или маю 1684 года, а иногда даже и к 1683-му. Но протоколы Королевского общества под датой 10 декабря 1684 года хранят запись сказанного Галлеем сразу после второго путешествия в Кембридж: «Господин Галлей… недавно видел в Кембридже м-ра Ньютона, и тот показал ему интересный трактат «De motu» («О движении»). Согласно желанию г-на Галлея Ньютон обещал послать упомянутый трактат в общество, чтобы включить его в регистрационный журнал».
Речь, очевидно, идёт о втором, ноябрьском визите Галлея к Ньютону.
В конце февраля 1685 года Ньютон письменно благодарил своего старого знакомого Френсиса Астона, теперь секретаря Королевского общества, за то, что тот внёс в регистрационную книгу Королевского общества его «заметки о движении» в качестве доказательства приоритета Ньютона. «Я предназначал их для Вас уже давно, — писал Ньютон, — но проверка некоторых вещей заняла больше времени, чем ожидалось, и в основном оказалась напрасным трудом. А сейчас я отправляюсь на месяц-полтора в Линкольншир. После чего намереваюсь окончить всё по возможности быстро». Письмо было оглашено на заседании Королевского общества. Таким образом первый набросок «Начал», какая-то рукопись, название которой связано с движением, действительно была подготовлена Ньютоном в период между ноябрём 1684 года и февралём 1685 года.
Следующее упоминание о «Началах» встречается в документах Королевского общества лишь через год.
Активная работа над «Началами» доказала Ньютону, что ему уже не обойтись без помощника. Где бедный благородный сосед по комнате Викинс? Нет его, служит где-то в приходской церкви, проклиная, наверное, те дни и ночи, которые потратил он, помогая бескорыстно неугомонному соседу своему. Или благословляет он эти беспокойные ночи и дни?
Ньютон решил выписать себе помощника из Линкольншира, из родных краёв. И при этом человека своего, надёжного, родственного. Мастер Грэнтэмской школы рекомендовал ему лучшего своего ученика, а к тому же и его же собственного родственника — Гемфри Ньютона. С 1685 года Гемфри — основной помощник и переписчик трудов великого сородича. Именно он оставил после себя воспоминания, рисующие Ньютона в 1685–1689 годах, то есть во время создания «Начал» и непосредственно после их выхода.
По его словам, Ньютон в те годы был весьма скромным, любезным и спокойным человеком. Он никогда не смеялся и никогда не раздражался. Всё его существование заполнялось работой. Она была его единственным увлечением. Работая, он забывал обо всём — о друзьях, обычно из колледжа и университета, пришедших по его приглашению на званый ответный ужин, об обеде, дожидающемся его на столе (ему жалко было тратить время на еду), о сне. Он в эти годы спал не более 4–5 часов в сутки, причём засыпал иной раз лишь в пять-шесть утра. Не только «Начала» были тогда предметом его увлечённых занятий. Нет, отнюдь! Скорее наоборот. «Начала» он создавал как бы из-под палки, по необходимости, под давлением Галлея, подвигаемый маячившим на горизонте очередным спором о приоритете. Главное же внимание своё, заботы свои и труд свой обращал он на алхимические занятия. Завершение казалось близким! Не раз бывало, гуляя по своим излюбленным аллейкам в прилегающем к его келье кусочке сада и размышляя над вечными проблемами «Начал», спохватывался он и бежал в свою алхимическую лабораторию. И тогда ночь путалась с днём и утро с вечером — круглые сутки пылали в лаборатории алхимические горны, красно светились в полумраке плавильные тигли, кипели металлы. Ядовитые чёрные дымы, пары ртути, сурьмы, мышьяка облаками окутывали помещение. Дышать было трудно, но Ньютон, казалось, не ощущал этого. Дрожащими пальцами (стали иногда дрожать пальцы) листал он истлевшую, испачканную и прожжённую во многих местах книгу Агриколы «О металлах». Главной целью Ньютона была разгадка тайны превращения одних веществ в другие, тайна трансмутации, раскрытие секрета строения материи. Но забывал ли он при этом о главной цели алхимиков — получении золота?
Нет, никогда! С сожалением, но категорически отвергнем это нелепое предположение. Ньютон был человеком своего времени. Одной из главных его целей, скажем это открыто, было превращение металлов, и золото оставалось постоянным героем его непрерывных поисков. Точно так же, как эликсир жизни — универсальное лекарство и гарантия бессмертия. Точно так же, как и великая тайна строения материи…
Он жил тогда в одиночестве. У него не было ни учеников, ни друзей. Нельзя сказать, что живое общение с людьми заменяли ему книги, — он редко пользовался своей обширной библиотекой. (Мы не говорим сейчас об алхимических руководствах, зачитанных до дыр.) Размышляя, он погружался в себя; натыкаясь на мебель, ходил по комнате. Даже к смерти он был тогда безразличен и не боялся её — однажды он заболел и тяжко страдал, но ни разу страх смерти не испортил настроения ни ему, ни тем, кто посетил его во время болезни, — он оставался абсолютно безразличен к тому, умрёт он или останется жив. Он не знал иного отдыха, кроме перемены занятий. Никогда не ездил верхом, не пользовался своим законным правом на игру в шары на кембриджских зелёных лужайках, не играл в кегли и не занимался каким-либо спортом или гимнастикой. Всякий час, оторванный от занятий, считал потерянным. А времени у него было вдосталь — студенты его лекций почти не посещали. Не найдя в аудитории ни одного слушателя, Ньютон втайне радовался: он ждал ради приличия несколько минут, а затем уносился к своим тиглям, к своему переписчику, уже ожидавшему очередной порции текста.
По мере того как книга обретала плоть, замысел её разросся, значение необычайно выросло. Книга внезапно превратилась для него в главную книгу жизни Opus Magnum, великое творение. И он хотел теперь описать в ней всё, что знал, всё привести в систему, всё постичь и объяснить — от бога до мельчайших частиц, от божественного порядка светил до дьявольского беспорядка, производимого в системе мира кометами. Никто до него не ставил себе подобной задачи и не обладал для её решения необходимым талантом, достойными предшественниками и коллегами, и, наконец, временем. Теперь понукания Галлея стали не нужны — он уже не смог бы отказаться от этого замысла. Работая над книгой, он испытывал особый восторг и наслаждение, подобные тем, что он испытал когда-то в материнском саду в Вулсторпе в страшное время чумы, когда ему всё удавалось, а рядом гулко падали на землю спелые яблоки. Книга стала сейчас главным делом его жизни, и он не смог бы её лишиться. Он полностью изменился, его угрюмый, отрешённый взгляд сменился острым и пронзительным. Щёки его порозовели, он был весел и энергичен. Он не спал ночами, но не уставал. Он находился в необычайно приподнятом состоянии духа, в таком состоянии, которое он не променял бы ни какие другие радости жизни. Даже почерк его изменился — исследователи подметили и это.
Ему нравилось то, что Галлей тоже любит его ещё не родившуюся книгу, относится к ней с той же удивительной страстью. Да, Ньютону всегда больше везло с молодыми друзьями, чем со сверстниками, и одному из молодых — Галлею — суждено было теперь пройти рядом с Ньютоном в качестве его друга почти всю жизнь. Несмотря на свой собственный очевидный талант, Галлей смог тем не менее оценить ещё большее величие таланта Ньютона и поставить свой талант на службу ему. Его доброжелательные и мягкие советы, его сглаженная информация из Лондона были гораздо более приемлемы для Ньютона, чем письма раздувающего огонь Ольденбурга. Галлей полон восторга. Он спешит известить о готовящейся книге всех европейских философов, в том числе германских.
16 марта 1686 года
«…Наиболее из всех остроумный математик и философ господин Ньютон из Кембриджа блестяще изучил эффекты тяготения; его книга об этом находится сейчас в печати. Он показал, что сила тяготения наиболее велика на поверхности Земли и изменяется по простому закону — обратно пропорционально расстоянию от центра… Он показывает, что такая сила существует повсеместно, но больше всего — на Солнце, а также на Юпитере. Он делает заключение о том, что тела, двигающиеся вследствие какого-то импульса, под действием тяготения обязательно описывают круги или эллипсы, параболы или гиперболы в соответствии с величиной приданной им скорости. Среди небесных явлений не найдено ни одного, которое бы в точности не соответствовало этой гипотезе… Более того, он показывает, что такая сила составляется путём сочетания сил бесчисленного множества малых частичек, составляющих тела на Земле, Солнце и так далее, посредством которых они, взаимодействуя, находят одно другое, образуя некоторый союз. Как это можно наблюдать, например, в самых маленьких частичках жидких тел, а именно в каплях ртути или дождя, которые, пока они очень малы, обязательно принимают сферическую форму…»
Грандиозный замысел Ньютона требовал времени и воплощался в рукопись довольно медленно. Во всяком случае, слишком медленно для того, чтобы его не опередили. На этот раз — не в смысле научного приоритета. Господа Уиллоуби и Рэй 25 марта 1685 года убедили Королевское общество издать за его счёт их трактат «История рыб». Через год «История рыб» была отпечатана. Общество уплатило за неё и тем полностью подорвало свой куцый бюджет.
И вот через месяц после этого Галлей, обращаясь к Королевскому обществу, говорит о «несравненном трактате о движении, почти готовом для печати, подготовленном достойным нашим соотечественником г-ном Исааком Ньютоном».
А ещё через неделю, 28 апреля 1686 года, произошло одно из главных событий жизни Ньютона: его «Начала» были представлены Королевскому обществу. В этот великий для Ньютона день его рукопись «Математические начала натуральной философии» была впервые предъявлена миру, и, хотя это была лишь первая часть Opus Magnum, на её титульном листе уже стояло название всей книги.
Председательствовал на заседании Джон Хоскинс, вице-президент, один из друзей Гука. Президент — Сэмюэль Пепис — был у короля, другой вице-президент выехал за город по случаю хорошей погоды. Публики было мало. Книгу представлял доктор Натаниэл Винсент. Он отметил новизну и высокие научные достоинства книги, в которой даётся, по его словам, «математическое доказательство гипотезы Коперника в форме, предложенной Кеплером, и все явления небесных движений выводятся из единственного предположения тяготения к центру Солнца, убывающего обратно пропорционально квадратам расстояний от Солнца».
Сейчас, через триста лет, кажется удивительным, что величайшая книга многих веков прошла через Королевское общество хотя и вполне достойно, с высокими похвалами, но не встретила того восторженного приёма, той высокой оценки, которые получила впоследствии. Правда, говорилось о новизне, об оригинальных методах, о том, что Ньютон привёл так много доказательств и теорем и настолько глубоко проработал предмет, что мало что можно к этой книге добавить, и о том, что любезный автор посвятил книгу Королевскому обществу. Хоскинс отметил в дискуссии, что в данном случае члены Королевского общества имеют уникальный пример того, как огромная тема разработана одним человеком.
Вот здесь-то Гук и не стерпел. Он без обиняков, прямо и решительно обвинил Ньютона в том, что он украл у него закон тяготения. Гук обиделся и на Хоскинса. Ведь Хоскинс, председательствовавший на заседании, прекрасно знал мысли Гука о тяготении, поскольку был ему другом, с которым он не раз делился идеями. А Хоскинс даже и словом не обмолвился о Гуке в своём выступлении! С этого мгновения бывшие закадычные друзья стали заклятыми врагами. После заседания, на котором постановили письменно благодарить Ньютона, а вопрос о печатании книги решить на собрании совета, члены Королевского общества, как это было принято, пошли в кофейню, и там Гук стал убеждать сочленов, что это именно он является первооткрывателем, а не Ньютон. Однако все оказались довольно едиными во мнении, что, несмотря на величайшие заслуги Гука, в данном случае он не может оказаться правым, поскольку никогда не публиковал подобных суждений в печати — книгах или «Философских трудах» и поэтому согласно законам философского мира не может считаться первооткрывателем. Винить в случившемся Гук может лишь самого себя.
19 мая 1686 года в пространных записях Королевского общества появляется лаконичная запись о том, что общество указало, чтобы «Математические начала натуральной философии» Ньютона были отпечатаны in quarto красивыми литерами, мистеру Ньютону было направлено письмо, подтверждающее решение общества и испрашивающее его мнения относительно способа печати, объёма, гравюр и тому подобного.
Но Общество отказывалось печатать книгу за свой счёт: у него не было денег! Единственное, чем оно сейчас обладало, — это нераспроданными экземплярами книги Уиллоуби и Рэя «История рыб».
И тогда Галлей — совсем небогатый Галлей[23] — решил взять все расходы по печатанию книги на себя. Общество с энтузиазмом на это согласилось и великодушно предложило Галлею забрать себе бесплатно пятьдесят нераспроданных экземпляров «Истории рыб» — в качестве компенсации.
Ньютон в это время был в Кембридже. Информацию о заседании Общества прислал ему Галлей. Галлей — миротворец из миротворцев — предложил Ньютону довольно простой способ снять притязания Гука.
22 мая 1686 года
«…Есть ещё одна вещь, о которой я должен Вас известить, а именно: господин Гук имеет кое-какие притязания на открытие закона изменения тяжести, которая затухает пропорционально квадрату расстояния от центра. Он сказал, что Вы заимствовали эту идею у него, хотя признаёт, что демонстрация кривых, которые создаются таким образом, является полностью Вашей. Что из этого правда, а что нет — Вы знаете лучше меня, как знаете лучше меня и то, как поступить в данном случае. Во всяком случае, господин Гук, по-видимому, ожидает, что Вы должны каким-то образом отметить его в предисловии, которое, возможно, Вы сочтёте нужным предпослать Вашему труду… Я должен просить Вашего прощения за то, что именно я посылаю это сообщение, но я считаю своим долгом известить Вас — с тем, чтобы Вы могли действовать соответственно. Сам я полностью убеждён в том, что ничто, кроме величайшего великодушия, которое только можно вообразить, не может ожидаться от человека, который изо всех людей менее всего нуждается в том, чтобы утверждать свою репутацию…»
27 мая 1686 года
«…Существо того, что происходило между г-ном Гуком и мной (до предела напрягаю память), таково. Он настойчиво просил, чтобы я посылал ему ответы на те или иные философские вопросы, и я однажды выразил в своём ответе мнение о том, что падающее тело за счёт непрерывного движения Земли должно перемещаться к востоку, а не к западу, как это обычно считают. И в схеме, поясняющей это, я неосторожно обозначил линию падения тела как спираль, закручивающуюся к центру Земли: это справедливо в сопротивляющейся среде, такой, как наш воздух. Г-н Гук ответил, что тело не будет успокаиваться в центре, а при определённых условиях снова вернётся вверх. Я затем взял простейший для вычислений случай — такой, когда сила тяжести одинакова в сопротивляющейся среде, предполагая, что он получил свои условия с помощью каких-то вычислений, и по этой причине для начала рассматривал простейший случай — и… определил условия настолько точно, насколько мог. Он же ответил, что сила тяжести неоднородна, но увеличивается с приближением к центру в обратной квадратичной зависимости от расстояния от него. И поэтому условие будет иное, чем то, которое я указал… он добавил, что в соответствии с этой квадратичной пропорцией можно объяснить движение планет и определить их орбиты. Вот суть того, что я могу припомнить. Если есть ещё что-нибудь, или что-то не так, я хотел бы, чтобы г-н Гук напомнил бы мне. Но я припоминаю и то, что приблизительно за девять лет до этого сэр Кристофер Рен был у господина Донна, и я в его комнатах дал ему (Рену) полный обзор проблемы определения небесных движений на научных принципах. Это было за год или два до того, как я получил письма Гука. Вы знакомы с сэром Кристофером. Прошу, узнайте у него, когда и от кого он впервые услышал о затухании силы в квадрате расстояния от центра Кеплер знал, что орбиты не окружности, а овалы, и догадывался, что они эллиптические. Точно так же Гук, не зная того, что я открыл со времени его писем ко мне, не может знать более того, что пропорция примерно квадратичная на больших расстояниях; он только догадывался, что это в точности так, и плохо догадался, распространив эту пропорцию до действительного центра, в то время как Кеплер правильно догадался с эллипсом. Итак, Гук сделал менее для пропорции, нежели Кеплер для эллипса».
Ответ Ньютона был резким и недвусмысленным. Он отказывался давать какую-либо специальную ссылку на Гука и указывал, что ссылка на Гука там уже есть в числе многих прочих имён, имеющих касательство к системе мира. Ньютон утверждал, что уж если кто-то и выдвинул до него идею тяготения, то это был не Гук, а Рен.
А уже через несколько дней Галлей послал Ньютону оттиск первого листа книги.
7 июня 1686 года
«Мы думаем печатать её на этой бумаге и этими литерами. Если Вы имеет какие-то возражения, всё можно ещё изменить, а если Вы принимаете, мы будем продолжать… Прошу, просмотрите, пожалуйста, корректуру и пошлите её вместе с Вашим ответом. Я уже смотрел её, но не уверен, что устранил все погрешности… Оттиск этого листа не так отчётлив, как должен быть, но… я видел очень красивую новую книгу с этим набором литер, потому я надеюсь, что издание и в этом отношении удовлетворит Вас».
Но главное в письме не это. Галлей убеждает Ньютона в том, что необходимо обязательно включить в книгу третью часть — с законами небесного движения. Она, по его мнению, носит принципиальный характер. Он считает, что математические результаты, полученные в первой книге, вполне применимы к третьей и доступны нематематикам. Он ни словом не упоминает об одном обстоятельстве, важном для него лично. Ведь он был совсем небогатым человеком. А третья часть сильно увеличила бы тираж и повысила бы число покупателей.
Видимо, претензии Гука сильно задели Ньютона, 20 июня он приводит и новые аргументы.
20 июня 1686 года
«…Борелли кое-что сделал в этой области и скромно об этом написал. Он же (Гук. —
Если уж искать предтеч, считает Ньютон, нужно обратиться к самым истокам, к Гюйгенсу. Гюйгенс показал, как находить силу во всех случаях кругового движения. И, таким образом, честь исполнения принадлежит ему. Неточной догадке Гука, утверждает Ньютон, не поверил бы ни один здравомыслящий философ. А без доказательств подобные догадки не имеют значения.
Не довольствуясь этим, Ньютон хочет решить вопрос радикально:
«…Третью книгу я намерен теперь устранить. Философия — это такая наглая и сутяжная леди, что иметь с ней дело — всё равно что быть вовлечённым в судебную тяжбу… Я знал это раньше, знаю и сейчас и появлюсь рядом с ней не ранее, как она сама подаст мне знак… Две первые книги без третьей, таким образом, не будут называться «Математические начала натуральной философии», и посему я поначалу изменил название на «De motu corporum» («О движении тел»), в двух книгах, но, поразмыслив, оставил прежнее название. Это поможет продаже книг — я не должен ухудшать её: книга принадлежит Вам».
Но не мог он этого сделать — отказаться от третьей части, хотя и пытался отвлечь себя чем-нибудь другим: посадкой яблонь, изготовлением сидра и иными подобными делами. Не мог отказаться и от названия «Philosophiae naturalis principia mathematica» — «Математические начала натуральной философии», которое, конечно, было весьма многозначительным, ибо явно вызывало на поединок труд самого Декарта «Philosophiae principia» («Начала философии»). Он не мог сделать этого ещё и потому, что целиком зависел в издании этой книги от Галлея, не мог подвести его. Слово «математические» должно было остаться, потому что впервые математика столь широко применялась к «натуральной философии», то есть к физике. Кроме того, слово «математические» должно было притупить бдительность церковных цензоров. Математика почиталась занятием неопасным.
Галлей послал Ньютону ответное письмо, где пытался всячески скрасить сложившуюся ситуацию, уговаривал Ньютона не сердиться на Гука. Он опять описывал события памятного дня 28 апреля и пытался изложить всё самым почётным для Ньютона образом.
29 июня 1686 года
«…Я всем сердцем жалею, что там, где всё человечество должно выразить свою признательность по отношению к Вам, Вы встретились с чем-то, что приносит Вам беспокойство или какое-то разочарование, заставляющие Вас думать о предъявлении претензий к леди, чьими знаками внимания Вы по праву можете гордиться. И это не она, а Ваши соперники, завидующие Вашему счастью, пытаются разрушить Вашу спокойную радость, которая… я надеюсь, будет причиной перемены Вашего прежнего решения об отмене Вашей третьей книги… Джентльмены из Общества, которым я сообщил это, очень обеспокоились. Уверен, что Общество весьма польщено той честью, которую Вы оказали посвящением ему столь ценного трактата».
Следующее письмо Галлея содержит объяснение того, как он сам пришёл к закону обратных квадратов. В конце письма он умоляет Ньютона «не возводить обиды до такой степени, чтобы лишить нас Вашей третьей книги, где содержится применение Вашей математической доктрины к теории комет и некоторым интересным экспериментам».
29 июня 1686 года
(Отвечает на просьбу Ньютона — спросить у Рена, от кого он впервые услышал об обратной квадратичной зависимости. —
«…Он ответил, что много лет назад сам размышлял о выведении законов планетных движений посредством совместного рассмотрения расстояния от Солнца и имеющегося уже движения, но что он с той поры это оставил, поскольку не нашёл решения. В то время господин Гук часто говорил ему, что ему удалось это сделать, и пытался объяснить — как, но ни разу не смог представить убедительных доказательств. Но я точно знаю, что в январе 1684 года я сам из рассмотрения полукубической пропорции Кеплера сделал вывод о том, что центростремительная сила обратно пропорциональна квадрату расстояния. Однажды я приехал в среду в город, где встретился с сэром Крист. Реном и г-ном Гуком. И когда мы стали размышлять об этом, господин Гук заверил, что с помощью этого принципа можно объяснить все законы небесных движений и что он уже это сделал… Я же объявил о неуспехе своих попыток, и сэр Кристофер, с тем чтобы поощрить это исследование, сказал, что он даёт мистеру Гуку или мне двухмесячный срок для того, чтобы представить убедительное доказательство… тот из нас, кто сделает это первым, получит от него в подарок книгу стоимостью 40 шиллингов. На что господин Гук сказал, что уже имеет доказательство, но на некоторое время — пока другие пытаются и терпят поражение — припрятал бы его, с тем, чтобы, когда он вынужден будет его обнародовать, все могли бы осознать, насколько это ценная вещь. Однако, помнится мне, сэр Крист был не очень этим удовлетворён, и, хотя г-н Гук обещал показать ему (доказательство), я всё же считаю, что в этом частном вопросе он не был на высоте своего обещания. Следующим августом, когда я имел честь посетить Вас, я узнал добрую весть, что Вы довели это доказательство до совершенства, и были столь любезны, что обещали мне копию, которую в ноябре я с большим удовлетворением получил от г-на Пагета; и для того, чтобы переговорить с Вами об этом, я и предпринял второе путешествие в Кембридж…»
Текст письма свидетельствует: уже Галлей использовал пропорцию Кеплера. Из письма следует также, что Галлей использовал и результаты Гюйгенса относительно центробежной силы; отсюда он и вывел, что при равномерном круговом движении сила должна зависеть от квадрата расстояния. Фраза Гука о том, что с помощью этого принципа можно объяснить все законы небесных движений, скорее всего относится к законам Кеплера. Рен, видимо, назначил премию за математическое доказательство того, что под действием силы, снижающейся пропорционально квадрату расстояния, могут возникать движения и по эллиптической орбите.
Ответ был известен, он, как говорят, носился в воздухе. Но никто не мог представить доказательств.
В ответном письме Ньютон, казалось, пошёл на уступки. Он признал кое-какие заслуги Гука. В частности, Ньютон признал, что в письмах Гука содержалось нечто такое, чего он ранее не знал, — отклонение падающих тел к юго-востоку. Но это, пожалуй, было единственное, что он признавал.
14 июля 1686 года
«…Я придумал сейчас, как разрешить этот спор… считаю, что это будет сделано посредством расширения прилагаемого мною Поучения к четвёртому предположению…»
Новое «Поучение» начинается с параграфа, точно совпадающего с первоначальным, однако имеет знаменательное добавление. После слов «случается в небесных телах» была сделана в скобках приписка: «…как наши соотечественники сэр Кристофер Рен, доктор Галлей и доктор Гук неоднократно наблюдали». Интересно, что сначала, в одном из черновиков имя Гука было поставлено перед именем Галлея. В окончательном черновике Гук шёл после всех. Галлей самовольно поменял в типографии порядок имён и поставил Гука впереди себя, надеясь несколько смягчить грядущий удар.
В письме Галлею Ньютон уточнил, что главная, на его взгляд, заслуга Гука в том, что он раздразнил его, Ньютона, воображение и заставил заниматься предметами, которые его ранее не увлекали.
27 июля 1686 года
«…Хотя его исправления моей спирали и привели к тому, что я нашёл теорему, посредством которой я после этого изучал эллипсы, я не обязан ему никакой идеей, связанной с этим, а лишь тем отвлечением от занятий, которые он мне предоставил, и возможностью подумать об этих вещах…»
Ньютон умаляет заслуги Гука. С. И. Вавилов заметил, что, хотя «Начала» никто, кроме Ньютона, написать бы в то время не смог, следует всё же признать, что исходный план «Начал», их первоначальный набросок принадлежит, без сомнения, Гуку.
Слухи о готовящемся издании ширились и в Англии, и на континенте. Флемстид был уверен, что «Начала» помогут ему в реформе планетарных движений. Признавая приоритет Кеплера, Флемстид утверждал, что Кеплер ничего не смог объяснить. В этом он абсолютно прав. В существовавшей до Ньютона системе механики не было ничего подобного той системе доказательств, которую ввёл Ньютон.
4 ноября 1686 года
«Сейчас в печати находится трактат Ньютона о движении. За этим присматривает господин Галлей, и 13 листов (как он сказал мне) уже отпечатаны. Он (господин Ньютон) оставил идею о вихрях, которые (как он писал мне) разрушат планетные движения и сделают их гораздо более нерегулярными, чем они являются в действительности… Картезианская философия в этой точке опрокинута, а вместо неё мы имеем теперь демонстрационные принципы. Я потерял повод претендовать на открытие… но я бесконечно больше выиграю от той помощи, которую эти открытия принесут мне в реформе планетных движений, так что в минуту скорби я праздную собственную победу…»
Ньютон с той мудрой умеренностью, которая характерна для всех его рассуждений, отмечает, что у него нет претензий объяснить механизм, посредством которого небесные тела действуют друг на друга. Определить форму зависимости их взаимного действия от их относительного положения — это был великий шаг в науке, и Ньютон утверждает, что он сделал этот шаг. Объяснить процесс, посредством которого осуществляется это действие, — совсем иной шаг, и этого шага Ньютон в своих «Началах» и не пытался сделать.
Трактат «De motu», предшествовавший «Началам», состоял из нескольких определений, законов, лемм, а также одиннадцати предположений, представленных в форме четырёх теорем и семи задач. Там были уже и следствия, и поучения. Но «De motu» — это только небольшой шаг на пути к Opus Magnum. Здесь ещё нет основной структуры труда. Многие исследователи считают, что трактат «De motu» совсем не отмечен чертами гениальности. Здесь нет и намёка на величественность грядущих «Начал». Точно так же нельзя считать полноправными частями «Начал» и последовавший за «De motu» труд «De motu corporum» («О движении тел») и лекции, представленные Ньютоном в библиотеку Тринити-колледжа как оправдание его профессорского жалованья. Но в этих трудах видятся ступени совершенствования, шлифовка законов движения.
Интересно, что работа «De motu corporum», как и другие, приведшие в конце концов к «Началам», были продиктованы писцу, а именно — Гемфри Ньютону. Текст писца — первоначальный текст — содержит многочисленные ошибки. Это те ошибки, которые обычно случаются, когда человек диктует: повторение фраз, неверная запись фамилий, географических названий и научных терминов. Затем текст, отработанный писцом, был, по-видимому, просмотрен Ньютоном, поскольку несёт на себе следы его большой правки. В одном из предварительных набросков письма к Вариньону, написанного в 1719 году, Ньютон утверждал: «Начала» были написаны за семнадцать или восемнадцать месяцев, из которых два были заняты разъездами. Рукопись была послана в Королевское общество весной 1686 года, и краткость времени, в течение которого я её подготовил, позволяет мне не стыдиться некоторых ошибок и упущений».
Если под готовностью книги понимать её полную подготовленность для типографии, вместе с гравюрами и выправленным текстом, то тогда истинная хронология, по Коэну, выглядит так: первая книга вместе с определениями и законами движения была сдана в апреле 1686 года, вторая — в марте 1687 года, третья — в апреле 1687 года. Если так, заявление Ньютона о полуторагодичном сроке подготовки рукописи может относиться только к первой книге. Если же под готовностью книги понимать её черновик, годный для переписки и подготовки гравюр, то тогда, как это следует из переписки Ньютона с Галлеем, вторая книга была готова летом 1685 года, а третья, содержащая систему мира (без теории комет), — где-то в апреле 1686 года.
Как бы там ни было, в начале 1687 года труд был завершён.
1 марта 1687 года Ньютон извещает Галлея о том, что «Книга II послана экипажем… и будет оставлена у мистера Ханта в Грешем-колледже». Далее он умоляет прислать хотя бы строчку в подтверждение получения рукописи. Видимо, он дорожит ею и спешит опубликовать. Впрочем, тут же он не упускает случая бросить несколько слов насчёт того, что предпочёл бы, конечно, чтобы рукопись ещё год-другой полежала бы у него, но вследствие ожиданий публики теперь он уже просто обязан отдать её Галлею.
Галлей отвечает Ньютону 7 марта: он получил вторую книгу, и более того, нанял ещё одного наборщика, чтобы работать над ней одновременно с первой; готова она будет как раз ко времени окончания первой, то есть через семь недель. Тут же Галлей спрашивает Ньютона о третьей книге. Если бы он послал ему третью книгу сейчас же, он подобрал бы ещё одного наборщика с тем, чтобы закончить всё сразу. Ответ Ньютона не сохранился, но в письме от 5 апреля Галлей пишет Ньютону о том, что вчера, то есть 4 апреля, он получил третью книгу, «последнюю часть Вашего божественного трактата». На следующий день рукопись была представлена Королевскому обществу.
Дальнейшая переписка Ньютона и Галлея теряется в пыли веков. Сохранилось лишь письмо от 5 июля 1687 года, где Галлей пишет Ньютону о том, что «наконец Ваша книга доведена до конца, и надеюсь, она порадует Вас. Последний список опечаток пришёл как раз вовремя, чтобы его включить».
Opus Magnum окончен, он готов предстать перед публикой.
Всего было изготовлено 250 (по мнению других исследователей — несколько больше трёхсот) экземпляров книги. Часть экземпляров была предназначена для распространения на континенте, а часть — в Англии, о чём имелись записи на соответствующих местах титульного листа. (Если было написано: «Продаётся во многих книжных лавках», это означало, что книга предназначается для продажи внутри Англии — такие экземпляры распространялись самим Ньютоном. Экземпляры, которые должны были продаваться на континенте, имели надпись: «Выставлено на продажу у Сам. Смита под вывеской «Принц Уэльский» у кладбища св. Павла и в иных книжных лавках».) На титуле первого издания «Начал» написано: «Печатать дозволено. С. Пепис, президент Королевского общества, 5 июля 1686 года».[24]
В том же письме Галлей извещает Ньютона о том, что хотел бы подарить от его имени книги Королевскому обществу, Бойлю, Пагету, Флемстиду и… «любому другому в Городе, кого бы Вы хотели таким способом отблагодарить».
20 экземпляров Галлей выслал Ньютону в Кембридж — для того, чтобы он подарил их своим университетским коллегам. Одновременно он посылал 40 книг для передачи книгопродавцам: «Думаю назначить цену тех, что с тиснением и обернуты в телячью кожу в 9 шилл. Те же, что я посылаю Вам, — по 6 шилл. или же по 5 шилл. с оплатой на месте или в течение короткого времени; я понял, что невозможно иметь дело с книгами без заинтересованных книгопродавцев, и посему готов, чтобы они получили половину моего дохода; пусть лучше будет так, ибо в противном случае Ваша блестящая работа может пропасть из-за их комбинаций…»
Письма Ньютона, извещающего о получении этих 60 экземпляров, не сохранилось. Известна лишь реакция Гемфри Бабингтона, получившего одним из первых книгу в подарок:
«Нужно семь лет учиться, прежде чем поймёшь что-нибудь наконец в этих «Началах»…» Но совсем неизвестная реакция Ньютона на помещённую впереди «Трактата» оду, сочинённую Галлеем в его честь:
Примечательно предисловие самого Ньютона.
Он начинает с Паппа (Паппуса), с древних, которые при изучении природы придавали большое значение механике. При этом Ньютон считает необходимым, отбросив понятия «субстанции» и «скрытых свойств», обратиться к математике и приложить её к физике.
Ньютон ищет место физики в системе науки и практики.
Он говорит, что в «Началах» будет речь идти не о ремёслах, а «об учении о природе и, следовательно, не об усилиях, производимых руками, а о силах природы», обо всём, что относится к «тяжести, лёгкости, силе упругости, сопротивлению жидкостей и к тому подобным притягательным или напирающим силам. Поэтому и сочинение это нами предлагается как математические основания физики. Вся трудность физика, как будет видно, состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления…
Было бы желательно вывести из начал механики и остальные явления природы, рассуждая подобным же образом, ибо многое заставляет меня предполагать, что все эти явления обусловливаются некоторыми силами, с которыми частицы тел, вследствие причин покуда неизвестных, или стремятся друг к другу и сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно отталкиваются и удаляются друг от друга. Так как эти силы неизвестны, то до сих пор попытки философов объяснить явления природы и оставались бесплодными. Я надеюсь, однако, что или этому способу рассуждения, или другому, более правильному, изложенные здесь основания дадут некоторое освещение…»
Это — гимн Силе. Силе, ставшей основанием новой физики. Далее идёт совершенно не свойственный Ньютону хвалебный пассаж:
«…При издании этого сочинения оказал содействие остроумнейший и во всех областях науки ученейший муж Эдмонд Галлей, который не только правил типографские корректуры и озаботился изготовлением рисунков, но даже по его лишь настояниям я приступил и к самому изданию. Получив от меня доказательства вида орбит небесных тел, он непрестанно настаивал, чтобы я сообщил их Королевскому обществу, которое затем своим благосклонным вниманием и заботливостью заставило меня подумать о выпуске их в свет…»
Оба они — и Ньютон, и Галлей — посвятили этому труду значительную часть своих жизней. Ньютон, как видно, весьма высоко оценивал ревностное отношение Галлея к изданию книги и впервые позволил себе выразить сколько-нибудь доброе отношение в печати к ещё живущему человеку. Но Ньютону, возможно, следовало бы в этом предисловии упомянуть и Гука. Не будь Гука, не будь его ревности и нападок, не будь его прозрений и намёков, Ньютон, возможно, никогда не собрался бы написать эту книгу. Именно желание доказать всему миру подлинное авторство великих законов мира двигало им наряду с понуканиями Галлея…
Прямо за предисловием следуют авторские определения количества материи (массы), количества движения врождённой силы материи (инерции), силы ускорения и других понятий, сразу устанавливающие твёрдую почву для дальнейших рассуждений. Здесь — все основные компоненты ньютоновской механики, дожившей до наших дней.
Далее идёт «Поучение», включающее определения вещей, казалось бы, конечных и ясных: что такое время? чем отличается истинное математическое время от относительного, кажущегося или обыденного времени? что есть пространство? и его причины? и проявления? как отличить истинное движение от ложного?
Сразу вслед за этим — когда уже нет, не должно быть разночтений в основных понятиях — Ньютон даёт формулировку знаменитых аксиом, или законов движения, трёх законов Ньютона.
Ньютон тем самым совершает научную революцию, полностью перестроив принципы динамики, формулируемой теперь в терминах массы, ускорения и силы.
К этим законам Ньютон даёт обширное «Поучение» и ряд следствий, среди которых — знаменитый «параллелограмм сил»:
Теперь Ньютон переходит к книге I, где рассматриваются различные виды движения тел, фактически — небесных тел. Здесь, в отделе «О нахождении центростремительных сил», и содержится правило обратных квадратов. В отделе IV находим способ нахождения орбит при заданном фокусе, в отделе V орбиты определяются, когда ни одного фокуса не задано. Среди возможных орбит есть все конические сечения — от круга до прямой линии: эллипс, парабола и гипербола. А в отделе VIII есть уже главное — сочетание закона обратных квадратов и форм орбит всех небесных тел. Синтез осуществлён.
Это стало возможно лишь в результате совместного рассмотрения равномерного прямолинейного движения, центробежной и центростремительных сил.
Ньютон ввёл понятия центростремительного движения и центростремительной силы, и эти понятия оказались подлинно новаторскими. Речь идёт о vis centripetal — «центрипетальной» силе. Интересно, что «центрипетальная сила» названа Ньютоном в честь Гюйгенса и послед ему, вослед его центробежной силе. Это понятие было введено Ньютоном уже в «De motu».
Ньютон совершенно определённо утверждает, что третий закон Кеплера является и необходимым и достаточным условием для того, чтобы центростремительная сила имела обратно квадратичную зависимость от радиуса. Возникает интересная ситуация: в предположении, где Ньютон рассматривает исключительно круговые орбиты, для него, казалось бы, представляется удобный случай, чтобы поставить точки над «i» и определённо указать на то, что именно с круговыми орбитами были связаны прежние изыскания Рена, Гука и Галлея. Но Ньютон отсылает читателя к Кеплеру и его закону, подтверждённому наблюдениями его коллег («как наши соотечественники сэр Кристофер Рен, доктор Гук и доктор Галлей неоднократно наблюдали»). В другом предположении Ньютон показывает, что и при эллиптической орбите сила имеет фокус и изменяется в обратной квадратичной зависимости от расстояния. Уровень математической обработки данного доказательства абсолютно несопоставим с уровнем его предшественников и современников. К этому они бы прийти не смогли. Таким образом, ссылка на Гука и одновременно на Галлея и Рена была сделана очень тонко и сознательно, Ньютон хотел отделить свои достижения от достижений других, порой отдавая им даже то, чего они на заслужили. Он готов был признать, что идея об эллиптичности орбит носилась в то время в воздухе; он готов был признать, что существовали основания для того, чтобы считать, что сила, действующая от Солнца на Землю, должна изменяться обратно квадрату расстояния. Он готов был признать даже это, хотя для того, чтобы получить такой результат, нужно было бы вопреки Декарту признать действие на расстоянии, что, например, было абсолютно невозможно для Гюйгенса и большинства других учёных того времени. Но главным было то, что ни один из современников Ньютона, пусть даже и признающий действие на расстоянии, не мог уверенно говорить сразу об эллипсе и обратной квадратичности, не видел их обязательной причинной связи. Вот причина восхищения Галлея при его спокойном: «Разумеется, эллипс».
Если книга I, по существу, посвящена космосу и летящим в пустоте, без сопротивления воздуха телам, то книга II обращена к Земле, к её реальным условиям. Здесь движущие тела встречают сопротивление воздуха, воды, различных сред. Здесь законы движения, действующие в космосе, могут быть использованы лишь с поправками на сопротивление среды. И шары, и маятники, и струи, и снаряды здесь движутся по-другому. Но столь же закономерно! Мир земной ж мир небесный живут по общим законам. Если и есть различия меж ними, они вполне доступны человеческому разуму.
Книга III — это уже система мира. Здесь — все законы Кеплера, все законы движения планет и комет, здесь объяснены приливы и отливы. Небесное слито с земным. Даже кометы, непослушные и своенравные бродяги Вселенной, даже бесконечно далёкие спутники Юпитера подчинены в своём движении одним и тем же открытым Ньютоном законам движения и закону всемирного тяготения. Движения небесных тел полностью подтверждают величавое достижение «Начал» — всемирное тяготение. Тяготение на расстоянии не требовало ни вихрей, ни эфира. «Тяготение существует ко всем телам вообще и пропорционально массе каждого из них».
В третьей книге изложение «Системы мира» предваряется девятью гипотезами:
Четыре гипотезы утверждают и поясняют законы Кеплера. Интересна гипотеза VI, свидетельствующая об отнюдь не случайном характере странной оговорки в гипотезе IV; Ньютон не хотел ссориться с церковью.
В гипотезах, может быть, не хватает стройности. Здесь есть и правила философствования, и законы Кеплера, и закон всемирного тяготения, и даже насквозь алхимический тезис о трансмутации всего во всё (гипотеза III).
Эта эклектичная глава лишний раз напоминает о великом замысле Ньютона — заключить все проявления Вселенной в единую, придуманную им жёсткую схему, о его великом плане в одном произведении объять весь мир.
В библиотеке Королевского общества и сейчас с величайшими предосторожностями сохраняется переплетённая в два тома рукопись «Начал», посланная Ньютоном в типографию. В ней 460 страниц. Все они переписаны Гемфри Ньютоном на одной стороне листа. В рукописи много исправлений, сделанных рукой Ньютона. Некоторые пометки принадлежат Галлею. Здесь уже нет, как в прежних копиях, вставок между строками или исправлений на полях. Поправки в основном касаются перекрёстных ссылок — Ньютон цементировал свой труд.
Перед этим экземпляром, видимо, существовал другой, более грубый, более несовершенный. Что бросается в глаза, когда смотришь на рукопись? Она определённо не является продуктом диктовки. Создаётся впечатление, что, хотя её готовил писец, сзади, за его спиной, стоял Ньютон, который водил его рукой и тут же вносил исправления, поправки, изменения. Невозможно даже представить, чтобы не существовало предыдущей копии, предыдущего текста. Ни один гений в мире не смог бы удержать в памяти и продиктовать такую книгу, как «Начала», не используя черновика. Нужно учитывать и особенность Ньютона — делать (тем более в сложных случаях) десятки черновиков одного и того же текста.
В этом отношении «Начала» стоят особняком. Если практически все другие труды Ньютона носят печать длительной, напряжённой работы, предваряются массой черновиков, копий и исправлений, то о «Началах» этого сказать нельзя. Они появились как бы сразу, без истоков. Да и мог ли, по существу, едва грамотный Гемфри Ньютон сразу записать окончательный текст? Никаких грубых набросков и предварительных заметок Ньютона, текстов предыдущих вариантов исследователями пока не найдено. И это несмотря на то, что более тысячи рукописных страниц, прямо относящихся к созданию «Начал», находится в Портсмутской коллекции. Здесь есть и длинные рукописные таблицы, и вычисления, и заметки, и черновики. Но и гигантская Портсмутская коллекция не в состоянии ответить на вопрос: откуда взялись «Начала»? Рядом — сотни тысяч страниц, заметки и выписки по алхимии, лабораторные журналы, даже целые алхимические трактаты, переписанные рукой самого Ньютона, студенческие записные книжки, содержащие подробности частной жизни Ньютона и его нехитрые траты, первые наброски в области исчисления бесконечно малых, страницы астрономических измерений. Но нет ничего относящегося к началу «Начал»! Это стройное здание не появляется постепенно, как было бы естественно ожидать, из груды строительных лесов. Оно возникает сразу, как дворец Аладдина — совершенное, безошибочное, вечное. Фонтенель, поражаясь этому обстоятельству, говорил, что «Начала» подобны Нилу, который показывается людям только в полном разливе и силе, и ни одному из смертных не дозволено видеть его в слабости, в истоках. Они навсегда упрятаны от нашего взгляда.
«Начала» написаны в весьма традиционном ключе: некоторые даже сравнивают их по лаконизму и строгости с трудами греческих геометров. Это уже не фантастическая научная проза предшественника — Кеплера. Тот, одержимый священным экстазом, простодушно не скрывает от читателя своего восхищения красотой и гармонией мира и, взяв его за руку, ведёт запутанными лабиринтами мысли. И читатель переживает вместе с ним: он видит Кеплера то припадающим к алтарю своего бога — Солнца, то поражённым открывшейся ему гармонией мира, то разражающимся поэтической тирадой. Научные размышления, когда не хватает фактов, Кеплер прерывает доказательствами из Писания, подтверждениями из обыденной практики или тяжеловесно остроумным средневековым анекдотом. В поисках зыбкой пока ещё истины он впадает в безумные или пророческие фантазии, беспрестанно обращается к читателю с немой мольбой: согласиться с ним, сомневающимся, придать ему силы для поисков истины в тёмных, полных ошибок и ереси лабиринтах мысли…
Ньютон же, взяв за образец аскетизм и чёткость трудов Аполлония и Евклида, полностью изгнал эту живую плоть из научной прозы, создал действующий до сегодняшнего дня образец строгого научного описания, отличающийся отстраненностью, безликостью и внешним отсутствием темперамента. Редко промелькнёт в современных научных (я говорю о научных) трудах подлинное очарование красотой и многообразием мира! Это и заслуга Ньютона, и грех его. Новое и новейшее упрятано в «Началах» в скорлупу классических канонов изложения. В первой части первой книги, где-то внутри этой скорлупы, упрятаны принципы исчисления бесконечно малых. Некоторые рассуждения справедливы лишь в тех случаях, когда автор обращается к рядам и пределам. В «Началах» можно найти доказательства использования метода бесконечных рядов. Нередки, например, фразы о «квадратурах криволинейных фигур» — то есть об интегралах. Однако методы нового анализа скрыты за традиционными геометрическими построениями. В одной из своих поздних записок Ньютон писал: «В 1677 году я обнаружил с помощью обратного метода флюксий доказательства астрономического предположения Кеплера, а именно того, что планеты движутся по эллипсам, что является одиннадцатым предложением первой книги «Начал». Ньютон горячо доказывал всем, что он широко использовал свой метод бесконечно малых для доказательства основных теорем «Начал». Он даже хотел опубликовать свой трактат «О квадратурах» как приложение ко второму изданию «Начал».
Преданный Галлей в своей рецензии упорно, может быть, излишне упорно, доказывал существование в «Началах» следов использования метода бесконечно малых. В «Философских трудах» внимание читателей обращено им на следующее: «Использование бесконечных рядов есть существенное и необычное свойство трактата Ньютона». Если говорить с современных позиций, ясно, что Ньютон не использовал в своих «Началах» дифференциального и интегрального исчисления в тех широких масштабах, как это принято в современных трудах по механике. Методы дифференциального и интегрального исчисления, открытого Ньютоном, ещё не стали для него, как для современных математиков, удобными и незаменимыми.
Где же находятся истоки Нила? Где самые первые листки, написанные Ньютоном и свидетельствующие о начале «Начал»? Хранит ли их какой-нибудь страстный библиофил, не желающий, чтобы о его бесценном сокровище узнал мир, или их просто не существует на свете? Не сжёг ли их Ньютон перед смертью, не сгорели ли они в его камине в 1727 году? Может быть, они содержали то, о чём Ньютон старался умолчать? А именно — полное и свободное владение им методами анализа бесконечно малых, позволяющими легко прийти к его выводам? Не скрывал ли он своего великого открытия, своего философского камня из боязни, что, познав, другие воспользуются плодами его? Полностью исключить такое предположение нельзя. Это был жестокий век, век, когда «овцы поедали людей». Кометы предсказывали — бойтесь зла! — и Ньютон прислушивался к голосу предостережения.
Книга Ньютона, пусть напечатанная и в весьма малом количестве, никак не могла избежать пристальнейшего внимания всех крупных философов. Сначала прошла волна слухов. Потом стали поступать письма. Пришли замечания от находящегося на покое старого кембриджца Гильберта Клерка, автора известного комментария в «Математическом ключе» Вильяма Утреда, и это было отнюдь не старческое ворчание. Деревенский критик подметил некоторые неточности. Ньютон написал ему обстоятельнейший ответ с полными доказательствами некоторых положений. Кое с чем Ньютон согласился.
Вскоре появились и рецензии. Две из них, анонимные, вышли во Франции в «Научном журнале» и «Всеобщей библиотеке». Сейчас выяснили, что вторую рецензию писал друг Ньютона Джон Локк. Английская рецензия появилась в «Философских трудах», издававшихся Королевским обществом, — она написана Галлеем. На латинском языке рецензия вышла в «Деяниях учёных» — журнале, издававшемся в Лейпциге. Автор её до сих пор неизвестен, но скорее всего им был сам редактор журнала.
Джон Локк не знал математики, и, чтобы он смог разобраться в сути «Начал», Ньютону пришлось составить для него упрощённое доказательство того, что эллиптические орбиты требуют введения силы, изменяющейся обратно пропорционально квадрату расстояния от центра. Однако Локк блестяще разобрался в философских идеях «Начал». Другая французская рецензия фактически лишь пересказывала содержание книги.
Самой глубокой была, разумеется, рецензия Галлея. Он смог подчеркнуть самые сильные стороны труда. Прежде всего Галлей отмечает мастерское владение Ньютоном методами старой и новой геометрии, «которым помогают его собственные усовершенствования последней (я имею в виду его метод бесконечных рядов), позволившие ему решить те проблемы, к которым ввиду их сложности не смели подступиться менее квалифицированные, чем он». Но ошибётся тот, кто решит, что рецензия Галлея не содержала замечаний. Галлей, хотя и в предельно мягкой форме, всё же осуждает Ньютона за его несправедливую позицию по отношению к своим предшественникам, за неупоминание их. Так, Галлей пишет о том, что автор — Ньютон — широко использует всё, «что открыто большой проницательностью и усердием Кеплера». Учитывая, что Ньютон ни разу не упомянул имени Кеплера в первой книге, а в третьей лишь вскользь говорит о нём в связи с третьим, «гармоническим» законом, не связывая его имя с первыми двумя, этот мягкий упрёк Галлея можно счесть, по существу, весьма резкой и даже язвительной критикой.
Самой подробной из рецензий оказалась статья в «Acta Eruditorum» («Деяниях учёных») — наиболее авторитетном европейском журнале того времени. Рецензия занимает значительную часть номера. В самом её начале аноним простодушно признаётся в том, что, пока он в своём анализе добрался до конца «Начал», «наше писание выросло до размеров, которые далеко превосходят первоначальное намерение». Автор рецензии отмечает, что в книге рассмотрены «всевозможные движения всевозможных тел» — рассмотрены движения «тел сферических и несферических, падающих и поднимающихся, твёрдых и жидких, вызванных любыми силами, движения по прямой и по кривой, движения круговые, спиральные, по коническим сечениям, концентрические и эксцентрические, с перемещающимися и неподвижными орбитами, движения ускоряющиеся, движения в жидкостях; а также центростремительная, абсолютная, ускоряющая силы, времена, скорости, усиление и затухание, центры, площади, места, апсиды, пространства, среды, плотности и сопротивление сред, и как они связаны с движением в них — всё это под силу лишь великому математику…».
Эта рецензия разбудила дремавшего в Риме Лейбница. Тот сразу же послал в «Acta Eruditorum» три свои статьи: о сопротивлении среды движению тяжёлого снаряда, о диоптрической и других кривых и, наконец, о причинах движения небесных тел. За этой акцией скрывалась попытка Лейбница заявить свой приоритет в обосновании закона планетных движений. Попытка эта была с негодными средствами. Лейбниц по-прежнему плавал в картезианских вихрях. Он не признавал законов тяготения. А не сделав этого шага, прийти к открытию законов планетных движений, естественно, было невозможно.
Но можно было, будучи хорошим математиком, прийти к закону обратных квадратов! Нужно было лишь осознать важность второго закона Кеплера — закона площадей, из которого этот закон легко выводился математически. Лейбниц, возможно, так и сделал. Но закон обратных квадратов — это отнюдь не закон всемирного тяготения.
Лейбниц в своих статьях утверждал, что он не читал «Начал» и узнал об их выходе только из рецензии в «Деяниях». Вряд ли это так. На симпозиуме по истории математики, проходившем в небольшом шварцвальдском городке Обервольфахе, автор беседовал с базельским историком профессором Феллманом, который имел в своём распоряжении
Что больше всего насторожило Ньютона в рецензии в «Деяниях» — это то, что анонимный рецензент чрезмерно подчёркивал божественное начало ньютоновской Вселенной. Он писал, что Ньютон с помощью математических выводов доказал: бог разместил планеты на различных расстояниях от Солнца не случайно, а таким образом, чтобы они могли получать от Солнца тепло в соответствии с их плотностями. Ньютон немедленно решил убрать из книги эти рассуждения и действительно сделал это во всём оставшемся, не распроданном пока тираже.
Волнения Ньютона, связанные с возможностью нападок на «Начала» со стороны церкви, оказались оправданными, хотя и преувеличенными. К счастью для него, и на острове, и на континенте за «Началами» прочно установилась репутация чисто математической, к тому же весьма трудной для понимания книги.
Вполне оправданными оказались опасения относительно Гука. Гук по-прежнему уверял членов Королевского общества, что все идеи, содержавшиеся в «Началах», уже сто раз предлагались им; те же, что не излагались им ранее, — ошибочны. Гюйгенс полностью и категорически отверг идею взаимного тяготения частиц, допуская наличие тяготения лишь внутри тел. Лейбниц продолжал настаивать на том, что движение планет может быть объяснено только посредством некоторой эфирной вихрящейся жидкости, сбивающей планеты с прямолинейного пути. Бернулли и Кассини тоже упорно твердили о вихрях.
Но больше всего Ньютона беспокоил всё-таки Гук. Действительно, он иногда высказывал сходные идеи в Королевском обществе, но крайне неопределённо и бездоказательно. Теперь, когда Ньютон сделал эту систему вполне точной и осязаемой, Гук оправдывался тем, что его идеи составляли часть грандиозного замысла — построить единую систему природы, — который он хотел осуществить. Ньютон, переживая и правоту и неправоту Гука, мысленно соглашался с верным Галлеем.
«Что касается г. Гука, то нет сомнений, что при его ревнивом характере… если бы он сделал подобное открытие, он не стал бы долго держать его в тайне. Теперь он уверяет, что это открытие составляет только небольшую часть придуманной им превосходной системы Природы, ещё не вполне обработанной по недостатку времени: обнародовать же часть отдельно от целого он находил неудобным. Но я сказал ему в лицо, что ни я, ни другие ему не поверят, пока он тотчас же не приведёт своего доказательства, отличного от Вашего, и не представит его на суд общества».
«Начала» были приняты далеко не всеми, многие их отвергали, но зато и сторонники были сильны. В число горячих приверженцев идей, содержащихся в «Началах», в число тех, кто понял новую ньютоновскую концепцию науки и принял его научный метод, вошли Галлей, Локк и Бентли. Но и ко дню своей смерти Ньютон имел в Англии не более двадцати последователей. Во многом это вина самого Ньютона. То, что в течение сотни лет его «Начала» были для большинства книгой за семью печатями, объясняется его невниманием к среднему читателю, нелюбовью к разъяснениям, использованию иллюстраций и поясняющих примеров.
Жизнь Ньютона после издания «Начал» резко изменилась. Если до этого бывали случаи, когда он месяцами не разговаривал с людьми, не выходил из комнаты, посвящая время лишь размышлениям, когда он забывал, казалось, обо всём и вся, о суетном и мирском, о сне и еде, когда он переходил для отдыха от математики к химии, от астрономии к физике, от физики к богословию, когда вся жизнь его была наполнена решением великих загадок, которые доверены были ему господом, и решения навеяны им, и силы для решения — от него, то теперь Ньютон был на виду — он попал в центр научной жизни. Он стал известен, более того, в каком-то смысле — знаменит. Вместе с этим он стал и открыт, уязвим для критики, лишился защитных створок своей раковины. Он изменился, но и мир изменился, хотя лишь мудрецы, такие, как Вольтер, смогли вникнуть в суть медленно происходящих и внешне неявных событий.
«Француз, приезжая в Лондон, находит бездну перемен в философии, да и во всём остальном. Он оставил мир полным и находит его пустым. В Париже полагают, что Вселенная состоит из вихрей и тончайшего вещества; в Лондоне никто этого уже не полагает. У нас тяготение Луны производят морские приливы и отливы; у англичан наоборот; море тяготеет к Луне, так что в минуту, когда, по вашему мнению, Луна должна производить прилив, по мнению этих господ, должен быть отлив, чего, к несчастью, нельзя проверить, потому что для разъяснения этого нужно было бы сделать наблюдение над Луною и морями в первую минуту сотворения мира. Вы заметите ещё, что Солнце, которое во Франции не принимает в этом деле ни малейшего участия, здесь способствует ему на целую четверть. У наших картезианцев всё в мире делается через подталкивание, совершенно непонятное; у г. Ньютона основанием всему служит притяжение, причина которого не более известна. В Париже вы представляете себе Землю в виде дыни, в Лондоне доказывают, что она сплюснута с двух сторон. Для картезианца свет существует в воздухе, для Ньютона — исходит из Солнца и доходит до нас через шесть минут с половиною. В вашей химии всё объясняется кислотами, щелочами и тончайшими веществами; в Англии притяжение господствует даже и в химии».[26]
Остроумец Вольтер одним из первых заметил: наступила научная революция. Изменились основные научные представления. Мир стал мыслить по-новому.
…Была, оказывается, и ещё одна причина, по которой Исаак Барроу приблизил к себе Исаака Ньютона — оба они пылали одной тайной страстью. Намёк за намёком, кивок за кивком, слово за слово — и Барроу понял, что Ньютон, как и он, занимается алхимическими опытами, ищет секрет философского камня. Оказалось, Ньютон уже приобрёл и внимательно прочёл несколько алхимических рукописей. Ему были известны работы алхимиков, сгруппировавшихся вокруг кружка Хартлиба — родничка, породившего когда-то Королевское общество.
— Ничем не пренебрегайте! Больше смелости! — энергично жестикулируя, проповедовал Барроу. — Ищите мудрость древних в старых текстах философов-герметиков и поверяйте их алхимическому горну! Поверьте, что такие опыты не менее, а может быть, и более заслуживают внимания, чем опыты в оптике!
Во время таких речей Барроу Ньютон заметно оживлялся. Он принял философию Декарта, хотя его всегда смущала пассивность материи. Каждый раз, когда она начинала движение или прекращала его, требовалось некоторое активное начало. Барроу предлагал искать ответ в трудах философов-герметиков.
— Герметическая философия вполне совместима с математикой, — убеждал Барроу. — Лишь она одна способна вывести к свету разума не только медицину, но и философию. Парацельс — это Лютер медицины, как Кеплер — это Лютер астрономии! Поверьте: между Коперником и Птолемеем различие куда меньше, чем между Галеном и Парацельсом! Откроюсь вам: я знаю тех, чьи души одержимы желанием проводить подобные исследования, желанием более жарким, чем химическое пламя. Я знаю тех, кто не побоялся осилить сложнейшие работы философов этого племени и даже прояснить смутные писания самого Парацельса! И я познакомлю вас с ними!
…Барроу повёл Ньютона сначала по булыжным мостовым к зданию Тринити, потом — по песчаным дорожкам двора, затем — по знакомым каменным полам первого этажа — бесконечно знакомым, так знакомым, что, казалось бы, ничто не сможет уже здесь удивить, после — по деревянным переходам второго этажа — туда, где жили старейшины колледжа.
Постучали. Им открыл человек, которого Ньютон множество раз видел, с которым не раз ел и пил за одним столом, хотя никогда не разговаривал.
— Вы знакомы, — сказал Барроу, — господин Рей, мой молодой друг хотел бы осмотреть нашу лабораторию…
Джон Рей, математик и ботаник, не удивился, ничего не ответил, кивнул Ньютону и пропустил обоих в темноту комнаты, Ньютон стал было осматриваться, но Барроу, взяв его за руку, повёл дальше:
— Нам сюда.
Оказалось, комнаты Рея выходили в небольшой сад, Рей получил такую привилегию, поскольку занимался ботаникой. Он посадил в своём миниатюрном ботаническом саду не менее семисот видов растений. Сад находился к северу от больших ворот Тринити; в нём не было широких аллей для гулянья, как в других садах. Зато в северной его части была тайная лаборатория — небольшое деревянное строение в два этажа. В сад и лабораторию можно спуститься с галереи по небольшой лесенке, снабжённой деревянными перилами.
…Барроу открыл дверь своим ключом, и Ньютон, шагнув в темноту, увидел, как постепенно возникают из мрака горны, железные реторты, весы и другое химическое оборудование.
— Можете свободно пользоваться всем, что здесь находится, — просто сказал Барроу.
Ньютону повезло. Он обрёл не только лабораторию: благодаря Барроу он познакомился с группой людей, уже с 1650-х годов занимавшихся в Тринити-колледже различными алхимическими экспериментами. Ньютона удостоили чести быть принятым, и он это ценил. Лаборатория была построена кембриджским чародеем Джоном Ниддом — здесь он производил свои опыты, а в прилегающем виварии разводил лягушек, жизнь которых изучал. Нидд — старейшина Тринити — умер ещё до поступления Ньютона в колледж. После его смерти лаборатория перешла к Рею, в ней работал Барроу, сюда захаживал Генри Мур.
В годы, когда Ньютон поступил в университет, Муру было под пятьдесят. Мур был неоплатоником, не согласным с Платоном и картезианцем, желающим пойти дальше Декарта, предлагающим своё собственное «сверхмеханическое» движение. Мур искал и везде находил признаки существования своих «сверхмеханических» движений. Это были, по его мнению, вибрация струн, звучащих в резонанс с некоторыми звуками, гипноз, снимающий боли и болезни, рождение всевозможных уродов, действие вина, магнитные явления и тяготение…
— Притяжение магнита, — говорил Мур Ньютону, когда заходил в лабораторию, — имеет большое сходство с другими примерами всеобщей симпатии. Эту тайну Декарт пытался с восхитительным мастерством объяснить непосредственным механическим действием, предположив, что через поры в магните и железе следуют какие-то частицы, целый ряд клубящихся частиц. Вообразите! Но каким образом косная материя может сама по себе формировать эти частички и обеспечивать им правильное направление, пронизать ими всю Землю от полюса до полюса? Как может быть обеспечено прямолинейное распространение света? Почему он не вихляется из стороны в сторону? Обеспечить всё это, утверждаю я, сама материя не в силах!
Мур приходил в алхимическую лабораторию к Ньютону, чтобы получить какие-нибудь свежие идеи или факты для построения собственной модели Вселенной. А Ньютон сам хотел бы получить что-нибудь от великого Мура. Но взять у него было нечего. Больше всего, пожалуй, Ньютону нравилась муровская концепция prisca sapientia — «мудрость древних». Метод научного доказательства с помощью привлечения божественной мудрости, а затем и мудрости древних был в то время общеупотребительным. Его придерживался, в частности, Чарлетон в своей «Физиологии Эпикуро-гассенди-чарлетонианской или естественной науке о гипотезах, атомах, предложенных Эпикуром, подправленных Петрусом Гассендиусом, с прибавлением Уолтера Чарлетона, доктора медицины и врача покойного Карла, монарха Великобритании».
В признании «мудрости древних» был один весьма тонкий момент, поскольку «мудрость древних» была отнюдь не христианской, а шла от язычников и мусульман, от Аристотеля и Ибн Рушда, от мистики Востока, от герметизма и каббаллистики. Попытки использовать «мудрость древних» наталкивались на христианскую нетерпимость к другим вероучениям. Но к идее использования «мудрости древних» подходили многие философы и теологи того времени. Библия, понимаемая буквально, приносила слишком много разочарований. Только толкуемая аллегорически, она не содержала в себе несообразностей и противоречий. Например, те, кто верил в святую Троицу, должны были приложить определённые усилия для того, чтобы показать, что библейский призыв «Господь Бог есть единственный Господин наш» не противоречит идее троичного бога: бога-отца, бога-сына и бога — духа святого. А Ньютон считал, что подобные попытки являются искажением Писания, и яростно протестовал против них.
Ньютон верил в то, что древние упрятали все свои знания и секреты в священные книги, мифы и предания, в их тёмный мир и невразумительный язык. Именно в этих источниках Ньютон стал искать «мудрость древних». Он считал, например, что Пифагор, открывший музыкальную гармонию, постиг закон обратных квадратов — истинную гармонию небес. Но Пифагор запрятал своё знание в иносказания и притчи с тем, чтобы сохранить его от черни. Знание это до сих пор живёт в мифах и аллегориях, в свирели Пана и арфе Аполлона. Ньютон считал, что древние тексты непременно содержат в себе и алхимические секреты. Он был убеждён, что именно там сокрыт секрет получения золота, тайна бессмертия и разгадка вопроса о строении природы.
Мур поддерживал ньютоновскую идею всеобщей трансмутации — перехода элементов друг в друга — и поиски им философского камня в процессе алхимических экспериментов. Но Мур категорически отрицал возможность того, что подобные эксперименты дадут ключ к построению системы мира. Он тут же припоминал Гильберта, так и не сумевшего построить систему мира, исходя из своих экспериментов с магнитами.
— Такие попытки, — предостерегал Мур Ньютона, — можно сравнить с усилиями представить себе корабль по обломку весла, найденного на берегу.
Самой загадочной фигурой в круге общения Ньютона в Кембридже был «господин Ф.», которого он никогда не называл по имени, который лишь как «господин Ф.» появляется изредка в его заметках. Сейчас мы знаем, кто это был, кто, скрываясь в ночной тишине, пробирался тайком в лабораторию Ньютона. Это был Иезекиль Фокскроб, сын лондонского торговца, член Кингс-колледжа, лектор по математике. В грудах алхимических трактатов, оставленных Ньютоном, есть главный, называемый «Манна». Это подарок «господина Ф.», сделанный им Ньютону незадолго до своей смерти в 1675 году. Множество алхимических трактатов, имевшихся у Ньютона (он обладал завидной коллекцией, содержавшей редчайшие экземпляры), перешло к нему через «господина Ф.». Таинственные рукописи с непонятными знаками и туманными фразами, обожжённые огнём и кислотами, передавались из рук в руки под покровом ночи.
«Господин Ф.» хорошо знал Роберта Бойля, переписывался с ним. Возможно, через него Бойль узнал об алхимических занятиях Ньютона. В сентябре 1673 года Бойль просил Ольденбурга отослать Ньютону свою последнюю книгу.
«Посылаю Вам новую книгу Бойля «Книга истечений», которую я в соответствии с его желанием дарю Вам от его имени с самыми горячими уверениями в той высокой оценке, которую он даёт Вашим способностям и знаниям. Я взял на себя смелость положить в тот же пакет ещё два экземпляра книги, одну — для доктора Барроу и другую — для доктора Мура, которые он просит Вас передать им».
Корифей опять манил молодого коллегу своими новыми идеями. Как много лет назад…
Начала химии Ньютон прилично знал ещё с грэнтэмских времён от аптекаря Кларка. Аптекари того времени, естественно, сами изготовляли лекарства — порошки, сиропы, микстуры. Они продавали и порох, и ракеты для фейерверков, которые тоже делали сами. Уже в юношеских записях Ньютона можно найти рецепты лекарств профилактических средств и описания химических фокусов, например, превращения воды в вино.
В первый университетский год Ньютона вышла книга анонимного автора «Химик-скептик», про которую говорили, что на самом деле она принадлежит перу доктора философии Оксфордского университета достопочтенного Роберта Бойля. Аноним призывал сделать химию самостоятельной наукой, отделив её от поисков золота и способов приготовления лекарств.
Одно время Ньютон по-настоящему увлёкся химией, и Викинс помогал ему в его экспериментах. В записных книжках всё чаще начинают появляться химические записи, а Бойль становится главным научным авторитетом.
В 1666 году в Вулсторпе Ньютон начал составление химического словаря, почерпнутого в основном из Бойля, — здесь есть уже и «дистилляция», и «амальгама», и «испытания», и «возгонка». В рубрике «испытания» описан способ очистки золота и серебра посредством нагревания их вместе со свинцом. Все эти сведения Ньютон, несомненно, почерпнул из книги Бойля «Происхождение форм и качеств согласно корпускулярной философии» — великого метания Бойля между механической философией и богом.
Экземпляр этой книги Ньютон брал с собой в Вулсторп во время чумы, но основательно проштудировал её, лишь когда совсем вернулся в Кембридж. Кое-что в химическом словаре Ньютона взято, однако, не у Бойля. Видно, Ньютон и сам уже проводил химические опыты, не понаслышке знал многие химические процессы. В химических определениях Ньютона встречаются и алхимические понятия, например, «кровь дракона» или «магистерство», но эти определения абсолютно рациональны, относятся к химии. Есть в словаре и необъяснённые слова алхимического пантеона — «алькахест», «анима», «эликсар», «минераворк». Из этих заметок можно составить себе полное представление о химических знаниях и химической практике магистра Ньютона.
Но уже буквально накануне получения профессорского звания интересы Ньютона определённо перемещаются в сторону алхимии. Это, несомненно, связано с новыми знакомыми и новой лабораторией. Он явно заинтересовался трансмутацией элементов, против которой — по крайней мере печатно — выступал «Химик-скептик».
О всплеске алхимических интересов Ньютона свидетельствуют записи из его расходных книг:
В 1669 году, когда Барроу, получив должность королевского капеллана, отбыл в Лондон, а Рей умер, алхимическая лаборатория в саду стала полной собственностью Ньютона вместе со всем её богатым содержимым. Он прикупил кое-что из недостающего оснащения и материалов. Страдалец Викинс вынес буквально на своих плечах тяготы новой страсти своего соседа. Физически более сильный, чем Ньютон, он помогал ему в устройстве лаборатории, перетаскивая и устанавливая плавильные печи, перегонные кубы, котлы.
В начале 70-х годов Ньютон поседел. Первым заметил это Викинс. Однажды утром, проснувшись, Викинс взглянул на Ньютона и воскликнул:
— Посмотрите на себя в зеркало, господин алхимик! Ещё не то случится с вами при столь неумеренных занятиях!
— Это не от занятий, это от ртути, — сказал Ньютон, увидев в зеркале свою седую голову. — Когда я прекращу опыты, натуральный цвет вернётся.
Но он не вернулся.
В другой раз Ньютона стал мучить неукротимый кашель. Он решил, что у него чахотка, и срочно начал лечиться бальзамом «Лукателло». Бальзам представлял собой забористую смесь из скипидара, дамасской розовой воды, пчелиного воска, оливкового масла, испанского вина, сдобренных щепоткой красного сандалового дерева и каплями святого Иоанна. Ньютон считал, что этот бальзам, рецепт которого он вычитал, конечно же, у Парацельса, универсален — он помогает от кори, чумы, чёрной оспы — для борьбы с ними его нужно было пить в тёплом виде с небольшим количеством бульона, и заедать какой-нибудь сладостью, например, сухариками с шербетом, которыми Ньютон любил себя побаловать. Бальзам помогал от укусов бешеной собаки, от ран, от желудочных колик, от бородавок, от ожогов и от порезов — в этих случаях он должен был применяться наружно. Это средство ранее против чахотки не употреблялось, но Ньютон решил, что столь богатое свойствами зелье не может не помочь и при этой болезни; он стал пить его по четверти пинты в день. Как бы там ни было, он выздоровел — кашель прекратился.
Читая алхимические фолианты, Ньютон никак не мог найти того, что искал, но зато явственно видел слабости своих предшественников. Ньютон считал, что эксперименты в области алхимии должны вестись с тщательным учётом происходящих качественных и количественных изменений, с подробными записями того, что с чем происходит, и с анализом происшедшего. Кроме того, при алхимических опытах нужно было прежде всего быть первоклассным химиком и искусным экспериментатором. Каждое алхимическое действо должно совершаться не по наитию, а в результате размышлений. Алхимики в своих теоретических построениях прочно засели в средних веках — они признавали лишь те свойства веществ, которые можно было непосредственно ощутить с помощью органов чувств: тяжесть, лёгкость, влажность, сухость; вкусовые ощущения: солёность, сладость, горечь и т. д. Измерений алхимики не производили. Они по-прежнему имели дело с элементами Аристотеля: землёй, воздухом, огнём и водой, из которых складывались «вторичные» характеристики.
Ньютон изучил писания бенедиктинского монаха Василия Валентиния, собрание алхимических сочинений сэра Джорджа Рипли, «Teatrum chemicum» — «Химический театр», многотомный свод алхимических рукописей. Он знал также «Секретную книгу» Артепия и «Письма» Джона Пантануса, где тот обсуждал секреты Артепия. Читал книги, содержавшие теорию и практику философского камня. У него были и анонимные химические трактаты «Обозрение материи в стакане», и таинственные рукописи под названием «Эмануэль» и «Манна». Собрал он и неопубликованные труды Эринея Филалета.
Читая, он явственно видел и отличие в целях. Ньютона не столько интересовал сам философский камень, само золото, сколько то, что он мог с помощью этих опытов проникнуть, как он говорил, в безбрежные области пространства. Его трансмутация преследовала научные цели. Впоследствии у Ньютона появилась даже идея включить часть своих алхимических изысканий в «Начала», в те места, где речь шла о внутренней структуре материи. В этих поисках явно видится влияние Бойля, в книге которого «Об истечениях» высказана мысль о том, что именно эксперименты по трансмутации смогут пролить свет на строение Вселенной. Принятие Ньютоном от Бойля корпускулярных представлений сильно повлияло на его алхимические опыты.
Понять ход алхимических экспериментов из рукописей Ньютона можно, лишь сопоставляя соответствующие места его лабораторных журналов, заполненных алхимической терминологией и непонятными знаками, с текстами алхимических трактатов, которыми он пользовался во время экспериментов. Взвалив на себя эту сложнейшую задачу, американская исследовательница Доббс выяснила, что Ньютон искал способы извлечения «ртути металлов». В средние века арабы знали семь металлов: золото, серебро, железо, медь, олово, свинец и ртуть. Все они, кроме ртути, были похожи друг на друга: плотные, блестящие, светлые, твёрдые. Их можно было расплавить и получить в конце концов их первичную сущность, абстрактную философскую «ртуть», которая была чем-то совершенно иным, чем ртуть просто. Расплавляя металлическую руду, обычно содержащую свинец и сурьму, и получая расплавленный металл, алхимики считали, что они видят «ртуть» металла, первоначальную сущность его. Будь их эксперименты более чистыми, они бы быстро убедились, что их «ртуть» — не что иное, как сам расплавленный металл; но имеющиеся примеси, как правило, затемняли картину. Другим способом получения «ртути» металлов была обработка их хлоридом ртути. Если нагревать вместе два вещества, идёт реакция замещения, в результате которой образуется хлорид оригинального металла, а освобождающаяся ртуть стекает на дно аппарата. Эту реальную ртуть алхимики часто принимали за «ртуть» первичного металла.
Ньютон активно занимался подобными изысканиями. Из заметок видно, что арсенал Ньютона был поистине алхимическим. Он пробовал всё: женские волосы, рыбий жир от угря, хотя до неизбежной «крови девственницы» дело не дошло. Одно из описаний его экспериментов начинается героическим вступлением: «Возьми баррель[27] мочи…»
Результатов исследований Ньютона не сохранилось, но, по-видимому, он получал в результате экспериментов обычную ртуть из какого-то её соединения, например хлорида и оригинального металла. Сознавал ли он это? Через триста лет после Ньютона, конечно, ясно, что ртуть, которая имелась перед реакцией, должна остаться в каком-то виде и после неё. Это отчётливо понимал Бойль. Однако, утверждает Доббс, можно считать почти доказанным, что Ньютон отнюдь не всегда отождествлял получившуюся ртуть с теми её соединениями, которые он имел в начале экспериментов.
В природе существует минерал — соединение сурьмы с серой, называемое антимонитом. Если нагревать его вместе с углём, то при определённых условиях можно получить чистую сурьму. Обычно она образуется в виде длинных и тонких кристаллов. Они создают причудливые фигуры, напоминающие листья папоротника, а иногда — совсем редко — образуют картину, подобную лучам звезды. Для алхимиков это был добрый признак. Ведь сурьма почиталась меньшим братом золота, недаром название её было «регулус» — уменьшительная форма от латинского слова «rex» — «царь» (и «король»). Кристалл с лучами, исходящими из центра, называли «звёздным корольком».
Звезду в сурьмяной руде обычно называли «Сердце Льва». «Лев» алхимического символизма для Ньютона — это антимонит. Почему Ньютон придавал столь большое значение этому «Сердцу Льва»? Что оно для него означало? Многие бились над этим секретом. Профессор Доббс предложила одно из оригинальных решений. Она показала, что для древних философов и алхимиков кристаллы «звёздного королька» не «излучались»
Но «звёздный королёк» вовсе не был ещё философским камнем. Василий Валентинус писал: «Многие ценят подающую знак звезду сурьмы очень высоко и не жалеют ни труда, ни денег, чтобы получить её. Некоторые считали, что эта звезда есть истинная субстанция философского камня. Но это ошибочное суждение. Те, кто так считает, сворачивают с прямой королевской дороги и мучают себя, ломая ноги на каменистых тропах, где лишь орлы и дикие козы определили себе жилище. Эта звезда не столь совершенна, чтобы содержать в себе Великий Камень, но в ней всё же спрятаны замечательные лекарства». Против этих слов Василия Ньютоном сделаны выразительные пометки.
Особое внимание Ньютона привлекли алхимические труды Сэндивогиуса и д'Эспаньета. В них упоминалось о неком магнетизме, характерном для звёздного королька. Сэндивогиус и д'Эспаньет считали, что магниты, или по-арабски «халибы», представляют собой скелеты всех других вещей, будь то тела или духи, соединяющие их посредством своего притяжения.
Некоторые процедуры Ньютона взяты из книги Монтснайдера «Метаморфозы планет». У Ньютона был английский перевод книги. Он пронумеровал страницы книги и обозначил цифрами даже строки для облегчения ссылок. Трактат, переписанный мелким «юношеским» почерком Ньютона, кажется совершенно непонятным. Тем не менее Ньютон усматривал глубокий смысл в таких, например, пассажах: «Зеленогрудый Юпитер, поднятый из кометы и пророческой звезды, являющейся двойной природой монарха этого мира, управляет своим королевством в мире при помощи Меркурия, и послы со всех концов мира собрались для того, чтобы славить самого сильного и непобедимого, а добрый Юпитер, взобравшись на крылья Орла, спешит во дворец и получает, войдя туда, аудиенцию, благодарит скипетром, преклоняет колени, целует ноги монарха и дарит ему Орла для службы» и т. д. и т. п. То, что может показаться абракадаброй, на самом деле просто описание реакции. Смысл таких фраз Ньютон видел в несомненной, по его суждению, связи между реальными металлами и их аналогами на небе: семь металлов — семь планет. Это для Ньютона — ключ к пониманию химических превращений. Юпитер для него — олово, Сатурн — свинец, Марс — железо, Венера — медь. Ход светил определяет и взаимодействие химических веществ. В рукописях Ньютона встречаем: «нужно попытаться: 1. Извлечь Венеру из Зелёного Льва…» Это означает: нужно попытаться получить медь из антимонита.
19 октября 1675 года
«…Господин Ньютон (которому я давно не писал и которого не видел уже одиннадцать или двенадцать месяцев, не беспокоя его, поскольку знал, что он сейчас занимается химическими исследованиями и экспериментами) вместе с доктором Барроу и другими начинают считать математические построения каким-то по меньшей мере недостойным и сухим, если не запрещённым занятием».
Можно себе представить, какими должны были быть химические успехи Ньютона, чтобы он думал о математике как о чём-то «сухом» и «недостойном».
Успех в получении Сердца Льва Ньютон считал естественной вехой на пути к Великому Делу. Он изучил старую алхимическую рукопись «Охота на Зелёного Льва», из которой как будто бы следовало, что сразу же после получения философской ртути предстоит Великое Дело. Повторим, что Ньютон, охотясь за золотом как таковым, искал те необходимые связи, на которые намекали Барроу и Мур и которых так не хватало в Декартовой картине материи и движения. В работе по золоту он пришёл к решению этой задачи с помощью своей новой концепции силы, в первую очередь — силы притяжения.
Возникает вопрос — почему Ньютон не опубликовал ни одной статьи об алхимии? Может быть, ответ на этот вопрос следует из помещённого ниже письма Ньютона Ольденбургу? Поводом для письма было вот что: Бойль, перемешивая пальцами смесь ртути с порошкообразным золотом, обнаружил, что температура смеси при этом быстро повышалась. Он предложил Ольденбургу и президенту Королевского общества лорду Браункеру провести эксперимент собственными руками. Им тоже стало ясно, что смесь нагревается. Что это означало? В первую очередь, что бойлевская ртуть была уже
26 апреля 1676 года
«Способ, коим ртуть пропитывается, может быть обращён людьми, которые о нём узнают, во зло и посему не послужит чему-либо благородному; сообщение этого способа принесёт миру огромный вред, если только есть правда в писаниях герметиков. Поэтому я не желал бы ничего, кроме того, чтобы великая мудрость благородного автора укрепила его в молчании до тех пор, пока он не разберётся сам, или же — узнав суждение других, полностью понимающих, о чём он говорит, т. е. истинных философов-герметиков[28] — каковы могут быть последствия этого шага…»
Алхимия стала духовной эпидемией XVII века. Англичане завидовали голландцам, считая, что тем уже удалось получить философский камень, голландцы — итальянцам, полагая, что те уже давно имеют золото из тигля. Итальянцы же думали, что истинный секрет известен лишь англичанам. Всем завидовали немцы, секретарём тайного общества изготовления золота в Нюрнберге был Лейбниц.
Время от времени и Ньютону казалось, что он уже получил философский камень. В одной из его записей встречаем торопливую малоразборчивую запись, которую можно прочесть так: vidi phil, то есть «видел философский камень». Видимо, воспроизвести эксперимент не удалось.
Своими результатами о строении природы, вытекающими из его экспериментов, Ньютон спешит поделиться с Бойлем. Он пишет ему в 1679 году большое письмо с изложением своих мыслей о строении природы, эфире и тяготении. Понятие эфира, по сравнению с «гипотетическим» мемуаром 1675 года, претерпело существенные изменения. Он всё дальше отходит от декартовского пространства, заполненного вихрями материи. Теперь эфир остаётся в основном внутри тел и непосредственно у их поверхности. Но он по-прежнему ответствен за тяготение.
Из письма Бойлю следует важный вывод. «Эфир» — этот «бог из машины» тоже не способен разъяснить противоречий декартовской философии. В поисках движущего начала Ньютон всё чаще обращается к понятию «сила», столь плодотворному для физики и столь бесплодному в алхимии. Разочаровываясь в алхимических экспериментах, он всё чаще размышляет о силе. Не может ли она стать тем недостающим в механической философии звеном, которое способно оживить пассивную косную материю, оживить природу и весь мир? Не может ли она быть тем активным началом, которым в алхимии является мужское начало, в противовес женскому — пассивному? Это — развитие первых робких подходов к разработке понятия «силы», начатых в чумные годы, шаг к вездесущей, всепроникающей «силе» «Начал» — главному понятию новой механики.
В небольшом мемуаре «О природе кислот», готовом уже в 1692 году, Ньютон идёт ещё дальше, объясняя с помощью силы действие кислот:
«У них имеется большая притягательная сила, и в этом состоит их действенность… Природа их средняя между водой и телами, и они притягивают то и другое. Вследствие притягательной силы своей они собираются вокруг частиц тел, как каменных, так и металлических… Посредством силы притяжения кислоты разрушают тела, двигают жидкость и возбуждают тепло, разделяя при сём некоторые частицы настолько, что они превращаются в воздух и создают пузырьки. В этом состоит основа растворения и брожения…»
Здесь «сила» выступает в качестве активного начала, определяющего ход химических процессов.
В конце 1691 года умер Бойль. Его бумаги перешли к друзьям, в том числе к Локку.
26 января 1692 года
«Я слышал, что г-н Бойль сообщил свой процесс относительно красной земли и ртути Вам, так же как и мне, и перед смертью передал некоторое количество этой земли для своих друзей».
7 июля 1692 года
«Вы прислали мне земли более, чем я ожидал. Мне хотелось иметь лишь образец, так как я не склонен выполнять весь процесс. Ибо, серьёзно говоря, я в нём сомневаюсь. Но поскольку Вы собираетесь его осуществить, я был бы рад при сём присутствовать».
Это равнодушие было деланным. Ньютон заперся в своей лаборатории и не выходил оттуда ни днём ни ночью. Ни днём ни ночью не угасал огонь в печах. Книга Агриколы, которая была настольным справочником Ньютона в его алхимических опытах, покрылась новыми пятнами от кислот и была прожжена во многих местах новыми искрами.
Золота не получалось. Он подозревал, что Бойль оставил неверные инструкции и не те материалы. В своём августовском письме Ньютон замечает, что ни один из тех, кто объявил об удавшихся якобы у них опытах по «мультипликации» золота (речь идёт о реакции, в результате которой количество исходного золота увеличивается), не стал богачом; напротив, ни у кого из них не было денег для продолжения опытов.
Химия была в те годы в таком состоянии, что практически любая реакция вела к открытию. С пронзительным умом Ньютона их просто не могло не быть! Тем не менее мы не знаем ни одного химического открытия Ньютона. А ведь он с увлечением занимался химическими и алхимическими опытами и отдал им тридцать лет своей жизни.
Возможно, часть рукописей Ньютона сгорела. Возможно, алхимические рукописи Ньютона были последним из того, что он хотел бы представить на суд общества. А то, что Ньютон опубликовал по химии в «Философских трудах», не несёт на себе печати его гения. Оставшиеся после него записи и рукописи по алхимии также не принадлежат великому химику.
В 1701 году Ньютон написал статью «Шкала степеней теплоты». В ней излагаются законы охлаждения твёрдых тел, подтверждается известное положение о том, что вода закипает при одной и той же температуре. Эта мысль была совсем не новой, хотя Ньютон выразил её с присущей ему строгостью и точностью. Он описал возможные принципы создания приборов для измерения температуры. Каждый раз, когда Ньютон пытался заниматься химией, его вновь выносило на физику. Он высказал несколько тонких замечаний о строении тел, о природе кислот. Однако повторим: его открытия в химии неизвестны. Это одна из загадок ньютоновского гения.
Но разве не загадка — сам Ньютон, занимающийся алхимией? Задумавшись однажды над этим, лорд Кейн, знаток рукописей Ньютона, сказал:
— О Ньютоне принято говорить как о первом величайшем учёном современной эпохи, как о рационалисте, научившем нас думать на основе трезвого и непредубеждённого анализа. Я не представляю его себе в этом свете. Я думаю, что таким его не сможет представить себе всякий, кто познакомится с содержимым сундука, который он упаковал, окончательно покидая Кембридж в 1696 году, и который, хотя и не в полной сохранности, дошёл до наших дней. Ньютон не был первым в эпохе рационализма. Он был последним из волшебников… Исаак Ньютон, родившийся после смерти отца в рождество 1642 года, был последним любознательным ребёнком, у которого маги вызывали искреннее и почтительное уважение.
Когда некий учёный ещё при жизни Ньютона начал собирать материалы об истории Тринити-колледжа его времени — стал посещать библиотеки и архивы, встречаться со старожилами, он мог обнаружить множество красочных подробностей из жизни Пирсона, Рея, Барроу и Бабингтона. О Ньютоне никто ничего не помнил. Некоторые члены Тринити не знали такого имени. Ни один из бывших студентов Ньютона в Кембридже также не припомнил его с определённостью. Ньютона не вспомнил канцелярист колледжа: это имя ему ничего не говорило.
Лишь сейчас, когда Ньютониана разрослась до сотен томов, можно наконец выявить, какие подробности из кембриджских лет жизни Ньютона просочились сквозь толщу веков.
Главная черта Ньютона, которая упорно всплывает в воспоминаниях и документах той поры, — это его рассеянность. Кто-то вспомнил, как он приходил в Тринити-холл обедать в затрапезной одежде, кто-то вспомнил, как он, наоборот, приходил туда же прямо из церкви, в стихаре. Ещё кто-то рассказал, что однажды, пригласив гостей и усадив их за стол, он пошёл в чулан за бутылкой вина. Там его осенила некая мысль, и он к столу не вернулся. Гости не раз уходили, не попрощавшись, не желая тревожить его, близоруко уткнувшегося в бумаги.
Он не знал иного времяпрепровождения, кроме научных занятий. Не посещал театров и уличных зрелищ, не ездил верхом, не гулял по живописным кембриджским окрестностям, не купался. Он не особенно жаловал литературу и совсем не любил поэзию, живопись и скульптуру; коллекцию римских статуй лорда Пемброка — одного из влиятельных членов Королевского общества — он называл не иначе как «каменными куклами». Все дни его проходили в размышлениях. Он редко покидал свою келью, не выходил в Тринити-холл обедать вместе с другими членами колледжа, за исключением обязательных случаев. И тогда каждый имел возможность обратить внимание на его стоптанные каблуки, спущенные чулки, незастёгнутые у колен бриджи, не соответствующую случаю одежду и всклокоченные волосы. В разговорах за «высоким столом» он обычно участия не принимал и в крайнем случае отвечал на прямые вопросы. Когда его оставляли в покое, он безучастно сидел за столом, глядя в пространство, не пытаясь вникнуть в разговор соседей и не обращая внимания на еду — обычно блюда уносили до того, как он успевал что-нибудь заметить и съесть.
Экономя время, он теперь редко ходил на утреннюю службу, предпочитал ей 2–3 часа плодотворных утренних занятий. Так же, впрочем, он поступал и по отношению к вечерней службе, поскольку любил заниматься и вечером. Говаривали, что он едва ли знал, где размещается молельня Тринити-колледжа. Зато в воскресенье он обязательно ходил в церковь святой Марии.
Он старался экономить время на еде и сне, почти никогда не ужинал, спал мало. Он использовал даже бессонницу — обладая исключительной памятью, производил в ночной темноте сложные вычисления. Вседозволенность Кембриджа он употребил для научных занятий.
Обычно он ложился в полночь. И не усталость влекла его в постель, а зов часов, знание организма. Засидевшись позднее, он на следующий день обычно чувствовал себя неважно, ум был не так быстр. Иногда, чтобы отвлечься от научных дум, он читал под вечер что-нибудь полегче, например по медицине. Он прекрасно знал анатомию и физиологию, различные методы лечения, что в большей мере способствовало его завидному долголетию.
После избрания в члены колледжа Ньютон с Джоном Викинсом обходились одной комнатой — полагающуюся им вторую они сдавали внаём. Так было до 1684 года, пока Викинс не принял сана и не получил прихода. Но Викинс практически не жил в Кембридже уже с 1677 года. Викинс был скрытен, часто таинственно, без объяснения и надолго исчезал, потом как ни в чём не бывало появлялся вновь. Когда Викинс бывал в отъезде, Ньютон практически не писал ему, хотя был к нему, по-видимому, очень привязан. Вся его переписка с человеком, с которым он прожил в одной комнате почти двадцать лет, ограничивается несколькими записочками, обычно связанными с передачей денег, вырученных за комнату. Когда Викинс получил приход, Ньютон послал ему деньги для покупки нескольких дюжин Библий для неимущих прихожан. И это всё.
Круг знакомых и друзей, приобретённых за тридцать кембриджских лет, весьма узок. Он был хорошо знаком с Барроу, Бабингтоном и Муром. Но обычно в гости к нему приходили два-три человека: Эллис, член Кийс-колледжа, Лафтон, библиотекарь Тринити, и химик Вигани. Впрочем, с Вигани Ньютон разошёлся, как только тот беспечно позволил себе рассказать весьма двусмысленный анекдот про монаха.
Перед тем как расстаться с кругом общения Ньютона, остановимся немного на мифе о «кембриджском друге» — Френсисе Астоне.
Весной 1669 года Ньютон написал знаменитое письмо, адресованное Френсису Астону, члену Тринити-колледжа, который собирался в то время выехать за границу. Известно, что Ньютон сам никогда за границей не был, да и вообще дальше Лондона и Вулсторпа от Кембриджа не отъезжал. Вот это письмо.
18 мая 1669 года
«Друг,
поскольку в письме Вашем Вы позволяете мне высказать моё суждение о том, что может быть для Вас полезным в путешествии, я сделаю это значительно свободнее, чем было бы прилично в ином случае. Я изложу сначала некоторые общие правила, из которых многое, думаю, Вам уже известно; но если хотя бы некоторые из них были для Вас новы, то они искупят остальное; если же окажется известным всё, то буду наказан больше я, писавший письмо, чем Вы, его читающий.
Когда Вы будете в новом для Вас обществе; то 1) наблюдайте нравы; 2) соблюдайте своё достоинство, и Ваши отношения будут более свободны и откровенны; 3) в разговорах задавайте вопросы и выражайте сомнения, не высказывая решительных утверждений и не затевая споров; дело путешественника учиться, а не учить. Кроме того, это убедит Ваших знакомых в том, что Вы питаете к ним большое уважение, и расположит к большей сообщительности в отношении нового для Вас. Ничто не приводит так быстро к забвению приличий и ссорам, как решительность утверждения. Вы мало или ничего не выиграете, если будете казаться умнее или менее невежественным, чем общество, в котором Вы находитесь; 4) реже осуждайте вещи, как бы плохи они ни были, или делайте это умеренно из опасения неожиданно отказаться неприятным образом от своего мнения. Безопаснее хвалить вещь более того, чего она заслуживает, чем осуждать её по заслугам, ибо похвалы нечасто встречают противоречие или по крайней мере не воспринимаются столь болезненно людьми, иначе думающими, как осуждения; легче всего приобрести расположение людей кажущимся одобрением и похвалой того, что им нравится. Остерегайтесь только делать это путём сравнений; 5) если Вы будете оскорблены, то в чужой стороне лучше смолчать или свернуть на шутку, хоть бы и с некоторым бесчестием, чем стараться отомстить; ибо в первом случае Ваша репутация не испортится, когда Вы вернётесь в Англию или попадёте в другое общество, не слыхавшее о Вашей ссоре. Во втором случае Вы можете сохранить следы ссоры на всю жизнь, если только вообще выйдете из неё живым. Если же положение будет безвыходным, то, полагаю, лучше всего сдержать свою страсть и язык в пределах умеренного тона, не раздражая противника и его друзей и не доводя дело до новых оскорблений. Одним словом, если разум будет господствовать над страстью, то он и насторожённость станут Вашими лучшими защитниками. Примите к сведению, что оправдания в таком роде, например: «Он вёл себя столь вызывающе, что я не мог сдержаться», понятны друзьям, но не имеют значения для посторонних, обнаруживая только слабость путешественника.
К этому я могу прибавить несколько общих указаний по поводу исследований и наблюдений, которые сейчас пришли мне в голову. Например: 1) надо следить за политикой, благосостоянием и государственными делами наций, насколько это возможно для отдельного путешественника; 2) узнать налоги на разные группы населения, торговлю и примечательные товары; 3) законы и обычаи, поскольку они отличаются от наших; 4) торговлю и искусство, насколько они выше или ниже, чем у нас в Англии; 5) укрепления, которые попадутся Вам на пути, их тип, силу преимущества обороны и прочие военные обстоятельства, имеющие значение; 6) силу и уважение, которым пользуются дворяне и магистрат; 7) время может быть не бесполезно потрачено на составление каталога имён и деяний людей, наиболее замечательных в каждой нации по уму, учёности или уважению; 9) наблюдайте естественные продукты природы, в особенности в рудниках, способ их разработки, извлечение металлов и минералов и их очищение. Если Вы встретитесь с какими-либо превращениями веществ из их собственных видов, как, например, железа в медь, какого-либо металла в ртуть, одной соли в другую или в щёлочь и т. д., то обращайте на это внимание более всего, так как нет опытов в философии, более проясняющих и обогащающих, чем эти; 10) цены съестных припасов и других предметов; 11) главные продукты данной страны.
Эти общие указания (которые я мог сейчас придумать) могут, во всяком случае, пригодиться при составлении плана Вашего путешествия. Что касается частностей, то вот что я мог сейчас надумать: 1) Узнайте, превращают ли в Хемнице в Венгрии (где находятся рудники золота, меди, железа, купороса, антимония и пр.) железо в медь растворением в купоросной воде, которую находят в расселинах скал в рудниках, и затем плавлением в густом растворе на сильном огне, причём при охлаждении обнаруживается медь. Говорят, что то же самое делается и в других местах, которые я теперь не могу припомнить, может быть, в Италии. Лет 20–30 тому назад оттуда привозили особый купорос (называемый римским купоросом), более благородный, чем вещества, называемые теперь этим именем; его трудно найти — возможно, его выгодней применять для получения меди. 2) Не существуют ли в Венгрии, Словакии Богемии, около города Эйла, или в Богемских горах, вблизи Силезии, золотоносные реки; может быть, золото растворено в какой-нибудь едкой воде, вроде царской водки, и раствор уносится потоком, пробегающим через рудник. Держится ли в тайне или практикуется открыто способ класть ртуть в эти реки, причём её оставляют там до тех пор, пока она не напитается золотом, после чего ртуть обрабатывается свинцом и золото очищается. 3) В последнее время в Голландии изобрели мельницу для выравнивания и, как я думаю, также для полировки стёкол; может быть, стоило бы её посмотреть. 4) В Голландии находится некто Бори, который несколько лет содержался папой в тюрьме с целью выпытывать от него секреты (как я слышал) большой важности как для медицины, так и для обогащения; ему удалось скрыться в Голландию, где он охраняется. Кажется, он обыкновенно одет в зелёное платье. Пожалуйста, справьтесь о нём и узнайте, принесли ли какую-нибудь пользу его таланты голландцам. Вы можете также узнать, не имеют ли голландцы каких-нибудь средств для предохранения кораблей от червей во время их путешествий в Индию. Применяются ли часы с маятником для определения долгот и т. д. Я очень устал и, не вдаваясь в долгие комплименты, желаю Вам только доброго пути, и да будет господь с вами. Ис. Ньютон.
Пожалуйста, пишите нам о Вашем путешествии. Я передал две Ваши книги д-ру Арроусмиту».
Это письмо умилило не одного биографа Ньютона зрелостью жизненных суждений и основательностью советов. Недавно установлено, однако, что это письмо в своей основе является сокращением рукописи Роберта Саутвелла «О путешествиях». Даже последний параграф письма, как будто бы глубоко личный, касающийся химических занятий Ньютона, как выяснилось сейчас, составлен на основании алхимической книги Михеля Майера. Это письмо действительно красноречиво. Но не в тех отношениях, как обычно считают. Ньютон, как свидетельствуют его бумаги, сам прекрасно понимал смехотворность советов человека, совершавшего путешествия из Кембриджа в Лондон и Вулсторп. Письмо до какой-то степени обнаруживает «книжность» мировосприятия Ньютона, стремление подчинить людское поведение жёсткой научной схеме. Жизненные рецепты письма умозрительны; за ними не стоит выстраданный опыт. По форме письмо напоминает образец из «пособия по писанию писем», чрезвычайно популярного у студентов Кембриджа тех лет; но вместо письма дружеского или любовного Ньютон пишет научное письмо другу — жанр, неведомый в «пособии». Письмо действительно уникально. Это
В феврале 1677 года, когда он вновь получил письмо от Линуса, Ньютон решил не отвечать ему, хотя в письме было над чем подумать и на что ответить. Вместо этого он решил опубликовать всю свою переписку по оптике и цветам, собрать вместе письма, направленные ему Пардизом, Гуком, Лукасом, Линусом, и свои ответы на них. Гравёр Давид Логан, который жил тогда в Тринити, сделал для будущего издания гравюры и даже портрет самого Ньютона. Недавно были обнаружены и несколько отпечатанных листов этого будущего труда.
Как-то, устав от размышлений над этой книгой, от полумрака своей кельи, едва разгоняемого свечой, Ньютон вышел на двор Тринити, прошёл на лужайку для игры в шары и там кого-то встретил. Беседа сильно взволновала его, он увлёкся и забыл, что оставил на столе свечу. Она догорела, огонь перекинулся на бумаги. Ньютон впоследствии говорил, что среди сгоревшего были бумаги по оптике и флюксиям, некоторые же считают, что с бумагами сгорел и большой алхимический трактат Ньютона.
По мнению исследователей, пожар у Ньютона случился зимой 1677/78 года, хотя его описания встречаются у разных авторов и через несколько лет. Это подтверждает перерыв в Ньютоновой переписке с 18 декабря 1677 года до февраля 1678 года. Пожар, несомненно, был следствием угнетённого, затравленного состояния духа Ньютона, потери им душевного равновесия и самоконтроля. Об этом косвенно свидетельствует написанное неожиданно и необычайно агрессивное письмо Лукасу, который добивался всего лишь того, чтобы его поняли. Некоторые биографы связывают потерю душевного равновесия Ньютона, приведшего к пожару, с решением Викинса покинуть Тринити. Он исчезал постепенно, но от этого — не менее болезненно.
Ньютон всё глубже погружался в себя. В его черновиках мы видим бессознательно набросанные им собственные портреты, его бесчисленные подписи.
Но главной причиной временного душевного расстройства Ньютона стала, по-видимому, смерть Барроу. Поехав осенью 1677 года в Лондон читать проповедь, он там простудился, подхватил воспаление лёгких и вопреки советам Ньютона (при простуде тот обычно запирался в комнате, ложился дня на два-три в постель и старался основательней пропотеть) стал лечиться по-своему, так, как он научился в своих далёких путешествиях по Востоку, — опиумом. По-видимому, доза была слишком сильной. Барроу умер. Ему было всего 47 лет. Это был самый близкий Ньютону человек, его учитель, его поддержка и опора. Как позднее вспоминал Ньютон, ни для кого эта смерть не была большей потерей, чем для него.
Через два года его призвала к себе мать Анна. Она предчувствовала близкий конец. За несколько дней до приезда Исаака она ездила в Стэнфорд к младшему сыну Бенджамену, подхватившему в буйной жизни своей какую-то заразную лихорадку. Бена знобило, и Анна менялась с ним постелями, согревая ложе. Ничто не помогло — быстротечная лихорадка скосила его за несколько дней.
Но мать Анна заразилась сама и тяжело заболела. Ньютон ухаживал за ней с неподдельным сыновним почтением, менял ей бельё, делал настойки и микстуры, ставил припарки, поил лекарствами, смазывал нарывы. Как сведущий в медицине человек, он проделывал всё с умением и проворством, старался облегчить её страдания, но не мог не видеть, что она доживает последние дни.
Мать бредила и в жару, взяв руку Исаака, что-то бормотала. Из бессвязных её речей можно было понять, что она ещё не теряла надежды увидеть его священнослужителем. В завещании Анны значились 50 фунтов Бенджамену, 80 фунтов Мэри и её семье и 300 фунтов незамужней дочери Анне. Исааку же были завещаны два поля в соседнем Букминстере, дом в Вулсторпе, домашний скарб и нехитрые материнские пожитки. Мать Анна завещала Исааку похоронить её по своему разумению. Ньютон выбрал ей белый шерстяной саван и лучший в Грэнтэме гроб.
Теперь он остался совсем один…
Одинокое его существование заставило больше прислушиваться к самому себе, находить у себя всевозможные болезни. Он был выраженным ипохондриком и в то же время — искусным лекарем, мгновенно гасящим свои действительные или мнимые болезни. Здоровье у него было отменное. Он не знал даже зубной боли. В его щербатый век, когда от всех видов зубной боли существовало лишь одно лекарство — вырывание зубов, — он до старости мог поражать своей белозубой улыбкой. Это, правда, случалось крайне редко — он был неулыбчив.
Ни беспрерывный, без отдыха, труд, ни отсутствие элементарного режима, ни бессонные ночи, ни сидячий образ жизни, ни постоянно — впрочем, умеренно — употребляемое вино и в юности — табак не смогли расстроить его здоровья.
Он никогда не мучился и кажущимся однообразием своей жизни. В Лондоне и других местах, куда он попадал, он не проявлял ни малейшего интереса к памятникам старины и архитектуре или живописным пейзажам.
Его одиночества не могли объяснить, и поэтому приписывали ему несуществующих спутников. Одно время молва заставила его иметь собачку Даймонд, опрокинувшую в 1692 году свечу на его ценные рукописи. Затем слухи принесли в его владение жирного кота — «притчу во языцех Кембриджа», съедавшего и ужин и завтрак метра, а позже — «любимую кошку». Она настойчиво мяукала, просилась в келью и обратно, и Ньютон прорезал отверстие по её размеру в нижней части двери для беспрепятственного входа и выхода. Когда кошка в соответствии с вечным законом жизни принесла котят, Ньютон с той же целью прорезал в двери рядом с отверстием для кошки отверстие и для котят — соответственно меньшего размера.
В действительности же он никогда не держал и вообще не любил домашних животных.
Другая легенда, увековеченная кембриджским фольклором и известным карикатуристом Крюикшенком, — Ньютон делает предложение юной леди, нежно держа её за руку, но вместо того, чтобы поднести нежные пальчики к губам, он утрамбовывает с помощью одного из них табак в трубке! Этот рассказ пользовался большой популярностью в Европе; считалось, что он правдоподобен, поскольку первым его рассказал уважаемый математик Иоганн Бернулли.
Ничего даже отдалённо напоминающего эту ситуацию в жизни Ньютона не происходило.
…После смерти матери он вернулся в Кембридж. Теперь он так страстно желал разорвать круг одиночества, что светскую улыбку нового феллоу — коммонера, севшего за высоким столом в Тринити-холле, сразу принял за участие и симпатию. И он доверился этому восемнадцатилетнему студенту, молодому аристократу, полюбил его, сделал своим другом.
Звали его Чарлз Монтегю. Это был, как говорилось в геральдическом справочнике, «четвёртый сын младшего сына первого графа Манчестерского». Длинная лестница титулов могла означать лишь одно — денег у Чарлза не было, и он обязан был пробиваться в жизни сам.
Исследователи гадают: что общего нашли между собой поседевший и близорукий Ньютон и юноша из блестящей семьи? Ни тот ни другой не могли даже представить себе, какое большое влияние на их судьбы приобретёт эта дружба.
И дело даже не в том, что они имели общие интересы в области натуральной философии и алхимии, хотели совместно создать в Кембридже своё философское общество. Дело в том, что честолюбивый и бедный Чарлз хотел сделать административную карьеру, вступил в партию вигов и постепенно стал вовлекать Ньютона в свои политические игры.
Ньютон пошёл на это довольно легко — к тому были предпосылки. Общественная карьера Ньютона начинается с нашумевшего в своё время «дела монаха Албана Френсиса». Король Яков II, сменивший на троне Карла II, видимо, забыл, что со времён Кромвеля короли могут ездить только медленным шагом и сильно ослабив поводья.
Пытаясь выдать себя за веротерпимого монарха и будучи католиком, Яков II решил ослабить сильные англиканские организации в Оксфорде и Кембридже. Здесь неуклонно соблюдали правило не ставить католиков на административные посты и не давать папистам учёных степеней. Желая сломать сопротивление, король приказал Оксфорду сделать деканом одного из колледжей католического священника Джека Массея. Университет не покорился, и Яков II решил продолжить своё дело в более уступчивом всегда Кембридже. Доктор Печчел, вице-канцлер, согласился принять в учёное сословие рекомендованного королём монаха Албана Френсиса, но с одним условием: будущий магистр, как и все, должен принести две присяги: на преданность англиканской церкви и на ненависть к церкви римской. Монах, естественно, не согласился. Тогда пошли на компромисс: степень дали, но отказали в тех правах, которые степень давала.
Король не удовлетворился половинчатым решением и написал грозное письмо членам совета университета. В ответе королю совет писал, что ему не хотелось бы причинять королю каких-либо огорчений, что членам его известно о королевском гневе, но что тем не менее совет считает невозможным не отстаивать давние привилегии университета и не исполнять законов.
Результатом письма стало то, что университет должен был теперь доказывать справедливость своей позиции перед недавно возрождённым высшим церковным судом, возглавляемым жёстким и продажным судьёй Джеффрисом. Делегация Кембриджского университета — восемь человек во главе с доктором Джоном Печчелом, с Бабингтоном и Ньютоном в её составе прибыла в Лондон. Перед вызовом к Джеффрису члены делегации потеряли кембриджскую смелость, стали колебаться, склоняться к компромиссу — пусть Албан Френсис получит свои права, но король подтвердит, что такое не станет прецедентом.
Ньютон долго молчал, не участвуя, казалось, в обсуждении… Но когда увидел, куда идёт дело, категорически отказался подписать покаянную петицию.
— Это означает — сдаться!
— Возможно, но ведь вы не пойдёте один к Джеффрису и не заявите ему о своём несогласии? — ехидно спросил Печчел.
Ньютон медленно подошёл к столу, где лежала петиция.
— Университет живёт по древним обычаям и законам, установленным не нами. Эти обычаи и законы многие века уважались всеми, даже королями. Раз уступив, мы навсегда потеряем нашу свободу. Тогда и относительно научных истин нам придётся спрашивать совета у властей предержащих. Только будучи свободными вы можете говорить языком правды. И кроме того, сам закон — адвокат это подтвердит, — к счастью, не даёт нам права поддаться искушению и подчиниться.
Адвокат поддержал Ньютона:
— Да, закон гласит именно так. Мы не можем провозгласить достопочтенного Албана Френсиса магистром до тех пор, пока он не объявит публично, каково его вероисповедание. Если он скажет, что он католик, мы вынуждены в соответствии со своим уставом отказать ему. Если он скажет, что он протестант, он солжёт, и тогда он не может быть магистром как лжец. Иначе говоря: законы говорят о том, что уступить невозможно.
Перешёптывания и споры среди семерых. Страх борется с благородством. В конце концов благородство, поддержанное законом, неуверенно побеждает.
Вечером Ньютон пишет письмо неизвестному корреспонденту.
1681 год
«Будьте мужественны и преданны законам, и тогда вы не потерпите поражения… Честное мужество в подобных делах обеспечит успех, если закон на нашей стороне… Все честные люди обязуются по божеским и человеческим законам повиноваться законным приказаниям короля, но если его величество по чьему-либо совету потребует такого дела, которое не может быть исполнено по закону, то ни один человек не должен страдать от того, что пренебрежёт этим».
…На следующее утро они предстали перед Джеффрисом. Канцлер долго слушать делегацию не стал. Когда заикающийся от страха Печчел закончил свою речь, осталось совершенно неясным, что же он предлагал. Бабингтон пытался помочь ему, но Джеффрис грубо оборвал заступника.
— Ну нет, добрейший доктор, вы уж помолчите; вы ведь ещё пока не вице-канцлер; вот когда вы им станете, мы вас и послушаем. Но что ясно мне — что достопочтенный Печчел далее вице-канцлером быть не может. — И, обращаясь откуда-то сверху, неземным голосом, ко всем: — Ступайте и не грешите больше, не то с вами могут случиться куда худшие вещи!
Делегация возвращалась в Кембридж ничего, казалось, не добившись, более того — Печчела уволили. Время, однако, показало что это не было поражением. Монах взял заявление назад, дело постепенно заглохло. Королю посоветовали не поднимать острых проблем, не превращать в открытую борьбу конфликт между католицизмом и абсолютной монархией, поддерживаемых партией тори, с одной стороны, и между протестантизмом и относительной университетской вольницей, опирающихся на партию вигов, — с другой. Но было поздно.
Университет не сдался. Место Печчела занял Балдерстон, оказавшийся твёрдым хранителем университетских прав. Кембридж объединился с Оксфордом, университеты стали центрами возмущения. Недовольство королём, его самодержавными замашками пустило корни и в Лондоне, и в парламенте. В апреле 1681 года Яков II подписал Акт веротерпимости, уравнивающий в правах католиков и протестантов, а в июле распустил уже неподвластный парламент. Против акта дружно выступили епископы, их заключили в Тауэр. Но уже через неделю их выпустили: суд присяжных их оправдал. Политические лидеры отвернулись от Якова II и написали прошение Вильгельму Оранскому — штатгальтеру (наследственному президенту) Нидерландов — с приглашением занять трон. Адмирал Герберт, переодевшись в матросское платье, поспешил с петицией в Голландию, к Вильгельму. Яков в испуге бежал из страны, а Вильгельм Оранский высадился в Англии и тут же занял трон. Произошла «Славная революция», как её называют в английской историографии за её бескровность.
Занятая Ньютоном в деле Албана Френсиса принципиальная позиция привела к росту его популярности в университете. Из затворника он стал превращаться в общественную фигуру. Его даже выдвинули университетским депутатом от вигов в парламент. После того как Стюарты пали, его вновь избрали, и он был вместе с Чарлзом Монтегю членом Конвента — учредительного парламента, который должен был решить вопрос о королевской власти и управлении страной после «Славной революции» 1688 года. Говорят, что Ньютон не проявлял в парламенте сколько-нибудь заметной активности и единственным его выступлением за время сессии будто бы было такое:
— Неплохо было бы закрыть окно, оратор может простудиться.
На самом деле Ньютон защищал в парламенте университетские привилегии и права парламента. Постоянно писал вице-канцлеру о делах, держал университет в курсе происходящих парламентских баталий. Он приобрёл в парламенте богатый политический опыт, новые связи и знакомства. На одном из приёмов у лорда Пемброка, под сенью его «каменных кукол», он познакомился с Христианом Гюйгенсом и Джоном Локком, философом, с которым подружился и вступил в переписку. Познакомился и подружился он и с молодым и способным швейцарским математиком Фацио де Дюйе, преклонявшимся перед гением Ньютона. Ньютон приблизил его к себе, сделал одним из доверенных друзей.
В результате «Славной революции» на английский престол сел Вильгельм Оранский, который тут же стал нещадно преследовать якобитов, папистов, еретиков. Те, кто поддерживал короля Якова, жестоко поплатились. Даже детям не было пощады. Цена человеческой жизни упала.
Положение Ньютона было непростым. Бывало, что его поддерживали те, чьи имена сейчас были под запретом, — например Сэмюэль Пепис, президент Королевского общества, жестоко преследуемый за совращение своей жены в католичество. Сам Ньютон был под подозрением в связи с безбожными идеями «Начал». Он боялся, что кто-то выдаст и его тайный еретический арианизм, особенно нетерпимый в колледже Святой Троицы. Как можно было служить святой троице и не верить в троицу? Для еретиков наступило время ужасов и бедствий. Судьи обыскивали дома, захватывали бумаги. 1679 год обогатил английский язык словами «mob» — «буйное скопище» и «sham» — «надувательство». Пострадали десятки тысяч иноверцев.
Вступление Ньютона в общественную жизнь, его парламентское сидение на скамьях вигов тоже делало его слишком заметным, непривычно незащищённым!
Он чувствовал страшное беспокойство; сон пропал, работа не спорилась. Ему казалось, что его хотят убить, хотят разграбить его лабораторию, украсть его труды. Причины могли быть самые разные — зависть, ревность, месть, религиозный фанатизм, политический расчёт. Точной причины он не знал, но знал, что его преследуют… Временами ему казалось, что он сходит с ума. Впрочем, это казалось не ему одному.
В дневнике Гюйгенса есть следующая запись:
«29 мая 1694 года. — М. Colin, шотландец, сообщил мне, что 18 месяцев тому назад знаменитый геометр Исаак Ньютон впал в сумасшествие по причине усиленных занятий или же чрезмерного огорчения от потери, вследствие пожара, своей химической лаборатории и нескольких рукописей… он сделал некоторые заявления, которые указывали на повреждение умственных способностей. Он был немедленно взят на попечение своих друзей, которые заперли его в его доме и лечили, так что в настоящее время он настолько поправил своё здоровье, что начал понимать свои «Начала»…»
В бумагах Гюйгенса сообщение о болезни Ньютона встречается не раз — о серьёзном его состоянии то и дело говорится в письмах, которыми обменялись в 1694 году Гюйгенс, Лейбниц и маркиз Лопиталь, известный французский математик.
На мысль о временной потере Ньютоном контроля над своим душевным состоянием наводят некоторые его письма.
13 сентября 1693 года
«Сэр, спустя некоторое время после того, как г-н Миллингтон передал мне Ваше послание, он убедительно просил меня повидать Вас, когда я в следующий раз буду в Лондоне. Мне это было неприятно; но по его настоянию я согласился, не подумав, что делаю; ибо я чрезвычайно расстроен запутанным, положением, в которое попал; все эти двенадцать месяцев я не только плохо ел и спал, но и не имел прежнего спокойствия и прежней связи мыслей. Я никогда не намеревался получить что-нибудь через Вас или по милости короля Якова, теперь я чувствую, что должен отделаться от знакомства с Вами и никогда впредь не видеть ни Вас, ни остальных своих друзей, если только я смогу потихоньку от них ускользнуть. Прошу прощения за то, что сказал, что не хочу более видеть Вас, и остаюсь Вашим смиреннейшим и покорнейшим слугою.
И. Ньютон».
Пепис был поражён письмом и запросил Миллингтона, проживающего в Кембридже, о состоянии здоровья Ньютона.
30 сентября 1693 года
«Я встретил Ньютона 28 сентября, и, прежде чем я сам его просил, он сказал мне, что написал Вам очень неловкое письмо, которое его очень смущает; он прибавил, что находился в раздражённом состоянии, с больною головой и не спал почти пять ночей подряд. Он просит при случае передать Вам это и попросить Вас его извинить. Он чувствует себя теперь хорошо, хотя боюсь, что находится ещё в состоянии некоторой меланхолии, думаю, нет оснований подозревать, что его разум вообще тронут, и надеюсь, что этого никогда не будет; и я уверен, что всякий, кто любит науку или честь нашей нации, должен желать этого, — ибо насколько они ценятся, видно из того, что лицо, подобное Ньютону, находится в таком пренебрежении у тех, кто у власти».
Миллингтон не знал, что Ньютон написал не вполне вразумительное письмо и своему новому другу Локку:
16 сентября 1693 года
«Сэр!
Будучи того мнения, что Вы намерены запутать меня с женщинами, а также другими способами, я был так расстроен этим, что если бы мне сказали, что Вы больны и, вероятно, умрёте, я бы ответил, что было бы лучше, если бы Вы умерли. Сейчас я прошу у Вас прощения за этот недостаток чувства милосердия, потому что теперь я убеждён, что то, что Вы сделали, — правильно; я прошу простить меня за то, что дурно думал о Вас, и за то, что представил Вас отклонившимся от пути нравственности в Вашей книге об идеях и в другой книге, которую Вы предполагаете выпустить, так же, как и за то, что я счёл Вас за гоббиста.[29] Прошу также прощения за то, что я сказал или думал, что Вы хотите продать мне должность или запутать меня. Остаюсь Вашим покорнейшим и несчастнейшим слугой,
И. Ньютон».
Локк, чувствуя, что Ньютон болен, ответил ему сердечным, дружеским письмом, Ньютон медленно приходил в себя.
15 октября 1693 года
«В прошлую зиму, часто засыпая возле камина, я приобрёл расстройство сна, а летняя заразная болезнь совсем выбила меня из колеи. Когда я писал Вам, я не спал ночью и часа в течение двух недель, а за последние пять дней вообще не сомкнул глаз. Помню, что я о чём-то писал Вам, но что именно я сказал о Вашей книге, не помню. Если Вам угодно будет прислать мне выписку этого места, я Вам всё объясню, если смогу. Остаюсь Вашим покорнейшим слугой,
И. Ньютон».
Некоторые исследователи творчества Ньютона связывают его временное душевное нездоровье с происшедшим в 1691–1692 годах пожаром в его лаборатории, при котором якобы сгорели ценные рукописи по оптике и алхимии. Тот ли это пожар, который современные биографы относят к 1677 году, или ещё один пожар, неясно. Ясно лишь, что на рубеже 1691–1692 годов Ньютон впал в апатию, снова решил покончить с философией и заняться производством сидра.
Затем снова пробуждается бешеная энергия: он вдруг начинает бурно переписываться с Бентли; темы — исключительно богословские. Темп переписки всё возрастает; одно за другим летят письма — толстые, необычные, больше напоминающие трактаты. Конец 1692 года — апатия, сонливость, перемежающиеся с мучительной бессонницей. Начало 1693 года — глубокая меланхолия, бессвязность мыслей. К концу 1693 года он постепенно выздоравливает. Уже понимает свои «Начала».
Современные исследователи пытаются выяснить, что случилось со здоровьем и умственным состоянием Ньютона в годы 1691–1693-й.
Некоторые, например Спарго и Паундс, предположили, что заболевание Ньютона — меркуриализм, отравление ртутью. Этой болезнью болели зеркальные мастера в Нюрнберге и в Малайзии, и горняки древнего Алмадена, и шляпные мастера в Лондоне, имевшие дело с ядовитыми парами ртути. Известно, что ртуть была одним из основных компонентов в ньютоновских опытах. Войдя в раж, исследователи потребовали немедленно эксгумировать труп Ньютона из усыпальницы в Вестминстерском аббатстве и подвергнуть его химическому анализу. Когда это не удалось, исследователи выпросили везде, где было можно, завитки ньютоновских волос и исследовали их. Волосы нашлись в библиотеке Тринити-колледжа в Кембридже, несколько волосков оказалось между листками книги личной библиотеки графа Портсмутского. Чьи это были волосы, теперь сказать трудно, хотя не исключено, что хотя бы один образец был сострижен когда-то с головы Ньютона (до болезни или после — сказать невозможно). Исследователи сочли, что волосы срезаны у мёртвого Ньютона. В этом случае, приняв среднюю скорость роста волос за 10 см в год, мы должны предположить, что перед исследовавшейся порцией было сострижено по крайней мере три метра волос. Ясно, что эксперимент с исследованием волос с самого начала был обречён. Слабая надежда на успех была бы лишь в том случае, если бы эти волосы (если, конечно, они принадлежали Ньютону) были сострижены в период 1692–1694 годов.
Что же показали исследования волос — неизвестно чьих и неизвестно когда состриженных?
Они показали чрезмерное — в 10 раз больше нормы — содержание золота. Это богатая почва для всевозможных предположений, особенно в свете занятий Ньютона алхимией. Но не виновны ли здесь золотые буквы и золотые обрезы дорогих книг Тринитской, ньютоновской и портсмутской библиотек?
Что же касается признаков отравления ртутью, то они у Ньютона практически полностью отсутствовали. Если можно говорить о некоторой потере памяти и рассеянности, чувстве тревоги и подозрительности, характерных для меркуриализма, то Ньютона никак нельзя сравнить с полностью беззубыми нюрнбергскими и малайскими зеркальщиками и лондонскими шляпниками — до старости он сохранил прекрасные зубы. Нельзя заметить никакого стойкого изменения в почерке Ньютона — он устойчив до старости, а при меркуриализме должны постоянно дрожать руки, что случалось у Ньютона лишь временами. Не отмечены были у него и расстройства речи.
Впрочем, это и естественно. Рассчитано, что все ньютоновские эксперименты, вместе взятые, были в сотни раз менее опасны, чем «нормальные» рабочие дозы шляпных мастеров.
Гораздо естественней предположить, пишут современные исследователи, наступление у Ньютона депрессии, связанной с наступлением некоторого критического возраста — её признаками являются нарушение сна, потеря аппетита, меланхолия, тревожные видения. Обычно эта болезнь проходит безвозвратно за год-два. На эти обстоятельства у Ньютона могли наложиться пожар, выборы в парламент, неблагоприятные внешние обстоятельства.
Болезнь знаменует серьёзный душевный перелом Ньютона. Не случайно в письмах встречаются фразы о «месте». Ньютон всерьёз подумывает о смене своей научной деятельности на административную. Здесь и влияние Монтегю, и парламентские сидения Ньютона, и его временное помутнение сознания, и, возможно, ощущение того, что главные научные открытия уже позади.
На берегу Темзы, на холме Тауэр в Лондоне, между двойными каменными стенами, протянувшимися от Соляной до Колокольной башни, там, где узкая дорога зажата с обеих сторон приземистыми двухэтажными деревянными строениями, там, где стены обветшалых цехов и каретных сараев стойками упираются в мощёные выбитые мостовые, а глухо вмурованными железными скобами прилеплены к вековым стенам, где фасады строений причудливо повторяют изгиб крепостной стены, — жил своей скрытной жизнью, жил обособленно и тайно под сенью четырёх масляных фонарей город внутри города, крепость внутри крепости, главный кроветворный орган Англии — её Минт (монетный двор).
Здесь — сцена действия последних тридцати лет жизни Ньютона, так отличающейся от жизни на фоне мирных кембриджских пейзажей! И жизнь, и занятия лондонского Ньютона разнятся необычайно от того, что было в Кембридже. Разнятся — и в то же время продолжают, дополняют друг друга.
Первые идеи соединить, казалось, несочетаемое — «Ньютон» и «Минт» — появились давно, в 1691 году. Ещё тогда его новый друг, известный философ, идеолог вигов Джон Локк пытался, пользуясь своим большим влиянием в партии, вырвать для Ньютона должность на Монетном дворе. Поговаривали, что Ньютон относился к этой идее весьма благосклонно, видя в ней и административную, и финансовую перспективу.
В 1695-м снова поползли слухи. Освободилась вакансия контролёра Монетного двора. Слухи усилились в начале 1696 года, когда дела в казначействе стали особенно плохи. Ньютон решительно их опровергал:
14 марта 1696 года
«…Если опять пойдут разговоры о предложении занять мне… место в Монетном дворе, прошу их пресекать: уведомите Ваших друзей о том, что я не желаю никакой должности на Монетном дворе и не имею намерения занимать место г-на Хоара, даже если оно и будет мне предложено».
А всего через неделю почтовая карета доставила ему письмо от Чарлза Монтегю, теперь — лорда Галифакса, его друга и канцлера казначейства.
19 марта 1696 года
«Сэр, я очень рад тому, что могу наконец представить убедительное доказательство своих дружеских к Вам чувств, а также той дани уважения, которую король воздаёт Вашим достоинствам. Г-н Эвертон, смотритель Монетного двора, назначен сейчас одним из комиссионеров палаты общин, и король обещал мне сделать смотрителем Монетного двора г-на Ньютона. Должность Вам очень подходит, она — главная на Монетном дворе, с жалованьем 500 или 600 фунтов в год. Это не такое уж сложное дело и, кроме того, не потребует больше времени, чем Вы сможете ему уделить. Я хотел бы, чтобы Вы были готовы к этому как можно быстрее, а я уж позабочусь тем временем о Ваших полномочиях. Приходите ко мне сразу, как прибудете в Город, чтобы я мог тут же подвести Вас для целования руки короля. Думаю, Вы сможете поселиться рядом со мной.
Остаюсь и пр., Чарлз Монтегю».
Монтегю отнюдь не случайно выбрал Ньютона. Человек тонкий и проницательный, он понимал, что в делах казначейства, во всей финансовой политике Англии нужно глубоко разобраться и предложить решения, основанные не на капризах политиков и здравомыслии финансистов, а на трезвом научном анализе обстановки. Недаром среди его назначенцев были Ньютон, Галлей, Локк и Кларк. Эдмонду Галлею и Сэмюэлю Кларку предлагали должности на провинциальных монетных дворах, Джону Локку — должность в министерстве торговли.
Возможно, это была одна из первых осознанных попыток использования учёных в управлении государством. И не вина учёных, что их советам не вняли и всё осталось как прежде.
Кризис финансовой системы Англии, за разрешение которого столь активно взялся Чарлз Монтегю, имел старые корни. Англия уже давно была наводнена фальшивой и неполновесной монетой. Маколей писал в «Истории Англии»: «Зло, которое терпела Англия за четверть века от дурных королей, дурных министров, дурных парламентов и дурных судей, едва ли равнялось тому злу, которое причиняли ей каждый год дурные кроны и дурные шиллинги… Зло ежедневно, ежечасно ощущалось повсюду почти каждым: на ферме и на поле, в кузнице и у ткацкого станка, на океане и в рудниках. При каждой покупке был спор из-за денег; у каждого прилавка шла брань с утра до ночи. Работники и хозяева ссорились каждую субботу, как приходил расчёт… Цены предметов первой необходимости — обуви, эля, овсяной муки — стремительно росли».
До 1662 года, до Реставрации, монету производили вручную. Листы серебра резали ножницами, округляли куски молотком, сильными ударами штамповочных молотов выбивали аверс и реверс. Естественно, монеты не могли иметь одинакового веса, отличались в обе стороны от установленной нормы. И столь же естественно, злоумышленники, презрев угрозу смертной казни через повешение, стали обрезать монеты по ободкам, составляя из этих обрезков целые состояния.
При Карле II для изготовления денег впервые применили штамповальную машину, выписанную из Франции. Молотки, долота и ножницы были забыты. Монеты получались теперь правильной формы, а по ободку их был узор или шла надпись «Красота и безопасность». Обрезывание монет стало невозможным. Казалось, всё должно было прийти в норму. Этого не случилось. Была сделана ошибка: старые и новые монеты имели равные права хождения.
Маколей писал: «Каждый неглупый человек должен был бы сообразить, что если казна принимает равноценными полновесную монету и лёгкую, то не полновесная вытеснит лёгкую из обращения, а сама будет вытеснена ею… Лошади в Тауэре продолжали ходить по своему кругу. Телега за телегой с хорошей монетой продолжали выезжать с Монетного двора, а хорошая монета по-прежнему исчезала тотчас же, как выходила в обращение. Она массами шла в переливку, массами шла за границу, массами пряталась в сундуки; но почти невозможно было отыскать хоть одну новую монету в конторке лавочника или в кожаном кошельке фермера, возвращающегося с рынка».
Страна расплачивалась старой потёртой монетой времён Елизаветы и даже Эдуарда VI. Монет времён Содружества и Реставрации уже не встречалось. За шиллинг можно было купить 77 гран[30] серебра, а новый серебряный шиллинг весил 93 грана; шиллинги, находящиеся в обращении, редко весили более 50 гран. Естественно, что новая полновесная монета с глубоким рельефом и чеканкой по ребру — и кроны, и полукроны, и шиллинги, и шестипенсовики — шла в сундуки, в переплав и за границу. Война порождала инфляцию. Золотые фунты, начав с двадцати серебряных шиллингов, постепенно дошли в своей обменной стоимости до тридцати. За рубежом давно уже никто не принимал английских денег по полной их стоимости.
Монтегю решил разобраться в этой ситуации, решил узнать мнение о ней не только политиков и финансистов, но и учёных, убедил правительство посоветоваться с цветом науки, не только с самыми известными и богатыми, но и с самыми умными. В число консультантов попали Джон Локк, сэр Кристофер Рен, доктор Валлис и доктор Ньютон.
Раньше Ньютон никогда не задумывался над подобными проблемами, хотя, как всякий человек, имеющий дело с деньгами, естественно, имел по этому поводу своё суждение. Он размышлял так: достоинство монеты должно быть приведено в соответствие с рыночной стоимостью металла в слитках. Стало быть, прежде всего следует изъять неполновесную монету — конечно, не сразу, а постепенно, по королям и эпохам. Оставшейся полновесной серебряной монете он считал необходимым добавить номинал — примерно на четверть. Соответственно на одну пятую снизить вес монет, намечаемых к выпуску. Все эти меры, означающие, по существу, инфляцию, естественно, вызовут неудовольствие сборщиков налогов, лендлордов, кредиторов и вообще всего населения с фиксированными доходами и автоматически дадут повышение цен. Но в этом случае, считал Ньютон, «возможно, и сам парламент сочтёт необходимым ради сохранения чести принять некоторые меры», то есть компенсировать потери и предотвратить несправедливость. Будучи лендлордом, он и сам не хотел бы страдать.
Мнение Ньютона растворилось во многих десятках иных, не принятых во внимание. А в этом ворохе было много интересного. Были и просто безумные идеи. Кристофер Рен, например, предлагал уже тогда полностью видоизменить денежную систему и построить её на основе бумажных банкнот. Это предложение было отвергнуто, естественно, с негодованием.
Некоторые, например Лаундес, предлагали не снижать вес монет, а чеканить на тех же монетах другую, повышенную цену. Так, на шиллинговой (прежде) монете предлагалось выбивать новое, соответствующее реальной цене достоинство — 1 шиллинг 3 пенса.
Джон Локк считал, что номиналы должны остаться незыблемыми, и определяться они должны из реальной стоимости серебра. Потёртые монеты, на его взгляд, могли остаться в обращении, но лишь по половинной цене, гинеи же пусть остаются в прежней цене. Медные деньги следует запретить, а бумажные — предать анафеме.
Разобравшись во всех предложениях, канцлер казначейства Чарлз Монтегю провёл через парламент подготовленное им решение об осуществлении принудительной перечеканки всей серебряной монеты в стране без изменения её достоинства. Расходы брало на себя казначейство, при условии, что монеты будут сданы в переплавку в назначенные сроки; опоздавшие потеряют столько, сколько их монета «недовешивает» по сравнению со стандартной.
Таким образом, мнение Ньютона хотя и было выслушано, но во внимание принято не было. А он бы никогда не согласился с великим социальным преступлением — Большой перечеканкой. Она сопровождалась народными волнениями, торговыми кризисами, прекращением операций в Английском банке. Перечеканка обошлась казначейству и неграмотным владельцам неполновесной монеты не меньше, чем в пять миллионов фунтов — столько, сколько составлял весь годовой государственный бюджет. Перед рождеством был подписан королевский указ о том, что с июня 1695 года деньги, изготовленные вручную, не будут приниматься по их номинальной стоимости. Указ переносил все тяготы реформы с буржуа на бедных людей. Ведь новая монета входила в обращение через правительственные платежи, а изъятие старой монеты из обращения производилось посредством правительственных налогов и займов. Участвовать в них могли только богатые люди: те, кто платил прямые налоги, кто получал жалованье. Только они могли заменять свои неполноценные деньги по номинальной стоимости. Бедняки же были вынуждены продавать серебряные деньги на переплавку, теряя пятьдесят процентов.
Ньютон на предложение Монтегю согласился, в два дня упаковал багаж, включая сундук с рукописями. Уже 25 марта 1695 года он был в Лондоне.
С некоторым недоверием и — что скрывать — с опаской осматривал Ньютон своё новое обиталище — Минт и свою новую там квартиру. Узкая кривая улочка с двумя рядами зданий, плотно лепившихся друг к другу. В самом широком месте пространство между стенами Тауэра, где был зажат Минт, едва ли достигало тридцати ярдов. Дом смотрителя прилепился к внешней стене Тауэра рядом с Жемчужной башней и глядел на глухую внутреннюю стену замка сорокафутовой высоты.
Узкое пространство между ветхими, грязными домами гудит от страшного шума беспрерывно штампующих машин и заполнено дымом плавильных печей. Ржание лошадей, ругань рабочих, непрерывные перебранки охранников Минта с часовыми и солдатами Тауэра делали Монетный двор сущим адом. Это место было совершенно непригодно для жилья. Лишь на четыре часа в сутки — с 12 ночи до 4 утра — шум несколько стихал.
В узкой щели Минта работали триста человек, пятьдесят лошадей, десять плавильных печей и девять громадных прессов, выдававших каждую секунду по монете. Кругом была невообразимая грохочущая толчея. То, что в этой толчее и этом грохоте рабочие постоянно гибли и получали увечья, было совсем не удивительно.
Хотя дом смотрителя был большой и просторный, из четырёх комнат, с каретным сараем, конюшней и даже садиком, Ньютон понял, что после тихого Кембриджа жить здесь не сможет. Он решил платить за дом сорок фунтов в год, но не жить в нём. Уже в августе он перебрался в дом на Джермен-стрит недалеко от Сент-Джеймской церкви в Вестминстере, где прожил больше десяти лет.
В конце марта был подготовлен указ о назначении, а в середине апреля на нём была оттиснута королевская печать. Ньютону положили громадное жалованье; общая сумма его доходов была теперь не менее шестисот фунтов в год. А он, в свою очередь, обязался хранить как зеницу ока секреты Минта. Давая клятву, он внутренне усмехался — все секреты Минта были импортированы из Франции.
Когда он впервые сел за резной стол, перешедший к нему по наследству от Эвертона, он увидел перед собой меморандум, подписанный Томасом Холлом, служившим в Минте уже четверть века. Холл писал, что ни один из прежних смотрителей не считал свою работу серьёзной. Холл призывал Ньютона быть активным. Но такого предупреждения и не требовалось!
Прежде всего Ньютон предпринял систематическое изучение истории Монетного двора. Он собрал все копии положений, заявлений и гарантий, которые относились к Монетному двору со времён короля Эдуарда IV. Он поднял старые счета и точно знал, сколько и кому должен мастер Нил, сколько платили раньше и теперь за различные работы. Каждая операция в Минте была изучена им в мельчайших деталях: была выписана её стоимость в разные времена и в разных условиях.
Его строгая система мышления быстро дала плоды. Он мгновенно вник в систему счётов, бытующую в Минте, упорядочил все дела. Он везде ввёл регламент и завёл систему досье, из которых события столетней давности можно было бы восстановить с той же точностью и обстоятельностью, как если бы они произошли вчера. Каждое новое дело он начинал с составления плана, что помогало ему правильно организовывать и свои знания и свои действия. Главным было установление чёткого порядка.
Работники Минта редко видели Ньютона без пера в руке. Хотя он имел теперь целый штат переписчиков, он сам скопировал справки по количеству изготовленных денег, как по весу, так и по достоинству, и в золоте и в серебре, год за годом, за тридцать лет. А потом переписал всё это набело ещё разок. Он заказал ещё три копии и переписчикам. Работникам Минта он советовал: «Не доверяй ничьим расчётам, кроме собственных. Не доверяй ничьим глазам, кроме собственных».
Самое незначительное письмо требовало от него по меньшей мере двух черновиков. С каждого письма он снимал по две копии.
Неспособность Ньютона к полумерам привела к тому, что он решил полностью взять на себя все обязанности, связанные с перечеканкой, хотя формально это ему не поручалось. Он ясно видел, что мастер Томас Нил был абсолютно неспособен уделить перечеканке хоть минуту времени. Нил был политическим авантюристом, слишком смело влезающим в любую афёру, сулящую прибыль. Он основывал почтовую службу в американских колониях, устраивал лотереи для покрытия военных расходов, а в Минте оставил всё на своих помощников — Холла и Ньютона. Нил получал жалованье в 500 фунтов в год и согласно контракту — определённую сумму с каждого отчеканенного фунта монеты. Во время Большой перечеканки он в дополнение к жалованью получил ни много ни мало — 22 тысячи фунтов. Ньютон оценивал своего начальника Нила как «джентльмена по уши в долгах, имеющего расточительный темперамент, своей нерегулярной практикой бросающего тень на должность». Ньютон решил опереться на Томаса Холла — полномочного представителя акцизной палаты — и заместителя Нила Джона Фрэнсиса Факира, гугенота, беглеца из Франции, недавно принявшего английское гражданство.
Ньютон пришёл в Минт уже тогда, когда основные принципы перечеканки были выработаны, порядок установился, восстания подавлены, кризисы прошли. Даже новые машины — и те закуплены. Он не принёс с собой в Минт никакого идейного капитала. Он был лишь довольно известным кембриджским профессором с небольшим числом печатных работ (кто мог оценить тогда, что среди этих работ были написанные восемь лет назад «Начала»!) и не имеющим никакого опыта организационной или финансовой работы.
Именно поэтому Ньютон решил стать здесь подлинным хозяином, досконально разобраться во всех процессах, превращающих золотые и серебряные слитки в конце пути в звонкую монету.
В небольших тёмных тиглях обожжённой глины нестерпимым адским светом желтело жидкое золото, дрожало в больших железных чанах, раскалённых угольным жаром, серебро. Мастера, повесив на крюки кафтаны, треуголки и шпаги, размешивали металлы, разливали их длиннорукими черпаками в песочные формы и получали тонкие слитки или полосы — почти в толщину будущей монеты. Полосы шли к монетчикам; те трижды прокатывали их между стальными валками. Валки вращала четвёрка лошадей, без отдыха ходившая по кругу в подвальном помещении. Штампы выбивали из полос серебряные и золотые кругляки, потом шло взвешивание, излишек металла спиливали; слишком лёгкие диски шли на переплав. Диски обжигались, им придавалась совершенно круглая форма. Потом будущие монеты поступали в особо охраняемое помещение, где на их ободке делали надпись или рифление. Для этого монеты обкатывались ребром по твёрдой стальной полосе с соответствующей гравировкой. Это делал француз Пьер Бландо. Принцип действия, конструкция машин и тонкости процесса держались в строжайшем секрете.
Но даже и это не было главным секретом Минта. Главным был чеканочный пресс, где круглые заготовки превращались наконец в реальные деньги. Пресс напоминал обычный, но был гораздо больше по размерам. Венчали его две горизонтальные штанги, к концам которых прикрепляли тяжеленные свинцовые шары. Когда монетчики закладывали диск через узкую щель между двумя штампами, четверо рабочих резко оттягивали концы штанг; ось закручивалась и затягивала сильнейшую пружину, при освобождении которой пуансон мощно вбивал в мягкий металл рисунок верхнего и нижнего штампов. Затем монету следовало вынуть и заложить другую заготовку; на весь процесс положено было всего 20 секунд. Ньютон обратил внимание, что большинство монетчиков были беспалыми — они не успевали следовать столь быстрому ритму. Ньютон же, обойдя пресс и изучив его, счёл, что скорость его должна быть ещё более увеличена, а цикл снижен примерно до секунды, может быть, вначале — до двух секунд.
Ньютон настолько глубоко вникал в каждую операцию, что мог судить о мастерстве рабочего и о том, с толком ли он расходует своё время. Он знал; сколько стоит тигель для плавления золота, сколько раз можно этот тигель использовать, пока он не разобьётся или не растрескается. В рукописи «Наблюдения, касающиеся Минта» он пишет: «Я опытным путём обнаружил, что фунт золотых полукроновых заготовок теряет при обработке три с половиной грана».
13 мая 1696 года: «…денег всё ещё страшно мало. Никто никому ничего не платит, никто ничего не получает. Минт не может удовлетворить даже самых насущных потребностей…»
Июнь 1696 года. «…необходимы разменные деньги, чтобы удовлетворять самые простые потребности, скажем, ежедневно покупать на рынках провизию… Крупных новых партий денег не чеканится, идёт только текущая штамповка. Это вызывает такой недостаток в деньгах, что каждый день боятся волнений. Никто не платит, никто не получает денег».
Монтегю пытался одновременно выпустить бумажные деньги, но народ в них не поверил. Все ждали девальвации.
Ньютон между тем резко форсировал работу в Монетном дворе. Благодаря предложенным им мерам выпуск монет возрос сначала в четыре раза, а потом ещё в два. Заработали и провинциальные монетные дворы.
Уже в октябре 1696 года стало ясно, что можно обойтись без девальвации, и парламент объявил об этом. Острая нужда в деньгах спала. Острая фаза кризиса миновала.
Монетный двор был в горячке перечеканки. Старую монету собирали в казначействе, затем её превращали в небольшие отливки, которые с соблюдением всяческих секретов и предосторожностей под охраной перевозили в Минт. Работы разворачивались, места не хватало, гарнизон Тауэра был отброшен за пределы внутренних стен; там солдаты были вынуждены по скученности спать по трое на одной лежанке; поскольку места не хватало, сад контролёра был занят под литейный цех. Число машин удвоилось, а кое-где и утроилось. Число рабочих возросло до 500 человек. Они стояли у своих машин по двадцать часов в сутки, отдыхая лишь в воскресенье. Лошади подыхали, не выдерживая бешеного ритма работ.
Ценой героических усилий летом 1696 года Монетный двор стал производить в месяц 100 тысяч фунтов. К концу года двор дал 2,5 миллиона. К лету 1698 года Минт произвёл денег на 6,8 миллиона фунтов стерлингов — в два раза больше, чем за предыдущие тридцать лет.
Монтегю наконец сумел навести должный порядок в английских финансовых делах. Экспорт английских товаров увеличился. Англия обязана Чарлзу Монтегю и Ньютону тем, что она смогла впоследствии стать центром развивающегося европейского капитализма и богатейшей страной мира.
Казалось, Ньютон совсем забыл в Минте о своей научной работе. Иногда он с тоской вспоминал о былых успехах, о ярких событиях его прошлой научной жизни. Сейчас он не видел проблем, которые могли бы сильно, как когда-то, увлечь его. Так было до двадцать девятого января 1697 года. В этот день Ньютон получил вызов Бернулли.
В прошлом, 1696 году Бернулли опубликовал в «Деяниях учёных» задачу-вызов: найти кривую, вдоль которой тяжёлое тело наиболее быстро снизится от одной точки до другой, не находящейся прямо под ней (кривая быстрейшего спуска, брахистохрона). Бернулли положил на решение задачи шесть месяцев. К декабрю ни одного удовлетворительного ответа не поступило, хотя Лейбниц уверял, что уже решил проблему. Лейбниц просил продлить срок до весны с тем, чтобы привлечь к задаче возможно большее число учёных. Бернулли согласился и добавил заодно ещё одну задачу. Он послал их в «Философские труды» и «Журнал учёных» и, кроме того, персонально Валлису и Ньютону. Долгое молчание из Лондона Бернулли и Лейбниц восприняли как поражение англичан. Но они ещё ждали, ибо Бернулли поставил срок: на пасху он сам опубликует правильное решение.
В письме Бернулли было ядовитое замечание о «некоторых математиках», «властвующих посредством методов, которые они так высоко ставят» и которые «значительно расширили границы исследования, используя золотые теоремы, которые (как они считают) не были никому известны, но которые на самом деле задолго до того были опубликованы другими».
Ньютон сразу понял, что задача эта является вызовом персонально ему. Не случайно появится потом его горькая фраза об «иностранцах, которые принуждают его заниматься математикой и отвлекаться тем самым от службы королю». Он принял вызов и точно записал время, когда он поступил: «Я получил бумагу из Франции 29 января 1696/7». Опубликованное в «Философских трудах» письмо президенту Королевского общества Чарлзу Монтегю, где приведены решения обеих задач, датировано 30 января 1696/7 года. История стала семейным преданием. Кетрин Кондуитт так рассказывала об этом событии:
— Когда Бернулли в 1697 году прислал свою задачу, сэр Исаак был страшно занят Большой перечеканкой; в тот день он пришёл из Тауэра в четыре часа дня и очень устал. Однако он не стал ложиться до тех пор, пока не решил задачу. Это случилось в четыре часа утра.
Бернулли не напрасно ждал, отодвинув срок представления решения. К пасхе, кроме решения от своего брата Я. Бернулли, он получил решения от немца Лейбница и француза Лопиталя. Было ещё анонимное решение, поступившее из Англии. Это последнее больше всего потрясло Бернулли. Он сразу понял, кому оно принадлежит.
— Ex ungue leonem (узнаю льва по когтям), — произнёс он тогда свою ставшую впоследствии столь знаменитой фразу. Бернулли понял, что он недооценивал Ньютона, мощь его математического гения. Не могло быть и речи о заимствовании каких-нибудь идей у Лейбница. Когда Бернулли показал решение Лейбницу, тот понял, что это — его тяжкое поражение.
Чувствуя это, он тут же написал в Королевское общество письмо с отрицанием своего авторства «конкурсной» задачи. Ньютон, однако, всё понял правильно и объявил, что задаст континентальным математикам собственную задачу. Однако он так и не собрался сделать это.
С первых же дней Ньютона подстерегали в Минте всевозможные неприятности. Едва он переступил порог, как оказался в водовороте бесчисленных комиссий палаты общин, пытавшихся обнаружить недостатки в работе Монетного двора. Первая комиссия была прислана по заявлению некоего Вильяма Шалонера, подавшего в Тайный совет письмо о неполадках в работе Минта и о методах предотвращения изготовления фальшивой монеты. В прошлом году Шалонер, обладавший многочисленными талантами, сочинил и распространил по стране памфлет, в котором утверждал, что новая монета после Большой перечеканки должна весить столько, сколько уже истёршаяся и обрезанная со всех краёв старая монета того же достоинства.
— Зачем, — вопрошал Вильям Шалонер, — тратить миллион фунтов, исправляя неполноценность стёршихся и спиленных монет?
Страна гудела в спорах. Памфлет, имевший большой успех, сделал его автора весьма популярным человеком.
В своём письме Тайному совету и канцлеру казначейства Монтегю Шалонер упоминал о «некомпетентности» Монетного двора, а также о том, что он сделал некие открытия, позволяющие усовершенствовать метод чеканки. Парламент насторожился. Была образована комиссия. Шалонер выступил перед ней. Распаляясь, он дошёл до обвинения в том, что на Монетном дворе изготавливают фальшивые деньги. Это происходит, по его мнению, из-за того, что в Минте работают узкие специалисты, которым нужно бы руководство человека, способного судить обо всём. Он имел в виду, конечно, себя и в качестве доказательства полного своего соответствия предложил два нововведения. Во-первых, делать по ребру монет канавку. Это, по его мнению, исключило бы возможность
Неясные подозрения стали посещать Ньютона в связи с этими предложениями. Чем объясняется столь повышенный интерес Шалонера к Минту? И хотя выводы комиссии палаты общин не подтвердили обвинений Шалонера, а его предложения не были приняты, в душе Ньютона осталось острое беспокойство. Оно окрепло, когда в 1697 году Шалонер вновь обратился в парламент. Он предложил, чтобы ему поручили обследовать работу Минта и оценить сделанные там усовершенствования. Назначенная палатой вторая комиссия потребовала показать Шалонеру все машины Минта. Кроме того, от Ньютона потребовали «предоставить в распоряжение Шалонера все инструменты, которые необходимы для демонстрации его метода». Ньютон категорически отказался выдать инструменты, сославшись на то, что изменения, предлагаемые Шалонером, включали знакомство с обработкой рёбер монет — тщательно охранявшимся государственным секретом, который Ньютон при вступлении в должность поклялся не разглашать. Одновременно он сообщил, что, по его мнению, проекты Шалонера являются непрактичными. Комиссия всё-таки настояла на выдаче инструментов и установила, что Шалонер «убедительно показал прекрасный метод чеканки денег, который, несомненно, предотвратит фальшивомонетничество». Шалонер на радостях выпустил даже небольшую листовку о должностных лицах Монетного двора. По Лондону поползли странные слухи — вплоть до того, что в Минте свили гнездо якобиты — и прямо намекали на гравёра католика Джона Роттерса и его сыновей. Одного из сыновей даже арестовали по подозрению в заговоре в целью убийства короля Вильгельма. Комендант Тауэра лорд Лукас не раз и не два врывался в Минт, в комнаты Роттерса, где безнадёжно искал бывшего короля Якова II. Теперь Шалонер грозился написать разоблачительную книгу о Монетном дворе, его работниках и руководителях. Вот тогда-то Ньютон решил поближе познакомиться с прошлым самого Шалонера, и в первую очередь — побеседовать с человеком, которого Шалонер рекомендовал в качестве борца с фальшивомонетчиками — с Томасом Галоуэем. И тот в конце концов признался, что не кто иной, как Шалонер, и есть главный фальшивомонетчик Англии. Ньютон начал вести следствие против Шалонера по всем правилам научного исследования, со всей присущей ему основательностью и страстностью. Он не пожалел денег и пустился в странствование по местам прошлой жизни Шалонера. То, что он выяснил и о чём сообщил Монтегю и секретарю казначейства Вернону, было столь же непостижимо, сколь и убедительно. Как только Шалонер вновь появился на Монетном дворе, Ньютон приказал задержать его, заковать в кандалы и отправить в Ньюгейтскую тюрьму.
Шалонер стал засыпать казначейство и палату общин жалобами на самоуправство Ньютона, мстящего ему за то, что он открыл глаза общества на недостатки на Монетном дворе и его собственную некомпетентность, за подготавливаемую разоблачительную книгу. Более того, Шалонер требовал немедленного освобождения в связи с тем, что он обнаружил новый якобитский заговор, свидетельство чему — прокламации от имени Якова II. Пока палата разбиралась с этими обвинениями, главный свидетель против Шалонера — Томас Галоуэй сбежал.
Теперь уже была назначена комиссия по проверке законности действий Ньютона. Шалонера освободили. На следующую парламентскую сессию — в марте 1698 года было назначено слушание обвинений Ньютона против Шалонера и Шалонера — против Ньютона.
Теперь Ньютон вынужден был доказывать правомерность своих действий; он рассказал в парламенте, что ещё семь лет назад Шалонер был никому не известным рабочим-лакировщиком, «в рванье, перепачканном красками». «Преступным путём, — утверждал Ньютон, — Шалонер проник в аристократические круги и жил в Кенсингтоне». Ньютон смог доказать, что респектабельный Шалонер, будучи художником и в каком-то смысле артистической натурой, прекрасно подделывал и отечественные, и заграничные монеты: и фунты, и ливры, и дукаты, и пиастры. Он изобрёл для этого довольно совершенный метод изготовления монет с использованием точного литья. Чтобы купить оборудование, он продал краденых лошадей. Затем он заявил Английскому банку, что знает людей, подделывающих банковские бумаги. Жуликов — его сообщников — задержали и повесили, Шалонер получил двести фунтов награды. Затем он решил ещё немного потрясти казну и объявил, что знает, кто печатает подрывные прокламации от имени Якова II. Печатников казнили, а Шалонер заработал ещё тысячу фунтов. Но Ньютон смог доказать, что копии этого предосудительного циркуляра — сорок штук — были у самого Шалонера. Оказалось, что типографы печатали их по его заказу. Ньютон смог доказать и то, что истинной причиной появления Шалонера перед комиссией палаты общин было желание получить, как обычно, премию, а заодно назначить на должность в Минте своего человека с тем, чтобы безнаказанно производить фальшивые деньги.
Ньютон, оказывается, следил за Шалонером и после того, как того выпустили из тюрьмы. Его осведомители доказали, что, как только Шалонера освободили, он организовал новое предприятие — по подделке «солодовых билетов» — одного из нововведений Монтегю — разновидности бумажных денег. Их выпускали как квитанции по уплате налога на солод, введённого в прошлом году. Ньютон доказывал вину Шалонера как научную истину. В его системе доказательств были и следственные эксперименты, и даже математические расчёты. Шалонер был припёрт к стенке. Галоуэя вернули в Лондон и посадили в тюрьму. Против Шалонера выступало уже 14 свидетелей, а к концу 1698 года их набралось более тридцати. Когда Шалонера вернули в Ньюгейт, Ньютон окружил его сетью осведомителей, которые информировали о каждом его шаге и каждом его новом замысле.
«…Я ни в чём не виновен и не знаю, почему меня держат в такой строгости. Возможно, сэр, Вы были очень недовольны мной в связи с этим последним делом в парламенте, но если бы Вы знали правду, Вы бы не сердились на меня, ибо это было задумано другими людьми против моего желания. Сэр… прошу не держать на меня зла, ибо я уже очень сильно пострадал. Полностью вверяю себя Вашей великой доброте».
Однако в камере Шалонер говорил своему сообщнику Картеру, что «будет преследовать эту старую собаку смотрителя, пока будет жив». Один из соглядатаев, посаженных в камеру Ньютоном, тут же доложил об этом…
Несмотря ни на что, несмотря даже на попытку выдать себя за помешанного, 3 марта 1699 года Шалонер был признан виновным в государственной измене. Он был богат и нанял влиятельных адвокатов, которые дошли до самого короля и передали ему в руки прошение Шалонера, если не о помиловании, то о замене казни. Шалонер знал, что за государственную измену полагалась самая страшная из известных — «приятная» смерть, поистине дьявольское изобретение.
17 марта 1699 года
«Всемилостивейший государь, меня собираются казнить… худшей из смертей… если только я не буду освобождён Вашими всемилостивейшими руками. Государь, умоляю, отмените это беспрецедентное решение. Дорогой государь, сделайте это благое дело, о! я умоляю Вас сжалиться надо мной, о! ради Бога, если не ради меня, спасите меня от казни, никто не может спасти меня, кроме Вас, о господи Боже! Меня казнят, если Вы не спасёте меня, о! я надеюсь, Бог смягчит Ваше сердце милостью и состраданием… Я, почти казнённый,
Ваш покорный слуга В. Шалонер».
Всё было напрасно. Король теперь считался с парламентом, а правительство пылало гневом. Правительство, которое существовало для Шалонера лишь затем, чтобы его дурачить, не собиралось прощать его. Уже никто не мог остановить безжалостную машину правосудия. Приговор гласил: «Вернуть его при содействии констебля в Ньюгейт, оттуда влачить по земле через всё лондонское Сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он ещё не умер, оскопить, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности. Затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском Мосту»…
Фальшивомонетчики наряду с Францией и Испанией были сейчас главными врагами Англии. Неудивительно, что преследование и наказание их стало важнейшим государственным делом. Английские архивы свидетельствуют о том, что в 1696–1697 годах высший совет государства занимался фальшивомонетчиками практически каждый день. Ньютону тоже пришлось заниматься этим, несмотря на свои яростные попытки освободиться.
Но уж коли ему не удалось освободиться от сей тяжкой ноши, он занялся вылавливанием фальшивомонетчиков всерьёз. Психоаналитики упиваются этой главой из жизни Ньютона, полагая, что именно тогда у Ньютона проявились его врождённые жестокие наклонности, именно тогда он испытал сладкое чувство мести по отношению к Барнабе Смиту. Но они ошибаются — Ньютон просто действовал как обычно, с максимальной добросовестностью и усердием. Он заботился только о государственном благе.
И как обычно, Ньютон начал заниматься делом с изучения обстановки. Он собрал все документы прежних расследований, составил небольшое эссе по истории подобных преступлений за последние четверть века. К несчастью для фальшивомонетчиков, он проделывал всю эту работу с присущими ему обстоятельностью, рвением и усердием. Он не пропускал ни единого судебного заседания, тратил сотни фунтов на наём экипажей и покупку одежды; в его личных расходных тетрадях встречаем запись: «уплачено пять фунтов Гемфри Холлу, чтобы он мог купить себе подходящий костюм для беседы с бандой подделывателей векселей». Он разработал систему розыска свидетелей, организовал большую группу информаторов, бродивших по рынкам, пьянствовавших в тавернах и томившихся в кандалах; и всё это — по его заданию.
…Страшный, жестокий мир открылся перед Ньютоном. С академических кембриджских высот он опустился теперь на самое дно английского общества с его бедностью, подлостью, жестокостью и несправедливостью. Самыми несчастными были здесь забитые, замученные женщины, неграмотные и беззащитные. Фальшивомонетчики — в большинстве своём подонки общества — широко использовали женский труд. За сущие гроши (говорили, что нужно было очень сильно постараться, чтобы найти себе более невыгодное занятие) женщины занимались в своих грязных трущобах обрезкой монеты и изготовлением грубых фальшивых денег, ежеминутно рискуя жизнью и подставляя свою голову вместо тех, кто толкал их на это, получая большие барыши, или даже тех, кто попросту желал получить выкуп за выдачу фальшивомонетчиков и не колеблясь посылал забитых и запуганных женщин в тюрьму и на плаху. Мир фальшивомонетчиков, как выяснил Ньютон, имел своих покровителей в Сити — при Ньютоне разоблачили могущественного привратника Уайтхолла Джона Гиббонса, державшего фальшивомонетчиков в страхе и вымогавшего у них деньги.
Ньютон лично провёл расследование по нескольким десяткам фальшивомонетчиков, а всего при нём было выслежено и наказано их около ста. Естественно, этот мир питал по отношению к нему звериную злобу. Информаторы докладывали, что фальшивомонетчики поклялись жестоко отомстить Ньютону. Их можно понять.
Борьба Ньютона постепенно приносила успех. Разбогатевшие обрезыватели монеты стали почтенными буржуа и покончили с опасным ремеслом. Мелких фальшивомонетчиков, которых вылавливали массами, тут же высылали в Америку, на плантации. Поток фальшивой монеты стал иссякать.
Наряду с чеканкой новой монеты эта сторона деятельности Ньютона сыграла огромную роль в стабилизации экономики буржуазной Англии в один из сложных периодов её истории. Банкротства Англии — того, о чём так страстно мечтала Франция, — не состоялось.
…Штормовой осенью 1553 года английский корабль под командованием капитана Ченслора вынужденно бросил якорь у пристани неизвестного русского монастыря. Монастырь святого Николая стоял в устье Северной Двины, недалеко от Холмогор, на самом севере обширных российских владений. Шёл корабль Ченслора вдоль северной кромки Европы в Индию и Китай, но не теплее становилось, а всё холоднее и непогодливее. Ченслор стал подумывать о зимовке и в это время наткнулся на неведомую ему пристань. О прибытии корабля в беломорский монастырь узнал Иван Грозный. Он повелел Ченслору прибыть в Москву — и это положило начало регулярным русско-английским торговым и прочим связям, от которых обе страны имели изрядные выгоды. Со временем Россия приобрела роль ведущей державы в английском импорте — Англия покупала железо, лес, пеньку, канаты, воск, паруса, смолу, дёготь, солонину, слюду; обратно шли сукно, кожа, медь, свинец, ткани, женские украшения. Был создан торговый порт — Новые Холмогоры, или, позже, Архангельск. На линии Архангельск — Ливерпуль постоянно находились десятки крупных судов.
В Москву зачастили не только английские купцы, но и английские врачи, золото- и среброискатели, инженеры. Немало англичан осело в Москве; особенно много их появилось после казни Марии Стюарт, когда, спасаясь от преследований, её сторонники покидали насиженные места и прибывали в Россию.
Во время Кромвеля, когда многие шотландцы вздумали ещё раз попытать счастья за границей, два брата — Джеймс и Джон — решили встретиться в порту Лейт прямо на корабле. Случай, однако, распорядился так, что в Лейтском порту оказались два судовладельца с одинаковой фамилией и оба корабля шли в Европу, но один направился в Россию, другой в Пруссию. По-английски названия этих стран звучат почти одинаково. Братьям не суждено было когда-нибудь встретиться.
Джеймс Брюс дослужился в армии царя Фёдора Алексеевича до генерал-майора и скончался в 1680 году. Сын его Вильям тоже пошёл по армейской стезе; в чине полковника петровской армии он погиб в 1695 году от турецкого ятагана под Азовом.
О детстве «Якушки» Брюса — теперь уже Джакоба Даниэля, или по-русски Якова Вилимовича, — известно лишь, что получил он превосходное для того времени образование. Странные, непривычные занятия привлекали его — математика и натуральная философия, сиречь физика.
Он также участвовал в Азовской кампании и был в армии инженером: после смерти отца он вычертил первые карты Татарии и Малой Азии, за что в возрасте двадцати шести лет его удостоили звания полковника. Пётр любил «Якушку» страстно, и, видимо, именно влиянием Брюса объясняется его интерес к научным материям. Брюс хаживал с Петром на тайные встречи «Общества Нептуна» в московской Сухаревой башне. Сокрывшись, члены общества, предводимые небезызвестным Францем Лефортом, читали учёные трактаты и занимались физическими экспериментами — дела поистине невозможные, еретические и постыдные в России конца XVII века.
Не случайно Брюс оказался одним из шестнадцати компаньонов молодого Петра в его путешествии в Англию. Позже Пётр в предисловии к «Морскому регламенту» объяснял причины поездки в Англию необходимостью совершенствоваться в теоретическом знании. В Голландии, где Пётр своими руками построил корабль и под руководством мастера Поля усвоил всё то, что «подобало доброму плотнику знать», он понял, что не только руками надлежит будущие великие дела творить, но знать нужно и весьма глубоко всякую теорию, и в том числе корабельную. В Голландии же теорию не почитали, почему Петру «зело стало противно, что такой дальний путь для сего воспринял, а желаемого конца не достиг». Именно так ответил он на вопрос одного англичанина: «Отчего так печален?» Пётр считал, что в Англии «архитектура сия так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться мочно».
Английский король Вильгельм III познакомился с Петром в Утрехте и Гааге. Вильгельму понравился оригинальный ум молодого царя, ему импонировала его энергия, страсть к наукам и в особенности к кораблестроению. Он желал привлечь Петра на свою сторону и по возвращении своём в Лондон решил подарить ему только что построенную маркизом Кармартеном новейшую по тем временам, лёгкую и красивую 20-пушечную яхту «Транспорт-Ройял». Пётр сразу полюбил морскую красавицу и послал поблагодарить. Посланцу было также сказано, чтобы он сообщил королю о намерении Петра «посетить английскую землю незнатным иностранцем, чтобы видеть корабли и морское поведение». Вильгельм был в восторге от этой идеи, видя в ней большой политический смысл, и тут же выслал для сопровождения царя королевскую яхту и три линейных корабля.
Взяв с собой шестнадцать «волонтёров», включая Меншикова и Брюса, Пётр 7 января 1698 года покинул Амстердам. Уже через три дня яхта бросила якорь у лондонских доков. Там для Петра был нанят большой дом, выходивший на Темзу. Это был дом мемуариста, члена Королевского общества Джона Ивлина. Дом был очень удобным. Он был просторен, хорошо спланирован, имел большой сад и выходил на Темзу, к самым докам. Дом подобрал сам король, и по его повелению адмирал Бенбоу на время переехал в другое место.
В тот же день после обеда к царю был прислан камергер Бартон. От имени Вильгельма он поздравил Петра с прибытием. Через три дня король посетил Петра и разговаривал с ним на голландском языке.
Петру в то время исполнилось двадцать шесть лет. Он был молод и любознателен, полон великих планов. «Царь Пётр Алексеевич, — писал современник, — был высокого роста, скорее худощавый, чем полный; волосы у него были густые, короткие, тёмно-каштанового цвета, глаза большие, чёрные, с длинными ресницами, рот хорошей формы, но нижняя губа немного испорченная; выражение лица прекрасное, с первого взгляда внушающее уважение. При его большом росте ноги показались мне очень тонкими, голова у него часто конвульсивно дёргалась вправо».
Вильгельм, желая сохранить в памяти черты царя, попросил его позволить ученику Рембрандта — Годфриду Неллеру написать с него портрет.
Этот замечательный портрет, являющийся сейчас собственностью английской королевской семьи, хорошо известен — он рисует нам обаятельный образ умного и дерзкого царя-реформатора. Для нас важно и то, что именно Неллер написал примерно в то же время и портрет Ньютона — смотрителя Монетного двора. Одни глаза видели в одно время и Петра и Ньютона, одна кисть запечатлела их черты на полотне и сохранила навсегда.
Пётр посетил корабельные верфи в Дептфорде, Портсмуте и Чатаме, Вулвичский арсенал, лондонские фабрики и мастерские. Он повсюду старался получить какие-нибудь чертежи, рисунки, модели. Придя к знаменитому часовщику Карте, он купил у него географические часы, сел рядом с ним и не ушёл, пока не научился быстро собирать и разбирать их.
У него завязались прочные отношения с математиками, астрономами и другими учёными. Яков Брюс тем временем уже приступил к занятиям математикой, закупке научных инструментов и приглашению английских математиков на русскую службу. Брюс изучал также географию, историю, политику и экономику Англии.
Пётр Постников, врач-философ, как его называли, видевший в научных занятиях смысл своей жизни, с головой ушёл в лондонскую научную жизнь, подружился с врачами, ходил в их общество и многих уговорил ехать в Россию.
В начале марта Пётр ездил на «острономику» — в Гринвичскую астрономическую обсерваторию. Там он проводил наблюдения неба. В «Небесной истории» Флемстида указано, что прохождение Венеры отсчитано Петром Первым. Флемстид вспоминал, что Пётр был в обсерватории и раньше — в феврале. В Гринвиче Пётр встретился и с Эдмондом Галлеем, который показался ему не только крупным астрономом, математиком и физиком, но и человеком, способным дать дельные советы по государственному устройству. 5 апреля «после обеда ездили верхами к математику», а на следующий день «ввечеру ездили в шлюпке к математику». До математика нужно было добираться по Темзе. Речь, возможно, идёт о двух разных математиках. Когда в других местах «Юрнала» говорится об «острономе», «славном математике» и просто «математике», возможно, разумеются три различных лица.
В воспоминаниях отмечена поездка Петра в Оксфорд — о ней не упоминается в университетском архиве. А она была. «Когда его величество 8 апреля прибыл в Оксфорд, — пишет автор «Истории великой России» Гюйсен, — его встречал и приветствовал архиепископ и университетские власти; его принимали в колледже Христа. Он присутствовал на литургии в англиканской церкви, принял от местного духовенства приветствие церкви православной и получил несколько книг по математике, переведённых на русский язык. Когда его величество посещал колледжи и библиотеки, он увидал там среди прочих рукописей верительные и проезжие грамоты на русском языке, которые были выставлены ввиду их редкости и прекрасного письма, украшенного золотыми и иными заставками».
Главной целью посещения Оксфордского университета было знакомство с профессорами геометрии, астрономии и географии — предметов, связанных с мореплаванием и навигацией и в связи с этим особо интересовавших Петра. Перед отъездом Пётр побывал и в парламенте. Гюйсен пишет: «Апреля второго возвратился в Лондон, были в парламенте, в королевских вестминстерских палатах… И видели, как в нём действуют, и слушали тутошних ораторов и чтение нескольких тяжеб, билев и адресов. Сей парламент разделён на две палаты: вышняя и нижняя. Вышняя состоит в архибискупах, в бискупах, дуках, графах, маркизах и проч. Сидят они на красных мешках, в которых шерсть набита, а на их на всех платья кармазинные, король тут президентом или тот, кого он тут вместо себя поставит. Нижняя палата, или камора, состоит в кавалерах, шляхтичах, мещанах и ремесленных людях. В сём парламенте не только государственные мирные воинские дела управляют, но також и тяжбы, как в вышнем трибунале, куда последние апелляции приносят из нижних судебных дворов. И никакого акта или иного дела там не вершат без королевского изволения». В тот день состоялось совместное заседание палаты лордов и палаты общин в присутствии короля, который должен был сообщить об утверждении им нескольких биллей. Царь московский, не видевший до тех пор заседания парламента, находился на крыше здания и смотрел на церемонию через небольшое окно. Это дало повод кому-то сказать, что он видел «редчайшую вещь на свете, именно: короля на троне и императора на крыше».
Больше всего поразило Петра богатство Англии. Одно из постановлений парламента предусматривало выделение трёх миллионов дукатов. Пётр поразился возможности страны отпустить единым приёмом такую громадную сумму. Но ему в ответ сказали, что сумма эта не так уж велика и в прошлые годы была втрое больше.
Пётр не терял зря времени — он изучал государственное устройство страны, её законодательство, денежную систему, образование. Он расспрашивал, чем занимаются в королевском Тайном совете и других государственных учреждениях, каковы обязанности и права мировых судей, как устроены административные и финансовые, адмиралтейские и почтовые учреждения, каковы права короля в мире и в войне.
Россия уверенно выходила в ряды ведущих мировых держав. Ей нужна была мощная экономика, перестройка государственного управления, реорганизация и модернизация армии. Эти задачи требовали вмешательства и участия науки. Без неё нельзя было наладить промышленность, использовать богатые природные ресурсы России, невозможны были военные и административные преобразования.
Свежие веяния, которых так недоставало в России, сеяли ужас в умах тех, для кого западная наука была накрепко повязана с западной религией. Коперник и Мартин Лютер имели между собой дьявольскую связь. Протестанты несли ответственность за распространение еретических учений — гелиоцентрической теории! Вызвать из небытия науку Запада и насадить её на российской почве мог только человек, обладающий даром предвидения, смелый и решительный. Именно таким был Пётр. Именно он встал у колыбели возникающей российской науки. Как естественна была бы встреча Петра с Ньютоном!
К сожалению, прямого ответа на вопрос, встречался ли Пётр с Ньютоном, нет. Дело прежде всего в том, что пребывание Петра в Лондоне держалось в строгой тайне. Он жил инкогнито. Хотя в газетах и появилось множество слухов насчёт того, что в Лондон прибыл царь далёкой России, конкретных сведений о его времяпрепровождении не приводилось.
Посещение Петром Монетного двора в Тауэре, может быть, и получило отражение в косвенных документах, но они завалены тысячами страниц архивных бумаг — свидетельствами бурного прошлого Монетного двора, до сих пор не разобранных.
Единственным документом, способным пролить хоть немного света на пребывание Петра в Англии, приходится признать «Юрнал» — тайный дневник, который вели Пётр и его ближайшие соратники в Лондоне.
Хотя регулярного описания встреч, свиданий, назначений Петра в «Юрнале» не велось, в нём названо множество дел, которыми занимался царь. Он был, например, в Королевском обществе, хотя нет упоминания о том, с кем он встречался. Ни в одной из записей Ньютон впрямую не назван по имени. Даже тогда, когда Пётр посещал Тауэр и Монетный двор, смотрителем которого был Ньютон (это произошло несколько раз, в том числе 27 января и 3 апреля 1698 года), нет никаких свидетельств того, что Ньютон находился среди тех, кто встречал царя.
Через Монтегю Ньютон, конечно, был в курсе того, кто был гостем короля, он наверняка знал и о том, что царь интересуется Монетным двором. Более того, известно, что Монтегю присутствовал при визите Петра на Монетный двор 3 февраля. Кстати сказать, об этом визите ничего не говорится в «Юрнале».
Совсем недавно канадский профессор Валентин Босс обнаружил записку, адресованную Исааку Ньютону Джоном Ньютоном, его родственником, писцом, тоже служившим на Монетном дворе. Вот что пишет младший Ньютон старшему: «Глубокоуважаемый сэр! Завтра сюда между двенадцатью и часом намеревается прибыть царь. Думаю, что обязан сообщить Вам о том, что он, по-видимому, ожидает увидеть здесь Вас. Я принял все возможные меры для того, чтобы всё было в порядке и готовности».
Интересно, что эта записка была написана на следующий день после того, как Пётр посетил Королевское общество, президентом которого был Чарлз Монтегю. Может быть, Петра так заинтересовали научные проблемы, что он решил немедленно встретиться с самим Ньютоном?
В «Юрнале» отражён четвёртый визит Петра на Монетный двор 13 апреля. В тот раз его сопровождал Брюс. В «Юрнале» сказано кратко: «Был с Яковом Брюсом в Туре, где денги делают». Замечание, что в Тауэре царь был именно с Брюсом, придаёт встрече с Ньютоном ещё большую вероятность. Ведь не кто иной, как Яков Брюс, лучше всех был осведомлён о том, кто является наиболее крупным учёным в Англии и с кем надлежит в первую очередь встретиться царю.
Одно из посещений Петром Тауэра описано в литературе довольно подробно. «Проехали на правой стороне Темзы здание, именуемое Тур, где английския честных людей сажают за караул», — сообщает «Юрнал».
«Замок, — сообщает автор «Истории великой России», — имеет много диковин, в него сажают государственных преступников, в нём сохраняются ещё топоры, которыми были обезглавлены королева Мария и король Карл I. Но эти топоры было признано неудобным показывать Петру, так как боялись, что он бросит их в Темзу…»
21 апреля Пётр снова в Тауэре «смотрел, где денги делают».
Невозможно представить, чтобы хотя бы в одно из этих многих посещений Петром Тауэра и Монетного двора там не было бы Ньютона. Совершенно очевидно, что именно Ньютон знакомил своих посетителей Петра и Брюса с проводимой им Большой перечеканкой, с деньгоделательными машинами.
Чувствуя, что подходит время отъезда, а ещё многое предстоит выяснить и изучить, Пётр поручил «Якушке» Брюсу остаться ещё на некоторое время в Англии и получше изучить навигацию и математику. Незаметной строкой в царских расходах в Англии внесена запись о том, что 17 апреля 1698 года он, кроме ранее выплаченных 50 гиней, уплатил некоему «Ивану Кольсуну» 48 гиней за «обучение Якова Брюса в течение шести месяцев, как обусловлено контрактом, включая кров и пропитание».
Просматривая расходные книги «волонтёров», поражаешься относительно скромным расходам, произведённым царём лично на себя. В Лондоне он купил себе две шпаги: одну «с золотом сталной работы, другую серебряную, за обе — 11 фунтов аглинских стерленгов. Да за пояс шпажной 12 шеленгов аглинских, шеленг по четыре алтына». Правда, непритязательный в еде Пётр нашёл в Англии кушанья, которые ему понравились и вошли в его обиход. Он приобрёл пристрастие к сыру и купил себе два пуда сыра «пармазана». Он совсем немного тратил на табак, на пиво. Зато Пётр купил очень много различных инструментов. Доктор Постников купил для него «философский инструмент Амплия» за 200 фунтов, Брюс закупил секстанты, телескопы, квадранты, всевозможные циркули, глобусы в корпусах и без, карты, медицинские инструменты, лекарства. 18 апреля было уплачено «Андрею Стелсу за лекарские инструменты 983 фунта 17 шеленгов».
По указу царя в Лондоне была куплена анатомическая книга за 7 фунтов и каталог Оксфордской Бодлеанской библиотеки — за 1,5 фунта. Пётр закупил множество мелочей, к которым проявлял интерес, — в частности, он интересовался химическими чернилами и их составом, в том числе — симпатическими чернилами, которыми можно писать тайно, пергаментом для чертежей, чертёжными досками, красками, всевозможными редкостями для Кунсткамеры. Купил он и «диковинное платье аглинских законников, чёрное, дано 8 гиней и с поесом» — явное воздействие визита в Оксфордский университет, которым участники визита остались «зело довольны». Пётр закупил даже английский гроб и отправил его в Россию для образца.
Всего из Англии были отправлены в Россию два ящика личных вещей Петра и 279 ящиков, 14 бочек, 8 сундуков, 57 кип и множество отдельных громоздких предметов, представлявших собой оружие, инструменты, корабельное оборудование. Для сравнения можно указать, что багаж посла Франца Лефорта насчитывал 16 сундуков с серебряной посудой, 7 сундуков с различными вещами, 2 малых сундука с «рухлядью» — этим малопочтенным ныне словом назывались тогда драгоценные меха, бочку с оружием и продовольствием, 4 бочки сухарей и бочку с сырами. А Меншиков вывез из Англии восемьсот «мармаровых камень чатирь угольных». Речь, видимо, идёт о мраморных плитах, которыми Меншиков хотел украсить строящийся для него дворец.
18 апреля царь простился с королём Вильгельмом и подарил ему на память огромный рубин. 20 апреля в «Юрнал» внесена запись, видимо, подводящая итоги пребывания в стране: «Пересмотрев же все вещи, достойные зрения, наипаче же то, что касается до правления, до войска на море и сухом пути, до навигации, торговли и до наук и хитростей, цветущих там, часто его величество изволил говорить, что оной английской остров лучший, красивейший и счастливейший есть из всего света. Там его величество благоволил принять на службу свою многих морских капитанов, поручиков, лоцманов, строителей корабельных, мачтовых и шлюпочных мастеров, якорных кузнецов, компасных, парусных и канатных делателей, мельнишных строителей и многих учёных людей, также архитекторов гражданских и воинских».
25 апреля Пётр отдал Англии прощальный салют.
Вернувшись в Россию, Пётр ввёл в ней множество новшеств. Всё упомянуть невозможно. Но не забудем Навигацкую школу, организованную Брюсом, и Санкт-Петербургскую Академию наук — детище Петра, взлелеянное в переписке с Лейбницем. В 1700 году в России была осуществлена монетная реформа типа той, которая проводилась в Англии.
Визит Петра в Англию не остался бесследным для России. Но не остался он бесследным и для Англии. И дело не только в политических соглашениях и торговых договорах. По словам Маколея, если раньше, до визита Петра, Россия представлялась Англии как образованному человеку середины XIX века Бухара или Сиам, то после 1697–1699 годов Московия уже не являлась для англичан неведомой страной, о которой можно было рассказывать сказки. Она приобрела молодой динамичный образ, в значительной мере отражённый в фигуре самого Петра, может быть даже — в его портрете, написанном Неллером.
— Его путешествие, — говорил Маколей, — эпоха в истории не только его страны, но и нашей и всего человечества.
Ньютон долго ещё помнил Петра. Когда он составлял список рассылки дарственных экземпляров второго издания «Начал» — а это было через десяток с лишним лет, — первым в этом списке он поставил имя русского царя…
Незадолго до рождества 1699 года умер мастер[31] Монетного двора Томас Нил. Он занимал удивительную должность, не требующую никаких затрат времени, чрезвычайно почётную и прекрасно оплачиваемую. Ньютон был бы не прочь занять место управлящего, но со времён Елизаветы не было случая, чтобы мастером Минта был назначен кто-нибудь из его служащих. Да и Чарлз Монтегю, лорд Галифакс, который мог бы замолвить за него словечко, сейчас находился в опале и фактически был отстранён от управления казначейством.
Но случилось чудо, не повторенное потом сотни лет, — Ньютон показал себя настолько энергичным, знающим и полезным смотрителем, так не был похож на прежних держателей синекур, что, несмотря на армию претендентов, ожидавших королевских милостей, именно на него обратили внимание, именно его решили назначить управляющим. Уже 10 января был издан королевский указ, повелевавший ему действовать в новом качестве по мандату покойного Нила, поскольку «новый мандат не вдруг делается», а 2 марта назначение было проведено через канцелярию и скреплено печатью королевства.
Мандат был выдан действительно не «вдруг» — через год. Это был, по существу, контракт между управляющим и королём — пространнейший документ, скрупулёзно определяющий права и обязанности управляющего и его жалованье. Контракт подробнейшим образом оговаривал также обязанности каждого чиновника Монетного двора и задачи Минта в целом: сколько и каких монет должно выпустить; каков при этом должен быть их вес и содержание в них драгоценного металла; какова будет при этом оплата за каждую операцию. Согласно контракту управляющему, как и другим работникам Минта, кроме жалованья, полагались отчисления с каждого фунта произведённой монеты. С учётом всех выплат Ньютон в зависимости от объёма чеканки получал теперь от тысячи до двух с половиной тысяч в год. Это был один из самых высоких честных заработков во всём королевстве.
Разумеется, часть жалованья шла на неизбежные, хотя и чётко фиксируемые расходы. Так, он за свой счёт кормил служащих Монетного двора, на что шло пятьдесят фунтов в год. Ежегодно он был обязан делать подарки точно обусловленной цены казначею и кассиру. Он должен был выплачивать жалованье своему заместителю. На всё уходило около двухсот фунтов. Теперь Ньютон мог со спокойным сердцем отказаться от должности лукасианского профессора в Кембридже и уступить её своему последователю Уильяму Уистону. Он также отказался и от членства в Тринити, хотя был там уже одиннадцатым по старшинству. Теперь он был прекрасно обеспечен. Даже в весьма дорогом для жизни Лондоне он мог позволить себе практически всё, что могла бы подсказать ему его пуританская фантазия.
И уж, во всяком случае, он мог теперь внести денежный залог — гарантию королю на случай, если бы он не справился с обязанностями и Монетный двор нанёс бы короне убытки. С него потребовали пятнадцать тысяч фунтов, как и с прежнего управляющего — Нила. Ньютон же, подойдя к делу вполне научно, изучил прецеденты и доказал, что со времён Елизаветы и Ричарда III никто из управляющих не платил больше двух тысяч. Несуразно большая сумма, назначенная для Нила, объяснялась тем, что он купил себе громадное поместье, чем вызвал у казначейства большие на свой счёт подозрения. Чиновники в конце концов согласились с доводами Ньютона и потребовали поручителя. Ньютон предложил было Монтегю, но о нём и слышать не хотели. За Ньютона поручился его заместитель Томас Холл.
Общественное положение Ньютона с назначением на должность мастера сильно упрочилось. Теперь он вращался в самых влиятельных кругах Лондона, определявших государственную, финансовую и экономическую политику нации. Томас Холл, поручившийся за него, был, помимо всего прочего, финансовым уполномоченным палаты общин. Джон Френсис Факир, несмотря на сравнительно скромную должность заместителя мастера Минта, играл громадную роль в финансовой жизни Лондона, в которой правили бал французские беженцы-гугеноты, — он был управляющим Английского банка. Владельцем другого банка, тоже существующего до сих пор, был контролёр Минта Джеймс Хоар.
На новом посту Ньютон отнюдь не был завален работой. Сложная система контрактов и подконтрактов давала ему возможность полностью положиться на подчинённых, а у него были весьма квалифицированные заместители. Ньютон не был ответственен за принимаемые им решения, поскольку все крупные вопросы решались в совете Монетного двора, президентом которого был новый смотритель Джон Стэнли. Даже в тех вопросах, которые не требовали совета и вмешательства коллег, Ньютон, перед тем как принять решение, предпочитал всё-таки сначала выслушать их. Фальшивомонетчики перешли в руки смотрителя, который без участия Ньютона добился для них отмены смертной казни. Удивительная должность мастера не предусматривала даже ответственности за работу и действия сотрудников, за то, например, что контролёр Молине пытался за счёт Минта отремонтировать собственный особняк, а его заместитель Мазон выжимал из подрядчиков взятки: чистой монетой для себя и драгоценностями — для жены. Обоих сняли с должности без малейшего вмешательства Ньютона. У мастера была лишь одна святая обязанность: приходить дважды в неделю на заседания совета. Если, однако, ему было некогда, разрешалось присылать и заместителя.
Но Ньютон ко всему, и в том числе — к новой должности, относился серьёзно. Пример его осторожности и основательности — когда нынешний смотритель обратился к нему с пустячной запиской по поводу снижения вредных последствий эффекта разного теплового расширения меди и золота в расплаве — и необходимости ему, смотрителю, заняться этим вопросом, — Ньютон ответил ему разъяснением на тридцати четырёх страницах, содержащим анализ документов ещё елизаветинской эпохи. В конце разъяснения предложение смотрителя категорически отметалось.
Изучая документы, Ньютон выяснил, что Монетный двор постоянно подвергался атакам палаты общин. Главной мишенью было сокращение производства серебряной монеты, а особенно неистовствовал член совета по торговле Джон Поллексфен. Ньютон, основательно проработав вопрос, предпринял контратаку, основанную на статистике. Сопоставляя состояние международной и внутренней экономической обстановки с выпуском монеты, он вывел, что состояние отношений между государствами, войны или изменения в экономических отношениях тут же вызывали изменения в выпуске монеты. Процесс этот — объективный и не может быть спровоцирован, как считал Поллексфен, лишь увеличением выпуска бумажных денег и облигаций, всевозможных займов или казначейских чеков.
Вины бумажных денег в снижении выпуска монеты Ньютон не видел. Он, в противовес большинству экономистов своего времени, не был противником бумажных денег и считал, что в будущем они займут достойное место в деловой жизни. Он полагал так: физическая природа денег — будут они золотыми, серебряными или бумажными — не имеет значения. Они будут выполнять свои функции в любом случае. Нужно, однако, чтобы бумажные деньги были обеспечены золотом или серебром в казначейских сундуках. Всё различие денег в том, что ценность золотых и серебряных монет соотнесена со стоимостью драгоценных металлов, из которых они изготовлены, и, таким образом, присуща им как таковым. Ценность же бумажных денег, представляющих собой, в сущности, лишь бумажку с картинками и текстом, может быть назначена произвольно, навязана им извне. Таким образом, ценность первых более универсальна.
Если общей денежной массы в страде недостаточно, чтобы обеспечить полную занятость населения, приходится увеличивать выпуск бумажных денег. В противном случае общее количество монеты должно было бы возрасти до уровня, при котором увеличится ввоз в страну товаров роскоши и вывоз драгоценных металлов в слитках. Достаточно ли денег в стране — видно из уровня процентных ставок: чем больше выпущено денег, тем ниже уровень процентных ставок. Лучший путь для Англии, считает Ньютон, — это выпустить столько бумажных денег, чтобы можно было ускорить деловую жизнь, полностью обеспечить всех работой, дать нации новое дыхание. Возможным дурным последствием этого, сетует Ньютон, может быть, однако, то, что наживающаяся на торговле верхушка нации слишком сильно привяжется к роскоши.
Сходные идеи то и дело мелькают в докладах и черновиках Ньютона, посвящённых оценке английской финансовой системы. Ньютон считал, что золотые французские луидоры и испанские пистоли, широко распространённые в Англии, оцениваются слишком дорого. Это приводило к их усиленному ввозу и разрушало финансовую систему страны. Наоборот, за рубеж, тоже разрушая финансовую систему, утекало английское серебро, на которое правительство установило слишком низкую цену. Ньютон предложил, чтобы весь экспорт английских серебряных монет и слитков был бы сконцентрирован в Лондоне и проводился под контролем Монетного двора. Ньютон предлагал и нечто более радикальное: запретить использование золота и серебра для украшения одежды и экипажей, для золочения и серебрения, для изготовления массивных золотых и серебряных сосудов, которые легко уплывали за рубеж. Он считал также, что следовало бы ввести ограничения на импорт китайского фарфора, японских и индийских кабинетов и лакированных изделий, ибо «эти вещи ни для чего не служат, бесполезны и являются дорогим видом товаров роскоши, ввоз которых уравновешивается нашим экспортом золота и серебра в обе Индии». Вместо этого, считал Ньютон, следовало бы продавать больше товаров в Китай, поскольку там дешёвое золото и готовы покупать те английские товары, которые не берёт Индия. «Закупка [в Китае] золота может сильно укрепить нашу монету, что будет прибыльно не только для торговцев, но и для всей нации».
Новая, уже буржуазная Англия, поклоняясь золотому тельцу, как и встарь, недооценивала серебро. Цена на него была слишком низка. Торговцы извлекали прибыль, переплавляя серебряную монету и продавая серебряные слитки на континент. Но особенно высоко ценилось серебро на Востоке.
В течение девяти месяцев Ньютон собирал и анализировал все ходящие в Англии монеты, включая российские, американские и турецкие. (После его смерти в доме было обнаружено множество самых диковинных золотых и серебряных монет.) Он решил наконец выяснить их точное название, вес, содержание золота в сплаве и точный золотой эквивалент. Он тщательно исследовал происхождение названий денег, методов их оценки в различных странах, сравнивал стоимость их на Амстердамской бирже за последние сто лет с данными точного взвешивания и пробирного анализа.
Вывод Ньютона был определённым — оценка зарубежных денег (и луидоров, и дукатов, и пистолей, даже современных) велась гораздо более небрежно, чем оценка отечественных. В большинстве случаев их стоимость, исходя из золотого эквивалента, была завышена — цена золота на континенте за полвека увеличилась примерно на шестую часть, а в Англии — на целую четверть. Полностью проработав вопрос, Ньютон в апреле 1714 года написал статью «Наблюдения относительно ценности золота и серебра в пропорции одного к другому». Он предлагал повысить цену серебра и снизить относительнуто цену золота. Чтобы выровнять стоимость золотой гинеи по серебряному стандарту, Ньютон считал необходимым снизить её стоимость по меньшей мере до 20 шиллингов 8 пенсов. (Она ходила по цене до 22, а в отдельные времена и до 30 шиллингов.) Казначейство приняло компромиссное решение и установило стоимость гинеи в 21 шиллинг — и это соотношение продержалось в Англии почти триста лет. Хотя это был паллиатив, экономическое состояние страны улучшилось.
Ньютон решил покончить и с той лёгкостью в обращении с золотыми слитками и вообще с золотом, которая бытовала в Минте. Вес монет контролировался весьма приблизительно. Он включал некоторые весьма вольные допуски, которые на жаргоне Минта назывались «поправками» и шли в пользу ювелиров. Сравнивались лишь средние веса монет. Некоторые гинеи были на 2–3 грана тяжелее образца, другие — соответственно легче. Тяжёлые гинеи называли в то время «вернись, гинея!»: предприимчивые джентльмены тут же изымали их из обращения и продавали Минту. Ньютон и здесь ввёл науку. Он установил жёсткие пределы колебания массы монет; эти пределы ужесточались при переходе к монетам большего достоинства.
Контракт между Ньютоном и королём оговаривал, что некоторое количество монет из каждой выпускаемой партии будет положено в специальный сундук — «пикс» — с тремя замками; его можно было открыть лишь в том случае, если к нему — каждый со своим ключом — одновременно подступались мастер, смотритель и контролёр. Каждые три или четыре года два сундука — один для золота, другой для серебра — открывали в присутствии короля или его представителей, и монеты «прилюдно проверялись огнём и водой, на ощупь и по весу, всеми этими способами сразу, или некоторыми из них».
В августе 1701 года Ньютону предстоял первый большой и важный экзамен — «суд Пикса», на котором проверялось качество золотых и серебряных монет, изготовленных за время его директорства. Качество монет оценивало жюри, составленное из членов гильдии ювелиров, членов палаты лордов и Тайного совета. Председательствовал в жюри лорд-канцлер королевства. Ньютон истратил 10 с лишним фунтов личных денег на поиск и копирование документов, которые могли бы украсить речь лорд-канцлера. Начищали потускневшие со дня последнего суда «пиксы».
В восемь утра 6 августа «пиксы», документы, мешки с углём для пробирщиков и сами участники церемонии были погружены на принадлежащую Минту баржу на принадлежащей Минту же набережной. Два лодочника в ливреях подогнали баржу к Палас-Ярду. Ровно в 9 часов Ньютон, сопровождаемый работниками Минта, сошёл на берег. Лорда-канцлера ждали около часа. Это была не невежливость, а обычай. Лорд-канцлер открыл церемонию и сразу же привёл к присяге жюри. После чего вельможа удалился, а на сцену выступили ювелиры, которые взвешивали и анализировали монеты под ревнивыми взглядами служащих Минта. А в полдень все пошли в «Собаку» — известную таверну, где по традиции служащие Минта давали обед для членов жюри после их вердикта. Банкет был роскошным. Для шести служащих Минта было выделено на еду по фунту, а для членов жюри — по два.
Не всегда проходило гладко. В 1710 году разразился скандал. Деньги, которые выпускались в Англии, оказались хуже стандарта, предъявленного ювелирами. Под угрозой оказался сам Ньютон. Он протестовал и утверждал, что ювелиры использовали слишком высокий стандарт. Так оно и было. Это была месть Ньютону за то, что он, введя точную массу монет, лишил ювелиров «поправки» — разницы между массой «толстой» и «стандартной» монет. Протест Ньютона возымел действие, и «стандарт 1707 года» канул в Лету. Вся чеканка денег в Англии с тех пор стала проводиться по «худому» стандарту 1688 года. На этот раз Ньютону удалось уговорить ювелиров, но обед, который давал для них Минт, в 1713 году стоил девяносто фунтов вместо обычных тридцати.
Чарлз Монтегю, или лорд Галифакс, как он теперь звался, вовлёк своего друга в активную политическую борьбу. В 1701 году Ньютон был избран в палату общин от Кембриджа. Поверженный Ньютоном кандидат Антони Хэммонт тут же настрочил памфлет под названием «Возражения, касающиеся продажных выборов членов парламента». На Кембридж прямых ссылок не было, но в памфлете говорилось о том, что Восточно-Индийская компания широко применяет подкуп для обеспечения нужной ей правительственной политики. Всем было прекрасно известно, что именно Галифакс был теснейшим образом связан с этой компанией. Не только Ньютон, но и всё общество видело между строками памфлета обвинение его в том, что он был платным лакеем Галифакса. Более того, в памфлете содержался призрачный намёк на то, что некоторые радикальные религиозные группы могут подорвать англиканскую церковь. Речь, несомненно, шла о тайном арианизме Ньютона.
В парламенте Ньютон оказался весьма полезным Галифаксу, так как однажды голосовал в поддержку его и других руководителей вигов, когда им угрожал «импичмент»,[32] и его голос оказался решающим. После смерти Вильгельма III в мае 1702 года в работе парламента был объявлен перерыв, а затем он был распущен. Ньютон решил больше не баллотироваться. «Я послужил этому парламенту, — сказал он, — теперь очередь других джентльменов».
Тем временем появился новый памфлет о выборах 1702 года, подписанный якобитом Джеймсом Дрейком и подробно описывающий Кембридж, а также Галифакса, поддерживающего лицемеров, которые разрушают церковь, изображая из себя истинных протестантов. Ньютон не без оснований опасался, что кто-нибудь отождествят его с этими лицемерами.
Но Галифакс не желал упускать столь влиятельную фигуру и уговорил Ньютона выставить свою кандидатуру на выборах 1705 года. Ньютон съездил в Кембридж, затем ещё и ещё раз — три визита за месяц! 15 апреля, когда он был в Кембридже, там была и королева Анна.
В конце королевского визита Ньютон наконец занял место на сцене. «Весь университет стоял на дороге от Эмануэль-колледжа, откуда королева начала путь к другим колледжам, — вспоминает Стэкли, который учился тогда на последних курсах. — Затем её величество обедала в Тринити-колледже, где она посвятила в рыцари сэра Исаака». Посвящение в рыцари было главной поддержкой королевой Анной Ньютона и вместе с ним — Галифакса. Эта честь совсем не была данью его успехам в науке или верной службе в Монетном дворе. Она должна была укрепить партию вигов на выборах 1705 года. Всё политическое действо это организовал Галифакс. Кроме Ньютона, королева посвятила в рыцари брата Галифакса и дала университету разрешение присудить степень почётного доктора самому Галифаксу. Пользуясь случаем, Ньютон обнародовал свой герб, который он уже лет десять тайно применял и направил в геральдическую коллегию свою, мягко говоря, не совсем точную родословную.
Ньютон вернулся в Кембридж 24 апреля и оставался там несколько дней, собирая голоса для майских выборов. Против него были организованы «мобы» — шумные сборища. Студиозусы, останавливаясь у Тринити, где жил Ньютон, громко кричали:
— Церковь в опасности! Нет — фанатикам! Нет — конформизму!
Голосование было таким: Эннесли — 182 голоса, Виндзор — 170, Годольфин — 162, Ньютон — 117. Ньютон проиграл и согласно законам выборов должен был уплатить Кембриджу крупный штраф.
Виги и тори, «заговорщики» и «разбойники», заменив круглоголовых и кавалеров на поле битвы, грызлись в парламенте, как пауки в банке, теряя приличия и открыто пуская в ход приёмы, которые добуржуазная, аристократическая Англия предпочитала скрывать. Протестанты против нацистов, новая буржуазия против старой аристократии. Естественно, бывший депутат вигов от Кембриджа, друг лорда Галифакса и Джона Локка, Исаак Ньютон был прямой мишенью для атаки со стороны наиболее разнузданных тори. Он должен был быть всегда в готовности принять новый удар. И этот удар был нанесён.
В 1710 году вышла книга-памфлет, прямо направленная против вигов. Мари де ля Ривьер Мэлли, известная скандалистка из лагеря тори, опубликовала «Мемуары Эгинардуса». Книжицу мгновенно расхватали любители клубнички, они требовали и добились нескольких перепечаток. Расцвёл махровый скандал, в центре которого оказались видные виги — Черчилль, Галифакс и Ньютон. Под сомнение были поставлены моральные устои вигов. В константинопольском обществе, изображённом де ля Ривьер Мэнли, легко угадывался лагерь вигов. Галифакс выступал в виде Юлиуса-Сергиуса. Он был страшно недоволен своей любовницей Бартикой, на которую он мало что потратил мириады, но и поставил на хороший пост её именитого древнего предка, уплачивая ему за сводничество. И после всего этого Бартика, эта самодовольная потаскуха, сейчас хочет выйти за него замуж! Под именем Бартики легко угадывалась Кетрин Бартон, племянница Ньютона, а под «престарелым родителем» — он сам.
О книге только и говорили в свете — и аристократы, и буржуа, и даже служители господни с удовольствием смаковали содержащиеся в ней подробности. Даже Вольтер, Ньютонов обожатель, не миновал всеобщего поветрия. В своих «Философских письмах» Вольтер заметил: «В дни своей юности я считал, что Ньютону было воздано по его заслугам. Ничего подобного. Исаак Ньютон имел очаровательную племянницу — мадам Кондуитт, которая покорила министра Галифакса. Бесконечно малые и тяготение оказались бы бесполезными без прелестной племянницы».
Кетрин Бартон была дочерью сводной сестры Ньютона — Анны Смит и внучкой матери Анны. Анна Смит была замужем за Робертом Бартоном, священником. Бартоны уже несколько сот лет арендовали, как и Монтегю, королевские земли в Нортхемптоншире и были в родстве со знатью, жившей поблизости. Кетрин, эпатируя публику, не раз заявляла, что их род происходит от Кетрин Суинфорт — любовницы жившего в XIV веке герцога Ланкастерского, отца Генриха IV, и что, таким образом, в её жилах течёт королевская кровь. Мисс Бартон с её «королевской кровью» осталась, однако, после смерти матери полной сиротой, без всяких средств к существованию, и Ньютон в 1696 году предложил ей, только что окончившей школу, переехать в Лондон, на Джермин-стрит, куда только что переехал сам. Другим детям покойной сестры Анны Ньютон назначил ежегодную ренту.
Кетрин, по-видимому, оказалась единственным членом семьи Ньютона, которая обладала несомненным талантом, как и её дядя, хотя талантом иной природы — талантом красоты и женственности. Кетрин быстро стала одной из знаменитых лондонских красавиц, притом красавицей остроумной и образованной.
В доме Ньютона на Джермин-стрит Кетрин в 1703 году познакомилась и с его другом Чарлзом Монтегю, лордом Галифаксом, сделавшим головокружительную карьеру благодаря своим связям, хорошо подвешенному языку и умению слагать стихи. Поступив в Тринити как феллоу-коммонер в ноябре 1679 года, Монтегю меньше чем через два года королевским мандатом получил звание магистра и сразу после этого, также посредством королевского мандата, стал членом колледжа (Ньютону потребовалось на это втрое больше времени). Монтегю был автором недурных поэм, которые пленили лорда Дорсета, ставшего его покровителем, а затем и короля Вильгельма, вообще считавшего Монтегю необычайно талантливым молодым человеком. Двору и парламенту известно было, однако, что не последней причиной быстрой его карьеры была женитьба на престарелой вдовствующей герцогине Манчестерской, дочери герцога Мальборо, лорда Черчилля — женщине богатой, энергичной и влиятельной, матери двенадцати детей, иные из которых были постарше Чарлза. Монтегю действительно быстро двигался вперёд, стал одним из ведущих вигов, одним из самых влиятельных министров Великобритании за всю её историю. Монтегю продвигался вперёд, но семейная жизнь его тяготила — он стал ещё больше пить, кутить и писать стихи.
Монтегю прекрасно понимал, что красота и остроумие Кетрин, являясь большим социальным капиталом, могут оказать немалую помощь его партии. Он ввёл Кетрин в самые влиятельные круги вигов, познакомил со своим другом, тоже вигом — Джонатаном Свифтом.
В главном клубе вигов, «Кит-Кэт», куда женщин, разумеется, не допускали, тем не менее хорошо знали Кетрин, поскольку члены правящей джунты вигов избрали её наряду с пятью другими лондонскими красавицами «леди-тостом», то есть леди, за здоровье которых пьют из хрустальных «именных» бокалов (на них алмазом вырезаны имена владелиц бокалов) под чтение посвящённых им стихов. «Леди-тосты» были музами вигов. Известно по крайней мере три стихотворения, посвящённые Кетрин Бартон, под чтение которых совершалось шутливое освящение именных бокалов. Они написаны Чарлзом Монтегю с интервалами в несколько лет. Их ухудшающееся год от года качество неоспоримо свидетельствовало о том, что легкомысленный лорд Галифакс влюбился.
И что самое странное — Кетрин Бартон полюбила лорда Галифакса, человека, пользующегося весьма сомнительной репутацией, человека много старше её. И что более странно — дядя ей в том не был помехой. Жена лорда Галифакса к тому времени умерла, и, казалось, никаких причин, препятствующих браку, не было. Но брак не состоялся, по крайней мере законный, освящённый господствующей церковью.
Викторианские биографы начисто исключили такой «нереспектабельный» эпизод из биографии Ньютона. Они не могли допустить вторжения законов свободной любви в жизнь национального героя. А в жизнеописании лорда Галифакса, написанном после его смерти, говорится, что после смерти жены Галифакс, вынужденный жить один, «остановил свой взор на вдове полковника Бартона и племяннице известного сэра Исаака Ньютона, с тем чтобы предложить ей быть его домоправительницей. Но поскольку эта леди была весьма молода, красива и жизнерадостна, те, у кого Галифакс спросил об этом совета, вынесли о ней суждение, которого она никак не заслуживала, поскольку на самом деле была женщиной честной и достойной».
Биограф Ньютона Вильямил приходит к заключению о существовании между Кетрин и Галифаксом тайного брака. Он отметает всякие мысли о мезальянсе. Сестра (а не жена) полковника английской армии, сражавшегося в Канаде и погибшего там, племянница величайшего учёного вполне была под стать герцогу Монтегю. Брак их состоялся, видимо, в апреле 1706 года. Причины его таинственности непонятны. Разными авторами — им несть числа — выдвигаются материальные, моральные, религиозные, партийные причины. Какими бы они ни были, Ньютон не счёл нужным уберегать Кетрин от любой судьбы, которую уготовил для неё Галифакс.
Вестфолл считает, что в целом Ньютон стоял в моральном плане выше общества, в котором он жил, общества, в котором «овцы поедали людей». И всё же при всей его мирской отрешённости был он человеком своего круга, своего времени, которому время от времени приходилось делать моральный выбор, лежавший в совершенно иной плоскости, чем главное занятие его жизни — наука. Он оказался довольно гибким политиком, склонным и способным ко многим компромиссам. Епископ Бэрнет сказал как-то, что он ценит Ньютона «за нечто более ценное, чем его философия. А именно за то, что он является самой чистой душой, которую он когда-либо знал, самым непорочным человеком». Вряд ли епископ был прав. Ньютон был человеком из плоти и крови. Бури, которые сеяла в его душе наука, порой сметали непрочные в том веке моральные препятствия. Вряд ли он смог бы стать лидером новой Реформации, вторым Лютером, о чём мечтали многие его ученики, а возможно, и он сам.
Нужно тем не менее совершенно категорически отринуть прочно утвердившиеся в литературе слухи о возможном влиянии Кетрин на назначения Ньютона.
Вряд ли Галифакс мог хоть в какой-то степени учитывать чары Кетрин Бартон, когда он назначал Ньютона на пост смотрителя Монетного двора. Ведь в 1696 году ей было всего шестнадцать лет, да Галифакс и не был с ней тогда знаком. Он познакомился с ней спустя семь лет, когда уже не мог оказать ровно никакого влияния на служебную карьеру Ньютона, поскольку к тому времени потерял должность и влияние, а Ньютон уже был назначен мастером.
В апреле 1706 года Галифакс сделал добавление к своему завещанию, составленному двумя днями раньше в связи с приступом болезни. Он оставлял миссис Бартон наследство в случае его возможной смерти «как символ великой любви и обожания, которые в течение долгого времени испытывал к ней».
А в октябре того же года некто купил на имя Ньютона, но для использования Кетрин Бартон ежегодную ренту в двести фунтов. Реальными покупателями этой ренты могли быть или Ньютон, или Галифакс.
Завещание Галифакса и таинственная рента на имя Ньютона, но для Кетрин Бартон, не оставляют сомнений в характере отношений Кетрин и Галифакса: как бы ни были официально оформлены их отношения, перед богом и людьми они были мужем и женой. Унитарианские обычаи признавали такие отношения между мужчиной и женщиной как законные, трактуя брак как гражданский контракт.[33]
Вокруг Кетрин всегда крутилась завидная компания модных и талантливых молодых людей, подобных Свифту. Друзья, сговорившись, стали называть её «миссис Бартон». В те времена это означало жену или вдову. (Если бы её называли «миссис Кетрин Бартон», можно было бы предположить, что она была в девичестве, такая форма обращения допускалась; слово «мисс» употреблялось по отношению к совсем уж молодым девочкам, чуть не в пелёнках.)
Джонатан Свифт питал особое уважение и восхищение к «острой на язык миссис Бартон», как её называли в Лондоне. Свифт, герой романтических слухов и рискованных историй, обожавший интеллигентное женское общество, не упускал возможности пообедать у миссис Бартон.
«Я люблю её здесь больше всех на свете», — признавался Свифт в письмах.
А в набросках к своей книжке «Вежливые беседы» Свифт упомянул и о Ньютоне. Он утверждал, что его сосед, живущий неподалёку, хотел бы познакомиться с ним, чтобы снискать в будущем известность за счёт знакомства с истинно великим человеком — Свифтом. Он считал, что Ньютона произвели в рыцари за то, что он «лучше, чем другие мастера, умел делать солнечные часы, за то, что он умел рисовать линии и круги, которых никто не понимал и которые никому не были интересны».
— Но если бы тень этого неизвестного механика поднялась бы, чтобы вступить со мной в единоборство, — рассказывал Свифт своим обожательницам, — я бы доказал, что многие джентльмены и леди умеют не хуже сэра Исаака рисовать пером и чернилами на бумаге всякие непонятные линии.
Свифт не раз намекал на то, что получает от Кетрин Бартон важную политическую информацию. Имелось в виду, конечно, что первичным информатором был именно Галифакс. Свифт был старым знакомцем лорда Галифакса, его политическим сторонником, вполне разделявшим в те времена его вигские взгляды. Галифакс приложил немало стараний, чтобы достать ему выгодную должность.
Так было. А позже, в 1713 году, «неизменный друг» и «искренний обожатель» называл Свифта в палате лордов «деревенщиной» и «негодяем», и это было вполне понятно, поскольку Свифт пересел на скамьи тори и отдал тори своё бойкое перо.
Когда появился анонимный памфлет, осуждающий вигов, Галифакс не мог поверить, что это написал его друг Свифт. Гремя поставленным голосом государственного человека, мощно звучащим под буковыми сводами палаты лордов, Галифакс требовал расследования и выявления «негодяя, написавшего этот насквозь лживый, скандальный памфлет». Лорды перемигивались: «Дружба слепа!» — все знали, что памфлет написан Свифтом.
Точно так же Галифакс не поверил тому, что Свифт поощрял в написании её опуса госпожу де ля Ривьер Мэнли, что именно он ссуживал её порочащей тори информацией и в том числе…
Не будем заходить так далеко в своих догадках. Однако признаем, что Свифт неожиданно стал настолько злым врагом аморальности, насколько может им стать первый в своё время нарушитель приличий и герой светских сплетен. Кроме того: известно доподлинно, что они вместе с госпожой Мэнли сотрудничали в «Экзаминере» и редактировали его, причём особенно часто встречались как раз перед выходом книги. Начиная с 1710–1711 годов имя Кетрин Бартон упоминается в «Дневнике для Стеллы» всё реже и в последний раз — в неожиданно оскорбительном ключе. «До чего мне надоела миссис Бартон… со своей вигистской болтовнёй; право, никогда не слыхивал ничего подобного».
Они разошлись. Что касается Ньютона, Свифт ещё раз, после «Сказки о бочке», помянул «именитого родителя» Кетрин в весьма карикатурном свете в «Приключениях Лемюэля Гулливера».
А в мае 1715 года герцог Монтегю внезапно умер от воспаления лёгких. Флемстид злорадствовал:
9 июля 1715 года
«…Я не сомневаюсь, Вы слышали о том, что лорд Галифакс умер от горячки. Если общее суждение верно, он умер в цене 150 000 фунтов; из них он оставил миссис Бартон, племяннице сэра И. Ньютона, «за радость общения с ней» симпатичный домик, 5000 фунтов, земли, драгоценности, посуду, обстановку стоимостью до 20 000 фунтов или больше. В нём сэр И. Ньютон потерял сильную опору и сейчас, при лорде Оксфордском, Болингброке и д-ре Арбетноте он не пользуется той поддержкой, что в былые дни».
На похороны Галифакса пришли в основном родственники. Он имел множество племянников и племянниц. Ньютон проходил их тёмные ряды, сдержанно кланялся. Многих из них он хорошо знал, они бывали у него в доме. Он шёл в молчании и гневе. Из большинства влиятельных семейств, и в том числе семейства Мальборо, не явился никто. Чопорные аристократы из палаты лордов, члены клуба «Кит-Кэт» не могли простить Галифаксу ни самой Кетрин, ни тех ударов по вигам, которые она навлекла.
Через два года после смерти Монтегю Кетрин взмолилась. Она передала Исааку Ньютону с нарочным маленькую записочку: «Я хотела бы знать, хотите ли Вы, чтобы я оставалась здесь или вернулась домой». «Домой» — означало Сент-Мартин-стрит на Лестер-сквер, куда Ньютон переехал в 1710 году. Ньютон согласился. Кетрин переехала и тут же стала центром обожания стариков — самого Ньютона и его престарелых коллег.
…Минт и вместе с ним Ньютон и после скандала с «Эгинардусом» не были избавлены от козней тори. Не выиграв прямой схватки, тори решили получить Минт в свои руки другим способом. Уже в 1713 году была сделана попытка сместить Ньютона с должности директора Монетного двора. Лорд Болингброк, государственный секретарь и фактически глава «теневого кабинета», один из активнейших деятелей тори, послал декана[34] Свифта к Кетрин Бартон. Она должна была передать Ньютону следующее лестное предложение: раз уж Ньютон разочаровался в Монетном дворе, королева могла бы предложить ему пенсию в две тысячи фунтов с условием оставить Минт. В условиях всеобщего недовольства финансовой политикой правительства это было, в общем, довольно выгодное предложение.
Ньютон смиренно ответил через Кетрин, что его место в распоряжении двора. Никакой пенсии ему не надо. Больше его беспокоить не посмели.
Решили завоевать Минт изнутри.
Вместо сэра Джона Стэнли смотрителем Монетного двора был назначен Кравен Пейтон, член парламента, представитель старинной аристократической семьи и к тому же зять графа Бата. Ему сразу не понравилось, что в Монетном дворе всеми делами управляет именно мастер, а должность смотрителя снова стала синекурой. Он обладал твёрдым характером, упорно сопротивлялся каждому предложению Ньютона. Ньютон решил бороться с ним с помощью казначейства и, проявив необычайную энергию и написав много обстоятельнейших документов, выиграл. Его поддержал сам граф Оксфорд. Но Пейтон не сдавался. Он разыскивал неправильные счета, обвинял Ньютона в том, что он недостаточно решительно действует по отношению к фальшивомонетчикам. Ньютон удивлялся такой его смелости после того, как Оксфорд принял сторону Ньютона. Впоследствии оказалось, что Оксфорд был совсем непрост: Пейтон был его тайным фаворитом в Минте. Оксфорд и Пейтон были тори, в то время как Ньютон — виг. При администрации тори Минт наводнили их приверженцы. Борьба вокруг подписания счётов за прошлые годы затянулась практически до 6 августа 1714 года, когда королевский ревизор Харли, который годами задерживал счета, внезапно за одно утро подписал их все. Причина выяснилась довольно быстро: Харли был братом Оксфорда, а в конце июля умирающая королева, желая укрепить на троне Ганноверскую династию, разжаловала Оксфорда. С этого момента давление тори на всех важных постах в государстве резко ослабло.
На трон взошли ганноверцы, в парламенте засели виги. Для Ньютона это означало одновременно победу и над теми, кто хотел сместить его с поста директора, и над Пейтоном. По иронии судьбы граф Оксфорд за свои прегрешения был заключён в Тауэр и помещён в доме, принадлежащем Монетному двору. Монетный двор был взбудоражен, когда туда ночью в тюремной карете привезли лорда казначейства Оксфорда. Комендант Тауэра, давно воюющий с Ньютоном по поводу места в Минте, поместил пленника в дом контролёра и поставил охрану. Ньютон тут же написал протест в совет казначейства: «Милорды! Безопасность чеканки денег зависит от того, насколько успешно нам удастся охранять Монетный двор от посягательств гарнизона. А безопасность заключённых зависит от того, как они содержатся в заключении под юрисдикцией тех, кто их охраняет; я хотел бы выразить своё скромное суждение не только о том, что заключённый должен быть переведён в настоящую тюрьму, но и о том, что необходимо что-то сделать, чтобы не превратить это вторжение в Минт в прецедент».
С падением Оксфорда Пейтон и его приверженцы тихо исчезли с горизонта. На их место снова пришли виги…
Трудно сказать, какие светила регулировали приливы и отливы океана знаний в Королевском обществе, но, когда Ньютон переехал в Лондон, здесь был явный отлив. Океан ушёл куда-то вдаль, и на бесконечном берегу, как представлялось Ньютону, валялся всевозможный мусор. Монтегю — а именно он был президентом общества — на заседания не ходил, из двухсот членов осталась едва половина, а из тех посещали собрания человек тридцать. Учёные-любители обменивались между собой своими открытиями. С тоскою слушал Ньютон заумные рассуждения о том, что коровы, по мнению одного любителя, всегда мочатся количеством, равным пинте, а бычья моча, по мнению другого, обладает непревзойдёнными целебными свойствами. В другой раз он обогатил свои знания тем, что не вода питает растения, а земля, а лучшее время для нюхания цветов — это утро.
И не только этим. Королевское общество весьма терпимо и даже одобрительно относилось к магии, верило в демонов и ведьм. Так, сам Р. Бойль помог опубликовать в 1658 году книгу «Демон Маскон», призванную «путём научного подтверждения сверхъестественных явлений пресечь домогательства атеистов». Бойлю следовал Дж. Гланвиль, предложивший создать «Естественную историю страны духов». Он же написал книгу «Философский опыт защиты существования ведьм и привидений». И Генри Мур, и Джон Уилкинс вполне серьёзно воспринимали христианскую демонологию, зачислявшую малых демонов — эльфов и нимф, и всевозможных монстров — инкубов, саккубов и великанов в разряд духов.
Даже У. Уистон, один из самых приближённых к Ньютону учеников, его единоверец, верил в демонов и видел реальные доказательства их существования. Первое: зло, существующее в мире. Второе: метеоры — демоны, летающие по небу и вызывающие голод и эпидемии. Для Уистона демоны были так же реальны, как опыты Бойля по упругости воздуха и расчёты Ньютона, подтверждающие теорию тяготения. Ведь существовали же с несомненностью и кометы, и метеориты, и затмения, и северные сияния, и землетрясения, и потопы, и засухи.
Ему вторили и Флемстид, и Локк.
Иногда и Ньютон благосклонно склонял голову, слушая подобные речи. Каких трудов стоило Джону Мэчину переубедить его и заставить наконец предложить механическое объяснение силы тяготения, что, возвращая его к Декарту, противоречило многолетним его размышлениям. Считая эту идею Мэчина «абсурдной», Ньютон тем не менее дал себя в ней убедить, ибо, не приняв её, он должен был бы приписать действие вещей демонам, или ангелам, или, что отнюдь не лучше, — оккультизму, врождённым свойствам.
…Монтегю был президентом Королевского общества до 1698 года. Затем на пять лет его сменил лидер джунты вигов лорд Сомерс. Смена Монтегю на Сомерса сохранила Королевское общество в руках партии, но ничего не прибавила к его научному авторитету. Лорд Сомерс за пять лет присутствовал на заседаниях лишь дважды, и дела за него вёл решительный Ганс Слоан. Но и тот был не в силах совладать со стихией запустения, захлёстывающей Общество всё больше и больше. Несмотря на отчаянные попытки уговорить членов Общества ходить на заседания, количество посетителей всё сокращалось. И когда сэр Джон Хоскинс, председательствующий на одном из очередных собраний, оглядел зал, он страшно расстроился — зал был пуст, несмотря на то, что потенциальные слушатели могли бы насладиться чрезвычайно интересным, по его мнению, сообщением о женщине, которая безо всякого эффекта испробовала на своём муже и свиной хлеб, и паслён, и пауков, и лягушек, пока, отчаявшись, не решилась отравить его с помощью обычного мышьяка.
Старики Роберт Гук и Кристофер Рен редко ходили на подобные заседания. Ньютон тоже бывал в Обществе нечасто, хотя и не хотел терять с ним связи. В одно из первых своих посещений он показал сочленам построенный им новый тип секстанта, весьма полезный, по его мнению, для навигации. Чинная академическая атмосфера заседания, его сонный покой тут же были нарушены Робертом Гуком, который с дрожью и негодованием в голосе сообщил, что он изобрёл подобный прибор более тридцати лет назад. Действительно, у Гука имелись кое-какие идеи на этот счёт, но секстанта он никогда не строил. (А поскольку это так, считал Ньютон, Гук не имеет права выдвигать подобные обвинения.) Чувствовалось, что Ньютон, который стал было регулярно посещать собрания, раздражает Гука. И тогда Ньютон решил не баловать Королевское общество своими визитами.
Но с некоторого момента само Общество стало ощущать нужду в Ньютоне. Это стало особенно явным после смерти Гука в марте 1703 года. Дальновидные члены Общества понимали, что без должного научного руководства оно быстро придёт к окончательному упадку. Нельзя сказать, чтобы мысль сделать Ньютона президентом пользовалась большой популярностью. Многие знали о его связях с двумя предыдущими президентами из партии вигов, оставившими о себе самую печальную память. Некоторые сочувствовали Гуку, сгубленному чахоткой, но и со смертельного одра изрыгавшему иссохшими губами проклятья Ньютону — похитителю его идей, некоторые считали, что он стар, некоторые — что он слишком недолго живёт ещё в Лондоне, чтобы стать президентом
Сначала, по правилам Общества, необходимо было быть избранным в члены совета. Уже затем члены совета избирали президента. Когда была выставлена кандидатура Ньютона, на заседании присутствовали 30 человек. Ньютон получил 22 голоса. Видимо, для многих он оставался выскочкой, парвеню, не по чину получившим с помощью другого парвеню — герцога Монтегю — прекрасную должность на Монетном дворе. Несколько выровняло его положение в Обществе лишь возведение в рыцарское достоинство и приобретение собственного герба.
Ньютон был избран президентом Общества в день святого Андрея, в конце ноября 1703 года. Через две недели он впервые появился на заседании в новом качестве, и присутствующие сразу поняли, что он отнюдь не собирается быть декоративной фигурой.
Ньютон в своей обычной обстоятельной манере сначала внимательнейшим образом изучил историю Королевского общества, пока ещё насчитывающую только полвека, перелистал все протоколы и «Философские труды» — печатный орган Общества. После чего уже полностью был готов к тому, чтобы взвалить нелёгкую ношу на плечи.
И первое, что он решил сделать, — лично вести все заседания совета. Сомерс за пять лет не был на заседаниях совета ни разу. Ньютон же за двадцать лет, пока здоровье его не стало сдавать, пропустил всего три.
Затем он решил доказать Обществу, что обладает способностью не только говорить, но и кое-что делать собственными руками. Он часто приносил в Общество изготовленные им приборы. Достаточно вспомнить о его поджигающем стекле — это было совсем непростое устройство, его мог сделать только очень искусный мастер. Стекло было составлено из семи линз, каждая из которых имела в диаметре одиннадцать с половиной дюймов; все вместе составляли сегмент большой сферы, захватывающей и концентрирующей солнечные лучи. Это «стекло» мгновенно расплавляло красный обожжённый кирпич, за полминуты плавило золото. Стеклом занимались несколько заседаний.
Видя, что главный недостаток в работе Общества заключается в пустопорожней болтовне, Ньютон решил разработать «Схему укрепления Королевского общества». Здесь Ньютон чётко сформулировал, какого сорта дискуссии должны вестись в Обществе и какие — нет. «Натуральная философия, — писал Ньютон, — заключается в раскрытии форм и явлений природы и сведении их, насколько это возможно, к общим законам природы, устанавливая эти законы посредством наблюдений и экспериментов и, таким образом, делая выводы о причинах и действиях».
Подыскать замену Гуку было, конечно, непросто. Но Ньютону удалось сделать даже это. Он нашёл Френсиса Гауксби. Этот человек возник как бы из небытия, о прошлом его даже историкам ровно ничего не известно. Первый раз он появился в Королевском обществе в тот самый день, когда Ньютон впервые занял президентское кресло. На этом собрании Гауксби показал эксперименты с усовершенствованным воздушным насосом. С тех пор он регулярно присутствовал на встречах Общества, хотя, похоже, воздушный насос был пока единственной струной в его научной лире. Когда Гауксби стали платить деньги за его труды, демонстрация экспериментов была поставлена им на регулярную основу. Общество, однако, не согласилось с «нескромным требованием» Гауксби платить ему жалованье и согласилось лишь на оплату «в соответствии с оказанными услугами». В иные годы она не превышала 15 фунтов, в иные доходила до 40, но это был весьма приличный заработок, и Гауксби был вполне доволен своим положением.
Откуда бы Гауксби ни взялся, он был для Ньютона истинной находкой, так же как и Ньютон — для Гауксби. Начав с повторения перед членами Королевского общества известных экспериментов Бойля, Гауксби обратился к электричеству и капиллярному действию, что вполне соответствовало идеям Ньютона, на которые он уже замахнулся в «Началах». После встречи с Ньютоном экспериментальный талант Гауксби пышно расцвёл и открытия посыпались как из рога изобилия. Разместив, например, на вращающейся оси стеклянный шар и натирая его ладонями, Гауксби изобрёл новый тип электростатической машины. Выкачав из стеклянного шара воздух и проделав снова всю операцию с верчением шара на оси, Гауксби добился свечения шара в темноте.
Проводя капиллярные эксперименты, Гауксби убедил Ньютона в том, что тот сорок лет ошибался, считая, что капиллярные явления не могут происходить в вакууме. Серьёзные изменения были внесены Ньютоном и в количественные соотношения, связанные с капиллярным действием. Он учёл это в «Оптике».
Статьи, содержащие эксперименты Гауксби, стали регулярно появляться в «Философских трудах», а потом собрались и в книгу. Он стал и первоклассным демонстратором и авторитетным учёным.
Для Ньютона он оставался, однако, всего лишь слугой. Так, в сентябре 1705 года Ньютон обратился к Гауксби, по не лично, а через Слоана, с предложением принести к нему на дом свой знаменитый воздушный насос и показать там свои эксперименты «кое-каким философам». В данном случае «философами» оказались лорд Галифакс, граф Пемброк и епископ Дублинский. Гауксби, однако, проделал всё это с готовностью и удовлетворением, получив за свои заботы две гинеи.
Общество под влиянием Ньютона медленно возвращалось к жизни. Ньютон понимал, что сразу восстановить его былую славу невозможно, и посему пока не препятствовал бурным дискуссиям и восторгам по «недостойным поводам». То речь шла о живом щенке, родившемся без пасти и сейчас выставляемом в Обществе в виде скелета, то о сросшихся вместе четырёх поросятах, обнаруженных в теле убитой свиньи и сохраняющихся теперь в Обществе в спиртовых банках. Долго рассматривали репродуктивные органы сдохшего опоссума, ранее принадлежавшего Обществу.
Понимая, что изменить дух, долго царивший в Обществе, сразу не удастся, Ньютон и сам не раз выступал с подобными рассказами — например, о человеке, который задохнулся, выпив бренди, или о собаке в Тринити, случайно отравившейся маслом для волос, или о червях, которые заводятся в сырых и тёплых отрубях и которые, по всей видимости, происходят от заложенных там яичек. Тут же, без остановки, Ньютон предложил, впрочем, проделать несколько новых экспериментов, в частности, по получению тепла при ферментации отрубей. Тепло можно было использовать в химических экспериментах, прячем оно обходилось гораздо дешевле и было удобнее в работе. Уже через неделю членам Общества были показаны тёплые отруби, причём Ньютон с энтузиазмом утверждал, что тепло будет сохраняться до двух недель, а меняя сосуды, можно продлить этот процесс до бесконечности. Однако осуществить эксперимент не удалось: в отрубях развелось страшное количество личинок.
Даже в 1710 году страсть Общества к сенсациям, уродам, демонам и монстрам не была ещё преодолена. И тем не менее в Обществе наметился явный прогресс. Количество членов возрастало, постепенно приближалось к тому, что было в период расцвета. Повышался научный уровень заседаний, регулярно показывались опыты. Всё это свидетельствовало: англичане уверенно выходят на передовые позиции в мировой науке.
Теперь многие стали приходить в Общество с охотой и заинтересованностью. Часто можно было встретить Дени Папена, носившегося с идеями создать общество для постройки новой доменной печи или просто для поощрения изобретателей (и его самого). Доктор Дуглас производил анатомические вскрытия и рассказывал о наиболее интересных случаях из медицинской практики. Вполне в духе того времени он с упоением повествовал, что именно было найдено в теле бедняжки леди Пакинхем, умершей более тридцати лет назад, и какие особенности имели желудки недавно скончавшихся герцогов Квинсбери и Лиддса. Доктор Слоан показывал камни, найденные в мочевом пузыре их покойного коллеги доктора Хитса.
Статьи в «Философских трудах» становилась полновеснее и целенаправленнее. Светская болтовня стала постепенно исчезать.
Когда в 1713 году Гауксби умер, на его место был назначен Дезагюйе. Дезагюйе производил интереснейшие эксперименты с передачей тепла в вакууме, явно навеянные книгой Ньютона и его взглядами и, естественно, позднее вошедшие в третье издание «Начал». Молодые ньютонианцы заваливали заседания своими сообщениями.
Сам Ньютон тоже не молчал. В протоколах встречаем следующие записи: «Президент сказал, что он наблюдал в почке собаки большого червя, скрученного в спираль и занимавшего большую часть почки». Через несколько дней он вновь вернулся к этой несчастной собаке, у которой, как он хорошо помнил, неподалёку от носа облюбовали себе место сразу несколько многоногих червей. А однажды он вспомнил эксперимент, который он провёл в кухне Тринити-колледжа в далёкие сабсайзерские дни. Тогда он разрезал сердце живого угря на три части. Отделённые друг от друга куски продолжали биться в унисон. Их биение мгновенно и синхронно прекращалось, если хотя бы на один из кусков капали уксусом. Он выступал на самые различные темы. Он говорил о часах и клепсидрах, барометрах и термометрах, о магнитах и янтаре, о солёности моря, о приспособлении глаза к видению предметов на различном расстоянии, о параллаксе Марса.
Королевское общество явно усиливалось. Не только благодаря Ньютону. Ньютон лишь точно угадал дух эпохи и свою в ней ускоряющую роль.
Англия богатела. Завоёвывая мир, она становилась и центром развития знаний. Даже Голландия, Италия, Франция и Германия впадали в зависть. Как грибы после дождя появились после буржуазной революции Литературное общество, Королевское общество, Общество антикваров, общества хирургов, лекарей, аптекарей. Уважение к Королевскому обществу всё росло — и само по себе, и благодаря Ньютону. Лорд Пемброк подарил Обществу свои коллекции антикварных редкостей и монет, собрание античных мраморных статуй, картин и книг. Лорды Оксфорд и Сандерленд пожаловали Обществу свои библиотеки и собрания древних рукописей. Сэр Ганс Слоан и доктор Мид пожертвовали предметы античного и современного искусства, антропологическую и геологическую коллекции, доктор Вудварт — коллекцию окаменелых раковин и моллюсков. В дополнение к своему дару сэр Ганс Слоан купил участок земли и основал ботанический сад в Челси (а впоследствии заложил своими ямайскими коллекциями и библиотекой в 50 тысяч томов основу Британского музея). Вокруг Общества группировались влиятельные любители искусства, библиофилы, нумизматы, собиратели раковин и прочих редкостей. Это усиливало его позиции.
Попытаемся представить себе, кто входил в состав Королевского общества в те времена, когда Ньютон был его президентом.
Секретарями Общества были его единомышленники сэр Ганс Слоан и его друг доктор Эдмонд Галлей. В Обществе состоял влиятельнейший граф Пемброк, авторитетнейший сэр Кристофер Рен, богатейший доктор Жерард и несчастнейший доктор Флемстид. Была и молодёжь — ньютонианцы Кейлл, де Муавр, Котс, Мид, Френд, Паунд, Дерхам, Дюийе, Тейлор, Дезагюйе, Грэхем, Бентли, Гаррис. У Ньютона был талант зажигать молодые сердца, делать способных юношей своими единомышленниками, помощниками и коллегами. Молодёжь его обожала и боготворила.
Позицию Ньютона в Королевском обществе довольно образно и точно описал историк науки П. Розенбергер: «Королевское общество стало его парламентом, в котором едва ли когда смела появиться даже верноподданническая оппозиция его величеству. Талантливые молодые физики и математики формировали генеральный штаб, который в нужный момент давал бои, причём вёл их так искусно, что верховный вождь, защищённый от личных поражений, мог с полным спокойствием непричастно взирать на поле брани, ограничиваясь указаниями на тайных военных советах — ссылками на свои опубликованные труды».
16 февраля 1704 года было торжественным для Ньютона днём: с высоты президентского кресла он представил членам Королевского общества свою «Оптику». Интересно, что «Оптика» не была посвящена Ньютоном Королевскому обществу, как это было с книгой «Начала», и, судя по обложке, казалось, не имела к Обществу никакого отношения. В предисловии говорилось; «Не желая быть втянутым в диспуты по всяким вопросам, я оттягивал это издание и задержал бы его и далее, если бы не настойчивость моих друзей». Фраза о нежелании вступать во всевозможные споры была рассчитана на тех, кто знал о его спорах с покойным Гуком.
В предисловии, или «Извещении», как оно было названо Ньютоном, содержалась и другая фраза, раскрывающая причину появления «Оптики» в обрамлении приложенных к ней трактатах о квадратурах кривых и трактата о кривых третьего порядка.
Дело в том, что некоторое время назад доктор Арбетнот привёл в дом к Ньютону молодого человека — почти юношу — Грегори Чейна, только что прибывшего из Шотландии. Юноша принёс с собой книгу, которую намеревался опубликовать. Как только Ньютон взглянул на её название, он переменился в лице. Она называлась «Обратный метод флюксий», и содержание её явно свидетельствовало о том, что если она выйдет, приоритет Ньютона в изобретении исчисления ещё раз будет поставлен под сомнение. Ньютон заявил, что публикация книги невозможна, недопустима, даже — если верить воспоминаниям Кондуитта — предложил Чейну «мешок денег» за отказ от публикации. Чейн отказался, вышел из Королевского общества и сменил математику на медицину. Ньютон прекратил с ним всякие отношения. Но теперь Ньютон решил более внимательно отнестись к заявлению прав на свои открытия.
Чтение «Оптики» могло бы навести на мысль о том, что всё, что в ней содержится, открыто Ньютоном. Но это вовсе не так. У Ньютона была манера не цитировать предшественников, исключая разве что совсем уж неизбежные случаи. Он позабыл или не захотел упомянуть, например, «Микрографию» Гука, оказавшую громадное влияние на его исследования по цветам в тонких плёнках и пластинках. Он не вспомнил и Гримальди, открывшего дифракцию света. То же можно сказать о многих других исследователях. А ведь он тщательнейшим образом изучал оптиков прошлого и многое у них взял. В его библиотеке были все главные труды по оптике. Многие идеи подсказаны ему чтением.
И всё же использование трудов других учёных не умаляет заслуг Ньютона. Он построил из их сырого материала великолепное здание, на архитектурное авторство которого уже никто не смог бы претендовать. Вольное использование слов было заменено Ньютоном оперированием тщательно избранными и выверенными понятиями, основанными на экспериментах. Он настойчиво предостерегал против путаницы, которая неизбежно возникнет, если первичные понятия будут определены нечётко. Окончательно формировался и укреплялся его научный метод. Ньютон пишет в своём знаменитом «Вопросе 31», завершающем одно из поздних изданий «Оптики»:
«Как в математике, так и при испытании природы, при исследовании трудных вопросов, аналитический метод должен предшествовать синтетическому. Этот анализ заключается в том, что из экспериментов и наблюдений посредством индукции выводят общие заключения и не допускают против них никаких возражений, которые не исходили бы из опытов или других надёжных истин. Ибо гипотезы не рассматриваются в экспериментальной философии. Хотя полученные посредством индукции из экспериментов и наблюдений результаты не могут ещё служить доказательством всеобщих заключений, всё же это — наилучший путь делать заключения, который допускает природа вещей».
«Оптика» построена в основном на материалах первых статей Ньютона. Но это и синтез всех его физических и философских идей, попытка дать ответы на самые сложные вопросы. В ней нет юношеских дерзаний и свежести гениальных догадок; в ней царит величавая мудрость. Но «Оптика» заканчивается не ответами, как можно было бы предположить, а «вопросами». Это, по существу, программы, предлагаемые для разработки другим исследователям. В «Вопросе 1» Ньютон вопрошает:
«Не действуют ли тела на свет уже на некотором расстоянии, загибая световые лучи? И не будет ли это действие при прочих равных обстоятельствах тем сильнее, чем меньше расстояние?»
Ответа на этот вопрос Ньютон не имеет — он лишь намечает направление поиска.
«Вопросы» — это и программы, и догадки, и предположения, и гипотезы.
Здесь есть идеи превращения вещества в свет и света в вещество. Ньютон вычисляет даже «силу притяжения» между световыми корпускулами и показывает, что на чрезвычайно малых расстояниях должны действовать силы гораздо более мощные, чем тяготение. С приближением частиц друг к другу притяжение должно смениться отталкиванием. Различные «вопросы» противоречат друг другу, являя собой, как подметил С. И. Вавилов, «геологические напластования мысли». Так, природа света иногда корпускулярно-волновая, а иногда — только корпускулярная. Эфир в части «вопросов» поддерживается, в другой — отвергается. В «Вопросе 38» Ньютон восстаёт против картезианского — плотного, заполняющего небеса — эфира, который должен, по его мнению, препятствовать движению небесных тел. Но Ньютон допускает в небесных пространствах существование «необычайно тонкой эфирной среды». Эфир становится при этом «одним из четырёх столпов мироздания» наряду с материей, пустотой и силой тяготения, действующей на расстоянии.
Вселенная Ньютона имеет теперь сложное устройство. Сплошная материя из неё изгнана. Вселенная опутана причудливой сетью сил. Материя в ней не похожа уже на скопище случайных частиц, сваленных, подобно камням, в кучу. Положение частиц, их форма, размеры и структура становятся сложной функцией. Он спорит с теми, кто утверждает, что материя столь мудро создана богом, что заранее обладает всеми необходимыми качествами, точно так же как все живые существа изначально обладают необходимыми им для жизни конечностями и внутренними органами.
Откуда же возникает тот порядок и красота, которые мы наблюдаем в нашем мире? — спрашивает себя Ньютон. Как движение нашего тела следует указаниям нашей воли? Как инстинкты управляют животными? Не является ли бесконечное пространство «чувствилищем» бестелесного живого и разумного существа, которое чувствует вещи изнутри и глубоко постигает их непосредственным в них присутствием? Тем самым бог сливается с природой.
«Оптика» была уже в печати, когда Ньютон спохватился. Он понял, что с этими своими утверждениями он зашёл слишком далеко. Многие легко разгадают здесь богоотступничество и богохульство. Он ринулся в типографию, где ещё допечатывались экземпляры, остановил рабочих, побежал в лавки, где продавались книги, выкупил все экземпляры, которые мог, и везде заменил эту страницу другой — значительно более надёжной, не внушающей сомнений в его вере в бога, Ни о каком «чувствилище» здесь нет уже речи, никаких сомнений в уподоблении бога природе также не возникает.
Но Ньютону, конечно, не удалось исправить все экземпляры «Оптики». Часть книг была уже продана, и Лейбницу достался один из тех, не исправленных, опасных экземпляров. Лейбниц получил как раз то, что ему было нужно. Он стал высмеивать концепцию «чувствилища», угадав атеистические тенденции этого отрывка. По мнению Лейбница, Ньютон, видимо, уже совсем потерял страх божий и, помимо своих мыслей о гравитации, носящих явно безбожный характер, прибавил ещё и строение природы, в которой бог-творец вообще не нужен. Природа Ньютона была самодостаточна. Ньютон определённо зашёл слишком далеко.
(Латинское издание «Оптики», в котором, собственно, и содержались все эти вольности, вышло в 1706 году в переводе Сэмюэля Кларка, получившего за свои труды щедрый подарок — 500 фунтов, по 100 фунтов для каждого из пятерых его детей.)
Ньютон понимал, что «Оптика» вряд ли откроет для его коллег что-то новое. Ведь все её основные материалы были написаны тридцать лет назад, а область эта развивалась довольно быстро. И всё же именно ньютоновские открытия не оказались никем повторены. Он оставался их признанным и единственным автором. Хотя новых прозрений в «Оптике» не было, её роль не уступала роли «Начал» и даже, как считали многие, превышала её, поскольку «Оптика» была книгой значительно более популярной. Именно эта книга на целое столетие определила пути развития оптики как науки.
А для многих главным в «Оптике» были вовсе не оптические открытия, а те методы научного исследования, которые она широко провозглашала: «Вывести два или три общих принципа движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных принципов, было бы очень важным шагом в философии, хотя бы причины этих принципов и не были ещё открыты».
Лишь так можно было вырваться из порочного круга старых физических и философских идей.
Ньютон пытался сделать так, чтобы собрания Общества были интересными для любителей, из которых оно в основном и состояло и от которых его дальнейшее процветание зависело. Он заботился и о том, чтобы в члены Общества вошли влиятельные политические фигуры. Вот почему, когда в 1714 году в Лондон пришло письмо от русского князя Меншикова с просьбой о вступлении его в члены Королевского общества, Ньютон сразу же созвал по этому поводу специальное заседание.
Интересен ответ Ньютона А. Д. Меншикову — первому русскому члену Королевского общества. В бумагах Ньютона сохранилось три черновика этого документа, один из которых был передан в 1943 году Королевским обществом в дар Академии наук СССР.
«Могущественнейшему и достопочтеннейшему владыке господину Александру Меншикову, Римской и Российской империй князю, властителю Ораниенбурга, первому в Советах Царского Величества, Маршалу, Управителю покорённых областей, кавалеру Ордена Слона и Высшего Ордена Чёрного Орла и пр. Исаак Ньютон шлёт привет.
Поскольку Королевскому обществу известно стало, что Император Ваш, Его Царское Величество с величайшим рвением развивает во владениях своих искусства и науки и что Вы служением Вашим помогаете Ему не только в управлении делами военными и гражданскими, но прежде всего также в распространении хороших книг и наук, постольку все мы исполнились радостью, когда английские негоцианты дали знать нам, что Ваше Превосходительство по высочайшей просвещённости, особому стремлению к наукам, а также вследствие любви к народу нашему, желали бы присоединиться к нашему Обществу. В то время по обычаю мы прекратили собираться до окончания лета и осени. Но услышав про сказанное, все мы собрались, чтобы избрать Ваше Превосходительство, при этом были мы единогласны. И теперь, пользуясь первым же собранием, мы подтверждаем это избрание дипломом, скреплённым печатью нашей общины. Общество также дало секретарю своему поручение переслать к Вам диплом и известить Вас об избрании. Будьте здоровы.
Дано в Лондоне 25 октября 1714 г.».
Кроме Меншикова, в Общество был избран ряд других влиятельных лиц. А вот чернокожему представителю далёкой Ямайки Общество отказало в приёме, не объясняя причин.
Ньютону удалось наконец наладить финансовые дела Общества. Общество владело всего двадцатью четырьмя фунтами в год, завещанными ему Джоном Уилкинсом в виде ренты, которую не всегда удавалось востребовать. Ньютон ввёл обязательные членские взносы не только при вступлении, но и при регулярном посещении собраний. Была придумана и кара — должники не могли войти в совет.
В своей работе Ньютон опирался в основном на секретаря доктора Слоана. И хотя Ньютон в частных разговорах иной раз в сердцах называл Слоана мошенником, разбойником и проходимцем, а Слоан за глаза сетовал на тиранические методы руководства, оба они поддерживали друг друга, когда речь шла о перестройке работы Общества.
Этому препятствовали противники, объединившиеся вокруг редактора «Философских трудов» доктора Вудварда, медика, пестовавшего в Обществе дух анатомического паноптикума. Вудвард был активным противником демонстрационных экспериментов, которые насаждал Ньютон, яростным врагом новых строгих физических дискуссий, которые нельзя уже было посещать лишь с целью отдохновения, как было когда-то. Споры между сторонами были жаркими. Дело порой доходило до дуэли. Ньютона пользовал доктор Ричард Мид. Однажды он запоздал, пришёл возбуждённый и в ответ на недоуменный взгляд Ньютона рассказал, что только что дрался с небезызвестным противником физики доктором Вудвардом. Когда они сражались на пустыре в Кенсингтоне, Вудвард упал и лежал беззащитным перед шпагой Мида.
— Забирайте свою жизнь, сказал я ему, — рассказывал Мид.
— И что же он ответил? — спросил Ньютон.
— Представьте себе, этот наглец ответил, что готов взять что угодно, если только это не физика! — рассказывал Мид.
Ньютону противостояла серьёзная оппозиция и в совете Общества. Очередные ежегодные выборы должны были состояться в конце ноября 1713 года. Поговаривали, что Ньютона забаллотируют. Признаком того, что слухи имели под собой основу, было письмо Ньютону от одного из членов Общества — Джона Чемберлена. Тот предложил Ньютону составить список людей, за кого ему, Чемберлену, по мнению Ньютона, нужно было бы голосовать. «Кроме того человека, — добавил Чемберлен, — кого бы я хотел выбрать свободно и кого бы я хотел сделать вечным диктатором Общества, если бы это зависело только от голоса его очень верного и покорного слуги». Ньютон взъярился. Он и не подумал отмечать галочками тех кандидатов, кого, по его мнению, нужно было выбирать. Он не ответил на письмо Чемберлена, но это не значит, что он оставил его без последствий. Он видел, что от года к году получает всё меньше голосов, но не принимал это близко к сердцу, а действовал.
Королевское общество собиралось с прежней регулярностью. Президентское место никогда не пустовало. Ньютон посвящал Обществу много времени — как никто другой — и относился к его делам со всей серьёзностью. Регулярными пожертвованиями он помогал ему и материально. На своё 80-летие Ньютон подарил Королевскому обществу долго хранившуюся у него рукопись Тихо Браге, содержащую ещё неизвестные наблюдения четырёх комет.
Продолжалось и его покровительство молодым учёным, в частности шотландскому математику Джеймсу Стирлингу — ньютонианцу, опубликовавшему книгу «Ньютоновские линии третьего порядка», где были описаны не замеченные Ньютоном четыре вида кубических уравнений.
Стирлинг, обучавшийся в Оксфорде, был замешан в якобитском заговоре 1716 года. Опасаясь преследований, он бежал в Италию и обосновался в Венеции, где написал несколько научных статей и, в частности, комментарий к работе Ньютона по кривым. Ньютон пришёл в восхищение и написал ему письмо, послал денег, напечатал статью в журнале и в конце концов добился его прощения и возвращения в страну. Стирлинг писал ему в ответ: «Ваша доброта бесконечно выше моих достоинств, я считаю себя навсегда обязанным служить Вам, как смогу. Естественно, что подарок от такого человека, как Вы, вдесятеро более ценен для меня, чем подарок от кого-либо другого». После прощения Стирлинг вернулся в Шотландию и стал известным горным инженером.
Всяческую поддержку и помощь оказал Ньютон молодому шотландцу Колину Маклорену. Это был удивительный талант. Он стал профессором Маришаль-колледжа в Абердине девятнадцати лет, после того, как выдержал испытания, продолжавшиеся 10 дней. На летние каникулы он приехал в Лондон, где повстречался с с Ньютоном. Он сразу понял значение ньютоновских трудов и стал одним из первых пропагандистов его наёмного метода и его физики. Маклорен был, возможно, первым, кто обучал своих студентов методам дифференциального и интегрального исчисления и новой ньютоновской механике. Ньютон помог ему стать преемником Дэвида Грегори и Эдинбургском университете. Ньютон написал письмо ректору Эдинбургского университета: «Милорд, для меня было большой честью получить от Вас письмо, из которого я рад узнать, что господин Маклорен пользуется у Вас доброй репутацией за его искусство в математике, которую, я считаю, он вполне заслуживает. Чтобы уверить Вас в том, что я не захваливаю его, а также для того, чтобы подвигнуть его на принятие места помощника господина Грегори с целью последующего замещения должности, я готов (если вы разрешите мне это сделать) вносить двадцать фунтов в год на его содержание до тех пор, пока место мистера Грегори не станет вакантным, если, конечно, я так долго проживу…» Колин был избран и в течение двадцати лет занимал кафедру математики, которую прославил своими трудами. Он умер в 1746 году, диктуя последнюю главу комментариев к ньютоновским «Началам». На памятной табличкой на южной стене церкви Серых братьев Эдинбургского университета прибита табличка, в которой его место в истории обозначено так: «Ученик Ньютона».
Ньютон помогал и астроному Джеймсу Паунду: подарил ему 100 фунтов, выписал из Голландии линзу для телескопа с фокусным расстоянием 123 фута. Увлёкшись, он купил даже каланчу, ранее установленную в Стрэнде, и настоял, чтобы её перевезли в обсерваторию Паунда в качестве башни для телескопа. Рассказывали: когда Ньютон ввозил линзу в Англию, таможенный чиновник справился о её цене, чтобы назначить пошлину. Кривизна линзы была незначительной, и Ньютону ничего не стоило бы выдать её за обычное стекло, как поступали все другие в аналогичных случаях. Ньютон же с гордостью объявил истинную цену этого «обычного стекла» и заплатил соответствующую немалую пошлину — 20 фунтов. Благодарный Паунд поставлял ему результаты своих наблюдений Юпитера, Сатурна и их спутников, а также постоянных звёзд, находившихся по пути кометы 1680–1681 годов. Многие данные Паунда вошли в третье издание «Начал».
Ньютон часто размышлял о том, как отвести нависшую над Королевским обществом угрозу выселения из принадлежавшего Грешем-колледжу привычного елизаветинского особняка. Грешем-колледж давно подкапывался под Общество и однажды, в 1701 году, подготовил для парламента билль о выселении. Билль не был даже выставлен для голосования благодаря усилиям Роберта Гука, грешемского профессора. После смерти Гука началось второе наступление грешемцев. Обороняясь, Ньютон пытался использовать в борьбе Галифакса. Тот вскоре сообщил, что ему удалось в принципе добиться поддержки королевой идеи переселения Общества за счёт Грешем-колледжа.
Но Ньютон понимал, что «королевский» путь к успеху не приведёт. Путь к свободе лежал через независимость — Общество должно было само купить себе дом. Ньютон тут же разузнал, что продаётся дом в Лебедином дворе, на Флит-стрит, за полторы тысячи фунтов и дом в Вестминстере, покрупнее, но вдвое дороже. Ньютон действовал быстро. 20 сентября 1710 года для решения вопроса о покупке Ньютон собрал членов совета. Решили купить дом подешевле.
26 октября Ньютон известил всех о том, что покупка совершена. Он разрубил гордиев узел, выбрав недорогой и вполне приемлемый для всех вариант. Масса других, не вполне ясных и отдалённых возможностей была им просто отброшена.
А уже в ноябре по лондонским гостиным стал ходить анонимный памфлет под названием: «Описание последнего заседания Совета Королевского общества с целью переезда из Грешем-колледжа в Лебединый двор на Флит-стрит». В памфлете основной удар был нанесён по Гансу Слоану, который, по словам автора памфлета, держит все дела Общества в своих руках, манипулируя президентом и другими членами Общества. В памфлете говорилось, что никакой нужды выезжать из Грешем-колледжа не было и что вопрос такой важности Общество должно было решить на общем собрании его членов. Похоже было, что это — проделки Вудварда. Ньютон понимал, что его радикальное решение действительно могло вызвать недовольство. Чтобы слегка разрядить обстановку, Ньютон выложил расходы на переезд — 110 фунтов — из собственного кошелька. Но неизбежно вставал вопрос об оплате самой покупки. В казне Общества было всего 550 фунтов. Необходим бы и ремонт, который стоил 310 фунтов. Нужно было ещё построить хранилище для приборов стоимостью 200 фунтов, сконструированное Реном.
Выручил Общество один из мелких его служащих — Гарри Хант, который одолжил 650 фунтов и сразу после этого умер. Выплату долга семье Ханта взяли на себя Ньютон, Слоан и Уоллер.
Ньютон призвал всех членов Общества вносить пожертвования и сам подал пример, внеся 100 фунтов. После этого пожертвования стали сыпаться как из рога изобилия. Стало хорошим тоном и доброй традицией не забывать про Общество в дарственных и завещаниях. Френсис Астон оставил Королевскому обществу свою библиотеку, землю в Линкольншире и 500 фунтов. Доктор Томас Пагет — два лондонских дома, Роберт Кегт — 500 фунтов. Общество богатело, начало платить жалованье секретарям и более того — положило полторы тысячи в рост. Ньютон настоял, чтобы на деньги Общества были куплены акции «Компании Южных морей». Когда эта компания обанкротилась, Ньютон предложил компенсировать потери Общества из своего кошелька (предложение принято не было).
Ньютон прочно взял дела Общества в свои руки. Стэкли вспоминал, что Ньютон управлял Обществом с исключительным благоразумием и тактом. Он серьёзнейшим образом относился к собраниям Общества и не допускал на них ни перешептываний, ни разговоров, ни смешков. Если возникали споры, он ни в коем случае не позволял спорщикам переходить на личности. Весьма характерны и новые порядки, которые Ньютон решил внедрить в Королевском обществе с целью придания ему респектабельности: на заседаниях никто не должен был сидеть за большим столом, кроме президента и двух его секретарей. Исключения делались лишь для почётных иностранцев; все сообщения протоколировались, а основные положения заносились в журнал. Обсуждения велись на английском языке. Ньютон настоял, чтобы на заседаниях совета рядом с ним на столе лежал президентский жезл, причём жезл должен выставляться лишь в том случае, если заседание вёл лично президент.
Авторитет Королевского общества стал непререкаем; отражением этого стало частое приглашение Ньютона в различные правительственные комиссии.
Благоденствие Британии держалось в те годы на заморских завоеваниях и заморской торговле; энергичные островитяне постепенно превращались во владык морей и морских путей. Корабли Британии становились всё быстроходней. Мачт, парусов и пушек громоздили на них всё больше и больше. Становились всё более точными компасы. И тем не менее корабли оставались игрушкой стихий, причём главная опасность грозила судам вблизи берегов — именно там, у берегов, гибли лучшие силы английского военного флота. У островов Сцилли из-за плохой ориентировки в 1707 году разбился флот сэра Шовелла. При этом погибло множество моряков, затонули сокровища короны. Печальное событие ещё раз напомнило Адмиралтейству о необходимости точного определения координат корабля на море. Получалось, что благоденствие империи в какой-то степени зависело от прогресса науки. Империя ждала от науки совета. В мае 1714 года группа капитанов кораблей и лондонских негоциантов обратилась в палату общин с петицией. Они просили парламент установить награду тому человеку, который сможет предложить метод точного определения долготы на море.
Возможно, это был первый случай прямого вмешательства правительства в науку, первого прямого социального заказа развивающейся буржуазной экономики учёным. Палата общин назначила комитет. Он должен был решить: существует ли вообще необходимость государственной поддержки научным исследованиям?
Проблемой спасения судов занимались тогда многие, в том числе и сам Ньютон, и старый знакомец его Уильям Уистон. Последний вместе с Гемфри Диттоном предложил определять точное положение кораблей в море, регулярно стреляя из пушек по берегу. Звуки выстрелов, далеко слышные в море, должны были предупреждать капитанов об опасности.
Естественно, комитетом было запрошено мнение Ньютона. Ньютон досконально всё изучил и написал обстоятельнейший документ. На заседании комитета в июне 1714 года он заявил:
— Точную долготу на море можно определить четырьмя способами: с помощью часов, которые хранят точное время, с помощью наблюдений за затмениями спутников Юпитера, с помощью наблюдений за положением Луны, а также с помощью проекта Уистона и Диттона. Первый проект осуществить чрезвычайно сложно, поскольку корабль в своём непрестанном движении пересекает различные зоны, отличающиеся различной температурой и погодой. Хорошие часы могут служить для того, чтобы сохранять правильное направление движения на море в течение нескольких дней, и для того, чтобы знать точное время необходимых наблюдений. С этой точки зрения хорошие часы на камнях — это лучшие часы, которые вообще можно себе вообразить. Но когда долгота потеряна, её уже нельзя найти с помощью даже самых лучших часов. Второй способ потребовал бы установления на движущемся корабле довольно крупного телескопа, что также вызвало бы большие затруднения. Теория Луны разработана пока ещё недостаточно. С её помощью можно определять долготу с точностью всего лишь до двух или до трёх градусов. Четвёртый же метод может быть использован только в особых ситуациях…
Ньютон сел. Среди членов комитета воцарилась тишина, прерываемая покашливаниями. Никто не понял, к чему клонил Ньютон. Председатель комитета, который был в принципе против установления каких-либо правительственных призов за научное открытие, спросил Ньютона:
— Выходит, определить положение корабля в море в принципе невозможно. Тогда выходит, что и приз назначать незачем. Его всё равно никто не сможет получить!
Члены комитета безмолвствовали. Ньютон тоже молчал. Все понимали, что такого поворота событий Ньютон не предвидел, что он подыскивает слова для теперь уже категорического суждения вместо прежде высказанного уклончивого. Прямо перед ним, страдая, сидел его друг Уистон. Наконец Ньютон встал со стула и еле слышно сказал:
— Метод Уистона-Диттона в некоторых отношениях вполне удовлетворителен.
Тут не выдержал и Уистон.
— Сэр Исаак очень осторожен, — сказал он, — и только в этом причина его сдержанности. Он прекрасно знает, что наш метод очень полезен невдалеке от берегов, то есть именно там, где и есть для кораблей наибольшая опасность.
Тогда Ньютон опять встал и подтвердил, что метод Уистона — Диттона действительно может быть полезен невдалеке от берегов и что нужно обязательно установить приз для тех, кому удастся кардинально решить проблему точного определения долготы.
Члены комитета поняли его прекрасно. Метод Уистона-Диттона не годился, но другой был необходим. И комитет постановил: назначить приз в 10 тысяч фунтов человеку или группе лиц, которые предложат метод определения долготы с точностью до одного градуса, 15 тысяч — за доведение точности до сорока минут и 20 тысяч — за доведение точности до тридцати минут.
Соответствующим актом парламента был назначен и комитет по долготе. Уже в июле 1714 года поступило сразу несколько предложений из Франции. А в ноябре и престарелый сэр Кристофер Рен прислал Ньютону шифрованное письмо с описанием трёх инструментов, годящихся, по его мнению, для точного определения долготы. В 1720 году Уистон представил Королевскому обществу новый метод определения долготы по наклонению магнитной стрелки, для чего предлагал строить стрелки восьми футов длины и сравнивать их показания с картами магнитного наклонения, которые нужно было для этого создать.
Предложений было так много, что Ньютон иногда срывался на совсем ему не свойственный тон:
«Сэр, я получил Ваше письмо, датированное вчерашним днём, из рук мистера Джона Вата. Могу известить Вас, что его проект по долготе непрактичен в той же мере, как, например попытка заставить ровно и вечно биться наше сердце… Или, скажем, наблюдать высоту Солнца над горизонтом с точностью до секунды. Или вычислять долготу из широты или находить их соотношение, поджигая бренди… Я говорил Вам уже не раз, что долготу невозможно определить с помощью одного лишь часового механизма. Часовой механизм может быть полезен астрономии, но без астрономии долгота не может быть найдена. Точный инструмент для поддержания времени может быть полезен только для удержания долготы, если Вы её уже имеете. Если же она утеряна, её нельзя снова найти с помощью подобных инструментов. Ничто, кроме астрономии, не сможет служить этой цели. Но вы не желаете иметь дело с астрономией (единственный правильный метод и метод, указанный в акте парламента), а я не желаю иметь дела ни с какими иными методами, кроме правильного».
Письмо было из Франции. Новые часовые механизмы предлагали многие, но Ньютон категорически отказывался собирать совет и присутствовать на его заседании с целью рассмотрения подобных проектов без предварительного изготовления часов и испытания их. (Интересно отметить, что, говоря с подобной страстью и убеждённостью о невозможности определить долготу с помощью часов, Ньютон был не вполне прав. Его суждение — чисто теоретическое — опровергла практика. И в 1726 году премия парламента в 10 тысяч фунтов была выплачена Джону Гаррисону, изобретателю хронометра.)
Примерно полтораста лет назад на чердаке одного из старых лондонских домов нашли пыльную пачку писем. Когда её разобрали, оказалось, что это переписка королевского астронома Флемстида с Исааком Ньютоном, отголосок великой драмы двух великих людей.
Флемстид был четырьмя годами моложе Ньютона, родом из Дерби. Он с детства увлекался, как и Ньютон, всевозможными опытами и наблюдениями, мастерил, хорошо знал астрономию. Когда они познакомились в 1670 году в Кембридже, Ньютон, как и принято было в древних кембриджских стенах, смотрел на него несколько свысока как на более молодого коллегу. Однако молодой коллега, едва окончив университет, стал собирать и публиковать астрономические данные, полученные на основе собственных наблюдений. В 1673 году он поразил кембриджцев опубликованием своих «Эфемерид», содержащих, в частности, таблицы восходов и заходов Луны. Ему покровительствовал Иона Мур, который как-то предложил Флемстиду вычислить таблицы времени прохождения Луны через меридиан. Получив данные, Мур обнаружил примечательное совпадение: время прохождения Луны через меридиан в точности соответствовало часам морских приливов.
Флемстиду повезло: Мур был хорошо знаком с королём, а король увлекался астрономией. Кончилось тем, что Карл II принял Флемстида, был восхищён его познаниями и в результате пожаловал ему звание «Королевского астронома» со ста фунтами жалованья в год. Кембриджцы завидовали ему чёрной завистью, ставшей ещё чернее, когда не замедлило королевское постановление о постройке для Флемстида Гринвичской обсерватории. Там, где высится сейчас здание этой обсерватории, известной во всём мире, в семидесятые годы XVII века стояли ветхие строения, разрушенные старостью, смутными временами и частой сменой хозяев. На этом месте было воздвигнуто красивое жёлтое здание с большим куполом, стоившее всего пятьсот двадцать фунтов. Здание было пугающе огромным внутри и гулко звенело пустотой.
Флемстид был удивительно близок Ньютону в том, что касалось точности и остроты наблюдений, систематизации и классификации. Он во всём любил предельную чёткость и везде наводил абсолютный порядок. Поражают тщательность и аккуратность его архивов, исчерпывающая картотека писем и черновиков. Он, возможно, представлял собой как бы один из образов многоликого Ньютона — лик чёткости, трудолюбия, аккуратности и систематизации. Все же остальные лики Ньютона были ему чужды и для него изначально неприемлемы. Так, он совершенно не признавал научных теорий, что, впрочем, именно для него могло быть и ценно, поскольку он был прирождённым наблюдателем — ведь любая предвзятость в отношении теории могла бы мешать ему в наблюдениях.
Начало добрых отношений Флемстида и Ньютона принадлежит годам, непосредственно следовавшим постройке Гринвичской обсерватории. Ньютон был крайне заинтересован в различных астрономических данных, в изобилии имевшихся у Флемстида. Этому времени — началу восьмидесятых годов — принадлежит и начало переписки, обнаруженной на лондонском чердаке.
В 1680 году, как и в памятном 1664-м, на небе появилась комета. Она, как обычно, привлекла к себе всеобщее внимание, любопытство и страх. Ходили слухи, что овцы поедают людей, кобылицы родят ягнят, а козы — котят; жёны изменяют мужьям, а мужья — жёнам, что в одну ночь сорок тысяч девственниц с плачем потеряли свою чистоту; царила паника, а пророки в который раз объявляли о скором конце света и Страшном суде. В народе ждали нового несчастья.
Флемстид и Ньютон вели в это время учёную переписку. Флемстид, сравнив некоторые данные о положении кометы с данными о комете 1664 года, уже имеющимися в его досье, пришёл к выводу, что это одна и та же комета, вернувшаяся назад. Такая точка зрения совершенно не соответствовала мнению всех других астрономов, а также Ньютона. Не успев завязаться, переписка приобрела конфликтный характер и создала первые предпосылки будущей ссоры.
Лишь через пять лет, в 1685 году, Ньютон, применив для объяснения движения комет своё учение о тяготении, пришёл к выводу, что Флемстид был прав. Признание этого в первом издании «Начал» было для Ньютона крайне неприятно. В нём боролись его гордость, возможно даже — высокомерие, и научная честность. Хотя научная честность и победила, гордость была слишком сильно уязвлена, чтобы при первом же удобном случае не дать о себе знать.
Ссориться с Флемстидом Ньютону было тогда совсем не с руки, ибо он сразу после первого издания «Начал» приступил к созданию новой, уточнённой теории движения Луны. Пять лет длилась оживлённая переписка, которую Флемстид с удовольствием и гордостью поддерживал. В 1692 году она внезапно прекратилась и лишь в 1694 году, после выздоровления Ньютона, возобновилась вновь. В том 1694 году Ньютон получил от Флемстида точные координаты полутора сотен положений Луны и сравнил их с теоретическими значениями, вычисленными в соответствии с его теорией тяготения. Совпадение было поразительным, о чём Ньютон благодарно писал Флемстиду в конце 1694 года. Казалось, отношения налаживаются, в письмах можно усмотреть даже некоторое «родство душ»: ведь с детства слабый, подозрительный, очень религиозный Флемстид был в чём-то очень близок Ньютону.
Переписка Ньютона и Флемстида этого времени — интеллектуальный поединок двух великих, но разных людей — содержит ряд интереснейших мыслей. Флемстид, естественно, многого не понимал в письмах Ньютона. Его ответы, когда они не содержат астрономических данных, носят, главным образом, эмоциональный характер. Они полны жалоб на Ньютона (не прислал книгу, которую обещал подарить три года назад, не ценит Флемстида), но в основном — на Галлея — первого издателя «Начал». Флемстид недолюбливал Галлея, поскольку считал его человеком, стремящимся отдалить его от Ньютона, а также светским щёголем, развращённым распутной жизнью, человеком нечестным и неискренним, равно как и слишком свободомыслящим в религиозном плане. Хотя этот образ, нарисованный пуританином Флемстидом, карикатурен, в нём есть и тонко подмеченные черты, которые до какой-то степени действительно омрачили отношения Ньютона и Флемстида. В некоторых письмах Флемстид выражает тревогу: его данные могут быть похищены и использованы другими — прежде всего Галлеем. Ньютон не мог не почувствовать, что здесь есть опасение и в отношении его, Ньютона: не воспользуется ли этими результатами он сам, без должной ссылки на Флемстида? Иногда в письмах Ньютона Флемстид чутко улавливал некоторое пренебрежение своей рутинной, «ненаучной» работой со стороны представителя «высокой науки». Он представлял себе ситуацию именно такой, какой она была в действительности. Ньютон совершенно не был склонен придавать данным Флемстида того значения, которое придавал им автор.
В одном из писем Флемстид пытается восстановить справедливость.
«…Я согласен: проволока дороже, чем золото, из которого она сделана. Я, однако, собирал это золото, очищал и промывал его, и не смею думать, что Вы столь мало цените мою помощь только потому, что столь легко её получили…»
В сентябре 1695 года Ньютон написал Флемстиду о том, что вычисленная Галлеем орбита кометы 1683 года совпадает с орбитой, вычисленной им по наблюдениям Флемстида. По-видимому, на этом этапе Ньютон удовлетворился и решил прекратить переписку. Она возобновилась лишь в 1699 году в связи с подготовкой издания трудов математика Валлиса.
Ньютона не оставляла в покое Луна. Соответственно, он не мог расстаться и с Флемстидом. Они встречались осенью 1697 года, зимой 1698 года Ньютон посетил его в Гринвиче. Ньютон не скрывал своего раздражения на Флемстида за то, что тот обнаружил в своих вычисленных ранее положениях Луны ряд регулярных ошибок. Ньютон, использовавший эти данные для последующих кропотливых расчётов, был, естественно, сильно раздосадован. Когда он получил от Флемстида письмо с извинениями за прежние ошибки, он мог и не поверить тому, что представленные ему данные были лишь следствием недосмотра. Теперь он стал сомневаться в надёжности и других данных, полученных ранее. Его неприязненное чувство к Флемстиду росло.
С другой стороны, до Флемстида со всех сторон доходили слухи: якобы Ньютон рассказывает о том, что использует в своих вычислениях только данные Галлея. Флемстид воспринял это как прямое предательство.
На самом же деле Ньютон говорил не это, а нечто другое, гораздо более неприятное для Флемстида. Например, перед своим посещением Гринвича в июле 1698 года — он должен был взять там результаты новых наблюдений, сделанных Флемстидом, — Ньютон говорил Грегори, что не может окончить свою теорию Луны только из-за козней королевского астронома. Иногда Ньютон утверждал даже, что Флемстид не сам сочиняет свои таблицы, а крадёт их у Галлея. Эти слова настолько поразили Грегори, что он тут же записал их на полях своего экземпляра «Начал».
Казалось, дальше ухудшаться отношениям было некуда. И всё же они ухудшились.
Под рождество 1698 года Флемстид, вынужденный доказывать свой приоритет, встретился с Валлисом, последний том математических сочинений которого должен был выйти в 1699 году. Валлис попросил Флемстида, чтобы тот дал в последнем томе своё описание предполагаемого наблюдения звёздного параллакса. Флемстид согласился и написал в результате небольшой, но важный для него в приоритетном плане обзор. В этом кратком обзоре Флемстид перечислил свои работы в качестве королевского астронома, не забыв упомянуть, в частности, новый каталог постоянных звёзд. Пытаясь заранее ответить на непрекращающиеся слухи о том, что Ньютон брал исправленные данные для теории Луны из наблюдений Галлея, Флемстид в конце своего обзора писал следующее:
«Я был также тесно связан с ученейшим Ньютоном (в то время ученейшим профессором математики в Кембриджском университете), которому я предоставил 150 координат положений Луны, полученных из моих ранних наблюдений, и точек, где Луна должна была находиться во время наблюдений в соответствии с расчётами на основе моих таблиц. Я обещал ему предоставлять подобные данные и в будущем, по мере их получения, так же как и мои расчёты для усовершенствования его теории Луны, в построении которой, я надеюсь, он будет иметь успех, сопоставимый с его ожиданиями».
Флемстид переслал текст через Давида Грегори, коллегу Валлиса. Грегори прочёл обзор и не преминул передать Ньютону содержание сомнительного параграфа. В новогоднюю ночь Флемстид вернулся из Лондона домой, в Гринвич, и там обнаружил письмо от Валлиса. Валлис сообщал, что некто, друг и Ньютона, и Флемстида, просил его снять указанный параграф без объяснения причин.
6 января 1699 года
«Сэр, случайно услышав о том, что Вы послали доктору Валлису письмо о параллаксе фиксированных звёзд, где Вы упоминаете меня в связи с теорией Луны, я был озабочен тем, что меня выставили на сцену по поводу того, что, возможно, никогда не предназначалось для публики, и, таким образом, она может теперь ожидать то, чего, возможно, никогда не получит. Я не люблю, когда моё имя упоминается в печати при всяком удобном или неудобном случае, и ещё меньше люблю, чтобы мне докучали всякие иностранцы по поводу математических вещей, или чтобы мой собственный народ считал, что я бесцельно трачу своё время на подобные вещи, в то время как я должен использовать его на службе у короля. И поэтому я выразил пожелание, чтобы доктор Грегори сообщил доктору Валлису возражение против печатания этого параграфа, относящегося к теории и упоминающего в связи с ней меня. Это Ваше право — сообщить миру, если это Вам нравится, как прекрасно и кого именно Вы снабжали наблюдениями всех сортов и какие вычисления Вы делали, исправляя теорию небесных движений, но бывают случаи, когда Ваши друзья не могут быть упомянуты без их согласия. Посему я надеюсь, что Вы справитесь с этой проблемой таким образом, чтобы я ни в коем случае не был бы выдвинут на сцену.
Ваш покорный слуга, И. Ньютон».
Флемстид согласился и написал Валлису письмо с просьбой выкинуть «невинный оскорбительный параграф». Худой мир прекратился, началась добрая ссора…
Ньютон в то время подумывал о том, чтобы выпустить второе издание «Начал». Первое издание, на его взгляд, было сильно подпорчено ошибками в теории движения Луны, частично вызванными неточными данными Флемстида. Сейчас у Флемстида наверняка были уже уточнённые данные, которые очень бы пригодились Ньютону, в той же мере, как и каталог постоянных звёзд, по-видимому, уже подготовленный. О том, что это так, Ньютон знал через Монтегю, который сообщил, что Флемстид обращался к принцу-консорту Георгу, мужу королевы Анны, с просьбой дать денег на публикацию своих данных.
Действительно, Флемстид вёл уже с принцем не слишком решительные и не вполне определённые переговоры о подобном издании. Принца удалось заманить и в Гринвич, где он смог увидеть и оборудование обсерватории, и каталоги, составленные Флемстидом. Принц смог разглядеть в телескоп шесть созвездий ночного звёздного неба и, расчувствовавшись, решил дать деньги на публикацию труда.
Дело, однако, не двигалось с мёртвой точки. Не двигалось оно по многим причинам. Прежде всего нужно учесть, что Флемстид работал над каталогом более тридцати лет. Кроме того, он был именно королевским астрономом, то есть занимал в научном мире совершенно уникальную и почётную позицию. Он хотел издать свой атлас звёздного неба, но это должен был бы быть
Вот что узнал Ньютон через Галифакса. Поскольку теперь Ньютон лично просить данные измерений у Флемстида не мог, он решил сделать это под эгидой Королевского общества.
В апреле 1704 года Ньютон посетил Флемстида в его Гринвичской обсерватории. Для начала он вручил Флемстиду экземпляр «Оптики», Флемстид набросился на неё, стал быстро перелистывать страницы, что-то отыскивая.
— Надеюсь, книга Вам понравится, — сказал Ньютон, не зная, с чего начать.
— Нет! — громко и раздражённо выкрикнул Флемстид. — Как может понравиться книга, где для всех постоянных звёзд даётся диаметр 5–6 секунд, в то время как в четырёх из пяти случаев он составляет не более одной секунды!
Завязался спор, становившийся всё горячей. Ньютон, чувствуя, что события разворачиваются в обычном, но нежелательном направлении, стал искать выход.
Флемстид случайно помог ему, формально предложив остаться пообедать. Ньютон, к его удивлению, согласился. Во время обеда он как бы между прочим задал вопрос: что новенького подготовил Флемстид для печати? Флемстид гордо ответил, что у него готов большой звёздный каталог, и предложил полистать рукопись. Флемстид показал Ньютону новые лунные числа и посыпал соль на раны Ньютона, указав, насколько сильно они расходятся с прежними. Флемстид не мог скрыть от Ньютона своего страстного желания видеть каталог напечатанным, но, сказал он, сейчас так много денег ушло на инструменты и вычислителей, что он не может тратиться на издание каталога. Ньютон, вопреки ожиданиям Флеметида, сказал, что будет рекомендовать рукопись принцу Георгу и просить оплатить её публикацию.
Главная трудность взаимоотношений Флеметида и Ньютона заключалась в коренном различии их целей при печатании «Небесной истории». Ньютону срочно нужны были данные. А Флемстид хотел создать труд, равный «Альмагесту» Птолемея и «Атласу» Гевелия. Честолюбивый замысел Флеметида заставлял его снова и снова проверять вычисления. Иногда ему казалось, что работа окончена, и он радостно сообщал об этом друзьям. Одно из писем с утверждением «работа окончена» попало на глаза Ньютону, и, именно это имея в виду, Ньютон приложил столь большие усилия к тому, чтобы готовый каталог был напечатан.
Будучи дальновидным политиком, Ньютон смог убедить коллег в необходимости скорейшего приёма принца в члены Королевского общества. Выгода от избрания не заставила себя долго ждать. Принц, впервые присутствовавший на заседании Общества, объявил, что взял на себя расходы по изданию Большого звёздного атласа Флемстида. Вскоре он прислал и письмо, в котором выражалась надежда на то, что «президент предпримет шаги к скорейшему завершению публикации столь полезной работы».
По предложению принца для печатания звёздного каталога была назначена комиссия экспертов под председательством Ньютона. Комиссия посетила Гринвич, изучила рукопись и одобрила её для печати. Трагедия заключалась в том, что на самом деле каталог был пока ещё далёк от той степени совершенства, которую Флемстид желал ему придать. Конфликт был неизбежен.
Эксперты, казалось, сделали всё, чтобы поступать наперекор Флемстиду. Они игнорировали просьбы Флемстида о выделении денег для найма вычислителей. Каталог звёзд эксперты сочли уже законченным, вследствие чего тратиться на дальнейшие уточнения не пожелали. Эксперты и Ньютон особенно нажимали на необходимость скорейшей публикации звёздного каталога, однако упрямство Флемстида и его ответные действия привели к обратному результату — выход каталога задержался на двадцать лет. Ньютон часто говорил о том, что его требования о скорейшей публикации объясняются лишь желанием сделать результаты Флемстида всеобщим достоянием. Флемстид, по его мнению, должен понимать интересы нации, не должен держать материалы в своих руках, в одиночку ими пользоваться и трактовать как личную собственность.
Он ошибался, однако, полагая, что Флемстид не хочет скорейшей публикации. Флемстид страстно желал её — жизнь уходила! — но при одном-единственном условии. Он хотел сделать книгу такой, какой мечтал её видеть. И чем больше Ньютон нажимал, тем яростней Флемстид сопротивлялся. Ньютон, однако, тоже не сдавался. Уже 5 марта 1705 года эксперты показали Флемстиду в Дворцовой таверне образец отпечатанного листа книги, подготовленный книгопродавцем Черчиллем. После того как Флемстид ушёл, Ньютон, Арбетнот и Грегори обедали у Черчилля. Они сочли, что всё идёт прекрасно, «Флемстид согласен на всё, кроме бумаги».
Печатание, однако, происходило с громадными трениями между Флемстидом и комиссией. Комиссия, по выражению академика С. И. Вавилова, действовала так, как будто её члены, а не Флемстид, были авторами каталога. На просьбы и пожелания истинного автора не обращали никакого внимания.
И на этой, первой встрече, когда эксперты решили, что всё хорошо, кроме бумаги, Флемстид заявил, что образцы вообще выполнены неудовлетворительно. Он начал даже подыскивать другого печатника, чтобы тот сделал образцы за его, Флемстида, счёт.
Эксперты, однако, не обратили на этот демарш никакого внимания и продолжали дела с Черчиллем, которому положили за его труды 34 шиллинга за каждый лист.
— Это жестоко, это крайне несправедливо, — жаловался Флемстид, — я пахал, сеял, жал, собирал свой собственный урожай с помощью нанятых мною слуг и купленного мною инвентаря, а известный сэр, который снабжается из моих амбаров, заставляет выкинуть всё это под ноги публике, как мусор, да ещё так, чтобы его славили за то, что он сделал. А я хочу сам открыть свои амбары публике, я хочу, чтобы мне самому дали возможность собрать урожай и получить причитающееся мне за труды, за помощников и за оснастку…
Флемстид по согласованию с комитетом экспертов в конце концов нанял для своей работы вычислителей, но заставил их определять места расположения постоянных звёзд, а не планет, комет и Луны, как того требовали эксперты в соответствии с пожеланиями Ньютона. Когда он представил счёт за расходы — 173 фунта — прямо принцу, принц, к досаде Ньютона, сразу его подписал: Ньютон, однако, заставил Флемстида ждать выплаты по счёту три года и выдал ему в конце концов только 125 фунтов.
Продолжались переговоры с издателем. Флемстид предложил свой проект. Со многими пунктами, предложенными Флемстидом, Ньютон согласился. Так, в договор вошло требование Флемстида об ограничении тиража четырьмястами экземплярами, причём все эти экземпляры должны были стать его собственностью. Договор обусловливал также право Флемстида в любое время дня и ночи входить в типографию с целью проверки: не напечатал ли Черчилль больше положенного?
Относительно звёздного каталога пришли к компромиссу: в первом томе будет напечатан звёздный каталог текущих наблюдений, а настоящий, большой каталог будет напечатан лишь тогда, когда будет окончен полностью.
Ньютон не разрешал печатать первый том до тех пор, пока готовый каталог постоянных звёзд не будет в его руках. Флемстид согласился с этим условием, но лишь в том случае, если экземпляр останется запечатанным до момента, когда он пойдёт в печать. Хотя Ньютон обещал ему это сделать, он тут же взломал печать и выписал интересующие его данные. Ньютон не видел в этом ничего зазорного. Не выполнил нетерпеливый Ньютон и других условий, которыми Флемстид обусловил передачу материалов — держать данные в тайне и сообщать Флемстиду о результатах, к которым приводят вычисления.
Печатание книги, хотя и не скоро, началось, и вскоре Ньютону (именно Ньютону, а не Флемстиду) были даны для просмотра первые листы. Ньютон выправил их и послал в типографию. В этот момент их увидел Флемстид, воспользовавшийся выговоренным им правом беспрепятственного входа. Увидев список «ошибок», Флемстид вскипел. И весь следующий месяц занимался доказательством того, что никакие исправления не нужны. Исправления касались действительно незначительных вещей, и Ньютон, казалось, испытывал в связи с этим если не муки совести, то некоторые колебания настроения.
Флемстид спешил. Получая листы, он отправлял их назад, в типографию, экипажем. Флемстид спешил потому, что его вычислители требовали денег, которые он мог выплатить лишь с выручки за книгу, не надеясь уже на Ньютона, который при встречах со значением рассказывал о финансовых трудностях, с которыми сталкивается принц. Не спешил, однако, Черчилль. Хотя он должен был бы печатать пять листов за неделю, хорошо, если он делал за неделю лист.
Флемстид болезненно воспринимал уколы судьбы. Его настроение всё ухудшалось, тем более что его стала мучить подагра. Соответственно распалялся и Ньютон, понимавший, что ему никак не удаётся справиться с этим человеком.
В апреле 1707 года Ньютон вместе с Грегори поехал в Гринвич с тем, чтобы вручить Флемстиду ультиматум. Поскольку печатание первого тома уже оканчивалось, Ньютон и Грегори в резкой форме потребовали от Флемстида, чтобы он вручил им результаты своих наблюдений с большим квадрантом и отдал экземпляр каталога постоянных звёзд. Тогда ему будут выплачены деньги на вычислителей. Ньютон и Грегори сказали Флемстиду, что эксперты распорядились приостановить печатание книги и не выплачивать денег до тех пор, пока он не выполнит этих условий. Ультиматум провалился. Флемстид данных не отдал, а печатание продолжалось. В дополнение ко всему Флемстид обнаружил кое-какие новые ошибки в «Началах», о чём с удовлетворением сообщил Ньютону.
Когда печатание основной части первого тома было окончено, встал поистине роковой вопрос: печатать ли каталог постоянных звёзд в первом томе, как хотел Ньютон, или в третьем, как хотел Флемстид? Работы прекратились. 20 марта 1708 года в Замковой таверне собрались все заинтересованные лица. Они постановили, что Флемстид обязан отдать результаты измерений, сделанных на большом квадранте, а также новый каталог постоянных звёзд, принесённый им на встречу. Во время печатания Флемстид будет продолжать вносить исправления в каталог, который он отдал два года назад. В ответ Ньютон заплатит Флемстиду 125 фунтов, а остальную сумму, причитающуюся ему, астроном получит, когда он отдаст полностью завершённый каталог постоянных звёзд.
Хотя Флемстид и этого решения не выполнил, печатание тем не менее продолжалось. Флемстид считал, что у Ньютона ещё вполне достаточно материала для второго тома — 175 страниц; пока они будут печататься, он будет совершенствовать каталог.
В октябре умер принц Георг. Дело с печатанием книги надолго застряло. Ньютон так рассвирепел (принц умер, а работа не окончена), что воспользовался первым же предлогом (неуплатой взносов), чтобы изгнать Флемстида из Королевского общества.
Смерть принца автор использовал, чтобы сделать каталог таким, как он хотел. Теперь он не спешил. Ньютона это раздражало, поскольку сейчас он, как никогда, нуждался в данных для второго издания «Начал». Однако с упразднением комитета экспертов он не имел уже средств давления на Флемстида. Вскоре, однако, такие средства вновь были обретены, ибо доктор Арбетнот, придворный врач королевы Анны, смог получить от неё мандат о назначении президента Королевского общества и «некоего члена Совета, который окажется для этого подходящим», «постоянными посетителями» Королевской обсерватории. Сам факт выдачи такого мандата означал, что у королевы есть сомнения в том, что дела в обсерватории идут надлежащим образом. Тем самым обсерватория и Флемстид вновь оказались под контролем Королевского общества и, следовательно, Ньютона. Флемстид не смог отныне чувствовать себя в обсерватории как дома и распоряжаться временем по своему усмотрению. Ведь в мандате указывалось, что теперь он будет получать рекомендации о том, какие именно наблюдения, измерения и расчёты ему следует проводить.
В полном соответствии с духом мандата Арбетнот потребовал от Флемстида скорейшего окончания публикации «Небесной истории», подчеркнув, что это прямой указ королевы. Главное, что требовалось сейчас от Флемстида, — это передать в распоряжение комитета окончательный вариант каталога постоянных звёзд.
Флемстиду удалось многое сделать за время вынужденного простоя. Он произвёл новые уточнения положения звёзд и планет. Сейчас ему нужны были вычислители, и он просил Арбетнота помочь ему.
Вместо ответа он получил ультиматум разъярённого Ньютона:
«Сэр, обсуждая с доктором Арбетнотом состояние дел с Вашей книгой наблюдений, которая находится в печати, я понял так, что он передал Вам приказ её величества представить данные наблюдений, требующиеся для окончания каталога постоянных звёзд; вы же на это дали уклончивый и с задержкой ответ… Вы представили несовершенный каталог, в котором многого не хватает. Вы не дали положений звёзд, которые были желательны, и я слышал, что печать сейчас остановилась из-за их непредставления. Таким образом, от Вас ожидается следующее: или Вы пришлёте конец Вашего каталога доктору Арбетноту, или по крайней мере пришлёте ему данные наблюдений, необходимые для окончания, с тем, чтобы печатание могло продолжаться. И если вместо этого Вы будете предлагать ещё что-нибудь, или сделаете какие-то изменения, или будете производить всяческие без необходимости задержки, это будет воспринято как косвенный отказ выполнить приказ её величества. Ожидается Ваш немедленный недвусмысленный ответ и согласие».
Флемстид понял, что оттягивать далее нельзя. Решающая встреча состоялась в кофейне Гарравея в конце марта 1710 года. Флемстид согласился отдать конец каталога. Единственное, что просил он взамен — чтобы ему во время издания было обеспечено цивилизованное обращение. Арбетнот заверил его, что это будет обеспечено. Однако как раз это-то условие и не соблюдалось. Печать каталога, как выяснилось, уже давно шла. Во многих листах Флемстид заметил поправки, которые, естественно, приписал Галлею.
Флемстид утверждал, что некоторые положения звёзд были вычислены Галлеем с точностью 15 секунд, в то время как целью работы было дать каталог положений звёзд с точностью 5 секунд. Он оспаривал введение новых, не птолемеевских названий звёзд вместо тех, которыми обычно пользовался он и которые были известны Европе две тысячи лет. Флемстид считал, что перемена названий звёзд на новые приведёт к трудностям при сравнении современных наблюдений с наблюдениями древних астрономов и нарушит право древних первооткрывателей. (Представим спор Галлея и Флемстида в кофейне: прямо на столах разложены листы каталога, спор горячий, неприличный, полный взаимных упрёков, в присутствии экспертов, привлекающий внимание посетителей.) Окончился спор вмешательством Арбетнота, который разъяснил Флемстиду, что все изменения были сделаны для его же, Флемстида, пользы и что они несущественны. Однако в конце своей медоточивой речи королевский врач жёстко подчеркнул: если конец каталога не будет представлен в ближайшее время, эксперты сами вычислят положения звёзд из данных его наблюдений.
«…Представьте себя на моём месте и скажите искренне и по существу: будь Вы в моих обстоятельствах, и имели бы Вы за все такие обвинения и беспокойства, хотели бы Вы, чтобы Ваши труды исподтишка и насильно вырывали бы из Ваших рук, передавали в руки Ваших заклятых врагов, печатали без Вашего согласия и при этом — портили, как мои?.. Не страдали ли бы Вы, если бы Ваши враги превратились в Ваших судей? Не вырвали ли бы Вы Вашу книгу из их рук, не доверяя им более, и не опубликовали ли бы Вы собственную работу скорее за свой собственный счёт, вместо того, чтобы видеть её испорченной, а себя — страдающим под градом насмешек… Я напечатаю это за свой собственный счёт на лучшей бумаге и лучшим шрифтом, чем те, которые использует теперешний печатник. Я не могу видеть, как мои труды портят таким образом».
Сделать это ему, однако, было непросто, ибо рукопись была уже в руках Ньютона, который дал указание продолжать издание. В начале 1712 года «Небесная история» вышла из печати — большой том in folio, содержащий каталог постоянных звёзд. Вычисление положений звёзд произвёл по наблюдениям Флемстида Галлей. Каталог содержал три тысячи звёзд. По сравнению с лучшим предыдущим каталогом — атласом Гевелия — в нём было втрое больше звёзд, причём координаты их даны с немыслимой ранее точностью. «Небесная история» вполне отражает цели, поставленные перед её изданием Ньютоном. В ней содержится только то, что было нужно для второго издания «Начал». Предисловие Флемстида («Пролегомоны») не напечатано. Вместо этого Галлеем дано другое предисловие, в котором говорится, что Флемстид не хотел отдавать данных своих измерений и сделал это лишь по приказу принца Георга и требованию экспертов. В предисловии нет ни слова о том, что точность каталога превосходит точность всех ранее имевшихся более чем в десять раз. Зато напрямую сказано, что, к сожалению, Галлею пришлось исправлять многие ошибки Флемстида. В предисловии Флемстид осуждался также и за то, что отсутствуют карты созвездий.
В то время Ньютон уже заканчивал второе издание «Начал». Нечего и говорить, что фамилия Флемстида из этого издания вычеркнута по крайней мере в семнадцати местах.
Но и этого ему показалось мало. Ньютон решил назначить в Королевском обществе слушание вопроса о состоянии дел в Гринвичской обсерватории. Комиссия стала предъявлять к Флемстиду различного рода требования, часто носящие весьма унизительный характер. На одно из заседаний совета Флемстид был вызван для отчёта о том, как он хранит инструменты обсерватории, насколько они пригодны для наблюдений и кто является их хозяином. Всё это было и комиссии, и лично Ньютону прекрасно известно.
11 октября 1711 года в 11 часов утра Слоан, Мид и сам Ньютон ждали Флемстида в Королевском обществе с отчётом. Вскоре пришёл Флемстид. Сказать «пришёл» было бы, впрочем, пожалуй, слишком сильно, поскольку ходить он теперь не мог — подагра сжирала его ноги. Слуги внесли его по лестнице. Флемстид — снедаемый болезнями, стоящий буквально на пороге смерти — оставался непокорённым. В ответ на вопросы комиссии о состоянии инструментов он сказал, что инструменты являются его личной собственностью и поэтому не дело Королевского общества обсуждать их состояние.
После заседания комиссии Флемстид записал в своём дневнике: «Я был вызван в комитет, в котором, кроме него, были только два врача — доктор Слоан и другой, столь же малосведущий. Президент чрезвычайно разгорячился и пришёл в совсем нечестивое возбуждение. Я решил, однако, не обращать внимания на его грубые речи и указал ему, что все инструменты в обсерватории — мои собственные. Это его рассердило, так как у него было письмо от государственного секретаря о назначении кураторов обсерватории; он сказал, что у меня не будет ни обсерватории, ни инструментов. Тогда я стал жаловаться на то, что мой каталог печатается Райнаром (Галлеем) без моего ведома и у меня похитили плоды моего труда. Он разъярился ещё больше и обзывал меня самыми скверными словами — щенком и пр., какие только мог придумать. Я ему ответил, что ему нужно бы сдерживать свою страсть и владеть собой».
Комиссия решила, что приборы обсерватории нуждаются в ремонте. Для Флемстида такой поворот дела оказался, однако, весьма благоприятным. Он обратился в артиллерийское управление, которому было поручено произвести ремонт, с просьбой блокировать это решение. Управление помещалось в Тауэре, лейтенант которого, будучи в давней вражде с Ньютоном, с удовольствием выполнил просьбу Флемстида. Это знаменовало некоторый поворот в судьбе Флемстида, поворот к лучшему.
В том году умерла королева, сменилось правительство, у власти стали виги, но без Галифакса, который умер летом 1715 года. Ньютон лишился сразу своей главной опоры в правительстве и при дворе.
Флемстид же имел там весьма влиятельных друзей: лорда Чемберлена и герцога Болтона. По резкому указанию Болтона Ньютон должен был разрешать Флемстиду получить у Черчилля 300 нераспроданных экземпляров работы. Ньютон пытался апеллировать к экспертам, но те сослались на то, что их миссия со смертью королевы окончилась.
Флемстид наконец получил экземпляры книги. Он привёз их домой и с радостной яростью выдирал оттуда каталоги. Он вершил над ними свой суд. Он решил принести их в жертву, как он выразился, «небесной правде». Проще говоря, Флемстид сжёг триста экземпляров своего труда в своём же камине. Он твёрдо решил сделать новый звёздный каталог, включить туда наблюдения с большим квадрантом, свои «Пролегомоны» с доказательством необычайной точности наблюдений. И всё то, что он хотел бы сам включить.
Книга вышла через шесть лет после его смерти, в 1725 году. Называлась она, как он и хотел, «Британская небесная история». Это была именно та книга, которую Флемстид хотел оставить после себя. Та, которую не стыдно было поставить рядом с «Альмагестом» Птолемея и «Атласом» Гевелия. Та «Небесная история» Флемстида, с которой он навеки вошёл в историю астрономии.
К «Оптике» не напрасно были приложены два математических трактата Ньютона — о квадратурах и о кривых третьего порядка. И не напрасно начиналась «Оптика» предисловием Ньютона, в котором были отчётливо проставлены даты открытия им метода флюксий. Этим он заявлял о своём единоличном открытии исчисления, сделанном в 1665–1666 годах. Ньютон решил дать отпор претензиям Лейбница, а затем и Бернулли на открытие дифференциального и интегрального исчислений.
Нужно сказать, что акция Ньютона взламывала уже довольно прочно сложившееся в Европе мнение относительно обстоятельств открытия — большинство учёных считало, что первооткрывателем является Лейбниц. И даже то место в «Началах» 1687 года, которое можно было попять как упоминание о флюксиях, многие читатели, например, француз Пьер Вариньон, воспринимали как признание заслуг Лейбница. О том, что Ньютон открыл свои флюксии, в Европе знал, возможно, один только Лейбниц. Да и Ньютон, казалось, мало заботился о своём приоритете. Из его переписки о рядах с Лейбницем, опубликованной в книге Валлиса, каждый мог сделать выводы, которые ему больше нравились. Бернулли, например, ясно понял из писем, что Ньютон заимствовал метод флюксий у Лейбница.
Ни тот, ни другой не пытались до поры до времени кого-либо переубеждать. Лейбниц — потому что его заслуги были общепризнаны, Ньютон — потому что считал, что был истинным первооткрывателем, первооткрывателем перед богом. Равновесие нарушилось в 1699 году, когда Фацио де Дюийе опубликовал свой собственный математический трактат, в котором утверждал, что открыл исчисление, он, Фацио, и сделано это в 1687 году. «Но под давлением очевидных фактов, — писал он, — я признаю, что меня на много лет опередил Ньютон. Взял ли второй автор — Лейбниц — что-нибудь у него? Об этом я предпочитаю не судить — пусть судят те, кто видел письма Ньютона и другие его рукописи. Но нельзя умалчивать о более скромном Ньютоне и поддерживать Лейбница, который по поводу и без повода приписывает открытие исчисления себе».
Лейбниц, не зная о давней уже размолвке между Ньютоном и Дюийе, счёл появление трактата делом рук соперника. Он тут же ответил на эту акцию анонимным (а на деле написанным, как теперь известно, им) неблагоприятным отзывом на книгу и подписанным им протестом. И то и другое было опубликовано в «Деяниях учёных».
А потом появилась «Оптика».
Лейбниц ответил на неё опять-таки анонимной рецензией в «Деяниях». (Он яростно отрицал авторство, но сейчас историки разыскали его рукописный черновик.) Аноним называл Лейбница истинным создателем исчисления. Рецензия составлена довольно искусно. В ней на первый взгляд нет и намёка на то, что авторство Ньютона ставится под сомнение. Но лишь на первый взгляд. «Вместо дифференциалов Лейбница Ньютон употребляет и всегда употреблял флюксии — он их элегантно использовал в «Началах» (это не так. —
Намёк был достаточно прозрачен и требовал ответа. Ответ был дан, но не Ньютоном, а его последователем Джоном Кейллом из Оксфорда. Тот, публикуя в «Трудах» 1708 года свою очередную статью, не упустил случая поддеть Лейбница: «Все эти выводы следуют из весьма высоко сейчас оцениваемой арифметики флюксий, которую господин Ньютон, вне всякого сомнения, открыл первым… и которая была позднее опубликована в «Деяниях учёных» господином Лейбницем». Здесь содержалось уже прямое обвинение Лейбница в плагиате. Философы вступили в войну.
По существу же, произошло следующее. Лейбниц обнародовал своё исчисление в 1684 году. Если бы он в преддверии надвигающейся оглушительной славы проявил толику широты и хотя бы несколькими строками известил о том, что подобные вещи ранее делались Ньютоном, и это ему известно, никакой почвы для конфликта не возникло бы. Несомненно, что Ньютон действительно открыл метод флюксий в 1665–1666 годах. Однако, одержимый сомнениями, необходимостью предъявления не существующих у него строгих доказательств метода, не желая стать в глазах общества посмешищем и вообще не желая быть выставленным на обозрение, а может быть, не желая, чтобы столь мощное оружие попало в чужие руки, он прижал это открытие к своей груди и практически никому о нём не сообщал в течение тридцати лет. Лейбниц, несомненно, был вторым. Но невозможно сказать: взял ли он хоть что-нибудь из тщательно зашифрованных идей Ньютона, выраженных в письмах, и можно ли было вообще что-либо извлечь из них, даже разгадав анаграммы. Зато именно Лейбниц сразу же сделал дифференциальное исчисление всеобщим достоянием и вывел математическую науку на совершенно новый уровень.
Тридцатилетнее молчание после невнятных намёков в письмах и откровений в неопубликованных рукописях — вот то, что мог противопоставить этому Ньютон. Ньютон осознал важность своего приоритета слишком поздно. Его раздражение против Лейбница — это фактически злость на самого себя, не понявшего в своё время важности своевременного оповещения о своём великом открытии. Славы хватило бы на двоих. Но каждый из них хотел наслаждаться ею в одиночестве.
Война философов разгоралась…
Она, как водоворот, вовлекала в себя всё новых и новых участников. Со стороны Ньютона выступали теперь молодые ньютонианцы Кейлл и де Муавр, со стороны Лейбница — Бернулли, Кристиан Вольф и другие континентальные математики, а также ньютоновские враги в Королевском обществе — Вудвард и Флемстид.
Война разгоралась…
Водоворот её вовлёк в себя не только учёных, но и деятелей культуры, английский и европейские дворы, посольства и царствующих особ. Бескровная, но жестокая война постепенно приобретала общеевропейский характер. Англичане воевали с остальным миром.
На английские залпы последовал немецкий ответ. Лейбниц был человеком светским; он никогда прямо не указывал пальцем на Ньютона, выбирая цели меньшего калибра. Более того, он всегда воздавал ему должное как математику. Так, на обеде у королевы Пруссии в Берлине в 1701 году он заявил, что если взять достижения всех математиков от начала мира до времени сэра Исаака, то его работы представят в них большую часть. Лейбниц решил пожаловаться Королевскому обществу на поведение
В письме Лейбница, полученном Обществом 31 января 1713 года, Лейбниц и вида не подаёт, что знает или понимает: за выпадами Кейлла стоит не кто иной, как Ньютон. Лейбниц пишет, что он и его друзья неоднократно обнародовали своё убеждение в том, что прославленный открыватель флюксий пришёл к ним собственным путём, «на основных принципах, подобных нашим». Письмо было составлено достаточно дипломатично, но Ньютон усмотрел в нём вызов.
Он решил воззвать к чувству справедливости Королевского общества. По его просьбе Общество назначило комиссию «для окончательного выявления первооткрывателя исчисления». В состав её вошли Арбетнот, Хилл, Галлей, Джонс, Мэчин, Барнет, Робартсон, де Муавр, Астон, Тейлор и Фридрих Банне, лондонский представитель прусского короля. Состав комиссии держался в строжайшей тайне. Было известно лишь, что для расследования инцидента создана «международная комиссия». Состав её был раскрыт лишь через сто с лишним лет.
Комиссия работала быстро. У Джонса довольно кстати оказались документы Коллинса того времени. Подняли переписку Ольденбурга, внимательно изучили документы, опубликованные Валлисом. Уже через полтора месяца выводы комиссии были готовы.
Несомненно, Ньютон знал о работе комиссии и принимал в ней участие. Более того, Ньютон сам написал (и эта копия сохранилась) черновик решения. Естественно, комиссия единодушно высказалась в пользу Ньютона и осудила Лейбница, причём в выражениях, по сравнению с которыми недавний выпад Кейлла мог бы показаться светским комплиментом.
Комиссия пришла к выводу о том, что, когда Лейбниц был в Лондоне в первый раз, он говорил о
Доклад комиссии был представлен Королевскому обществу и напечатан в «Трудах» с приложением соответствующих документов. Была опубликована «Переписка учёного мужа Джона Коллинса и других, относящаяся к развитию анализа» или «Commercium Epistolicum». Здесь приводились расположенные в хронологическом порядке письма и документы, решение комиссии и работа «De analysi…». Хотя экземпляров было выпущено немного и они не были предназначены для продажи, сборник попал по назначению. Его получили самые видные математики, «те, кто способен судить об этих предметах». Ньютон принимал активнейшее участие в подготовке сборника и собственноручно написал предисловие и комментарии. Обильно рассыпанные по книге примечания не давали ни малейшего повода усомниться в том, что Лейбниц похитил идею у Ньютона. В целом же сборник не содержит ни малейшего намёка на признание хотя бы каких-нибудь заслуг Лейбница перед наукой.
Бернулли, получив «Commercium Epistolicum», послал экземпляр и своё первое суждение о нём Лейбницу. Бернулли был ошарашен неправедностью всей процедуры и выводов комиссии. Однако он боялся, что о его мнении узнает Ньютон. «…прошу Вас, разумеется, использовать то, что я сейчас Вам пишу, должным образом и не втягивать меня в неприятности с Ньютоном и его публикой, поскольку я не хотел бы быть вовлечён в эти споры или показаться неблагодарным по отношению к Ньютону, который много раз представлял свидетельства своей доброй воли по отношению ко мне». С другой стороны, Бернулли спешил заверить в своём нейтралитете друзей Ньютона; он пишет де Муавру: «Если кто-нибудь среди вас воображает, что я снабжаю оружием врагов господина Ньютона, так это всё выдумки, выдумки смешные, нелепые и смехотворные».
Однако Лейбниц не давал ему уклоняться от спора: «Я ожидаю от Вас честности и справедливости и надеюсь, что Вы так скоро, как это будет возможно, сделаете очевидным для наших друзей, что, по Вашему мнению, ньютоновское исчисление было вторичным по отношению к нашему, и скажете об этом публично…» Слово «наше» употреблено не случайно — в ответ на поддержку Бернулли Лейбниц отдавал ему честь открытия
И Бернулли клюнул на приманку. В самом конце июля 1713 года в научных кругах и салонах континента, а затем и в Англии появились анонимные брошюры, не содержащие ни имени автора, ни имени издателя, ни названия города, где они были напечатаны. Это были так называемые «Charta volans» — «Летучие листки», — ответ на «Commercium Epistolicum». В «Листках» утверждалось, что метод флюксий — это повторение исчисления Лейбница. В «Листках» цитировалось письмо, полученное от «ведущего математика», который подтверждал, что в 1670 году Ньютону был знаком только метод бесконечных рядов, не больше: «Из этих слов можно сделать вывод, что когда Ньютон присваивает себе честь, принадлежащую другому, а именно — честь аналитического открытия дифференциального исчисления, впервые открытого Лейбницем… он слишком поддаётся стремлению к славе и влиянию льстецов, не знающих о том, что происходило ранее. Получив незаслуженную долю в открытии, выделенную ему по доброте иностранцем, он теперь хотел бы получить всё — признак ума и не беспристрастного и не честного. На это жаловался и Гук по отношению к гипотезе планет, и Флемстид, чьи наблюдения использовались». Под «ведущим математиком» подразумевался Бернулли. Идея «Листков» была прозрачна — ньютоновский метод 70-х годов не был ещё исчислением. Там же доказывалось, что Ньютон не понимал исчисления и позже. Таким образом «Листки» содержали двойное обвинение Ньютона — и в плагиате, и в том, что он «переступил границы чести, обвиняя человека, у которого он заимствовал идею, в том, что произошло обратное».
Спор, естественно, затрагивал всё новые и новые области. Лейбниц, оспаривая взгляды ньютонианца Сэмюэля Кларка но религиозным вопросам, прекрасно понимал, с кем он спорит на самом деле.
«Религия в Англии клонится к упадку; многие считают, что человеческие души должны быть материальными, другие считают самого бога реальным телесным существом. Сэр Исаак Ньютон утверждает, что пространство — это орган, с помощью которого бог постигает вещи… Сэр Исаак Ньютон и его последователи имеют также весьма странное суждение, касающееся деятельности бога. В соответствии с их доктриной всемогущий бог должен время от времени заводить свои часы: в противном случае они встанут. Получается, что у бога не хватило изобретательности предусмотреть вечное движение».
Особенно задевала и возмущала Лейбница мысль Ньютона о «чувствилище» бога, обнародованная в «Оптике». Эта мысль, считал Лейбниц, вообще заставляет усомниться в компетентности Ньютона как философа. Неприемлема была для Лейбница и ньютоновская концепция тяготения, которое, по его мнению, можно было трактовать лишь как оккультное качество или чудо. Лейбниц не признавал ньютоновской пустоты и не принимал ньютоновских доказательств экспериментального существования пустоты.
Всё это больше всего и расстраивало Ньютона. «Лейбниц пытается уйти от существа вопроса приоритета. Он пытается пререкаться по поводу вакуума, и атомов, и всемирного тяготения, и оккультных качеств, и чудес, и чувствилища бога, и совершенства мира, и природы времени и пространства, и решения задач. Но не в этом дело…»
В последнем, предсмертном письме Лейбница к учёному аббату Конти содержался ещё один вызов: математическая задача, с помощью которой он хотел бы убедиться в способности английских математиков использовать дифференциальное исчисление. Он хотел, по его словам, «пощупать пульс нашего английского аналитика».
Англичане — Галлей, Кейлл, Пембертон, Тейлор и Стирлинг с энтузиазмом накинулись на задачу, но, к сожалению, поняв её слишком узко, соответственно решили лишь часть её. Ньютон тоже не остался в стороне. Используя классический геометрический метод (а не метод флюксий, как ожидалось), он пришёл к некоторому решению, которое было анонимно опубликовано в «Трудах». Анонимное решение в данном случае скрывало тот очевидный факт, что Ньютон в его возрасте уже не мог решать подобных задач с прежним остроумием и блеском.
Война философов продолжалась… Она затрагивала уже не только специальные вопросы открытия исчисления, но и вопросы морали, политики, философии, физики.
Но, постепенно трезвея, учёные мужи по обе стороны Канала вдруг поняли, что давно забыли о самой сути научной истины — она в основе своей была всем ясна. Со временем все поняли, что конфликт превратился в тормоз движения науки, особенно английской. «Этот спор смертелен для нашей учёности», — выразил общее настроение член Королевского общества Джон Чемберлен. Он сделал попытку примирить философов, но наткнулся на твердокаменную позицию Ньютона. Несмотря на просьбу Чемберлена никому не говорить о своей миротворческой миссии, Ньютон тотчас же вынес его письмо на всеобщее обсуждение и потребовал безусловного признания своих заслуг.
Но Королевское общество уже устало. Оно весьма вяло отреагировало на призывы Ньютона заклеймить иностранного захватчика и даже отказалось обсуждать письмо под тем благовидным предлогом, что оно не было направлено Обществу. Чемберлен вообще не явился на заседание.
Отрезвляющим душем в споре, «глотком свежего воздуха в миазмах лжи и лицемерия», по выражению Вестфолла, стал ответ французского математика де Монмора на письмо напористого защитника Ньютона англичанина Тейлора. В письме де Монмора говорилось о том, что он не будет останавливаться на подробностях открытия исчисления, но считает, что из числа тех, кто был его истинным и фактически единственным внедрителем, нельзя исключить ни Лейбница, ни Бернулли. «Это они, — писал де Монмор, — и только они научили нас правилам дифференцирования и интегрирования, способам использования исчисления для нахождения касательных к кривым в точке их перегиба, их экстремумов, эволют, способам расчётов отражения и рефракции, квадратур кривых, центров тяжести, изучения колебаний и удара, решения задач обратного метода касательных… Именно они первыми выразили механические кривые в виде уравнений и научили нас выделять неизвестные в дифференциальных уравнениях, снижать степень уравнений или составлять их посредством логарифмов или же путём спрямления кривых, когда это возможно; они, наконец, посредством многих замечательных применений исчисления к наиболее сложным проблемам механики, таким, как цепные линии, парус, пружина, быстрейший спуск и т. п., привели нас и наших потомков на путь наиболее глубоких открытий».
В декабре 1716 года аббат Конти прислал Ньютону письмо, в котором была фраза: «Лейбниц умер, диспут окончен». Обесчещенный Лейбниц умер 4 ноября.
Фонтенель в академическом некрологе не Ньютона, а Лейбница сравнил с Прометеем, похитившим у неба огонь, чтобы подарить его людям.
Война философов окончилась.
Но Иоганна Бернулли Ньютон так и не простил. Когда Бернулли попросил его разрешения сделать с него портрет, он категорически отказал ему; своё согласие на портрет он жёстко увязывал с полным признанием своих притязаний на открытие исчисления и столь же полным отказом от прав на открытие как со стороны Бернулли, так и со стороны Лейбница.
Ньютон не сдавался…
Трудно восстановить обстановку последних, лондонских лет жизни Ньютона. Кроме немногословных и пристрастных воспоминаний, в архивах того времени сохранилось лишь несколько разрозненных счётов да инвентарная опись вещей и посуды, оставшихся после его смерти.
Скорбный перечень неожиданно отражает прекрасно оборудованный и обставленный дом с удобствами, дорогой мебелью, картинами и декоративными мейссенскими тарелками на стенах; в описи числятся серебряная посуда, серебряные же подносы, кофейник и канделябры, ночные вазы, десятки фарфоровых тарелок, десяток дюжин хрустальных бокалов, сотня салфеток. Как не вяжется это с образом отшельника и схимника, каким пытается представить его Кондуитт!
Сохранившиеся документы свидетельствуют, что Ньютон питал пристрастие к малиновому цвету: малиновые шторы, малиновое покрывало ангорской шерсти на кровати, малиновые драпри, малиновый балдахин над кроватью. Малиновые обои и портьеры. Малиновый диван-канапе. Малиновый — единственный цвет, отмеченный в скорбном перечне.
Здесь, в Лондоне, он стал очень богатым человеком, и это чувствовалось. С переездом в Город его доходы возросли более чем вдесятеро и превышали уже достаток среднего английского баронета. Затем они увеличились ещё втрое и стали выше, чем у многих лордов. Сначала у него были две служанки и лакей, которых он выбирал с необычайной тщательностью. Он пожелал нанять двуконный экипаж: когда экипаж прислали для одобрения, он ему понравился. Но не кучер: Ньютон долго и придирчиво осматривал его, обошёл вокруг и наконец велел обзавестись ливреей, для чего дал пять фунтов. Перед смертью у него было уже шесть слуг. В доме жила миссис Роджерс — домохозяйка. Кроме неё, были повар, две служанки, некий господин Уотсон с неопределёнными функциями и ливрейный лакей Адам.
Викторианские биографии Ньютона много места уделяют его умеренности, в частности в еде, представляют его отшельником, живущим на воде и овощах. Но сохранился счёт, отнюдь не свидетельствующий о его вегетарианских пристрастиях, — за неделю в дом были доставлены: гусь, две индейки, два кролика, цыплёнок. Один из сохранившихся счётов сообщает, что во время обеда Ньютону и его гостям были поданы: рыба, пирог, фрикасе из цыплят, блюдо лягушачьих лапок, четверть барашка, дичь и омары.
Что действительно мало трогало Ньютона — так это лондонские развлечения. Кондуитт писал, что он вообще никогда не интересовался музыкой или искусством. Это не вполне точное замечание, потому что известен отзыв Ньютона, рассказывавшего о своём посещении оперы: «Первый акт я прослушал с удовольствием, во втором акте моё терпение истощилось, а с третьего я сбежал…»
Интерес его к живописи и скульптуре был скорее утилитарного толка — он смотрел на них лишь как на предметы, предназначенные украшать жилище. В библиотеке Ньютона нет следов более или менее современной ему литературы, в частности английских классиков — Чосера, Спенсера, Шекспира и Мильтона. Поэзия отсутствовала начисто. Это свидетельствовало об определённой позиции — Ньютон считал поэзию хотя и исполненной благородства, но наивной чепухой. И всё же он позавидовал своему сочлену по Королевскому обществу поэту Джону Донну, сумевшему сказать великие слова о том, что человек — не остров: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Однажды в сердцах он сказал: «Лучше бы я стал поэтом!»
Его главным увлечением по-прежнему оставалась наука, а любимым занятием — посещения Королевского общества.
В марте 1717 года в Обществе читали письмо Кондуитта — чиновника недавно завоёванной английской базы на Гибралтаре — об открытых им руинах древнеримского города Картеи. Кондуитт, как и Ньютон, учился некогда в Тринити-колледже, был довольно богат и находился на хорошо оплачиваемой должности. Его научные интересы ограничивались Картеей, а духовная жизнь была наполнена спором о приоритете находки Картеи с неким проходимцем. Когда Ньютону рассказали об этом споре, он с пониманием и сочувствием отнёсся к молодому человеку: у каждого свой спор.
Итак, Кондуитт установил место, где находился некогда процветавший город. Не в пример другим участникам заседания, Ньютон живейшим образом заинтересовался сообщением, поскольку в то время занимался «проблемой распространения цивилизаций после Ноя». Кондуитт получил приглашение приехать на заседание общества в июне, и тогда он вновь, уже лично, в присутствии Ньютона прочитал свою статью о находке. После заседания Ньютон обласкал его и пригласил домой, где вёл с Кондуиттом нескончаемые беседы о расселении народов и о других, ещё не открытых древних столицах и городах. Ньютон считал, что находка Картеи подтверждает его мысли о расселении древних народов в Средиземноморье в первом тысячелетии до нашей эры. Так они разговаривали до позднего вечера, когда Кетрин, всё ещё очаровательная, хоть ей и было уже под сорок, вошла зажечь свечи. Её появление в полумраке, во время вдохновенной беседы с великим Ньютоном, ошеломило Кондуитта. Это заметили все присутствующие: и сама Кетрин, и даже Ньютон.
Через три месяца Джон Кондуитт и Кетрин Бартон поженились. Кондуитт быстро понял, что волей судеб оказался рядом с гениальным человеком. Он стал записывать его слова, собирать связанные с ним истории. Он посвятил служению Ньютону всю жизнь, и его мемориальная доска (он умер в возрасте пятидесяти лет, через двадцать лет после женитьбы на Кетрин) начинается со слов о Ньютоне. Они и похоронены рядом.
Кондуитт владел имением неподалёку от Винчестера, и молодая чета большую часть времени проводила там. Иногда они жили у Ньютона. Говорить о том, что они надоедали друг другу, не приходится — Кондуитт был очень занят (благодаря жене он вскоре стал членом парламента, а благодаря Ньютону получил место на Монетном дворе), Кетрин занималась появившейся у них дочкой, внучатой племянницей Ньютона. Девочку назвали тоже Кетрин. Ньютон изредка справлялся о ней, но в письмах его и в воспоминаниях нельзя обнаружить следов сколько-нибудь значительного влияния маленького существа на жизнь великого старца.
Каким был Ньютон в глазах современников?
Невысокий плотный человек с густыми седыми волосами, имевший странную манеру, сидя в экипаже или позже — в портшезе, высовывать с одной стороны одну руку, а с другой — другую — он боялся, что экипаж перевернётся. Большей частью он бывал погружён в свои думы. Улыбался чрезвычайно редко. Он мог часами сидеть среди приглашённых им людей в молчаливом и глухом размышлении. Некоторые даже считали, что он в это время молится. Говорил он немного, но каждое слово его было взвешено, продумано и попадало точно в цель.
Страсть к научным занятиям не покидала его и в поздние лондонские годы. Хотя творческий возраст его давно уже миновал, он строго соблюдал раз и навсегда установленный им для себя режим занятий. Никто и никогда не видел его без работы. Работа служила ему бальзамом от душевного беспокойства. Когда он действительно не знал, чем заняться, он переписывал старый текст.
Он мог читать много часов подряд, и глаза его не утомлялись. Говорили, что в старости он стал близорук. Другие утверждали, что, напротив, он был близорук в юности, а в старости избавился от этого недуга. Правда же в том, что в зрелые годы он был немного близорук и имел очки, которыми пользовался крайне редко. За год до смерти он свободно сверял счета, не пользуясь очками и без каких-либо вспомогательных записей. Это говорит о том, что он сохранил до старости не только зрение, но и остроту ума.
Ньютон любил возвращаться мыслями ко временам своего детства, с нежностью вспоминал грэнтэмские времена, и когда представлялся случай, не упускал возможности встретиться с земляками-линкольнширцами, у которых был обычай ежегодно собираться в лондонской «Корабельной таверне». Иногда он поговаривал о строительстве за его счёт школы в Вулсторпе (этому замыслу не суждено было осуществиться).
Он любил встречаться с мастером Тринити-колледжа Бентли, когда тот наезжал в Лондон. Бентли остался одним из немногих старых приятелей, и Ньютон однажды, расчувствовавшись, заказал для него часы, украшенные бриллиантами. Забавно, что в качестве посредника в покупке Ньютон избрал Фацио, который из друга давно уже превратился для Ньютона просто в комиссионера дорогих часов: Фацио, прошедший и через заговоры, и через изгнание, и через позорный столб, в конце жизни увлёкся часовым ремеслом и этим жил. Однажды Фацио попросил у Ньютона разрешения использовать его имя для рекламы своих часов. Ньютон на предложение не ответил; видимо, Фацио совсем уже потерял представление о Ньютоне и его характере (вероятно, он и раньше был недостаточно тонок — Ньютон отдалил его от себя из-за его отношения к алхимии, которое казалось ему неуважительным, и его отношения к религиозным взглядам Ньютона). И это произошло после долгих лет дружбы, которой способствовало взаимное восхищение (Фацио был талантлив), неприятие господствующей церкви, сходство темпераментов и черт характера.
Что касается религиозных взглядов и высказываний Ньютона, он должен был быть предельно осторожен. Его предупреждал об этом сам архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви. Ему не следовало забывать об «Акте» 1698 года, призванном подавить богохульство и профанацию и которым автоматически изгоняли с государственного поста и лишали публичной должности всякого, кто отрицал божественность троицы: а ведь Ньютон был как раз одним из этих еретиков.
В Лондоне у Ньютона появились друзья в тех сферах, о которых он раньше не смел и думать. Принцесса Каролина сохранила к нему добрые чувства и уважение. Теперь она стала женой Георга II. Она часто приглашала Ньютона во дворцовые покои и проводила в беседах с ним многие часы. Они разговаривали о философии и религии, и однажды она сказала, что считает его реферат по истории религии, собственноручно переписанный для неё Ньютоном, одной из главных драгоценностей королевской казны.
После ошеломляюще неправдоподобной его незаметности в юные и зрелые годы, удивительно, как Ньютон мог выдерживать теперешнюю свою популярность. Художники наперебой старались получить его согласие позировать. В классических воспоминаниях о Ньютоне говорится о том, что он этого страшно не любил. Как язвительно замечает Вестфолл, в таком случае Ньютона можно признать мазохистом — ни один из его современников не позировал больше его.
Вопреки частым намёкам на скупость Ньютона, сохранившиеся документы свидетельствуют: был он человеком хотя и не широким, но добрым, много занимался благотворительностью. Наследники Барнабы Смита и Эйскоу называли в честь него своих сыновей: Исаак Уорнер, Ньютон Смит, Ньютон Бартон, Ньютон Чалмен названы были в его честь. Он чувствовал себя патриархом громадной фамилии и охотно откликался на просьбы нуждавшихся.
Стэкли вспоминает, что Ньютон не упускал возможности присутствовать на свадьбах своих родственников. Обычно он дарил женщинам сто фунтов, а мужчин пристраивал на хорошую должность. Множество писем различных лиц, содержащих всевозможные просьбы, сохранилось в архиве Ньютона благодаря тому, что он их не выбрасывал, а писал на обороте свои бесконечные черновики. Ньютон регулярно и без долгих раздумий помогал незнакомым ему людям. Первыми среди этих незнакомцев шли те, в чьём имени или фамилии встречалось «Исаак» или «Ньютон». Эти люди считали помощь с его стороны вполне естественной и даже как бы обязательной. Некий Вильям Ньютон написал ему, что его отца тоже звали Исаак, и получил за это сразу десять фунтов; через несколько месяцев он снова написал ему, теперь уже из долговой тюрьмы — для освобождения нужно было ещё три фунта с небольшим, которые Ньютон тут же выслал. Через некоторое время Вильям Ньютон был выпущен и занял вполне приличный пост в таможне.
Незаметно подступала старость. Поколение, составлявшее его мир, уходило… Умерли Барроу, Бойль, Гук, Лейбниц, Факир, Мур, Локк, Бабингтон… Он проводил в последний путь множество своих знакомых, но мощное течение жизни, неуклонно устремляющееся к Лете, огибало его как несокрушимый утёс.
Хотя память стала его иногда подводить, Ньютон в свои семьдесят лет отличался поразительно острым умом; на щеках пылал юношеский румянец, подчёркиваемый белоснежными волосами, редкая улыбка обнажала белый ряд зубов. Но многие сознавали тем не менее необходимость уже начинать собирать воспоминания о Ньютоне, справедливо полагая, что момент может быть упущен. В 1718 году в Королевское общество был принят изощрённый в медицине доктор Вильям Стэкли. Несмотря на то, что Ньютон был старше его чуть не на полстолетия, они нашли общий язык. Вскоре Вильям Стэкли стал пользоваться редкой привилегией долгих откровенных разговоров с метром, разговоров, которые были столь редки с его сверстниками или людьми старше его. Возможно, Ньютон видел в Стэкли своего будущего биографа. В последние годы жизни он часто возвращался к тем историям, которые, по-видимому, и составляли внешне небогатую канву его жизни. Он рассказывал о яблоке и открытии им закона тяготения. О своих соображениях по хронологии истории и толковании пророчеств.
Записи, которые вёл тогда Стэкли, — до сих пор главный источник информации о живом Ньютоне. К сожалению, Стэкли, будучи врачом, немногое смог рассказать о последних его научных увлечениях. Казалось, с переездом в Лондон его научная деятельность угасла. Последняя, опубликованная анонимно, оригинальная работа принадлежит 1701 году: это эссе «О шкале степеней тепла и холода» — изложение основных понятий будущей науки о теплоте. Прежние качественные суждения заменены числами и их отношениями. Он решил разработать новую шкалу температур, взяв за нулевую отметку температуру тающего снега и приняв за 34 градуса температуру кипящей воды. Градусы, таким образом, получались примерно в три раза крупнее современных. Ньютон хотел довести измерения до уровня температуры плавления железа.
С помощью примитивных приборов Ньютон пришёл к важному выводу: теплота, которую нагретое железо отдаёт в заданное время смежным с ним холодным телам, то есть теплота, которую железо утрачивает в продолжение заданного времени, пропорциональна полной теплоте железа; поэтому если времена охлаждения принимать равными, то теплоты будут снижаться в геометрической прогрессии и могут быть легко найдены с помощью таблицы логарифмов. Это закон остывания тел, названный в учении о теплоте именем Ньютона.
Видимо, это эссе было последней опубликованной Ньютоном научной работой, содержащей результаты новых исследований. В дальнейшем идут переиздания, усовершенствования, догадки, гипотезы. Среди них есть удивительные прозрения — например, предвосхищение будущих открытий Франклина.
15 декабря 1716 года
«Дорогой доктор! Тот, кто копает в глубоких шахтах знания, должен, как и всякий землекоп, время от времени подниматься на поверхность и дышать чистым воздухом. В один из таких промежутков я и пишу Вам, друг мой. Вы спрашиваете, как при таких занятиях мне удаётся поддерживать здоровье. Ах, мой дорогой доктор, Вы гораздо лучшего мнения о Вашем ленивом друге, чем он сам о себе. Морфей — мой неотвязный спутник; без 8–9 часов сна Ваш корреспондент никуда не годится. Занятия сначала вредили моему пищеварению, но теперь я ем с аппетитом, в чём Вы убедитесь, когда я к Вам приеду. Я много занимался замечательными явлениями, происходящими, когда приводишь в соприкосновение иголку с кусочком янтаря или резины, потёртой о шёлковую ткань. Искра напомнила мне о молнии в малых, очень малых размерах. Но я не буду заниматься философией в письмах, мы вдоволь побеседуем, когда я посещу Стэкли. Я начал письмо в 5 мин. десятого и потратил на письмо 10 мин., а тут стучится милорд Соммерсет».
Он продолжал работать и в других направлениях, написал немало страниц, доказывая преимущество юлианского календаря перед григорианским, причём придумал свой, «симметричный» вариант календаря, разделив год на шесть зимних месяцев по тридцать дней, пять летних месяцев по тридцати одному дню и один летний месяц в тридцать дней, который в високосный год мог иметь и тридцать один день. При этом ощущение реальности ему не изменяло: он писал, что вряд ли можно будет изменить число дней в месяцах без согласия доброй части Европы, и поэтому реальный выбор, видимо, будет иметь место между теми двумя календарями, которые находятся в употреблении. Несмотря на то, что собственный календарь казался ему самым совершенным, для Англии, по его мнению, лучше всего было бы принять континентальный календарь. Так в конце концов и поступили.
Подводя итоги научной работы Ньютона в последние годы, нужно признать, что хотя она и не была чрезмерно активной, но охватывала новые области физики, ещё не освоенные им ранее. Теперь, к концу жизни, он объял всю физику, механику, теплоту, учение о свете, звуке, молекулярную физику, электрические и магнитные явления. Он чувствовал, что уже не может с прежней страстью заниматься наукой.
— Был бы я помоложе, — сказал он как-то Галлею, — я бы ещё немножко потряс Луну.
Однако когда Галлей пытался заставить его окончить теорию Луны, он пожаловался:
— Теория Луны приносит мне головные боли и лишает сна. Это происходит слишком часто. Я уже не могу об этом думать.
(Это единственный известный случай в его жизни, когда он жаловался на головную боль.)
В сентябре 1710 года Ньютон переселился из дома в Челси, где ему не понравилось, в дом на Сент-Мартин-стрит.
Новый дом был просторный, трёхэтажный, с большой мансардой. Он стоял в удобном месте в южной части Лестерфилд и обходился не особенно дорого — сто фунтов в год. Среди рукописей второго издания «Начал» завалялся листок, отражающий хлопоты по переоборудованию дома для нового жильца:
Закуплены были также деревянные, с железными обручами трубы для водопровода, колокольчик для двери, подставки для пива, стаканы, плита, ступка из мрамора и медный пест, каминные щипцы, кочерга и совок, резак для салфеток, кровать, матрацы, десятки наименований всякой мелочи, стоившей, однако, довольно приличную сумму — порядка тридцати фунтов.
Всё делалось с расчётом на то, чтобы дом этот стал достойным жилищем великого человека, который будет жить здесь долго, возможно, до самой смерти, жить комфортабельно, встречаться с друзьями, беседовать, работать в тиши кабинета, размышлять у каминного огня.
В Лондоне Ньютон пользовался всеобщим уважением. Его называли не иначе как «доктор Ньютон», что свидетельствовало тогда о величайшем респекте. Лорд Пемброк оказал ему особую честь, предложив пост директора госпиталя святой Катерины (последовал отказ).
Ему вновь предложили стать мастером Тринити, конечно, при непременном условии, что он примет духовный сан, Ньютон вежливо отказался, во что Тенниссон, архиепископ Кентерберийский, не смог даже поверить. Ньютон же просто не хотел покидать Минта, Королевского общества, своего уютного лондонского дома.
В Общество зачастили гости из других стран — все они хотели говорить С Ньютоном. Прибыл в Лондон и посланник Петра — Шумахер, который по заданию государя должен был изучить, как устроено и работает Королевское общество — с целью организации Российской Академии наук.
«Королевский социетет (Королевское общество. —
Ньютон часто говорил, что, отдыхая от занятий физикой и математикой, он занимался теологией и историей. Этого не скажешь, глядя на каталог ньютоновском библиотеки, где издания по теологии и истории занимают поистине львиную часть. А Ньютон был не из тех, кто покупает книги, чтобы выставлять их напоказ: он с ними работал. И значение, которое Ньютон придавал своим трудам по теологии и истории, совершенно не соответствует их современной ценности. Даже современные теологи утверждают, что чтение этих работ Ньютона можно было бы практиковать в качестве изощрённого наказания.
То, что Ньютон вообще занимался этими вопросами, вовсе не удивительно — воспитывался он в затхлой кембриджской атмосфере, где именно такие труды служили доказательствами истинной учёности. И он увлечённо работал над подобными проблемами всю жизнь, лишь иногда полностью от них отключаясь, чтобы написать статьи о свете, или «Квадратуры», «Анализ», наконец — «Начала», «Оптику». Во всяком случае, Ньютон ценил свои теологические и исторические труды никак не меньше, чем «Начала» и «Оптику».
Ньютон был правоверным протестантом, представляющим его крайнее крыло; отказываясь от церкви римской, как и все протестанты, он шёл ещё дальше и призывал вернуться к доисторическому, примитивному, «истинному христианству». Основные принципы этой первичной и когда-то единой для всех народов религии просты: «вера в то, что мир создан верховным богом и им же управляется; любовь к нему и почитание его; почёт, воздаваемый родителям; завет любить ближнего своего как самого себя, сострадание даже к диким, зверям — вот древнейшая из всех религий» (Irenicum»).
Когда произошло расселение народов, истинная религия была, по мнению Ньютона, искажена; многие народы стали отождествлять с богами своих царей и героев. Протестантизм упразднял посредничество между богом и человеком. Некоторые сектанты, доводя процесс до логического конца, устраняли всё, что было между богом и человеком, включая и троицу — унитарии, арианцы, социнианцы видели в ней рецидив языческого многобожия.
Уже давно, с Кембриджа, вокруг Ньютона стал складываться кружок его религиозных единомышленников, в число которых вошёл и Бентли. В Лондоне этот кружок обогатился двумя молодыми учениками — Уистоном и Кларком. Фактического их наставника, Ньютона, мало кто знал, хотя Уистон в своих лекциях и книгах не раз намекал на то, что его мысли поддерживает «величайший человек». Интересно, что, несмотря на явное заимствование Уистоном идей Ньютона, он никогда не говорил, что это Ньютон склонил его к ереси. Честолюбие распирало его, и он при каждом удобном случае утверждал своё первородство. Ньютон не препятствовал — такой поворот дела его вполне устраивал.
Сближение Ньютона и Хоптона Хайнса, молодого служащего Монетного двора, тоже имело под собой религиозную основу. Хайнс был ревностным унитарианцем. Более того, он убеждал Ньютона стать во главе новой Реформации, пойти по пути Кальвина и Лютера и критиковал его за то, что он мешкает. Эти идеи Хайнса, какими бы абсурдными они ни казались сейчас, вполне согласуются с собственными мыслями Ньютона и его писаниями. Он пользовался большим религиозным авторитетом и свободно обменивался довольно еретическими взглядами с Локком, Фацио, Галлеем и Бентли. (Бентли, когда его избирали на кафедру богословия, прочёл весьма неортодоксальную лекцию об искажениях в текстах Священного Писания — тех же самых, о которых писал и Ньютон.) Эта группа, возможно, была одним из немногих очагов религиозного инакомыслия в Англии того времени. Группировалась она вокруг Ньютона. Глашатаем группы был, конечно, Уистон. Он обладал достаточной смелостью, чтобы читать лекции и открыто распространять в Кембридже свои взгляды, заботился о том, чтобы идеи кружка пускали корни и вне университета. В сборнике своих проповедей он опубликовал молитву, в которой возносится хвала Христу, отцу его и святому духу — «трём персонам, но одному богу». Книга вызвала страшный скандал. Ортодоксальные священники обрушились на Уистона, обвиняя его в богохульстве и атеизме. Осенью 1710 года Уистона вызвали к вице-канцлеру университета, и тот предъявил ему обвинение в нарушении университетского статуса. Уистон не покорился и стал открыто защищать свои взгляды. Не получив поддержки, он был уволен с кафедры и изгнан из университета.
Всё это сильно тревожило Ньютона. Он видел, что церковники ищут совсем неподалёку от него самого. Ньютон боялся, что слухи о безбожии могут сильно ему навредить, и поэтому стремился держаться подальше также от своего бывшего друга Фацио Дюийе.
В 1720 году Уистон выдал Ньютона — назвал его во всеуслышание арианцем. Ньютон вознегодовал и отказал Уистону в приёме в Королевское общество. Серьёзных последствий заявление Уистона, впрочем, не имело — возможно, потому, что Ньютон был уже стар.
Множество сект протестантизма — тринитарианцы, социнианцы, арианцы, гуманитарианцы, антитринитарианцы — опирались впоследствии на имя Ньютона. Он всё-таки стал знаменем новой Реформации, хотя и неширокой.
Ньютон тем не менее был злейшим врагом папства, католицизма, римской церкви. Это особенно заметно в его работе «Толкование к Пророчествам Даниила и Апокалипсису». Говоря об этом сочинении, Вольтер заметил, что Ньютон «хотел им утешить род человеческий в том превосходстве, которым он, Ньютон, обладал, или же доказать, что это превосходство было не так уж велико». В то же время нельзя отрицать, что это сочинение обнаруживает громадную эрудицию Ньютона и подтверждает его исключительное остроумие, приложенное, правда, к неблагодарному предмету.
Для Ньютона характерна вера в изначальный ясный смысл Библии, но не в её текст, искажённый переводчиками. В первичном же тексте, особенно в пророчествах, Ньютону слышится метафорическая речь самого бога. Образный язык пророчеств он переводит на язык географии и истории.
Ньютон считал, что язык пророков взят из аналогий между материальным миром и миром политико-историческим. Так, небо представляет царей и династии, а земля — народ. Небесные явления соответствуют различным действиям животного и человека. Рождается схема словаря, посредством которого можно толковать пророчества.
Так, если у «истукана» в первом видении Даниила голова из чистого золота — это Вавилон: грудь и руки из серебра — это Персия; чрево и бёдра медные — это Греция; голени железные, а ноги частью железные, а частью глиняные — это Рим.
Если зверь третьего видения Даниила «как лев, но у него крылья орлиные», — это Вавилон; если он «похож на медведя… и три клыка у него, между зубами его» — это Персия; если он «как барс, а на спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы» — это Греция. А четвёртый зверь — «страшный и ужасный, и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него и… вышел между ними ещё небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были… и… в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». И жить ему положено было «время, два времени и полвремени».
Десять рогов Ньютон опознаёт как королевство Вандалов и Аланов в Испании и Африке; королевство Свевов в Испании; Вестготское королевство; королевство Аланов в Галлии; королевство Бургундов; Французское королевство; Британское королевство; королевство Гуннов; королевство Ломбардов; королевство Равенны. Кульминация исследования Ньютона — это идентификация «одиннадцатого рога четвёртого зверя Даниила»:
«И был рог у четвёртого зверя, и коренился он над тремя его первыми рогами, а потому мы должны искать его между народами Латинской империи, после начала десяти рогов. Но это было королевство иного рода, нежели другие десять королевств, оно имело свою особенную жизнь или душу с глазами и ртом. Своими глазами это был провидец, а своим ртом, говорящим великие вещи и изменяющим времена и законы, — пророк так же, как и король. И такой провидец, пророк и король — это римская церковь».
Доказав предварительную из весьма непростых посылок, что «время» — это триста шестьдесят солнечных лет, Ньютон предсказывает дату падения папизма: 2060 год. Это дата Страшного суда, отодвигаемая им на далёкие времена.
Ньютон многим рассказывал о своих открытиях в Библии, и принцесса Каролина пожелала, чтобы Ньютон показал ей рукопись. Ньютон перепугался. Он оказался в ужасном положении, ибо боялся, что его еретические взгляды могут стать причиной увольнения из Монетного двора.
— Но она ещё абсолютно не готова и несовершенна…
Улыбка медленно сошла с губ принцессы Уэльской, и Ньютон понял, что не уступить нельзя. Выполняя приказ, он сделал как бы краткий обзор своих взглядов, более мягкий по выражениям и идеям. Он назвал его «Краткой хронологией». Через несколько дней «причёсанный» экземпляр её был передан принцессе. Ньютон схитрил: вместо опасной теологии он подбросил ей безобидную хронологию.
Основной идеей этого труда Ньютона было устранение расхождений между хронологией светской и хронологией Ветхого Завета. Причём за жёсткую основу сопоставления бралась именно Библия. Таким образом, Ньютону нужно было привести в полное соответствие библейскую историю, насчитывающую до Христа четыре тысячи лет, и светскую историю, насчитывающую, например, для Египта почти пятнадцать тысяч лет. И Ньютон начинает безжалостно скашивать года Египту и другим странам. Его основной тезис — все народы сильно преувеличивают свою древность, стараясь выделиться друг перед другом. «Все нации, прежде чем они начали вести точный учёт времени, были склонны возвеличивать свою древность. Эта склонность увеличилась ещё больше в результате состязания между нациями».
Чтобы подтвердить свою несуществующую древность, считает Ньютон, египетские жрецы пошли даже на то, чтобы пустить в ход миф об Атлантиде, смутив им Платона.
Ньютон отказывался верить в то, что во времена египетского Древнего царства в нём правило чуть не триста царей со средней продолжительностью каждого царства 33 года; Ньютон поступает с царями просто — находит в этом длинном списке похожие имена и сходные жизнеописания, считает обоих царей за одного и вычёркивает всех промежуточных. Так Ньютон сократил сразу чуть не сотню царей и убавил Египту древности на несколько тысячелетий. Он пошёл и дальше, приняв за среднюю продолжительность царствования не 33 года, а 18–20 лет. Это сократило историю ещё почти вдвое, ибо промежутки времени для светской истории умножались теперь на 4/7. Для того чтобы египетская история стала ещё короче, он делает смелый шаг, отождествляя египетского царя Сесостриса с Осирисом-Вакхом. Тогда Египетское государство начинается с XI века до нашей эры.
Такими приёмами ему удалось жёстко совместить библейскую и светскую историю, найти связующие их имена и исторические события. Здесь со стороны Ньютона — масса произвола, неточностей и натяжек; но в то время, когда не знали ценности археологических раскопок, не расшифровали клинописных табличек, его работа выделялась среди других благодаря его остроумию, а также владению им астрономическими, математическими и филологическими методами и, наконец, в силу страсти, которую он вложил в эти изыскания.
В конце своего труда удовлетворённый Ньютон утверждал, что точность его построений — в пределах 5-10 лет; в редких случаях он соглашается на двадцатилетнее расхождение с истинной хронологией. Он уповает на то, что им достигнуто совпадение и астрономического и исторического пути доказательств — то есть проведена проверка двумя независимыми методами.
«Астрономические доказательства» — это новинка в исторических исследованиях такого рода. Ньютон прочёл у Климента Александрийского, что в стихах неизвестного поэта, автора «Титаномахии», есть упоминание о том, что Хирон изготовил «небесную сферу». Сфера Евдокса, известная из хроник, по мнению Ньютона, носит совершенно аргонавтический характер (в ней встречаются названия созвездий, соответствующих приключениям аргонавтов). Стало быть, сфера Евдокса это и есть сфера Хирона (кентавра?!). Действительно, Евдокс, живший в IV веке до нашей эры, построил шар, на который были грубо нанесены наиболее яркие звёзды.
В подтверждение своего тезиса Ньютон приводит доказательство распространённости подобных сфер у греков. Например, такая сфера была у Навсикаи, юной царевны феаков.
Здесь Ньютона подвело слабое знание греческого языка. Увидев слово «сфера» (σψαιρα), он решил, что речь идёт, конечно, об астрономической сфере, карте созвездий. Но о Навсикае писали и Гомер и Софокл, и оба упоминали, конечно, «сферу», но переводимую как «мяч». Навсикая участвует в плясках и празднествах и танцует с мячом. И Ньютон идёт на противоречащий смыслу перевод, ибо он подтверждает его концепцию. (Издатель рукописей Ньютона архиепископ Горслей заметил как-то: «Сэр Исаак Ньютон всегда отдавал предпочтение версии, более подходящей для теории, которую он защищал».)
По утверждению Ньютона, аргонавты, направляющиеся в Колхиду за золотым руном, то есть идущие в крайне опасное по тем временам плавание, которое не было похоже на привычное и освоенное уже плавание вдоль берегов, нуждались в астрономических инструментах. Ньютон утверждает, что таким инструментом была у них небесная сфера, построенная Хироном. На ней точки равноденствия и солнцестояния были якобы помещены посредине созвездий Овна, Рака, Весов и Козерога (как на сфере Евдокса). Учитывая известное годовое перемещение этих точек по небосклону, Ньютон смог вычислить «точную дату» похода аргонавтов — 936 год до нашей эры, а не XIV век до нашей эры, как утверждали ранее. Этим Ньютон сокращает светскую историю ещё на четыреста лет. Более того, он находит совершенно иные стимулы похода аргонавтов: дело совсем не в золотом руне! Лучшие юноши Греции совершили это путешествие, чтобы убедить народы Черноморья и Средиземноморья восстать и обрести независимость от Египта; басня о золотом руне использована как прикрытие.
А Прометей — по Ньютону — это египетский наместник, охраняющий по приказу Сесостриса проход в горы Кавказа. Он служил там двадцать лет, что охарактеризовано в мифе о Прометее словами «Прометей был прикован к скале». А Эсхил, например, утверждал, что Прометей «стережёт» скалу. Аргонавт Геракл (он — член команды, наряду с Хироном) освобождает Прометея, и т. п.
Для доказательства своих теорий Ньютон остроумно использует распределение дольменов, стел с изображёнными на них половыми органами, случайное сходство имён и обстоятельств. Так, доказывая, что индуистская религия есть отпочкование прарелигии — примитивного христианства, он утверждает, что слово «брахманы» происходит от слова «Авраам» и обозначает «сыновей Авраама».
И тем не менее методические достижения Ньютона в установлении хронологии весьма существенны: он использовал астрономические данные, сократил действительно раздутые царствования, сблизил сходные мифы, использовал сходство культов и культур и т. п. Он смог снять урожай и с этого бесплодного поля.
Когда первое издание «Начал» ещё только готовилось к выпуску, и потом — когда прочитаны были корректуры, и совсем уже после — когда все двести книжек отправлены были к книготорговцам, Ньютон знал: книга нуждается в исправлениях. Пока она печаталась, он заказал себе экземпляр двойной толщины, страницы которого были проложены чистыми, незаполненными листами с тем, чтобы можно было с удобством исправлять текст. Прежде всего нужно было бы как следует разобраться с движением комет и Луны. Нужно было бы учесть результаты новых астрономических наблюдений, и в первую очередь — сообщение Д. Кассини о спутниках Сатурна. Необходимо было также получить данные от Флемстида.
С 1692 года Ньютон приступил к работе над новым изданием. Вначале переделки касались в основном второго закона движения. Добавились новые тексты. Учтены поправки, сделанные стремительным, хотя и лёгким Фацио. Изучены обстоятельные замечания Грегори. Появились новые гипотезы, потом гипотезы исчезли, превратившись в «Явления» и «Правила». Всё это было прекрасно, но касалось в основном умозрительной, теоретической части «Начал».
Сначала наиболее вероятным кандидатом на роль редактора второго издания считали Фацио, затем слухи переадресовали её Грегори, шотландцу тридцати с небольшим лет, довольно известному математику. Он был профессором астрономии в Эдинбурге, а затем и в Оксфорде — по прямой рекомендации Ньютона, Грегори действительно включился будто бы в издание, поскольку сохранились его «меморандумы» и «заметки», где он собственноручно отмечал все те исправления, которые Ньютон полагал бы необходимым внести в новый текст «Начал», а также свои предложения по изменению этого текста. Ньютон внёс поправки в свой текст первого издания, снабдил текст замечаниями на чистых страницах, а затем велел переписчикам сделать несколько аналогичных экземпляров, которые и разослал друзьям. Сегодня известно одиннадцать таких экземпляров: среди них — два экземпляра Ньютона, экземпляры Фацио, Бентли, Локка, Грегори.
У экземпляра Грегори — примечательная судьба. Его другом в то время — в девяностые годы — был медик Арчибальд Питкарн, один из крупных шотландских врачей. Он обожал Давида Грегори и помогал ему, вплоть до того, что согласился быть курьером между ним и Ньютоном, подготавливал рукописи Грегори, сравнивал результаты расчётов, делал копии. В 1692 году, встретившись с Ньютоном в Кембридже, он уговорил его отдать ему рукопись «О природе кислот» для опубликования. Именно Питкарн, по мнению советского исследователя В. С. Кирсанова, выполняя поручение Грегори, скопировал замечания Ньютона для второго издания и подготовил рабочий аннотированный экземпляр для Грегори. Экземпляр книги чудом уцелел и был недавно обнаружен в библиотеке Московского университета, куда он попал из библиотеки Петра.
Грегори оставил в своих дневниках заметки, по которым можно судить о ходе работы Ньютона над книгой. В 1702 году ему уже ясно, что Ньютон намеревается переиздать книгу. Через два года Ньютон вновь подтвердил своё намерение выпустить второе издание и рассказал, что в свободное время исправляет книгу и уже довольно далеко продвинулся. К лету следующего года, как сообщает Грегори, «работа целиком закончена, вплоть до секции VII, книги II». Ньютон считал, что здесь начинается самый трудный кусок работы, — и если раньше самыми трудными были теории движения комет и Луны, то теперь положение меняется — седьмая секция посвящена сопротивлению жидкостей движению тел, и именно она, по-видимому, явилась для него камнем преткновения, хотя и теория комет, и теория Луны оставались по-прежнему не вполне прояснёнными ввиду недостатка астрономических наблюдений. Вот почему книга не вышла ни в 1707 году, как надеялся Грегори, ни в 1708-м. Издание заняло ещё несколько лет, но не потому, что Ньютон не спешил, а в силу совершенно иных причин.
Ньютон, напротив, очень спешил. Откладывать второе издание было уже невозможно. Первое разошлось, и если какие-то экземпляры оставались ещё у книгопродавцев, то их окружал ореол величайшего раритета — торговцы заламывали бешеные цены. Некоторые доходили до того, что требовали за книгу две гинеи. Студенты копировали книгу от руки.
На повторном издании настаивал и Бентли, ставший сейчас мастером Тринити-колледжа. Это могло бы не только материально поддержать университетскую печатню и университет в целом, но и укрепить его — Бентли — пошатнувшийся авторитет. На вопрос о том, почему он разрешил печатать книгу именно Бентли, человеку, мало разбирающемуся в вопросах, изложенных в «Началах», Ньютон простодушно отвечал:
— Бентли любит деньги, пусть подзаработает.
В жадности Бентли сомневаться не приходится, особенно учитывая его перемещения в Тринити, всегда отмеченные поиском наиболее доходных мест. Но у Бентли были и другие основания, менее земные — он пытался встряхнуть Кембридж от векового сна. Внести в обучение новую струю и, в частности, пестовать новую физику — физику Ньютона. Бентли решил реформировать академическую жизнь, установить не иерархию родовитости, а иерархию научных заслуг, придать большую роль изучению естественных наук и для этого построить за свой счёт обсерваторию над главными воротами колледжа. Отвечая на призыв Бентли, Ньютон обещал сконструировать, заказать и приобрести для обсерватории за свой счёт часы с маятником.
Не понимая «Начал» Ньютона, Бентли был тем не менее ярым ньютонианцем. А ньютонианцем он был потому, что увидел в трудах Ньютона научную основу для… опровержения атеизма, гоббсизма, картезианства и всякого прочего ненавистного ему атеистического «вздора».
На исходе 1691 года умер Бойль, мучимый религиозными сомнениями. В Лондоне говорили, что чёрная меланхолия не раз подводила его к самоубийству — не было ли так и на этот раз?
— Демон воспользовался моей меланхолией, наполнил душу ужасом и внушил сомнения в святых истоках, — не раз говорил Бойль перед смертью. Сомнения приводили его к подробнейшему изучению Библии, которую он читал в ранних, «не испорченных ещё» вариантах. Исследования Библии привели к его книгам «Опыт о святом писании» и «Христианский виртуоз» — там разум примирялся с религией. Книга «Обсуждение конечных причин» Бойля — это порицание Декарта и его системы мира, доказательство божественного начала в строении Вселенной.
Когда вскрыли завещание Бойля, обнаружили там и сумму в пятьдесят фунтов, которые Бойль оставлял «теологу или проповоднику», который будет ежегодно читать восемь проповедей «в защиту христианской религии против заведомых безбожников (неверных), а именно — атеистов, деистов, язычников, евреев и магометан… не затрагивая при этом каких-либо спорных между самими христианами вопросов».
Выполнить волю покойного выпало тридцатилетнему Ричарду Бентли,
Тема бойлевских лекций Бентли — «Опровержение атеизма».
— Священные книги, — гремел с кафедры Бентли, — не могут убедить атеистов в их заблуждении. Они у них не пользуются авторитетом… Пусть! Есть другие книги, свидетельство которых они должны будут признать более повелительным и необходимым, именно — мощные тома самой видимой природы и вечные таблицы здорового разума, в которых они, если только намеренно не захотят закрыть глаз, смогут открыть свою собственную глупость. «Математические начала натуральной философии» Ньютона — вот та книга, авторитет которой раздавит атеистов!
Именно к Ньютону обратился Бентли за помощью в опровержении атеизма. Он приводил факты, вычитанные им в «Началах», в частности, что Земля расположена в отношении Солнца очень удачно; если бы она была бы размещена ближе к Солнцу или дальше от него, природные условия не позволили бы развиться на ней жизни. Как не может быть жизни, например, на орбите Меркурия или орбите Сатурна. В этом Бентли видел прямой божественный промысел.
Доказательство бытия божия с помощью натуральной философии!
Ньютон отвечает на письма Бентли уклончиво. Рекомендует литературу, соглашаясь с Бентли, отвечает ему общими фразами, иногда возражает.
«Непостижимо, чтобы неодушевлённая и грубая материя могла бы без какого-либо нематериального посредника действовать на другую материю… если притяжение, как его понимал Эпикур, является главным и неотъемлемым свойством материи. Именно поэтому я и просил Вас не приписывать мне идею прирождённого материи тяготения».
Так или иначе, Бентли решил за свой счёт предпринять второе издание «Начал». Он старался, чтобы издание было ярким, нарядным. Не поленился выписать из Италии особую бумагу. Подобрал и редактора — Роджера Котса, своего молодого последователя. Котс прекрасно знал математику, был замечен Бентли и назначен Плюмиановским профессором астрономии беспрецедентным способом — ещё до того, как получил учёную степень магистра.
Котс был необычайно талантливым человеком, и Ньютон, возможно, увидел в нём свою надежду. Более того, Котс был безнадёжно болен чахоткой, об этом знал, и все действия и стремления его носили особо одухотворённый характер. Он спешил служить богу и Бентли.
Ньютон предполагал разделить работу так — он читает книгу, исправляет ошибки и делает предисловие. Роджер Котс читает корректуру. Бентли следит за печатанием.
В мае 1709 года Бентли сообщил Котсу, что Ньютон хотел бы встретиться с ним в Лондоне и вручить ему часть книги. Котс помчался в Лондон, но книга, оказалось, не была ещё готова. Ньютон обещал подготовить её недели через две. Через месяц Котс не выдержал.
«Сэр, страстное желание, с которым я жажду увидеть новое издание Ваших «Начал», вынуждает меня быть несколько назойливым и с нетерпением ожидать получения Вашего экземпляра, который Вы милостиво мне обещали примерно в середине прошлого месяца. Вы должны были выслать его примерно две недели назад. Надеюсь, Вы извините меня за нетерпение, с которым я не могу совладать…» (Далее он радостно сообщал, что обнаружил неточности в таблице квадратур.)
Ньютон, видимо, не был в восторге от этого открытия — Котсу долго пришлось ждать ответа. Почти через два месяца он получил письмо такого содержания:
11 октября 1709 года
«Благодарю Вас за письмо и исправление двух теорем в трактате о квадратурах. Думаю, Вам не стоит утруждать себя проверкой всех примеров в «Началах». Невозможно напечатать книгу без некоторых погрешностей, и если Вы будете печатать с экземпляра, что Вам послан, исправляя только ошибки, подобные тем, что обычно встречаются при чтении листов, то уже тогда Вы будете иметь больше работы, чем соответствовало бы Вашему заданию».
Ответить на такое письмо Котсу было нелегко. Вместо него ответил Бентли.
20 октября 1709 года
«Вам не стоит стесняться затруднять мистера Котса. Он настолько почитает Вас и настолько Вам обязан, что даже не помышляет о том, что эти заботы могут быть слишком тяжелы; кроме того, он делает это по моему указанию… И потому прошу Вас более не тревожиться об этом. Мы возьмём на себя труд позаботиться о том, чтобы в это прекрасное издание не попала ни малейшая описка в вычислениях».
Пока Котс внимательнейшим образом прорабатывал издание, а Бентли вёл переговоры с типографией, Ньютон наблюдал в Лондоне за изготовлением гравюр. По первой части текста у Котса почти не было замечаний, и он, получив рукопись в октябре 1709 года, сумел сделать так, что к середине апреля следующего года почти половина книги была напечатана. Котс спешил. Болезнь подгоняла его, сжигая лёгкие, лихорадя тело и кровь. Он ревностно выполнял поручения последнего своего земного наставника — Бентли.
В первой книге «Начал» было сравнительно мало отличий от первого издания. В книге стало больше цифр, больше расчётов. Физика всё более отходила от прежнего качественного подхода, всё более уверенно устремлялась к точному, количественному описанию природы.
Бентли в это время приходилось туго. В Тринити его стали называть: «Прощай, мир в Тринити-колледже». Его деспотичное правление, его очевидная для всех жадность сплотили противников, которые подали генеральному инспектору Тринити-колледжа доктору Муру жалобу на него, состоящую из 54 обвинений!
Вот лишь одно из них:
«Почему расточали Вы в течение многих лет хлеб, эль, пиво, уголь, дрова, торф, камыш и древесный уголь, верёвки, оловянную посуду, рожь, пшеничную муку, солонину, отруби колледжа? Почему — после того, как Вы лживыми низкими приёмами, а также угрозами уполномоченным двора вызвать ревизию и т. п., а в иных случаях хвастовством своим великим влиянием и связями, тем, что Вы гений столетия, а также необычайным, которое Вы хотите сделать для колледжа вообще и для каждого его члена в частности, обещанием далее в будущем жить в мире и не выставлять никаких дальнейших требований, заставили членов Совета разрешить для Вашей служебной квартиры несколько сотен фунтов — более того, нежели члены раньше предполагали и соглашались — к чрезвычайному неудовольствию колледжа, к удивлению всего университета и всех, кто об этом слышал, — почему после всего этого Вы в ближайшем же году, приблизительно в то же время, потребовали от них, исключительно для удовлетворения Вашего тщеславия, постройки новой лестницы в Вашей квартире? Почему пользовались Вы бранными словами и оборотами по отношению к некоторым из членов, в частности, когда вы господина Идена назвали ослом, господина Рэшли собакой, а господину Коку заявили, что он умрёт на виселице?»
Дело было не в этом пункте обвинений и не в остальных пятидесяти трёх. Бентли хотели убрать за его поддержку новой физики, за его религиозное свободомыслие. Но свалить Бентли было не так просто. Он имел сильные связи во дворе и в лагере тори. До конца своей жизни — а умер он в 1742 году — он не мытьём, так катаньем оставался в должности мастера Тринити, несмотря на многочисленные судебные и церковные постановления о его увольнении.
Бентли был неоднозначной фигурой — он был умным, образованным и в каком-то смысле смелым и прогрессивным человеком. Его перу принадлежат исследования о предполагаемых письмах Фемистокла, Сократа, Еврипида и баснях Эзопа (Бентли доказал их подложность), блестящие критические эссе по пьесам Аристофана. Но он издавал и Мильтона — пуританина и арианца, оплакивающего падение республики индепендентов, и Ньютона, подменяющего бога природой.
К середине апреля 1710 года Котс дошёл до второй книги, и тут работа застопорилась: Котс столкнулся там с пресловутыми проблемами движения тел в жидкой среде. Многое ему тут было непонятно, и во многом он видел неточности и даже прямые ошибки. Между Ньютоном и им завязалась по этому поводу оживлённая переписка. Ньютон принял многие из серьёзных возражений Котса. Такого не случалось с ним уже много лет. Ньютон был вынужден вновь и вновь, теперь уже с трудом, погружаться в свои старые вычисления и идеи. К концу он взмолился:
15 июня 1711 года
«Не тревожьтесь о проверке всех вычислений в «Поучении»… подобные ошибки не зависят от неправильного способа размышления, не приведут к большим последствиям; они могут быть исправлены самими читателями».
Ньютон, вынужденный из-за возражений Котса всё-таки тряхнуть стариной и засесть за эксперименты, сразу же обнаружил интереснейшее явление — гидродинамическое сжатие струи, сделав крупное открытие в гидродинамике. Как оказалось, именно это явление и вызывало ошибку, смущавшую Котса. Новая теория согласовывалась теперь с тринадцатью другими экспериментами. Издание «Начал» могло продолжаться.
Ньютон и радовался, и негодовал. Он видел, что его, старика, ведёт молодой и талантливый коллега. Он с особым рвением и тщательностью просматривал страницы, уже исправленные Котсом, и, если замечал в них оплошность, ликовал. Он тут же посылал Роджеру язвительные письма, причём отношение Ньютона к Котсу из-за этих ошибок только улучшалось. К сожалению, Котс делал слишком мало ошибок.
Главная работа, впрочем, была ещё впереди, при подготовке к печати третьей части. Именно здесь Ньютоном были поставлены принципиальные вопросы о природе тяготения. Именно здесь содержались формулировки материи, пространства, движения, сил, массы и даже самого метода научного исследования.
Переписывая книгу, Ньютон остаётся верен себе. Он чужд великодушия по отношению к своим старым и новым соперникам. Он начисто исключил благодарственные слова в адрес Флемстида; там, где раньше были цветистые похвалы, темнели теперь зловещие пустоты. Он жёстко обошёлся и с Лейбницем, ещё более умалив его значение в создании исчисления.
Перерабатывая текст, Ньютон помнил о том, что главная претензия его оппонентов — это непонятность закона всемирного тяготения. Идея тяготения была, конечно, совершенно необоснованной. Ньютон просто перешагнул через объяснение тяготения, сделав важнейший и неизбежный методологический шаг, на который никто не решался, но без которого немыслимо было дальнейшее развитие науки. Он ничего не говорил о природе тяготения. Он принял её как данное. Более того, Ньютон старательно избегает вопроса о причинах тяготения, выдвинув лозунг: «Не измышляю гипотез». Это было его гениальной находкой, но и наиболее уязвимой точкой книги, поскольку в научных трудах того времени, прежде чем делать математические выкладки, следовало ясно и точно изложить и доказать исходные принципы, как это делал, например, Декарт. Не делая этого, Ньютон как бы ставил свою физику вне общепринятой физики того времени, вне науки, вне признанного метода, которым руководствовались все крупнейшие учёные того времени. Многим, слишком многим были чужды стиль, метод и доказательные схемы «Начал». Ньютон хотел бы сделать их более доступными, более приемлемыми для научного круга, однако не мог и изменить себе.
Но, может быть, главное, чего боялся Ньютон и при первом издании, и сейчас, — это упрёков в безбожии. Лейбниц прямо говорил о том, что в философии Ньютона бог фактически не нужен. Вот главное, на что обратил внимание Ньютон при исправлении текста третьей книги, — то главное, что должен был понять и осознать Котс.
Котс воспринимал как нечаянную радость предоставляющуюся ему возможность сотворчества с великим человеком. Он строил уже далёкие планы.
26 апреля 1712 года
«Я был рад узнать от доктора Бентли, что у вас есть идея добавить к этой книге небольшой трактат о бесконечных рядах и о методе флюксий. Мне этот замысел очень нравится, но я хотел бы просить Вас разрешить сделать другое предложение. Когда работа над этой книгой окончится, я хотел бы настойчиво просить Вас пересмотреть Вашу «Алгебру» с тем, чтобы улучшить её и добавить туда те вещи, которые уже опубликованы мистером Джонсом и которые есть у Вас… Ваш трактат о кубических уравнениях и кривых третьего порядка должен быть тоже переиздан, поскольку я думаю, что вычисления там не вполне совершенны, и, как я полагаю, должно быть пять типов уравнений… Мне кажется, есть и ещё кое-какие другие детали, упущенные в Вашем трактате».
Свидетельством того, что Котс явно перехватил и сильно переоценивал способность уже пожилого Ньютона вновь окунуться в алгебраические дебри, была краткая записка Ньютона.
23 сентября 1712 года
«…Мне кажется, публика может проглотить это так, как есть сейчас».
Да, Котс позволял себе слишком многое. И отношение к нему Ньютона постепенно менялось.
В книге третьей, теперь преобразившейся, отражены выкристаллизовавшиеся теперь взгляды Ньютона на природу научного исследования. Она открывалась теперь провозглашением философских принципов и новых правил рассуждения в физике. В первом издании было девять «Гипотез». Сейчас они видоизменились. Часть их попала в «Правила умозаключений в физике», часть перешла в «Гипотезы» и «Явления».
Он твёрдо различал теперь эти понятия.
Книгу открывают Regulae philosophandi, или «Правила умозаключений в физике:
Правила, как видим, бьют по схоластической традиции, понуждая везде искать причины. Они направлены против скрытых качеств и сущностей, то есть прямо против того, в чём обвиняли самого Ньютона, приписывая тяготению статус нового «скрытого качества».
Ньютон полагает, что при изучении природы надо от наблюдаемых явлений восходить к установлению причин, коими они объясняются, — вопреки Декарту, предлагающему проницательностью ума вперёд установить первопричины и из них выводить следствия. Ньютон заранее упреждает критику бездоказательности его теорий в силу их несамоочевидности в свете картезианских предпосылок. Это позиция материалистического эмпиризма, в то время естественная и необходимая. Значила ли знаменитая фраза «не измышляю гипотез», впервые введённая во втором издании, отказ Ньютона от теоретических схем? Отнюдь! Он был лишь против необоснованных, фантастических гипотез, не следующих из экспериментов и не поддающихся проверке. Справедливость же гипотез, на самом деле в обилии предлагаемых Ньютоном, с самого начала полагалась подлежащей исследованию.
Тезис «не измышляю гипотез» породил громадную философскую литературу. За него ухватились прежде всего философы — феноменалисты и позитивисты, субъективные идеалисты. Они, видимо, плохо читали самого Ньютона и видели лишь то, что хотели видеть.
Когда третья книга была завершена, Ньютону показалось, что в «Началах» нет конца. Нет логического заключения. Окончательного триумфального аккорда. Последнего взмаха шпагой над поверженным Декартом. Бесспорного подтверждения своей религиозной лояльности. И наконец, не терпелось ему вложить в величественный храм природы, построенный им, последний кирпичик — свои мысли о строении материи.
2 марта 1713 года
«Прилагаю Поучение, которое я обещал послать Вам, чтобы оно было вставлено в конце книги. Я намеревался сказать гораздо больше о притяжении малых тел, но после некоторых размышлений решил прибавить только краткий параграф относительно этой части физики. Это Поучение заканчивает книгу».
В начале «Общего поучения» — несколько слов о Декарте, конечно, без упоминания его имени.
«Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями… Чтобы меньшие вихри вокруг Сатурна, Юпитера и других планет могли сохранять своё обращение и спокойно плавать в вихре Солнца, времена обращения частей солнечного вихря должны быть между собою равны. Вращение Солнца и планет вокруг своих осей, которое должно бы согласоваться с движениями вихрей, совершенно не согласуется с этими пропорциями… Кометы переносятся по весьма эксцентрическим орбитам во всех областях неба, чего быть не может, если только вихрей не уничтожить». Это — Декарту.
«Общее поучение» направлено не только против Декарта, против механического всеобъясненного мира. Оно направлено против «приходящего бога», о котором писал Лейбниц, и против интеллигентного бога Спинозы. Бог Ньютона — бог, трансцендентный миру. Он даже не душа мира, а просто властелин его. Он не пронизывает тела и пространство Вселенной (этим занят эфир), а ощущает и предвосхищает её, все её события. Это бог, лишённый материального субстрата, но наделённый неограниченной властью над природой и людьми. Никаких других свойств и функций у него нет. Это — богу и тем, кто обвинит его в атеизме.
Все пассажи Ньютона о боге хорошо продуманы. Тонкость заключалась в том, что в «Началах» он вновь вернулся к проблеме пространства, казалось бы, уже закрытой Декартом. Пространство Декарта наполняли эфирные вихри, не оставляющие места для подозрительной пустоты. У Декарта бог лишался вместилища, ему буквально не оставалось места в природе. Признание науки и её законов, Декартово объяснение природы пространства, учение о пространстве — бывшей пустоте, как физическом теле, было поддержано протестантской религией, не признававшей так называемого «догмата транссубстанции». Поступавшие на государственную службу должны были даже давать подписку против транссубстанции, приверженность к которой оценивалась как кровавое преступление и каралось сожжением. За это сгорел на костре лондонский подмастерье Гюнтер. Понятие пустоты как физическое понятие стало сопрягаться с проблемой вместилища старого, католического бога.
И Ньютон угодил как раз в эпицентр этой борьбы! Освобождаясь от вихрей Декарта, он опять признавал пустоту, чем внушал сильное подозрение протестантов. Старый католический бог опять получал для себя вместилище!
Научный спор перерастал в гораздо более опасный спор религиозный. Возможно, не случайно Королевское общество отказалось от издания «Начал». За печатание был только президент Сэмюэль Пепис, знаменитый английский мемуарист, секретарь будущего Якова II и, стало быть, католик. Он был судим за совращение в католичество своей жены, заточался в Тауэр по подозрению в участии в якобитском заговоре. Некоторые считают даже, что он тайно помогал деньгами при печатании «Начал».
Хотя Ньютон в своей философии, по существу, не слишком далеко отходил от принципов Декарта, он не мог не вводить пустоты, хотя бы и формально, и вследствие этого автоматически попадал под подозрение протестантского большинства, составлявшего Королевское общество. В своём «Общем поучении» Ньютон весьма остроумно избежал ответа на вопрос о форме бога и о его сущности.
Сразу вслед за рассуждениями о боге следует заявление Ньютона о том, что раньше он объяснял небесные явления с помощью силы притяжения, но не смог показать причины этой силы. Подобное заявление звучит очень странно, если учесть предыдущие абзацы: казалось бы, введением бога все вопросы сняты. Но Ньютона это не удовлетворяет. Да, он не сыскал до сих пор причины тяготения, не смог доказать, почему сила тяжести пропорциональна количеству материи, почему сила тяготения проникает до центра всех тел без снижения, почему она падает именно в зависимости от квадрата расстояния.
«До сих пор я изъяснял небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения… Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю. Всё же, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою, гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойствам не место в экспериментальной философии».
…В самые последние дни, когда, казалось, уже ничто не может помешать печатанию книги до конца, Ньютон решил поместить в «Общее поучение» дополнительные четверть листа «Приложения». Ньютон хотел изложить свои взгляды на различие между тяготением и электрическими и магнитными притяжениями. Ведь тяготение, например, всегда пропорционально количеству материи, в то время как электрические и магнитные силы совсем не зависят от количества материи, они зависят от чего-то другого. Другое различие: силы тяжести действуют на очень больших расстояниях, а электрические и магнитные силы, известные Ньютону, — на расстояниях малых. Ньютон, размышляя о различной их природе, приходит к выводу об «электрическом духе» (спиритусе), который прячется в порах тела, том духе, посредством которого производится взаимодействие света с телами. Этот дух вполне материален, его можно возбудить трением. Этот дух очень тонок, всепроникающ, трудноуловим. Он легко проникает в массивные твёрдые тела и, как записал Ньютон в своём черновике, «крайне активен и излучает свет». (Эту фразу он оставить в книге побоялся.)
Размышления Ньютона — явное следствие экспериментов Гауксби и длинных бесед, которые с ним он вёл. Тридцать лет назад Ньютон в своих «Гипотезах» лишь слегка коснулся вопросов электричества. Теперь же яркие и необыкновенные опыты Гауксби снова разбудили его интерес. Свечение стеклянного вакуумированного шара, заряженного статическим электричеством, явно наводило на мысли о связи света и электричества. На связь света и электрических явлений наводили Ньютона также эксперименты Уолла, который показывал всевозможные оптические явления на специальном заседании Королевского общества, проведённом в романтической обстановке полной темноты.
Невозможность количественного измерения, столь характерного для «Начал», в конце концов вынудила Ньютона отказаться от введения эфира. Это предложение было более естественно реализовано в «Оптике». А вместо длинного параграфа, посвящённого эфиру, он поместил в «Общем поучении» смутную ссылку на тончайший дух (спиритус), который проникает повсюду и наполняет все твёрдые тела.
Именно этот дух спиритус отвечает за близкодейственные силы, действующие при малых расстояниях между частичками материи. Он отвечает и за электрическое притяжение пылинок к натёртому янтарю, и за притяжение железа к магниту; он нагревает тела, объясняет излучение, отражение, преломление, дифракцию света. Более того, вибрация этого духа, действуя на нервные окончания, даёт человеку его ощущения. И — если уж идти до конца — этот самый дух, проходя от мозга через нервную сеть до мускулов человека, приводит в движение мускулы. Этим заканчивается «Общее поучение» и вместе с ним «Математические начала натуральной философии».
Книга была напечатана к марту 1713 года, оставалось её переплести. В этот момент Ньютон решил, что ей неплохо бы было предпослать предисловие. Писать его самому у него уже не было сил, и он намекнул Бентли о Котсе.
Но Котс не мог приступить к работе! Оказалось, талантливый математик и молодой коллега совершенно не понимал и не принимал такой простой вещи, как закон равенства действия противодействию! Он не был с ним согласен! Он не был уверен в его универсальной справедливости! Котс считал, что если Солнце притягивает Землю, а Земля — Луну, то это вовсе не означает, что Солнце притягивается Луной и Землёй. Причём Роджер Котс даже предложил Ньютону написать специальный параграф, в котором бы разъяснялось это обстоятельство. Если же Ньютон не согласился бы на такой параграф, Котс предлагал ему сделать сноску о несправедливости закона равенства действия противодействию в списке опечаток. И это не было просто непониманием. Это было религиозной позицией.
«Я встречаю затруднение в первом следствии 5-го предложения. Предположим, что у нас имеются два шара А и В, помещённые на столе на известном расстоянии друг от друга, и что в то время, когда шар А остаётся в покое, шар В приводится в движение Невидимой Рукой (так и написано. —
Идея Котса довольно прозрачна. Если движением планет управляет «имматериальный живой дух», Невидимая Рука (не случайно эти слова начаты с прописных букв), взаимность притяжения исключается и третий закон Ньютона неверен. Теология вступала в противоречие с физикой. Исходя из этого, Котс отказался писать предисловие.
Ньютон даже развеселился. Ему ничего не стоило, конечно, убедить своего молодого ученика в ошибках. Он показал ему на цифрах, как сильно Луна влияет на Землю. И Котс согласился. Или сделал вид, что согласился.
Но Ньютон теперь отказывался читать предисловие Котса!
«…Если Вы напишете какое-либо предисловие… я не должен его видеть, так как думаю, что меня потребуют за него к ответу…»
В предисловии Котса предаются анафеме и вечному забвению и декартовские вихри, и лейбницевские монады. Оно совершенно не напоминает стиль писаний Ньютона. Это бурное аллегро перед спокойным анданте ньютоновского Opus Magnum. Оно гораздо более романтично, одухотворённо и страстно, чем научные труды Ньютона, отличающиеся обстоятельностью и строгостью. Котс горячо, гораздо горячее, чем следует, защищает Ньютона от обвинений в атеизме. Разъясняя позицию Ньютона или, точнее, то, что он считает нужным принять за позицию Ньютона, Котс не боится сильных выражений:
«…Превосходнейшее сочинение Ньютона представляет вернейшую защиту против нападок безбожников, и нигде не найти лучшего оружия против этой нечестивой шайки, как в этом колчане». Да, отнюдь не случайно Ньютон отказался читать предисловие Котса! Он хотел быть защищённым и в то же время не хотел бы подписываться под тем, что скажет Котс — а что он скажет, Ньютон себе представлял. И всё же Ньютон в конце концов прочёл предисловие — и остался очень недоволен им. Он полагал, что Котс всё сделает тоньше.
Ньютон был недоволен и самим Котсом, его поведением, его непониманием очевидных вещей. Ньютон порыскал в столе и нашёл подготовленный уже к отправке в типографию черновик своего авторского предисловия ко второму изданию, где было восхваление «ученейшего господина Роджера Котса, его помощника, исправившего ошибки и посоветовавшего ему пересмотреть некоторые пункты». Ньютон вымарал все эти лишние слова и полностью изгнал Котса из истории. Осталась лишь одна весьма постная фраза упоминания о Котсе в одном из незначительных параграфов массивного труда.
Недовольный Котсом, Ньютон никак не вознаградил его за труды, ничего не заплатил ему и не поблагодарил ни устно, ни письменно. Котс, естественно, обиделся. Уязвлённый, он послал Ньютону длинное письмо о том, что Ньютон должен наконец отдать слишком долго задержавшиеся у него — с 1708 года — часы, заказанные им некогда для новой обсерватории в Тринити (через неделю часы были отправлены).
Ньютон тоже обиделся и не помог Котсу, когда тот мог получить хорошее место директора школы в Чартер-хаус. Когда Котс скоропостижно умер в июне 1716 года в возрасте 33 лет, Ньютон отозвался о нём очень высоко: «Если бы он жил, мы бы могли узнать ещё что-нибудь». Но он не ударил и пальцем о палец, чтобы помочь издать посмертное издание трудов Котса, хотя имел для этого большие возможности.
Второе издание было окончено печатью и переплетено 18 июня 1713 года. В конце июня о выходе книги узнал и Ньютон.
30 июня 1713 года
«Наконец-то Ваша книга счастливо рождена, и я вновь благодарю Вас за то, что Вы предоставили мне честь быть её проводником по всему миру».
Тираж книги составил семьсот экземпляров. Ньютону было бесплатно предоставлено шесть. Для Ньютона это было весьма удобно, поскольку он оправдывался малым количеством полученных им экземпляров, чтобы, например, не послать книгу Иоганну Бернулли.
Составленный Ньютоном рекомендательный список адресов для рассылки «Начал» содержал около 70 лиц и учреждений. Первыми в этом списке обозначены: «6 — царю для него самого и для главных библиотек Московии». Экземпляр, переплетённый в телячью кожу и тиснённый золотом, Ньютон преподнёс королеве. Три экземпляра ушли во Францию.
Книга оказалась довольно сложной. Читать её могли немногие. Вольтер писал: «В Лондоне мало кто читает Декарта, чьи работы стали бесполезны, но немногие читают и Ньютона, поскольку, чтобы понять его, нужно быть весьма учёным человеком». Но, несмотря на сложность книги, выпущенных экземпляров оказалось явно недостаточно, и уже в 1714 году в Амстердаме появилась первая перепечатка второго издания, а в 1723 году — вторая.
Теперь, когда его основные враги умерли, важные дела сделаны, болезни ещё не мучили, а слава — тепло грела, он стал гораздо менее раздражительным и угрюмым; напротив, он стал приветливым, словоохотливым, с ним стало приятно беседовать. Исчезла диковатость и постоянная озабоченность юности, колючее самолюбие зрелого возраста. К нему стекались ученики и посетители, встречавшие самый радушный приём.
Его обязанности были необременительны. Два раза в неделю он ездил на Монетный двор, раз в неделю — в Королевское общество. В другие места, города и страны он не стремился; излишне говорить, что он никогда не был за границей. Самым далёким его путешествием была поездка к Кейллу в Оксфорд, куда он впервые попал в возрасте 78 лет. В конце жизни былые споры с Флемстидом и Лейбницем мало занимали его, и он иногда с теплотой вспоминал, как они с Флемстидом когда-то играли по утрам в трик-трак.
Из дома он выходил всё реже. Собрания Общества становились всё более эпизодическими, да и те понемногу стали отдавать скукой. И частота, и научный уровень собраний медленно, но верно тянулись к нулевой отметке. Прекратились демонстрации физических опытов. Ссылаясь на малое жалованье, ушёл с должности демонстратора Дезагюйе. Однажды Стэкли прочёл полученное откуда-то сообщение о том, что у женщины 66 лет взамен выпавших зубов выросли новые. Ньютон тут же вспомнил подобный же случай, происшедший в Кембридже, и долго, с подробностями рассказывал его. Одно из заседаний он посвятил, рассказывая Обществу о собаке, имевшей на глазу катаракту, другое — рассуждениям о том, почему свежая колодезная вода негодна для поливки овощей. На третьем долго размышлял о том, что некоторые частицы воздуха являются необходимым условием работы сердца. Доказывая это, он приводил данные о проведённых им вивисекциях собак. Он поведал также о примечательном эксперименте, произведённом им когда-то в кухне Тринити-колледжа, забыв, что рассказывал об этом увлекательном эксперименте раньше, и не раз.
Видно было, что Ньютон сдаёт. Он всё реже и реже вскидывался и начинал горячо спорить, а если уж говорил о чём-нибудь, то чаще всего — о своих кембриджских годах и экспериментах. О Вулсторпе и Грэнтэме он вспоминал редко.
В Минте снижение активности Ньютона сказывалось меньше — помогала жёсткость и неповоротливость бюрократической машины, которая им там была налажена. Ньютон держал Минт в руках до самых последних дней, хотя поговаривали, что начиная с 1725 года он вряд ли хотя бы раз побывал в Минте.
В последние годы жизни за Ньютоном стала замечаться склонность к некоторой сентиментальности. Кондуитт вспоминал: «Печальные истории часто вызывали у него слёзы; его крайне шокировали всяческие акты жестокости к людям или животным. Сострадание к ним было одной из любимых тем его разговоров, так же как проблемы доброты и человечности. Свои нередкие слёзы он оправдывал просто: «Господь не зря снабдил человека слёзными железами».
В свои последние годы он много времени проводил с Китти, своей внучатой племянницей, играл с ней в своём кабинете. Китти через полвека вспоминала о Ньютоне как о приветливом старичке, читавшем без очков написанное даже самыми маленькими буковками и любившем детскую компанию.
В поисках родного тепла он вновь и вновь возвращался в Грэнтэм, к местам своего рождения и детства. Говорят, попадая на деревенские пиры, он незаметно садился сбоку и сидел в одиночестве до тех пор, пока его не узнавали. Он не упускал случая посетить свадьбу любого, даже самого дальнего своего родственника. Там он освобождался от дум, был свободен, приятен, ничем не скован.
1722 год — год «первого звонка». Началось с подагры, впервые давшей Ньютону знать о себе в его весьма зрелом возрасте.
— Признак долгой жизни, — говорили и при Ньютоне, и за глаза его домочадцы, знакомые и врачи: позднее наступление подагры считалось тогда добрым предзнаменованием, намёком на долголетие. Но подагра была лишь началом. С неё начались остальные старческие неприятности — с лёгкими, с мочевым пузырём, да мало ли с чем!
Именно в тот год он решил подготовить новое издание «Начал». Вообще в последнее время он, наученный горьким опытом, стал более ревностно относиться к своим публикациям. В 1708 году Монтегю выпустил свои «Лекции», содержащие старые лукасианские лекции Ньютона. В 1707 году вышел сборник математических работ Ньютона под названием «Универсальная арифметика».
Год 1720-й ознаменован выходом английского перевода «Универсальной арифметики» — его выпустил Рафсон, через два года вышло второе латинское издание, за печатанием которого следил молодой математик Мэчин. Ньютон просил его написать и предисловие к книге, но тот в течение трёх лет так и не выполнил своего обещания, после чего Ньютон сделал вывод о том, что он, видимо, плоховато знает алгебру.
Нельзя было далее медлить с новым изданием «Начал». Уже и второе издание стало редкостью. Континентальные философы настояли на его перепечатке в Амстердаме — между вторым и третьим латинскими изданиями в Англии вышло два латинских издания на континенте. Ньютон уже много лет исподволь делал на тексте второго издания свои пометки. По его просьбе производят новые эксперименты, наблюдения и расчёты. В 1719 году Дезагюйе по настоянию Ньютона уточнил в соборе святого Павла эксперименты Галилея; он сравнивал скорость падения свинцовых шаров пяти дюймов в диаметре с падением лёгких полых сфер того же размера из бычьих пузырей.
Ньютон чувствовал, что при подготовке третьего издания ему уже никак не обойтись без помощника. И тут судьба снова послала ему того, кто был необходим именно сейчас, — Генри Пембертона, молодого медика, ездившего за наукой в Голландию, в Лейден, к Бургаве. Ещё там, в «Нижних землях», Пембертон довольно легко вник в содержание «Начал», затем разобрался в исчислении и квадратурах.
Пембертон был прекрасным математиком. Он был одним из тех, кто решил, хотя и не полностью, лейбницевскую задачу — вызов английскому флагу и Ньютону лично.
Пембертон не терял ни одной возможности посрамить врагов своего кумира — Ньютона. Особенно ему удались опровержения опровержений Ньютона со стороны профессора Полени из Падуи. Полени изготовил «орех» — деревянный шар со свинцовым ядром с удельным весом, равным удельному весу воды. Бросив «орех» в реку, Полени наблюдал его отставание от течения реки, что, по его мнению, полностью опровергало тезис Ньютона об одинаковой скорости вихря и планеты. Пембертон написал весьма остроумное эссе — доказательство неправоты Полени. «Великого сэра Исаака Ньютона» можно было встретить в эссе буквально на каждой странице.
Доктор Ричард Мид тут же показал рукопись «великому сэру Исааку Ньютону». Ньютон не смог остаться равнодушным к появлению ещё одного активного последователя, пригласил Пембертона к себе и позволил опубликовать опровержение в «Философских трудах».
В другой раз Пембертон показал ему рукопись своей книги «Взгляд на философию сэра Исаака Ньютона» с популярным изложением ньютоновских идей, но Ньютон не стал её читать, только перелистал. Пембертон поразился — он обнаружил у Ньютона неожиданное равнодушие к тому, как он выглядит в глазах других людей. (Когда Пембертон ушёл, Ньютон приказал, чтобы, когда книга выйдет, ему тайно купили бы двадцать экземпляров.)
Постепенно Ньютон приблизил Пембертона к себе и предложил ему редактировать третье издание «Начал».
Пембертон так писал об этих славных временах: «Хотя память его сильно угасла, я видел, что он в совершенстве понимает свои собственные писания, в противоположность тому, что я частенько слышал в разговорах о нём от многих других. Это их мнение, возможно, возникало из-за нежелания говорить о том, о чём, казалось бы, он должен был бы говорить с удовольствием… Коснусь я только того, что сам узнал за те немногие лета, в течение которых он осчастливил меня своей дружбой. И вот что я сразу
Жаль, Котс не дожил до этих славных времён! До золотого века!
Корректура нового издания «Начал» была передана в типографию в конце 1723 года. Вышла книга в феврале 1726 года. Всё это время между Пембертоном и Ньютоном порхали листки тёплых писем. Письма Пембертона сохранились, поскольку они находились в аккуратном архиве Ньютона. Письма же Ньютона были Пембертоном утеряны.
Роль Пембертона резко отличается от роли Котса. Котс, несомненно, был гораздо талантливей. Он оставил в издании заметный личный след. Пембертон же, молясь на Ньютона, заботился в основном о стиле. Да и сам Ньютон, наверное, не смог бы принять сейчас вызова нового Котса.
Не стал Ньютон отвечать и на поступившие через Джеймса Стирлинга возражения Бернулли по поводу маятников, качающихся в сопротивляющихся средах. О кое-каких ошибках в ньютоновских выводах прецессии намекал Брук Тейлор — это также осталось незамеченным. Молине, Грэм и Брэдли, наблюдая звёздный параллакс, случайно открыли прецессию земной оси. Они страшно перепугались, полагая, что это подрывает всю ньютоновскую систему. Молине чрезвычайно осторожно, с большим тактом сообщил эту страшную весть Ньютону и был весьма удивлён, когда Ньютон совершенно спокойно, даже равнодушно ему ответил:
— Невозможно спорить с фактами и экспериментами.
Сравнение второго и третьего изданий показывает, что Opus Magnum не подвергся слишком серьёзным изменениям. В нём есть исправления чисто личного характера. Выпущен, например, параграф «Поучения», который был посвящён признанию независимого открытия исчисления Лейбницем. Включены результаты Дезагюйе, новые наблюдения Юпитера, сделанные Джеймсом Паундом с помощью телескопа, который Ньютон помог ему построить. Комета 1680–1681 годов, теперь уже в соответствии с вычислениями Галлея, имела эллиптическую, а не параболическую орбиту и период обращения 575 лет.
Доказывая это, Ньютон собрал множество наблюдений и положений кометы и формы и величины её хвоста.
Ньютон не жалеет места для описания наблюдений комет, даже самых сомнительных. Сюда попали даже любительские, неточные наблюдения некоего Артура Сторера, заброшенного судьбой за океан в «Мериленд, в пределах Виргинии». Самый страшный враг школьника Исаака Ньютона, ненавистный Артур Сторер обрёл бессмертие на страницах одной из знаменитейших книг мира из-за того, что её автор был человеком, преданным системе — он непременно хотел собрать
В третьем издании приведены вычисления орбит комет, сделанные Галлеем. Тот собрал коллекцию комет, наблюдавшихся в разные времена, и составил список из 24 комет, пугавших народы между 1337 и 1698 годами. В их число вошла и комета, которая позже была справедливо названа его именем, появлявшаяся на небе в 1531, 1607 и 1682 годах.
Галлей в кругу философов-друзей восклицал:
— Если эта комета вновь появится на небе в 1757 году, мир не забудет того, что это предсказано англичанином!
Предсказание Галлея сбылось. Жаль, что, говоря об «англичанине», Галлей имел в виду только себя, хотя его расчёты были проведены по Ньютону, и возвращение этой кометы почти точно «по графику» стало первым экспериментальным подтверждением ньютоновской теории тяготения, ньютоновской системы мира.
Ньютон не только правильно определил орбиты комет, но и высказал свою точку зрения на их природу. Тело кометы, по его мнению, должно быть твёрдым — иначе комета 1680 года, находясь в перигелии, рассеялась бы от солнечных лучей. Хвосты комет — по его мнению — «не что иное, как тончайший пар, испускаемый головой или ядром кометы вследствие его теплоты».
Один из многочисленных перлов «кометной части» — определение времени, в течение которого пар от головы кометы восходит к её хвосту: «Я нашёл, — пишет Ньютон, — что пар, бывший в конце хвоста 25 января, начал подниматься от головы 11 декабря».
Далее он пишет:
«Поднятие хвостов из атмосфер голов и их распространение в сторону, противоположную Солнцу, Кеплер приписывает действию лучей Солнца, захватывающих с собой вещество хвостов. Что нежнейшие испарения в свободных пространствах уступают действию лучей, не противоречит здравому смыслу, несмотря на то, что в наших областях грубые вещества не воспринимают заметных движений от действия лучей Солнца». Из кометных хвостов происходит, по мнению Ньютона, газ, который составляет меньшую, но тончайшую и лучшую часть нашего воздуха и который требуется для поддержания жизни во всём живущем.
Готовя третье издание, Ньютон много размышлял о структуре материи, о введённом им во втором издании «некотором спиритусе», «духе», проникающем в поры тел и ответственном за многие физические явления. Природа этого духа была ему неясна. Эксперименты Гауксби определённо подталкивали его к приданию ему каких-то электрических свойств. На полях своего экземпляра второго издания Ньютон записывает фразу об «электрическом духе». Она же появляется в одном из черновиков «Общего поучения». Ньютон размышляет об «электрическом и упругом духе», своего рода «медиуме-посреднике», заполняющем, возможно, и тела, и пространство. Это — его эфир. Эфир, соответствующий своему лёгкому названию. Это уже не плотный механический эфир Декарта. Это тонкий, разрыхлённый, всепроникающий посредник. Планеты двигаются в нём свободно, не встречая сопротивления. Ответствен ли эфир за тяготение? На этот вопрос Ньютон не отвечает. Он опять прекращает — и именно на этом месте — изобретать гипотезы. Но в «Общем поучении» относительно тяготения добавлено несколько строк: «Однако я отнюдь не утверждаю, что тяготение существенно для тел. Под врождённой силой я разумею единственно только силу инерции. Она неизменна. Тяжесть же при удалении от Земли уменьшается».
Третье издание продвигалось медленно, но верно. Пембертон, чувствуя, что для него наступал великий час вступить в историю, всячески старался, чтобы его имя было увековечено в этом труде. Ньютон, однако, несмотря на спокойное и рассеянное выражение его лица, зорко подмечал честолюбивые амбиции и столь же спокойно и как бы в рассеянности препятствовал им. Когда Пембертон и Джон Мэчин предложили разные варианты расчёта пересечения лунной и земной орбит, он выбрал вариант Мэчина, поскольку вообще считал его более глубоко понимающим суть «Начал». Однако он избрал Пембертона, потому что считал, что Мэчин недостаточно хорошо проявил себя в «Универсальной арифметике».
Зорко углядел Ньютон и уловку Пембертона, когда тот пытался в своих исправлениях книги добавить сноску о том, что эта задача «легче решается с помощью уравнения Пембертона». Ньютон выкинул эту вставку без объяснений.
Самый критический момент в судьбе третьего издания наступил в феврале 1725 года. Ещё в прошлом году, перед рождеством, Ньютон просил Галлея вычислить орбиту кометы 1680–1681 года, при условии, что она — параболическая, как это следовало из ранее представленных Галлеем данных.
16 февраля 1725 года
«Достопочтенный сэр, ошибка, которую я совершил, рассматривая схему Ваших кометных орбит (я — ни больше ни меньше — принял, что Солнце движется в обратном направлении), заставляет меня сделать следующее заключение: только эллиптическая орбита может с желаемой точностью удовлетворительно соответствовать первым наблюдениям. Вы в это время выехали из города, и я ожидал Вашего возвращения, с тем чтобы посоветоваться с Вами. Вчера, будучи в Лондоне, я по некоторым признакам понял, что Вы негодуете по поводу того, что я не отправил Вам вычислений, которые я для Вас предпринял. Но, к сожалению, названная ошибка заставила меня усомниться в том, что я смогу порадовать Вас. Вчера вечером я был поражён, обнаружив, что способен на такую невероятную ошибку, за которую, я надеюсь, Вам легче будет извинить меня, чем для меня — простить себя самого и из-за которой я взял на себя риск оказаться столь необязательным по отношению к тому лицу во всей Вселенной, которого я более всех уважаю. Я прошу Вас о том, чтобы Вы и не думали о других руках для этих вычислений и чтобы Вы милостиво позволили бы мне до конца этой недели завершить их. Желающий, почтеннейший сэр, получить Ваше одобрение во всех этих делах, Ваш самый верный слуга
Эдм. Галлей».
Поразительно! Это подобострастнейшее письмо написано великим Галлеем, славным астрономом, чьим именем названа комета, крупнейшим учёным, человеком почти семидесяти лет. Он так и не получил ответа на своё послание. Единственное, что было сделано, — из таблиц выкинуто сомнительное место.
Страдания Пембертона меж тем продолжались. В январе 1726 года он случайно увидел черновик ньютоновского предисловия, в котором не было и намёка на его имя. Он решил прямо напомнить старику о себе, но тот, обезоруживающе улыбаясь, сказал:
— Я просто забыл.
И тут же, при нём размашисто вписал в предисловие слова благодарности «Генри Пембертону, доктору медицины, опытному в этих делах человеку». Пембертон потом рассказывал друзьям, что эта фраза была для него более ценной, чем двести фунтов, которыми Ньютон наградил его при издании.
Книга выходила с необычайной для трудов подобного рода помпезностью. На фронтисписе был изображён сам Ньютон (гравюра с известного портрета Вандербанка). Впервые защищены были авторские права издания. Королевской привилегией Вильям и Джон Иннисы получали права единственных издателей книги на ближайшие четырнадцать лет, начиная с 25 марта 1726 года.
Ньютон любовно поглаживал корешки пятидесяти сделанных специально для него подарочных экземпляров. Они были напечатаны на самой лучшей и самой тонкой бумаге. Некоторые были переплетены в сафьяновые переплёты. Один из них предназначен королю, другой — Королевскому обществу. Шесть копий должны были пойти в Парижскую академию, один — преданному помощнику в Монетном дворе — Джону Френсису Факиру. Общий тираж издания составил теперь 1250 экземпляров.
Теперь он мог полностью сосредоточиться на Библии. В конце жизни он решил наконец поведать миру о главном откровении господнем, сошедшем на него, — о своих доселе тайных представлениях о религии и Христе, о невозможности троицы. Теперь он редко расставался с Библией. Большинство посещавших его отмечали, что он постоянно заглядывает в неё, читает и отчёркивает написанное жёлтым своим старческим ногтем.
Чувствуя, что конец близок, он старался привести в порядок свои дела. В Королевском обществе он оставил заместителем, вице-президентом, Мартина Фоулкса. Его стал подстраховывать и Кондуитт. Другой его заместитель, знаменитый финансист Факир, тоже оказывал ему большую помощь до самой своей смерти — он умер от водянки в 1726 году.
— А ведь он был куда моложе меня! — удивлялся Ньютон, уверенно противостоящий потоку времени.
…Есть исследователи, которые считают, что существует одно яркое свидетельство спада умственных способностей Ньютона в старости. Это, считают они, его участие в самой крупной финансовой афёре, когда-либо сотрясавшей молодое буржуазное государство. Вначале «Компания Южных морей» занималась торговлей с Вест-Индией. Специальным королевским актом ей было предоставлено право монопольной торговли на Тихом океане и вдоль восточного берега Южной Америки. Обладала она и монополией работорговли. В благодарность компания погасила 10 миллионов национального английского долга, который правительство теперь должно было выплачивать из расчёта 6 процентов так называемых «годовых». Позже компания дала взаймы государству ещё 5 миллионов фунтов из расчёта 5 процентов, опять-таки выплачиваемых правительством в виде годовых. Таким образом, «годовые» акции компании были обеспечены правительством. Компания была богата и пользовалась всеобщим уважением. Особенно большие доходы давала работорговля. Акции всё время подскакивали в цене. Как-то лорд Раднер спросил у Ньютона, почему цены на акции так быстро растут. Ответ был характерен:
— Я не могу измерить степени безумства людей.
И всё-таки: он держал акции этой компании. Одно время ничто, казалось, не предвещало быстрого краха — того, что было впоследствии названо «пузырями Южных морей». Согласно Кетрин, когда «пузырь» лопнул, Ньютон потерял 20 тысяч фунтов. На самом деле оказалось, что Ньютон в этой истории не был ни ослеплён страстью биржевого игрока, ни обманут подобно неопытному простаку, не проявил он и старческого слабоумия. К тому моменту «Компания Южных морей» разбогатела до того, что предложила погасить весь национальный долг страны в размере 57 миллионов фунтов при условии, что правительство будет ежегодно выплачивать компании 800 тысяч годовых. Предложение было принято после бурной перепалки в парламенте. 13 апреля 1720 года компания, акции которой стоили уже по 300 фунтов, открыла подписку на ещё два миллиона акций, объявив, что ожидаемая прибыль будет не менее 10 процентов. Компания обольщала неопытную в финансовых делах публику сказками о серебре и злате, которые ждут горнодобытчиков в Южной Америке. Эти заверения вызвали небывало активную игру на бирже. Акции подскочили до 1000 фунтов за каждую. Некоторые ловкачи сумели именно в этот момент спустить все свои акции. Факир, финансовый советник Ньютона, опытный банкир, советовал ему продать всё. Если бы Ньютон последовал этому совету, он выиграл бы 20 тысяч. Но он так не поступил, считая подобную спекуляцию сумасшествием, в котором неприлично принимать участие и с которого неприлично снимать сливки. Таким образом, заявление Кетрин о том, что Ньютон проиграл 20 тысяч фунтов в игре на бирже, скорее соответствует тому, что он
Правление Королевского общества в те годы предложило написать за казённые деньги его официальный портрет, и Ньютон согласился. Он, как бы предчувствуя свою скорую смерть, настоял, чтобы портрет отражал его обращенность к грядущему. На портрете — спокойный и величественный гений. Его ум занят мировыми проблемами. Он добрый христианин, он деятель просвещения, он учёный. Он сильный, властный человек, управляющий не только отдельными людьми, но и крупными организациями — Королевским обществом и Монетным двором.
Теперь, на закате жизни, он был знаменит, его знали все.
— Я стал лондонской достопримечательностью, чем-то вроде собора святого Павла, — жаловался он, не в силах, однако, скрыть глубокого удовлетворения своей прижизненной славой, с которой могла сравниться лишь слава королей и полководцев.
Его желали видеть. Жаждали беседовать с ним. Чуть не в очередь выстраивались и посланец папы, монсеньор Бранкини, и граф Марсили из Франции, и француз же маркиз Лопиталь, известный математик, наконец — целая делегация французов, прибывших во главе с Монмором для наблюдения солнечного затмения, — он никому не отказывал. Многие посетившие Ньютона принимали выработавшуюся у него в последние годы светскую учтивость за признак сразу же установившейся дружбы и потом истязали его своими письмами и просьбами.
Его многочисленные посетители, соотечественники и иностранцы, оставили о нём — старике — кипы воспоминаний, из которых можно соткать совсем разные образы. Обожатель и родственник Джон Кондуитт так описывает Ньютона в последние его годы:
«В его действиях и внешних выражениях проявляли себя врождённая скромность и простота. Вся его жизнь была неразрывной цепью труда, терпения, добродеяния, щедрости, умеренности, набожности, благочестия, великодушия и других достоинств, без наличия чего-нибудь противоположного. Он был награждён от рождения очень здоровой и сильной конституцией, был среднего роста (вначале было написано «маленького роста», потом исправлено. —
А вот Френсис Эттербери — епископ Рочестера, знавший Ньютона в течение последних двадцати лет, считал, оспаривая мнение Кондуитта, что в лице и одежде Ньютона не было и намёка на ту значительность и проницательность, которую можно обнаружить в его произведениях; во взгляде и манерах Ньютона, по его мнению, было что-то апатичное, вялое, не рождавшее больших ожиданий у тех, кто хорошо его не знал.
Разноречие с описанием Кондуитта, хотя и другого рода, можно обнаружить и в объективных свидетельствах о внешности Ньютона — в его портретах, которых при его жизни было сделано великое множество.
Словесное описание Кондуитта резко расходится, например, с живописными портретами Ньютона, написанными Вандербанком в 1725 и 1726 годах, изображающими властного и решительного человека.
Всмотримся в портрет 1725 года. На нём изображён старый человек в парадном одеянии. Он без парика, волосы его снежной белизны, без малейших признаков лысины. Заметны массивные челюсти, двойной тяжёлый и выступающий подбородок, густые брови. Бархатный кафтан с широкими обшлагами, белоснежные манжеты, белый шёлковый платок. Поза величественная, почти царственная. Вместо кресла угадывается трон. На другом портрете, сделанном через год, Ньютон изображён на том же кресле-троне. На стене — там, где раньше была величественная колонна, теперь видно изображение змеи, пожирающей свой хвост — символ мудрости и завершения круговорота жизни. Свободно ниспадают тяжёлые академические одежды. В руках Ньютон держит книгу. Появляется парик. Хотя взгляд по-прежнему властен, в выражении лица появились какая-то неуловимая тревога и раздумье, покорность судьбе. Третий портрет Вандербанка, сделанный в то же время для мастера и членов Тринити-колледжа в Кембридже, ещё более усиливает впечатление. Здесь на чело Ньютона — страдание и печаль. Лицо одутловатое, помятое. Видно, что человек болен.
На фоне его обычно безоблачно хорошего здоровья Ньютон болезненно воспринял впервые случившиеся у него в возрасте восьмидесяти лет неприятности с мочевым пузырём. Он серьёзно заболел, и дух его сник. И это не было уже его обычной ипохондрией.
Он пригласил известного лондонского врача и члена Королевского общества доктора Ричарда Мида, пожаловался ему на недержание мочи и жестокие приступы боли; Мид, тщательно обследовав его, установил, что это происходит из-за камней в пузыре. Рекомендации доктора были просты: не пользоваться экипажем, ограничить круг знакомых, строго соблюдать диету. Поменьше мяса, ограничиться бульоном. Внимание овощам и фруктам. И больше свежего воздуха!
Такого же мнения придерживался другой пользовавший Ньютона крупнейший лондонский врач того времени — Уильям Чезлден, весьма известный хирург, оперировавший в больницах святого Фомы, святого Георгия и в Вестминстерской. Его считали непревзойдённым мастером своего дела, особенно в том, что касалось операций по извлечению камней. Они с Ньютоном были друзьями, и Чезлден обычно отказывался от гонорара. Но однажды Ньютон не удержался и неловко высыпал ему в руки горсть гиней, которую вынул из кармана камзола. Тот стал отказываться:
— В лучшем случае мой гонорар составил бы лишь одну или две из них.
Ньютон на это ответил:
— Это не гонорар…
С помощью родственников Ньютон нашёл себе дом в Кенсингтоне — лондонском зелёном пригороде, славящемся садами и целебным воздухом. Джеймс Стирлинг, посетивший его вскоре после переезда, убедился в том, что слухи не лгут: Ньютон сильно сдал. Но духом он был твёрд. Боролся с болезнью со всей силой своей страсти. Отказался от нездоровой пищи. Оставил свои обычаи обедать вне дома и приглашать к себе гостей. Вместо экипажа стал использовать портшез — крытое кресло на носилках, переносимое вручную. Принятые меры быстро привели к облегчению. Уже через несколько недель, в июле, он писал, что медленно поправляется, восстанавливает свои силы и надеется вскоре выздороветь совсем.
Советы врачей оказались довольно разумными, а воля Ньютона — сильной. В августе 1724 года у него без всякой боли вышел расколовшийся на два кусочка камень размером с горошину. Он почувствовал сильное облегчение, но, с другой стороны, по определённым признакам понял, что болезнь его серьёзна и, возможно, неизлечима. Старость подступала со всех сторон. То его сваливали приступы подагры, то он сотрясался от страшного кашля, то пролёживал целые ночи в поту, страдая воспалением лёгких. Хотя на свежем воздухе, в кенсингтонских садах, в деревне, он чувствовал себя несравненно лучше, чем в задымлённом Лондоне, ничто не могло удержать его от посещений Города. Он стремился в Минт, в Королевское общество, к себе домой на Сент-Мартин-стрит (в это время Кондуитты переехали в собственный дом).
Приезжая в Лондон, он стремился хотя бы одним глазом убедиться в том, что целы и в полной безопасности самые ценные, как он считал, его рукописи: «Хронология» и «История пророчеств», а также ещё не вполне оконченная его «тайная тайных» — «Irenicum». Совершив обход владений и проверку ценностей, Ньютон возвращался в деревню.
В воскресенье, седьмого марта 1725 года его кенсингтонское одиночество нарушил Кондуитт. Ньютон в это время приходил в себя после очередного приступа подагры. Он чувствовал себя получше, голова была ясной, память твёрдой. Ньютон был расположен пофилософствовать. Он стал рассуждать на тему о том, что, по-видимому, небесные тела, как люди, деревья и камни, тоже подвержены регулярному разрушению и воспроизведению.
— Пары и свет, излучаемые Солнцем, — говорил Ньютон, — постепенно собираются сами собой в некое тело и притягивают к себе всё больше материи и наконец становятся вторичной планетой, типа Луны. Затем они, притягивая всё больше материи, становятся первичной планетой, типа Земли. Затем, всё более увеличиваясь, они становятся кометой, которая после нескольких обращений приближается к Солнцу всё ближе и ближе, Все её летучие вещества конденсируются и становятся материей, годной для восполнения и повторного наполнения Солнца, которое должно истощаться за счёт постоянного выделения тепла и света.
— Но как это можно было бы доказать? — спросил Кондуитт.
— Есть тому и примеры и доказательства, — живо ответил Ньютон (видно было, что он уже размышлял о доказательствах), — когда некий датский астролог с золотым носом — я имею в виду великого наблюдателя неба и неудачливого дуэлянта Тихо Браге, — видел в 1572 году на груди Кассиопеи ярчайшую звезду, он счёл это величайшим из чудес природы с начала мира, достойным стоять рядом с чудесами писания. Я же утверждаю, что он видел, как на звезду упала комета. Комета 1680 года, судя по её орбите, может после пяти или шести оборотов упасть на Солнце. Если бы такая катастрофа случилась, тепло Солнца настолько бы увеличилось, что ни одно живое существо на Земле не смогло бы выжить…
Есть и иные свидетельства, — немного отдохнув, продолжал Ньютон, — я считаю, например, что обитатели этого мира находятся здесь не так давно. Памятники искусства, письменность, корабли, книгопечатание, игла, порох, бумага были созданы относительно недавно и доступны памяти истории. Есть доказательства и другого рода — забытые руины когда-то процветавших царств, ископаемые скелеты неведомых животных. Эти останки и разрушения невозможно объяснить одним лишь всемирным потопом. Что подтверждает: катаклизмы такого типа происходили и в прошлом…
Кондуитт отметил про себя, что своими словами Ньютон как бы смыкал наконец в единую систему свои библейские представления о Судном дне, свои взгляды на историю человечества и свои физические концепции, включая тяготение. Он не преминул также отметить: увидев, что Кондуитт записывает каждое сказанное им слово, Ньютон стал более осторожен в высказываниях, взвешивал и мысленно редактировал каждое слово;
— Но как же Земля смогла бы быть вновь населена, если она когда-нибудь подверглась той судьбе, которая поджидала бы комету 1680 года? — задал Кондуитт самый, казалось бы, невинный, но и самый коварный вопрос. Ньютон чуть замешкался, но ответил:
— На то воля создателя.
— Почему вы не хотите обнародовать свои гипотезы? — спросил Кондуитт.
— Я не имею дел с гипотезами.
— Но почему же тогда в «Началах» вы не уведомляете о том, что Солнце было вновь восполнено кометами, падающими на него, когда делаете подобное же заявление о звёздах?
— Это слишком сильно нас касается. — Он помолчал немного и добавил, улыбаясь: — По-моему, я сказал уже достаточно, чтобы вы поняли, что я имею в виду.
В 1725 году Стэкли одолела наследственная подагра. Он решил покинуть Лондон и поселиться на приятных для жизни долинах Линкольншира. 15 апреля 1726 года он нанёс в Кенсингтоне прощальный визит сэру Исааку, пообедал вместе с ним и провёл с ним вдвоём в беседах целый день. Ньютон охотно рассказывал о себе. Он подтвердил, что родился на рождество 1642 года, и как он полагает, рождество — вообще очень благоприятный момент для рождения гениев.
Разговор коснулся друзей детства Ньютона. Оказалось, что брат Стэкли когда-то работал помощником у Хрихлое, грэнтэмского аптекаря, который заменил известного мистера Кларка. Хрихлое учился с Ньютоном в грэнэмской школе. Ньютон сказал, что очень завидует Стэкли, поскольку всегда мечтал на старости лет переселиться на родину и жить в местах своего детства. Сейчас ввиду болезни он, конечно, вряд ли сможет это осуществить. Он настаивал, чтобы Стэкли купил этот дом, который он и сам когда-то присматривал, к востоку от церкви, дом, принадлежащий Скипвитам, весьма недорогой. Пусть Стэкли обратится к ним от имени Ньютона — он уверен, что сделка состоится.
В беседах со Стэкли Ньютон рассказывал о себе то, что он, возможно, хотел бы увидеть в своих будущих биографиях. Но не препятствовал и прямому сбору фактов, правда, весьма тщательно подбирая источники. К несчастью, Ньютон забыл о том, что он долгожитель, и все его друзья и знакомые давно уже покоились на кладбище. Это касалось и его друга, аптекаря Хрихлое, о котором он столь долгие годы сохранял светлые воспоминания («кажется, его звали Ричард»). Это касалось и большинства других его знакомых. Однако миссис Винцент оказалась в добром здравии, хотя была далеко уже не молода, и именно беседы с миссис Винцент наполняли долгие вечера Стэкли, когда он своим быстрым почерком заполнял листки материалами для будущих Ньютоновых биографий. Материалы эти оказались впоследствии в хранилищах Королевского общества и были опубликованы лишь спустя двести лет.
Другой биограф Ньютона, имевший редкую возможность чуть не ежедневно встречаться с ним, — это Джон Кондуитт. Его материалы легли в основу множества биографических очерков XVIII и XIX столетий, и в том числе в основу первого официального некролога по Ньютону, прочитанного в Парижской академии Фонтенелем. Восхищение, которое питал к Ньютону Кондуитт, сильно мешало ему в работе над биографией, содержащей лишь превосходные степени слов. Хотя современные исследователи широко используют некоторые детали, приводимые Кондуиттом, никто из них не пожалел о том, что его грандиозный замысел — гигантская биография Ньютона — так никогда и не был осуществлён до конца.
Многие сведения о Ньютоне последних лет содержат воспоминания его посетителей. В 1725 году Ньютона навестил аббат Пьер Жозеф Алари — воспитатель Людовика XV. Аббат явился в девять утра. Ньютон уже бодрствовал. Разговор начался с галантных приветствий и комплиментов. В ответ Ньютон сказал, что, как бы там ни было, ему уже, к сожалению, восемьдесят три. В кабинете Ньютона аббат увидел портреты лорда Галифакса и аббата Вариньона.
— Я очень высокого мнения о геометрических трудах Вариньона, — пояснил Ньютон, — и, кроме того, Вариньон лучше всех разобрался в моей теории цветов.
Постепенно беседа зашла на темы древней истории. Аббат, хорошо знавший латинских и греческих авторов, чрезвычайно понравился Ньютону. Ньютон разошёлся до того, что пригласил его к обеду. («Еда была ужасной, — жаловался впоследствии Алари, — а вина дешёвыми».)
Ньютон не захотел отпустить его и после обеда. Он потащил его с собой на заседание Королевского общества, где посадил рядом. Как свидетельствует журнал, где описано это заседание, сначала на нём прочли какое-то письмо из Голландии с описанием новых лекарственных снадобий и их действия, затем последовало сообщение о том, что некоторые французские бутылки портят вино, затем последовал отчёт о погоде в Цюрихе, понедельно, в течение 1724 года. Неудивительно, что Ньютон заснул. («Во время одного из сообщений он вообще заснул», — лицемерно ужасается Алари.)
Ньютон, однако, вовремя проснулся, бодро подвёл заседание к концу и, не давая аббату улизнуть, вновь потащил его к себе в дом, где истязал разговорами о древней истории до полуночи. После чего Алари был отпущен с миром.
Летом 1726 года Ньютон решил прекратить посещение собраний Королевского общества, совета Общества и совета Монетного двора — не позволяло здоровье. Передвижение, даже в паланкине, причиняло порой нестерпимую боль. Он не выезжал теперь из кенсингтонских садов, где предавался беседам с редкими гостями и размышлениями о прошлом.
В августе 1726 года здоровье его вновь ухудшилось. Кондуитт призвал Мида и Хэзлдена. Ньютон жаловался теперь на боли в пищеводе, которые, как он считал, вызваны возможным прободением. Однако Хэзлден обнаружил лишь некоторую слабость мышц пищевода при входе в желудок, не опасную для здоровья. Ньютон ему до конца не верил, и дело здесь было уже не в ипохондрии. Он стал чувствовать приближение конца.
Ньютон заставил себя заняться печальными заботами, и прежде всего — распределением наследства.
Кому оставить недоступное бегу времени вечное — результаты корпений своих — и суетное — свидетелей и следствия корпений этих: рукописи, дам, обстановку, наконец, деньги — громадную сумму в тридцать две тысячи фунтов, которые нельзя взять с собою в невозможно жуткое неизвестностью своей путешествие во времени?
Конечно, первой в ряду достойных наследовать ему и хранить память о нём была Кетрин.
Для Китти, дочери Кетрин, было куплено имение в Кенсингтоне стоимостью в 4 тысячи фунтов. Для трёх детей Роберта Бартона и их сводной сестры Ньютон купил имение в Беркшире, тоже за 4 тысячи. Джон Ньютон, сын дяди Роберта, был наследником по закону, и, поскольку Ньютон так и не написал завещание, он унаследовал Вулсторпский Манор, который промотал очень быстро — за пять лет. Он умер, подавившись трубкой, когда, будучи в подпитии, упал на мостовую. Не забыты были и остальные родственники, сводные братья, сёстры, племянники, слуги.
Вот запись, которую он сделал относительно своей кухарки: «Мари Андерсен жила со мной два или три года и, насколько мне известно, вела себя честно; но, поскольку она и другой мой слуга полюбили друг друга, я расстался с ней». Написав фразу, он перечитал её, перечеркнул: «жила со мной», и вписал вместо этого: «служила мне в качестве повара». Он не хотел давать потомкам повода для кривотолков.
…Осенью 1726 года после летнего отдыха здоровье наконец позволило ему вновь посещать Королевское общество и заседания совета. И теперь уже никакими способами невозможно было удержать его от поездок в Город (после этих слов в черновике Кондуитта стояли слова: «без какой-либо реальной надобности», которые потом вычеркнуты. —
Галлей защищался тем, что не может передать этих данных, ибо тогда он раскрыл бы для других разработанный им метод определения точной долготы на море, за что обещана большая премия парламента.
Журнал совета Королевского общества содержит протокольную запись последней встречи двух великих людей.
— Поскольку к королевскому предписанию давно не обращались, — гнул своё Ньютон, — это может иметь весьма дурные последствия. Невозможно пренебрегать им, и поэтому я считаю, что следует предложить присутствующему здесь королевскому астроному принять во внимание указанное предписание.
В конце заседания, как свидетельствует протокол, Галлей «согласился представить некоторые наблюдения, но не все, поскольку другие могут воспользоваться его данными и украсть результаты его трудов».
(- Флемстид воскрес! — восклицает по этому поводу Фрэнк Мануэль.)
С января 1727 года у Ньютона появился сильный кашель, его сваливает воспаление лёгких, а потом и приступ подагры. С 7 января он пропустил больше заседаний Королевского общества, чем посетил. Здоровье возвращалось медленнее, чем раньше.
В период болезни, в феврале 1727 года, Ньютон написал своё последнее письмо, адресованное преподобному Томасу Мазону, настоятелю церкви в Колстерворте. Ранее Ньютон пожертвовал церкви двенадцать фунтов на постройку хоров, а также 3 фунта на ремонт провалившегося пола. Оставшиеся деньги он предложил теперь употребить в пользу молодых людей прихода, обучающихся пению. За месяц до смерти Ньютон получил из Вулсторпа образцы руды — предположительно железной, сделал её анализ. В последнем письме к Мазону он с сожалением сообщает, что руда не содержит железа. Шахту строить бесполезно.
За несколько дней до смерти его посетил настоятель прихода святого Мартина-в-полях Захарий Пирс, явно с целью получить разрешение на причащение. Пирс застал Ньютона за работой — тот писал «Хронологию древних царств» без помощи очков в самом дальнем от окна и, стало быть, самом тёмном углу кабинета. Кипа книг на столе (сверху — открытая, сильно потёртая, с коробящимися и засаленными страницами, с дырявыми уголками кожаного переплёта Библия) ещё более затеняла свет, падающий на бумагу. Увидев это, преподобный Пирс сказал:
— Сэр, мне кажется, вы выбрали для письма не самое подходящее место. Там темновато.
Ответ Ньютона свидетельствовал то ли о его смирении, то ли о гордыне:
— И небольшой свет хорош для меня.
Затем на соответствующий вопрос Пирса Ньютон ответил, что готовит к печати свою «Хронологию» и что большая часть её уже написана. Он прочёл Пирсу, тщательно отобрав, две или три странички из середины. Затем коснулись некоторых иных тем. После этого принесли ужин. Ньютон не дал Пирсу возможности даже завести разговор о причастии.
Последнее, что Ньютон хотел довести до конца и что проводил с львиной неукротимостью, невзирая на всё ухудшающееся здоровье, слабеющую силу и тускнеющую память, была его отчаянная попытка противодействовать неправильному пониманию его религиозных взглядов, отражённому в выпущенном поистине по-пиратски — без его разрешения — французском издании «Хронологии». Он стал переписывать её и уже подготовил для печати. Работа была готова в начале 1727 года. Рукопись была отправлена Кондуитту для опубликования.
Крепкий организм Ньютона ещё раз выручил его, и лишь только — а это случилось во вторник 28 февраля 1727 года — Ньютон оправился от приступа подагры, он вновь поспешил в Город.
В поездке его сопровождал Джон Кондуитт. Ньютон без устали наносил визиты и принимал у себя. Он отправился даже председательствовать на заседание Королевского общества, оказавшееся для него последним. Оно состоялось 2 марта 1727 года и было весьма знаменательным. В общество пришло письмо из далёкого Санкт-Петербурга. Вновь образованная Санкт-Петербургская академия приветствовала Ньютона и членов Королевского общества. В письме приводилась краткая история основания академии и выражалась надежда, что между Королевским обществом и Санкт-Петербургской Академией наук установятся регулярные сношения. Далёкие санктпетербуржцы писали о том, что они хотели бы представлять свои доклады Королевскому обществу как «первому обществу такого рода, которое даёт рост всем остальным», и хотели бы получать в нём апробацию своих трудов. Королевское общество с энтузиазмом решило вступить в контакт с новым далёким собратом.
Заседание сильно истощило силы Ньютона. На ночь он решил остаться в Лондоне. На следующий день Кондуитт неожиданно нашёл его свежим и отдохнувшим.
— Вы прекрасно выглядите, — сказал ему Кондуитт, — я вас таким не видел уже много лет.
Ньютон ответил с улыбкой:
— Я это ощущаю и сам, впервые за много лет я проспал всю ночь с одиннадцати до восьми не просыпаясь!
К вечеру, однако, у Ньютона вновь появился неудержимый кашель, и он решил вернуться в Кенсингтон. Его стали преследовать боли, которые временами становились столь нестерпимыми, что кровать под ним и даже стены комнаты сотрясались от его мук. Но даже сейчас, в смертных муках, Ньютон отказался причаститься. Возможно, он откладывал это, как и написание завещания, на более поздний срок. Но скорее всего он не хотел изменять своей гонимой тайной вере.
Джон Кондуитт препроводил к нему доктора Мида и мистера Чезлдена, которые немедленно сообщили, что в мочевом пузыре остался ещё один камень, надежд на выздоровление нет, но состояние больного скорее всего улучшится.
Видимо, большое напряжение недели не прошло даром. Путешествие оказало самое пагубное влияние на состояние его здоровья. Время от времени Ньютон содрогался от страшных приступов боли, пот струился по его напряжённому лицу. Он не жаловался, не стонал и не плакал. Когда боль его отпускала, он даже улыбался и приветливо со всеми разговаривал. Иногда же просил оставить его одного, и в это время сжигал в камине свои бумаги. Те, которые могли бы бросить на него и его семью нежелательную тень после его смерти.
Выбор сожжённого представляется довольно странным. В огне скорчились письма всех родных. Но нетронутыми остались письма Флемстида, алхимические и теологические рукописи, за которые, как представляется, должен был бы опасаться больше всего. Всё, что осталось от личной переписки Ньютона, — это несколько строк от его матери, по нескольку строчек от его сводной сестры и брата и небольшая записочка от Кетрин.
Мануэль, как последовательный фрейдист, считает, что Ньютон скорее всего сжёг переписку со своей матерью. Это крайне маловероятно, принимая во внимание и нежные чувства Ньютона к матери, и её неграмотность. Это могли быть некоторые «особые» рукописи алхимического характера, и, как верно подметил Кондуитт, это могли быть протоколы допросов фальшивомонетчиков, мести которых он мог опасаться. А может быть, это был первый черновик «Начал», которого исследователи так и не смогли отыскать…
В среду 15 марта ему, казалось, стало немного лучше. Родственники и врачи решили, что появилась некоторая надежда на выздоровление. В субботу, 18-го числа, с утра он читал «Дейли Курант» и имел продолжительную беседу с доктором Мидом, будучи в полном сознании и всеоружии чувств. Но все видели, что он был иным. Он был торжественным и притихшим, почтительно скромным в преддверии встречи с ещё одной великой тайной Вселенной…
…Он стал забываться. Грезя, он мог проспать теперь целый день подряд. Ему виделось сбывшееся и несбывшееся. Он вновь переживал редкие моменты подлинного счастья, которое он узнал в своей жизни. Фонарики на змеях, реющих в линкольнширских небесах; бессонная ночь в Кембридже, когда его рано утром с пером в руке увидел Джон Викинс; полдень в Вулсторпском саду, когда рядом с ним шлёпнулось его яблоко; тайная лаборатория в Тринити; волнение при представлении Обществу его «Начал». Он вспоминал о моменте триумфа, когда королева Анна посвятила его в рыцари перед всем университетским народом. Моменты торжества в Королевском обществе… Последний раз он забылся за два дня до смерти. Он забылся и в своём воображении вновь вернулся к временам детства, грезил о несбывшемся. Он никогда не был вдалеке от родных мест, никогда не видел океана… И вдруг он ощутил себя не седым и больным стариком, а маленьким мальчиком, весело бегущим по песчаным косам громадного океана истины, расстилающегося перед ним. Время от времени он подбирал с песка то цветной камушек, то необычную раковину. Он бежал и бежал вперёд, к заходящему солнцу, к свету, стараясь успеть показать свои красивые находки людям…
…Свет впереди становился всё ослепительней, и настал миг, когда он стал неотличим от тьмы, а звук, сопровождавший его, так неистов, что не разнился от мёртвой тишины… а боль утраты так остра, что слилась с бесчувствием…
Ньютон умер в ночь с воскресенья на понедельник 20 марта 1727 года.
Через неделю прах его был установлен в одном из приделов Вестминстерского аббатства. 4 апреля тут же, недалеко от входа на хоры, его похоронили. Это были национальные похороны, и в них участвовали и лорд-канцлер Монтроз, и новый президент Королевского общества Слоан, и новый мастер Минта Кондуитт, и множество простого люда, принявшего его смерть как общую утрату…
…Стэкли, мучимый подагрой, был в эти дни в Стэнфорде. Была поздняя весна, и окрестные поля желтели анемонами. Стэкли пошёл прямо в торфяники и вырезал квадратики почвы с только что раскрывшимися цветками. Он упаковал их в коробки, привёз в Лондон и в ближайший же четверг притащил коробки в Королевское общество. С торжественным видом он открыл их прямо на президентском столе. Цветки уже расцвели, и их жёлтые огоньки высветили полумрак залы заседаний.
Многие в тот момент вдруг вспомнили, что анемоны были любимыми цветами Ньютона. Возможно, кое-кто представил себе и иного Ньютона, незнакомого здесь — стоящего в задумчивости среди линкольнширских просторов. Тёплый весенний ветер с океана перебирает пряди его рано поседевших волос, ласкает нежные стебли скромных жёлтых цветков…
Члены Общества, поняв значение этого неожиданного подарка, растрогались. Сэр Ганс Слоан, новый президент, провозгласил, что цветы дают подходящий повод, чтобы вспомнить того, кто когда-то любил ими любоваться. Но, убоявшись внесения в заседание Королевского общества несвойственного ему духа излишней сентиментальности, Слоан тут же приказал отнести цветы в недавно купленный им для Общества «секретный» ботанический сад в Челси и высадить их там в землю.
— И главное, — подчеркнул Слоан, — нужно бы тщательно изучить эти цветы, составить их подробное научное описание. Кто хотел бы за это взяться?
…Анемоны в «Саду естествознания», расположенном за глухой кирпичной стеной в самом центре Лондона, на Слоан-стрит, в Челси, и сейчас каждую весну своими жёлтыми яркими огоньками на нежных стеблях словно хотят напомнить о чём-то. О чём же — редкие посетители сада давно забыли…
— Начало гражданской войны в Англии.
—
— Выход книги Р. Декарта «Начала философии».
— Ньютон посещает деревенские начальные школы.
— Казнь Карла I. Объявление Англии республикой.
— Ньютон поступает учиться в Королевскую школу в Грэнтэме.
— Реставрация монархии. На престол всходит Карл II Стюарт.
—
—
—
— Ведёт наблюдения за Луной и кометой.
— Большая чума.
—
—
— «Вопросник».
—
— Большой лондонский пожар.
— Занятия механикой. Ранняя концепция силы. Сравнение силы притяжения Луны Землёй и центробежной силы на орбите Луны.
—
—
— Возвращение в Кембридж.
—
— Изобретает телескоп-рефлектор.
—
—
—
—
—
— Переписка с Коллинсом, доработка метода флюксий.
— В Королевском обществе показан телескоп Ньютона.
— Работа «De methodis…».
—
—
—
— «Гипотезы о свете», «Трактат о наблюдениях» — наброски книги «Оптика».
— Письма Лейбница к Ольденбургу.
— Открытие Гринвичской обсерватории.
— Умер И. Барроу. Пожар в комнате Ньютона.
— Умерла мать Ньютона, Анна Эйскоу-Ньютон-Смит.
— Чарлз Монтегю — студент в Тринити-колледже.
— Комета Галлея.
— Лейбниц публикует работу о дифференциальном исчислении.
— Начало работы над «Opus Magnum».
— «Алгебра» Валлиса с выдержками из «Epistola» Ньютона.
— Формулировка закона всемирного тяготения.
—
—
—
— «Славная революция».
— Ньютон — депутат палаты общин.
— «О природе кислот».
— «Два приметных искажения Священного писания» и другие религиозные работы Ньютона выходят в свет во Франции.
— Признаки умственного расстройства.
— Переписка с Бентли.
— Выздоровление.
— Чарлз Монтегю — канцлер казначейства.
— Переписка с Флемстидом.
— Ньютон назначен смотрителем Монетного двора. Переезд в Лондон.
— Возможная встреча с Петром I.
— Ньютон назначен мастером Монетного двора. Избран членом Парижской академии наук. Окончена Большая перечеканка.
— Уистон заменяет Ньютона в качестве лукасианского профессора. Ньютон слагает с себя также обязанности члена Тринити-колледжа.
— «Шкала степеней теплоты и холода».
— Депутат палаты общин от Кембриджского университета.
— Смерть Гука.
— Ньютон избран президентом Королевского общества.
— Первое издание «Оптики».
— Галлей на основании результатов Ньютона предсказывает возвращение кометы в 1758 году.
— Королева Анна возводит Исаака Ньютона в рыцарское звание.
— Провал на выборах в палату общин.
— Начало спора с Лейбницем по поводу приоритета.
— Выход атласа Флемстида.
— Комиссия по определению приоритета в открытии исчисления.
— Второе издание «Начал».
— Обсуждение в комитете палаты общин вопроса об определении долготы на море.
— Смерть Монтегю.
— Спор Лейбница и Кларка по религиозным вопросам.
— Смерть Лейбница.
— Смерть Котса.
— Свадьба Кетрин Бартон и Джона Кондуитта.
— Второе издание «Оптики».
— «Пузырь Южных морей».
— Смерть Флемстида.
— Третье издание «Оптики».
— Первый приступ болезни.
— Посмертный выход «Британской небесной истории» Флемстида.
— Работа с Пембертоном над третьим изданием «Начал».
— «Путешествия Гулливера» Свифта — сатира на Королевское общество.
— Третье издание «Начал».
—
—
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — В кн.: Крылов А. И. Собрание трудов. М.-Л., 1937, т. 7, 696 с.
Ньютон И. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света (перевод С. И. Вавилова). М.-Л., Госиздат, 1927, 373 с.
Ньютон И. Оптические мемуары. I. Новая теория света и цветов. II. Одна гипотеза, объясняющая свойства света, изложенные в нескольких моих статьях (перевод С. И. Вавилова). — Успехи физических наук. 1927, т. XVI, с. 122–163.
Ньютон И. Математические работы (перевод с латыни, вводная статья и комментарий Д. Д. Мордухай-Болтовского). М.-Л., 1937.
Ньютон И. Замечания на книгу Пророка Даниила и Апокалипсис св. Иоанна. СПб., 1916.
Вавилов С. И. Исаак Ньютон. Научная биография и статьи. Под ред. И. В. Кузнецова. М., Изд-во АН СССР, 1961, 295 с.
Исаак Ньютон. 1643–1727. Сборник статей. Под ред. С. И. Вавилова. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1943, 440 с.
Гессен Б. М. Социально-экономические корни механики Ньютона. М.-Л., Гостехтеориздат, 1933, 77 с.
Механика и цивилизация XVII–XIX вв. Под ред. А. Т. Григоряна и Б. Г. Кузнецова. М., «Наука», 1979, 520 с.
Физика на рубеже XVII–XVIII вв. М., «Наука», 1974, 248 с.
Цейтлин З. А. Наука и гипотеза. М.-Л., Госиздат, 1926, X, 216 с.
Современные историко-научные исследования (Ньютон). Реферативный сборник. Отв. ред. Л. М. Косарева. М., ИНИОН, 1984, 131 с.
Richard S. Westfall. Never at Rest. A biography of Isaac Newton. Cambridge, 1980.
David Brewster. Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton, 2 vols. Edinburgh, 1855 and 1860.
L. T. More. Isaac Newton: A biography. New York, 1934.
John Harrison. The Library of Isaac Newton. Cambridge, 1978.
A. R. Hall. Philosophers at War: The Quarrel between Newton and Leibnitz. Cambridge, 1980.
T. Bernard Cohen. Introduction to Newton's «Principia». Cambridge, 1978.
V. Boss. Newton & Russia. Cambridge, Mass., 1972.
B. I. T. Dobbs. The foundations of Newton's Alchemy. Cambridge, 1983.
I. Bernard Cohen. The Newtonian Revolution. Cambridge, 1980.
A. de Morgan. Newton: His Friend and His Niece. London, 1985,
John Craig. Newton and the Mint. Cambridge, 1946.
Franc E. Manuel. Portrait of Isaac Newton. Cambridge, Mass., 1968.
R. N. Ditchburn. Newton's illness of 1692–1693. Notes and Records of R.S.d. 1980–85, 1–16.
R. De Villamil. Newton, the Man. New York, 1972.
W. Stukeley. Memoirs of Sir Isaac Newton's Life. (w.p.), 1936.
The Correspondence of Sir Isaac Newton. (Ed. B. Turnbull), 6 vols. Cambridge, 1962–85.
Первые заметки в конверт (потом он был заменён шкафом) с надписью «Ньютон» автор вложил в 1972 году, когда заканчивал книгу о Максвелле. Тогда и отдалённо нельзя было представить тяжести предстоящей ноши. Может быть, этим отчасти объясняется столь долгий период вынашивания и исполнения замысла.
Задержка, однако, оказалась весьма полезной. К 1977 году, то есть к 250-летию со дня смерти Ньютона, к его трудам и фигуре было привлечено внимание большого отряда исследователей, которые взглянули на великого английского учёного и его вклад в науку глазами людей конца XX столетия, вооружённых современными концепциями развития науки и методами историко-научного анализа. Новые труды принесли и новую информацию, и новые трактовки уже известных фактов и обстоятельств, хотя, конечно, не изменили оценки роли Ньютона в истории мировой культуры и науки.
И всё же… «Героические» биографии — своего рода «жития» Ньютона XVIII, XIX и даже XX веков, написанные по воспоминаниям, собранным в основном уже после смерти учёного, сохранили немало ценного, хотя их во многом опередили последующие, гораздо более обоснованные исследования, более полагающиеся на документы, письма и научный анализ, чем на зыбкую и не всегда надёжную память. Этому способствовало опубликование полной корреспонденции Ньютона, ранее недоступной, и его прежде не издававшихся трудов, черновиков и т. п. Новые данные накладываются на сюжетную канву классических биографий Ньютона, которые, по-видимому, навсегда останутся основным источником сведений о его жизни и творчестве. Я имею в виду воспоминания В. Стэкли и научную биографию Ньютона, написанную академиком С. И. Вавиловым. Первая остаётся незаменимым источником для описания личной жизни великого учёного, бесхитростным, искренним и согретым тёплым чувством личного общения с её героем, вторая же — глубоким и, что самое главное, доброжелательным анализом его научного творчества. Это две главные работы, использовавшиеся автором. Из новых же биографий непревзойдённой по богатству собранного материала оказалась книга английского историка Ричарда Вестфолла «Ни дня отдыха». Часть других использованных книг (поместить полный список нет никакой возможности) дана в перечне литературы.
Много ценных советов, касающихся замысла и основных идей книги, автор получил в беседах с советскими историками науки — сотрудниками Института истории естествознания и техники АН СССР, бывшими и теперешними: А. Т. Григоряном, А. А. Гурштейном, Б. М. Кедровым, Б. Г. Кузнецовым, С. Р. Микулинским, Ю. И. Соловьёвым, В. С. Стениным, А. П. Юшкевичем, М. Г. Ярошевским. Многочасовые беседы и споры в кабинете крупного советского специалиста по Ньютону и его времени В. С. Кирсанова завершили работу через четырнадцать лет после её начала. За эти годы автору удалось побеседовать о Ньютоне и с видными зарубежными историками науки — профессорами В. Боссом и В. Шеа, Канада; А. Р. Холлом, Р. В. Джонсом, Великобритания; Д. Прайсом и Дж. Холтоном, США; а также с виднейшими советскими физиками и философами, в числе которых в первую очередь следует назвать покойного академика П. Л. Капицу.
Автор выражает благодарность хранителям библиотеки Тринити-колледжа Кембриджского университета, библиотекарям лондонского Королевского общества и лондонского Королевского астрономического общества, смотрителям Вестминстерского аббатства в Лондоне, старшим научным редакторам издательства Кембриджского университета Памеле Таулсон, Питеру Хингли, И. Кего, Р. Земакки, Д. Транаху и ряду их коллег за любезное разрешение опубликовать ряд материалов и фотографий. Профессору С. Хансону, старшему члену Тринити-колледжа, автор обязан возможностью побывать в комнатах, где триста лет назад жил Ньютон.
Особую благодарность автор хотел бы выразить своим помощникам — С. А. Карцевой, О. А. Горгун, А. И. Шуваловой, Ю. В. Полунову. И наконец, книга никогда не вышла бы в свет, если бы Т. Б. Карцева не взвалила на себя нелёгкое бремя быть стенографом, машинисткой и первым читателем этого труда.
Часть I. ЗАМОРЫШ
Рождество в Манор-хаусе, год 1642-й — 5.
Мать Анна — 11.
Грэнтэм и его обитатели — 19.
«Сад» — 30.
Часть II. КЕМБРИДЖСКИЙ ШКОЛЯР
Колледж Святой троицы — 40.
Сайзер Ньютон — 45.
«Сад» в цвету — 58.
Любовь к математике — 66.
Часть III. ЛЕГЕНДА О ЯБЛОКЕ
Чёрная смерть — 74.
Легенда о яблоке — 80.
Исчисление — 99.
Часть IV. ЛУКАСИАНСКИЙ ПРОФЕССОР
Снова в Кембридже — 108.
Беседы с Барроу, переписка с Коллинсом — 114.
Лукасианский профессор — 121.
Часть V. VOX CLAMANTIS
Увертюра — 133.
«Виртуозы» — 143.
Опус первый — 149.
Критика — 156.
Гук и Ньютон — 171.
Эфир — 179.
Часть VI. OPUS MAGNUM
Начало «Начал» — 189.
Наглая и сутяжная леди Философия — 196.
Революция — 208.
Нил и его истоки — 217.
Реакция на «Начала» — 220.
Часть VII. ПОСЛЕДНИЙ ЧАРОДЕЙ
Охота на Зелёного Льва — 226.
Кембриджский затворник — 241.
Душевный перелом — 253.
Часть VIII. МОНЕТНЫЙ ДВОР
Большая перечеканка — 259.
На дне — 270.
Пётр и Ньютон — 276.
Финансист — 286.
Виги, тори, лорд Галифакс и Кетрин Бартон — 292.
Часть IX. ПРЕЗИДЕНТ КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА
Опыты и привидения на Лебедином дворе. Выход «Оптики» — 303.
Учёные и кораблекрушения — 314.
«Небесная история» — 324.
Война философов — 340.
Часть X. НА БЕРЕГУ
Жизнь в Городе — 349.
Второе издание «Начал» — 365.
Славные времена — 382.
На берегу — 393.
Эпилог — 405.
Краткая хронологическая таблица — 407.
Основная использованная литература — 410.
Библиография — 411.
Послесловие — 412.