Михаил Грабовский
Пусковой Объект
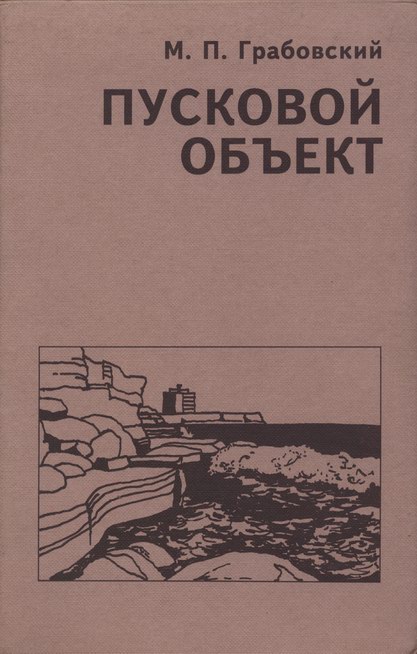
Их сближение произошло на втором курсе Горьковского Политеха, на лекции по теории машин и механизмов. Рядом с Игорем сидела маленькая девочка с двумя прыщиками на подбородке, Аля Сенютина. Игорь задумался о чем-то постороннем. О каких-то тайнах мироздания. Задумался глубоко и отрешенно. И как раз в тот момент, когда профессор перешел к гибким передачам, а Сенютина вспоминала о том, как „тих и печален ручей у янтарной сосны” — именно в этот момент Игорь не выдержал наплыва мудрых мыслей и неожиданно произнес, красноречиво заикаясь на некоторых гласных:
— Не может быть, чтобы биологическая эволюция вдруг оборвалась на таком несовершенном виде, как человек…
Профессор продолжал болтать о сущих пустяках:
— Конечно, можно рассмотреть гибкую передачу и с другого конца… Аля прислушивалась ко всему, что происходило в аудитории, но реагировала избирательно, только на самое главное.
— Продолжай, Игорь, — прошептала она, наклонившись к его лицу, чтобы он почувствовал легкий запах соблазнительных духов.
Поощренный ее близким дыханием, Игорь шепотом продолжал заикание:
— Ведь никаких концов в природе нет и быть не может. Потому что „мир — это вечно живой огонь, закономерно воспламеняющийся и закономерно угасающий”.
— Гениально! Сам придумал? — восхищенно поинтересовалась Сенютина.
— Нет, Гераклит опередил.
Профессор демонстративно положил мел на узкую полочку и презрительно-вежливым тоном произнес:
— Молодые люди, да, вы… Во втором ряду. Я, вероятно, вам очень мешаю? Обговорите, пожалуйста, свои неотложные дела в коридоре.
Игорь с Алей дружно потянулись к свободе.
— Когда закончите свой диспут, можете вернуться и занять свои места, — бросил профессор им вдогонку.
Как только оказались за дверью, Аля нетерпеливо дернула мыслителя за рукав.
— Ну, и? Что дальше-то? Развивай…
— Я думаю так, — важно продолжал Игорь ход своих случайных мыслей, — дальнейшее совершенствование Человека как биологического вида — неизбежно!
По сложившейся привычке он двигался по направлению к мужскому туалету, энергично жестикулируя правой рукой и щедро осыпая Алю неопровержимыми аргументами.
— Посуди сама. Вот перед тобой, Сенютина, естественный ряд: неорганическая материя, растительный мир, животные и, наконец, человек. Так? Но почему в этом ряду после слова „человек” должна стоять обязательно точка? А почему не многоточие? Не может ведь Природа вдруг остановиться в своем развитии… Как ты считаешь?
— Не может, это точно. Не должна! — поддакнула Аля, семеня рядом с ним, и, чтобы не отстать, взяла под руку.
Они вместе вошли в туалет и прошлись несколько раз по кругу перед фанерными дверцами, будто прогуливаясь в театральном фойе. Потом снова выплыли в коридор и остановились около торцевого широкого окна. По улице среди дождя и запаха бензина, куда-то спешили люди, не задумываясь о Гераклите и тайнах мироздания, ничего не подозревая о собственном неизбежном усовершенствовании.
— Вот я и думаю, — подытожил Игорь, поправляя очки со сломанной дужкой, — если ряд замкнутый, то эволюция человека неминуемо должна подвести его к первоисточнику и первопричине Жизни. То есть — к божественному идеалу!
Игорь остыл, испугавшись своего вывода.
Аля как-то странно взглянула на него и вежливо поинтересовалась:
— Игорь, скажите, пожалуйста, вы чокнутый? Недоверие вернуло его на стезю агрессивной дискуссии.
— Конечно, Аля, это трудно логически доказать. Но, возможно, в человеческих аномалиях уже сегодня могут проявляться ростки далекого будущего. Как говорил Лейбниц, „настоящее скрывает в своих недрах будущее”.
Але показалось, что Игорь немного обиделся на нее за „чокнутого”.
— Между прочим, — сказала она, — я Лейбница тоже очень уважаю.
А про себя подумала: „Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны”. И снова вслух:
— Жаль, Игорь, что твоя гипотеза лишена общемировой поддержки. А у тебя есть еще какие-нибудь убедительные аргументы?
— Да, Аля. Есть! — уверенно произнес Игорь. — Только в данный момент я не могу их четко сформулировать.
— Жалко, — заверила Аля фальшивым голосом.
Игорь уже остыл от философского возбуждения, взглянул на ее пламенеющие волосы и нежно поинтересовался:
— А можно я тебе завтра их изложу?
— Ладно, — сразу согласилась Аля.
И, выдержав артистическую паузу, тихо добавила:
— Я буду очень ждать!
Бедная, доверчивая Аля — она даже в малой степени не представляла, что ей предстоит испытать. Почти четыре года Игорь рассказывал ей о своем плане ускорения эволюции Вселенной. И в результате добился своего. Сразу после защиты диплома они узаконили свои отношения в районном загсе. Толстая напудренная тетя с маленькими усиками изложила им свое напутствие с отработанной торжественностью в конце речи:
— И желаю вам большого, лучезарного счастья!
Игорь сказал: „Большое спасибо”. А у Али в голове вертелись другие слова, но из той же песни: „Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня…”
Распределения Аля ожидала спокойно. Куда пошлют, туда и поедем. Главное, чтобы жилье предоставили. Это была ее сказочная мечта: входная дверь с индивидуальным электрическим звонком, кухня с газом и широкая кровать с голубым покрывалом. Впрочем, можно и с бордовым.
Она сидела в общежитии на скрипучей металлической кровати и неторопливо вязала для своего „мудреца” теплый серый свитер с белыми оленями на груди. Игорь вошел без стука и застыл в позе античного героя, опираясь спиной на свежевыкрашенный дверной косяк.
— Все, Алька, решено! Мы едем с тобой на Каспий.
— Мы едем, едем, едем… в далекие края, — пропела она, не отрываясь от спиц. — Каспий, говоришь? А поконкретнее…
— А конкретно — в город Шевченко. — Игорь вздохнул поглубже, чтобы произнести следующее слово без привычных пауз. — На Мангышлакэнергозавод! Сокращенно звучит, как песня: МЭЗ!
— Теперь понятно, — вымолвила Аля безразличным тоном. — Секаробардаухоложка!
— Тебе все шуточки. Впрочем, я давно подозревал, что тебя мало тревожит научно-технический прогресс.
— Где уж нам, татарам! — мать Али была наполовину татарка. — Ну и что там, на МЭЗе?
— Сенютина, это предприятие будущего. Я все уже выяснил. Вот, читай! — он бросил на стол потрепанный журнал „Наука и жизнь”. — Страница сорок восемь.
— Игорь, прочти, пожалуйста, сам. Я как раз довяжу последний ряд.
— Читаю… „В Монреале…”…Понятно тебе? Не в каком-то там поселке Оглоблино или Доброхотово, а в Монреале… „…на международной выставке „ЭКСПО-67” в советском павильоне внимание многих посетителей привлекает макет строящегося в СССР на берегу Каспийского моря…” — здесь Игорь сделал многозначительную паузу — „атомного опреснителя морской воды”. Понимаешь, Аля? Атомного опреснителя! Это, пожалуй, похлеще…
— Эволюции Вселенной? — подхватила Аля, откладывая вязание. — Подойди ко мне поближе, ученый. Я поцелую тебя.
— Аля, я серьезно. Ты понимаешь, как это заманчиво?
— Игорь, я тебя очень хорошо понимаю. От меня лично что требуется в данный момент: атомы или морская вода?
— От тебя, Сенютина, требуется только одно слово: „да” или „нет”!
— Да! Конечно, да! — торжественно объявила Аля. — Я разве хоть раз сказала тебе „нет”? Твое желание для меня закон. Меня, если честно сказать, интересует только одно: дадут ли нам квартиру? Это для меня важней атомной энергии.
— Вот и все, что требовалось доказать. Иду в деканат. Вернее, бегу.
— А поцеловать? Я тебе такой свитер связала, — Аля обиженно надула губки.
— Сенютина, какая вы легкомысленная. Игорь поцеловал и уже не смог оторваться.
„Ладно, — подумал он, — в деканат я и завтра успею…” На географических картах Советского Союза города Шевченко не существовало. В официальном расписании аэропорта Минводы — тоже. В справочном бюро молодая женщина с накрашенными губами и бородавкой на носу строго спросила:
— А направление у вас есть? Или командировочное удостоверение? Направление на работу у них было.
— Подойдите к кассе № 3. Спецрейс Ю-311. И слушайте объявление. Игорь нес на посадку две спортивные сумки с одеждой, Аля — чемодан с накрахмаленным постельным бельем и любимым двухтомником Игоря: Лункевич. „От Гераклита до Дарвина”. Что впереди?
Перелетев через Каспий и увидев под крылом серую безжизненную пустыню, испещренную тысячами дорог, оба почувствовали некоторое разочарование. Но через пару минут вид города с белыми многоэтажными домами и многочисленными зелеными островками успокоил.
— Квартиру дадим обязательно, — успокоил Алю инспектор в отделе кадров, — через три месяца принимаем семиэтажку в первом микрорайоне. А пока временно поживете в общежитии.
„Заливает, — подумала Аля, — как пить дать обманет. Глаза так и бегают”.
Но через три месяца Аля и Игорь смотрели уже из окна однокомнатной квартиры на песчаный пляж и пенистое море.
Когда они вешали синие шторы и прибивали портрет Хемингуэя с седой бородой, Аля еще сдерживалась. Но когда придвинули к стене кровать с голубым покрывалом, нервы не выдержали. Подошла к окну и расплакалась.
— Ты чего? — удивился Игорь.
— Ничего. Просто я люблю тебя, — сразу успокоилась Аля и вытерла слезы.
— А слезы из-за чего? Я, например, тоже тебя уважаю, но я же не плачу. Ну, женщины!
Лейпунский положил телефонную трубку и в который уже раз за последний месяц подумал: „Надо бы самому слетать в Шевченко. Дело — к пуску”. А ведь, если честно признаться, — неохота. Появилась физическая вялость, ноги ленятся. Отработал организм свой срок. Перевыполняет план исключительно по инерции. А поехать как научному руководителю все равно придется.
Мысли его внезапно запрыгали, как картинки в дрожащей ленте Великого Немого. Некоторые кадры — черные раскоряки, пересекающиеся линии и сухой треск. И вдруг — размытые и прекрасные видения, пахнущие юношескими надеждами.
У Александра Ильича в детстве наблюдался романтический сдвиг в мозгах. После окончания гимназии, на фабрике, он вступил в комсомол. А вскоре подал заявление в Партию коммунистов, потому что она „не только обещала, но и гарантировала всем трудящимся светлое будущее и повсеместный технический прогресс”. После окончания петроградского Политеха в двадцать шестом году Саша Лейпунский попал в компанию таких же талантливых чудаков и энтузиастов пролетарской науки. Директор Физико-технического института, академик Иоффе, любил молодых сотрудников почти как родных детей. На свои собственные деньги, заработанные научными консультациями в американской фирме „Дженерал Электрик”, „папа” Иоффе отправлял лучших мальчиков в Европу, на научные семинары: „Им же надо расти!”
В двадцать восьмом Иоффе задумал организацию филиалов ФТИ в Харькове и Томске. Саша попал в состав украинского „десанта”. Директором УФТИ был приглашен Иван Васильевич Обреимов, ученый старой классической школы, человек честный и порядочный, мягкий и добрый. Одним словом, осколок преступного царского режима. Иоффе настойчиво рекомендовал ему в замы „красного директора”, молодого коммуниста Лейпунского:
— Он вас, Иван Васильевич, в случае чего подстрахует. На него можно положиться. И умница… Главное — умница…
На вокзале группу „десантников” провожали друзья и коллеги во главе с Мэтром.
Ущербный духовой оркестр из одной большой трубы и двух медных тарелок, периодически пытался сыграть марш или туш. В руках у провожающих трепыхались флажки ФТИ и мятый бумажный транспарант: „Идеи Иоффе — в жизнь!” Букеты цветов были жиденькими и ограниченными (один на троих отъезжающих). До отправления оставалось три минуты. Будущие светила науки забили тамбур до отказа. На Сашиной ноге кто-то стоял на цыпочках, заглядывая через головы на провожающих девушек. Оба были одинаково счастливы и не замечали неудобства.
— Пишите! Обязательно пишите! — кричали из тамбура и в тамбур.
Паровоз „Иосиф Сталин” дыхнул легонько паром, засвистел и плавно заработал кривошипно-шатунным механизмом. Академик Иоффе в клетчатых иностранных брюках приподнял помятую шляпу. Благословлял на научные подвиги!..
Первые годы были нелегкими. Ни оборудования, ни приличных лабораторий. Запах сырой штукатурки и вонючей краски. Большая самодельная доска объявлений. И толстая белая кошка Муся, гуляющая по кабинетам. Зато энтузиазма хватило бы на всю Европу. И дела пошли. Уже через три года Лейпунскому с сотрудниками удалось повторить сенсационный эксперимент англичан по делению ядер лития.
22 октября 1932 года газета „Правда” поместила торжествующую статью под жирным заголовком „Вторые в мире после Кембриджа!”. Вскоре после этого Лейпунского назначили директором УФТИ. В Институт было приглашено на долговременную работу несколько видных европейских ученых. Первым по рекомендации Коминтерна приехал из Австрии Александр Вайсберг, ученый и коммунист с 1927 года.
„Алекс был настоящим другом. — Лейпунский не стал поднимать жужжащую трубку, чтобы не отвлекаться от нахлынувшего ритма тридцатых годов. — Да! Он был не только большим ученым, но и другом нашей страны”.
…Первое время Алекс говорил на таком изломанном русском языке, что его не понимал никто. Однако это его не смущало. Он упорно не переходил ни на английский, ни на немецкий: вживался в русскую душу. Наверное, вжился, потому что вскоре стал всеобщим любимцем. Вслед за ним приехали Хоутерманс, Ланге, Руэман — ученые с мировыми именами. УФТИ приобретал европейский авторитет. В сентябре 1933 года в СССР состоялась первая Всесоюзная ядерная конференция. В ней приняли участие знаменитые иностранцы. Сборник материалов открывался докладом Жолио-Кюри „Нейтроны”, а заканчивался докладом советского ученого Лейпунского „Расщепление ядер”.
В следующем году его приглашают на стажировку в Кембридж. Его уже знают в Европе, он — весьма авторитетный ученый в области ядерной физики.
„…Да, это были годы напряженного, отчаянного труда! Но и отдыхать мы умели. Это точно.” — Александр Ильич вытянул затекшие ноги и посмотрел в окно на моросящий дождик.
…В те годы он очень увлекался туризмом, посещал ОПТЭ — Общество пролетарского туризма и экспедиций. Наведывался в школу верховой езды. Ходил даже на занятия по стрельбе из пулемета (”если относиться к нему внимательно как к тонкому прибору, то с ним можно многое натворить”). По субботним вечерам собирались на квартире у Алекса, в тесном кругу: Ландау, Шубников, Лейпунский, иностранцы. Пили чай, приготовленный Евой, женой Алекса. Рассказывали веселые истории, острили напропалую. Особенно Ландау. В присутствии женщин его невозможно было удержать от оригинальных афоризмов. Иногда играли в покер. Беседовали при этом тепло, задушевно…
Первой в тридцать шестом была арестована Ева. Ее обвинили в контрабанде керамических чашек, которые она лепила собственными руками, и хранении двух пистолетов, из которых она якобы намеревалась на ближайшем съезде Партии убить товарища Сталина. Иностранные физики, искренне сочувствующие социализму, никак не могли осознать высокое назначение начавшейся очистительной кампании, хотя многие из них к этому времени начали понимать разницу между пасторальной Идеей и ее практическим воплощением. А Лейпунскому было еще тяжелее, чем иностранцам. Ведь он был тогда членом Кагановичского райкома и кандидатом в Горком Партии.
В начале тридцать седьмого Алекса вызвали в НКВД для дружеской беседы. Вежливый следователь „ловил” его на неожиданных вопросах и фантастических предположениях, а потом дал ему два дня для „серьезного обдумывания” своего положения. Алекс был в отчаянии. Он чувствовал, что не сможет доказать свою невиновность, хотя за последние годы прилично освоил могучий русский язык. Измаявшись, он пошел посоветоваться к Александру Ильичу, несмотря на строгое предупреждение держать язык за зубами…
…Лейпунский встал и нервно зашагал по кабинету. Потом закрыл дверь на ключ и выпил полстакана воды. Даже сейчас, через тридцать пять лет, этот давний разговор с Алексом вызывал в нем какую-то противную дрожь…
— …Что мне делать, Александр Ильич? — спросил Алекс. — Это какие-то странные люди. Конечно, я понимаю: никому не доверять — их профессия. Но каков тон! Впечатление такое, что перед тобой сидят не товарищи по партии, а самое черное средневековье.
Лейпунский был поставлен этим разговором в неловкое положение. Ведь теперь он сам был обязан сообщить в НКВД о посещении Алекса. Можно было рискнуть, промолчать. А если узнают? У них же уши, как у летучих мышей.
Он мучительно молчал. Выговорил с большим трудом:
— Чем я могу помочь вам, Алекс?
— Александр Ильич, я прошу вас — поговорите с Мазо.
В этом было разумное зерно. Мазо был начальником НКВД Харьковской области. Лейпунский как член Горкома и директор ведущего украинского института был с ним, конечно, знаком. Может быть, он ничего не знает о безобразиях в собственной епархии? Надо попробовать…
— Хорошо, Алекс. Я завтра же запишусь к нему на прием. — Потом положил руку на плечо друга. — Ведите себя даже в тюрьме твердо. Как подобает настоящему коммунисту.
— Это вопрос физической конституции, — мрачно ответил Алекс. — Спасибо за совет.
Вскоре в УФТИ была „раскрыта” разветвленная шпионская подрывная организация среди иностранных физиков. Спектр обвинений был гостеприимно широк. На выбор: от саботажа до подготовки убийства Ворошилова. От шпионажа в пользу Германии до подготовки вооруженного восстания на Украине. Для ученых начался традиционный „большой конвейер” допросов, угроз и пыток. Вайсберг „признался” почти сразу. Другие попозже. Неудачно сложилась попытка Мазо вступиться за них. В феврале тридцать седьмого он был вызван в Киев „для объяснений” и, вернувшись, покончил жизнь самоубийством. В письме, написанном перед смертью, он объяснял свое решение тем, что „в революцию он боролся не за то, чтобы своим именем прикрывать вопиющий обман и массовые убийства”. Вскоре после „признаний” иностранцев в тюрьму попали почти все ведущие сотрудники и начальники лабораторий, в том числе и престарелый Обреимов, скрывающий свое „некачественное” происхождение. „Красный директор” не сумел подстраховать. Единственным, кто попытался избежать ареста и неприметно скрыться из Харькова, был остроумный Ландау. В те годы действительно бывали случаи, когда некоторым подозреваемым удавалось благополучно затеряться на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока. Но Лев Давидович побежал не в Сибирь, а в Москву, где и был арестован. „Мясорубка” продолжалась по известным законам физической природы. Оставался на свободе он один, самый главный виновный. Сначала его исключили из партии за потерю бдительности. Для ареста этого было маловато.
Следователь Вейсбанд подталкивал Алекса к целенаправленной сознательности.
— … А теперь перейдем к главарю всей вашей банды — Александру Ильичу Лейпунскому. Нам не ясна только одна деталь: вы завербовали Лейпунского или он вас?
Лейпунский на всю жизнь запомнил спокойные хмурые лица двух молодых людей, пришедших выполнить свой служебный долг. Он их ждал с нервным напряжением уже несколько месяцев, приготовив сухари, леденцы и толстый учебник по ядерной физике.
— Я вас долго ждал, — сказал он с облегчением, — что-то вы очень задержались.
Это было в мае тридцать восьмого. Лейпунского арестовали за „помощь врагам народа” и „невыполнение требований парторганизации об очистке Института от враждебных элементов”. Он приготовился к самому худшему, но ему повезло. Через несколько месяцев в жизни советского народа произошло знаменательное и долгожданное событие. Нарком НКВД, вредитель и враг народа Николай Ежов был разоблачен и расстрелян. На его место был назначен более порядочный палач и изувер, Лаврентий Берия. Некоторые „ошибочные” решения предыдущего наркома были срочно исправлены. Лейпунского освободили в связи с прекращением дела.
Выпустили в Москве и Ландау под поручение физика П. Капицы. Эйнштейн и Жолио-Кюри тоже писали письма — прошения Сталину в поддержку Вайсберга и Хоутерманса. Но они несколько переоценивали свою мировую известность. Сталину в принципе было глубоко наплевать на любые научные авторитеты. Он сам был величайшим ученым, правда, не в физике, а в области марксизма и ленинизма. Однако в рамках партийной борьбы с „ежовскими перегибами” им великодушно подарили жизнь. Фридрих Хоутерманс был выдворен из страны Советов, которая более не нуждалась в услугах известного физика-ядерщика. Александр Вайсберг тоже был признан нежелательным элементом. 5 января 1940 года на мосту через Буг в районе Брест-Литовска Алекса вместе с группой коммунистов-антифашистов офицеры НКВД передали с рук на руки офицерам гестапо. Только через пять долгих лет концлагерей и тюрем Алекс вернулся в Швеции к занятиям физикой…
…Александр Ильич сам взбудоражил себя давно исчерпанными воспоминаниями: „Да, кому-то повезло. И ему — тоже. А вот Шубников, Горский, Розенкевич, Комаров, Николаевский, Гусак и десятки других умнейших и талантливых физиков УФТИ так и пропали бесследно в советских лагерях. А какие были ребята! Какие головы!”
Лейпунский зачем-то подошел к столу, схватив и смяв в кулаке какую-то исписанную бумажку. Потом размахнулся и с силой бросил клочок в пластмассовую мусорную корзину…
…Александр Ильич вернулся из тюремной камеры с прочищенными мозгами в свой родной опустевший УФТИ. Институт мог бы стать одним из лучших научных центров Европы. А теперь что? Все начинать сначала? И с кем?
Он шел медленной шаркающей походкой по коридору второго этажа. Дверь в криогенную лабораторию распахнута настежь (Руэман вернулся в Англию). Доска объявлений очищена от приказов о массовых увольнениях. Навстречу ему, тоже не торопясь, шла худая белая кошка Муся. Первым делом Александр Ильич написал заявление с просьбой восстановить его в Партии. Так было положено в те далекие времена.
У каждого уголка земли есть своя древняя и новая история…
…Первая успешная русская экспедиция в эти пустынные края была предпринята в 1832 году под руководством морского офицера Григория Силыча Карелина. Почти четыре года обследовали первопроходцы северо-восточные брега Каспия, „служащие ключом к будущей торговле со Средней Азией”, как писал Карелин в походном дневнике. Он искал удобное место для основания военного укрепления. На заседании Азиатского комитета Военного Министерства в Петербурге Карелин предложил заложить крепость в районе Мангышлакского полуострова, где была удобная бухта и под рукой хороший строительный материал: белый ракушечник. В 1845 году Григорий Силыч вместе с гарнизоном праздновал окончание строительства Новопетровского укрепления. По этому случаю до глубокой ночи палили с крепостных валов из ружей и пушек. Пороха не жалели: пусть слышат кочевники в степи! Пусть слух о форте и русских пушках донесется до Хивы и Коканда!..
Вскоре этот форпост превратился в место ссылки неблагонадежных. В 1850 году сюда под усиленный надзор был доставлен несговорчивый украинский бунтарь Тарас Шевченко, который провел в этой „незапертой тюрьме” долгих десять лет: „Пустыня совершенно без всякой растительности, песок да камни… Смотришь, да такая тоска тебя возьмет, просто хоть давись, так и удавиться не на чем”.
Зато недра этой земли богаты. Пожилые адаевцы знали, что в далеких урочищах солнце вытапливает из земли черный вонючий сок. Иногда из него образуются большие маслянистые лужи. И горит эта жидкость почище дров и кизяков. Но первый фонтан нефти забил на Эмбе только в начале двадцатого века, а Мангышлак ожидал своей очереди еще полвека. И раньше, чем промышленную нефть, здесь нашли другое стратегическое сырье: урановую руду.
Встал вопрос о немедленном строительстве рудника и обогатительной фабрики. Необжитый район превращался постепенно в новый промышленный регион. Центром его должен был стать строящийся город на мысе Меловом, в сорока километрах от рудника. Во время одной из первых инспекционных поездок министр среднего машиностроения Ефим Павлович Славский предложил назвать будущий сказочно-белый город в желтой пустыне именем Шевченко. В 1964 году на его окраине, в промышленной зоне, начал сооружаться секретный стратегический объект: первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах (БН-350).
Аля попала на работу в проектное бюро, располагавшееся на третьем этаже заводоуправления. В небольшой комнате ютились восемь конструкторов вместе со стеллажами, кульманами и лысым начальником. Проектировать было нечего, зато приходилось разбирать тонны поступающей технической документации. Ее надо было сортировать по системам и службам. Первые экземпляры шли в архив, вторые — строителям, третьи следовало немедленно разносить по отделам. Алю больше всего интересовали документы с грифом „Система охлаждения первого контура”. Сама по себе проблема атомного ядра ее волновала мало — чихать она хотела на все нейтронные поля вместе с урановыми сборками и защитными стержнями. Просто часть этих документов шла в отдел главного механика, в том числе и в бригаду Игоря.
Корпус здания реактора к моменту их приезда в Шевченко был уже возведен. Огромная, высотой в пятнадцатиэтажный дом, бетонная громадина почти без окон внешне походила на тысячекратно увеличенный защитный дот. Здание окружали два ряда колючей проволоки и многочисленные деревянные вышки с дежурными автоматчиками. Ввод в зону и вывод из нее заключенных осуществлялся по специальному широкому коридору партиями примерно по сто человек. Впереди и сзади — солдаты с собаками. Вход для вольнонаемных — через отдельную проходную по особым пропускам.
Зона была как на ладони перед окнами проектного бюро, и Аля не раз в течение рабочего дня откидывала тяжелые шторы и оглядывала ее со смешанным чувством гордости и страха. Если не считать короткого промежутка времени, когда по проходу двигалась плотная серая толпа зэков, сооружение поражало своим монументальным спокойствием и молчаливым величием.
Оно иногда казалось Але мертвым памятником. На самом деле внутри него невидимо для постороннего глаза, кипела бурная жизнь. В лабиринте из тысячи ста шести помещений, сотен переходов и лестниц копошились тысячи людей разных возрастов, характеров и специальностей, как будто чья-то всесильная рука бросила и перемешала их в этом бетонном котле. Где-то там, в человеческом и техническом хаосе, находился со своей бригадой и ее Игорь. Когда Аля вспоминала о нем, это странное здание с высокой вентиляционной трубой казалось ей не таким уж нелепым и страшным.
Бригады механиков переодевались внизу, на нулевой отметке, в комнате отдыха, и отсюда группами и поодиночке расходились по многочисленным помещениям. Сами они пока не участвовали в работе. Строительство велось силами заключенных. Монтаж оборудования производился комплексными бригадами местных СМУ и спецбригадами заводов-изготовителей. Но контроль возлагался на будущих эксплуатационников. Они должны были хорошо знать техническую документацию и быть придирчивыми контролерами. На этой почве бывали и споры, и конфликты. И Игорю приходилось порой выслушивать в свой адрес отборный мат.
Но кое с кем из строителей он сошелся довольно близко, в основном, на почве одинаковых взглядов на исторические и политические события. Например, тощий, интеллигентного вида Виктор Обухов из Рязани оказался тонким знатоком теории социалистического строительства в отдельно взятой стране. Он считал „социалистический эксперимент” в нашей стране обреченным из-за общенародной глупости и нравственной неподготовленности человеческого материала — прежде всего, политических вождей и больших начальников. Но отдельные, в основном, негативные результаты эксперимента Виктор считал полезными для будущего человечества как кошмарное предупреждение о том, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой, но превращается в свою противоположность.
Иногда Обухов любезно приглашал Игоря на перекур в свой „кабинет”, маленькую угловую комнатку между осями „Б” и „В”. В этом запущенном уголке никакие работы давно не велись, и вообще непонятно было его техническое предназначение. На двери была прибита дощечка с надписью „Посторонним вход воспрещен”. Игоря здесь всегда встречали вежливо и радушно. Его дружно приветствовали и торопливо-услужливо подставляли под зад самый высокий удобный камень или прочную стопку кирпичей: „Садитесь, пожалуйста”. Сразу же интересовались, как его здоровье, и наливали самую приличную эмалированную кружку черного напитка, который кипятился на самодельной электроплитке в алюминиевой кастрюле практически весь рабочий день. К Игорю относились как к большому другу, несмотря на то, что он сразу при первом посещении „кабинета” отказался приносить им в зону чай. Зато сигаретами угощал всех и всегда, вплоть до полного опустошения мятой пачки. Светлый отблеск на его личность падал непосредственно от колоритной и уважаемой фигуры Виктора. Уже полгода Обухов считался старшим в восьмой строительной бригаде и официально был назначен техническим секретарем вольнонаемного прораба Михаила Михайловича Сидорова. Последний воспринимался восьмой бригадой зэков как „главный начальник” и одновременно как „балда” и „козел”. Виктор, по их мнению, явно превосходил Михалыча по техническим знаниям и общей смекалке. Обухов позволял себе изредка поспорить с прорабом и предложить более рациональный план предстоящей работы. Одним словом, Виктор Обухов пользовался законным авторитетом в своей бригаде, тем более что это была уже его третья отсидка, за двойное убийство. Сам Виктор, как, впрочем, и остальные зэки, считал, что сидит ни за что, „из-за грубой ошибки следователя”.
Заходя к ним в гости, даже на короткий промежуток времени, Игорь грубейшим образом нарушал режимный Регламент организации работ в зоне. Начальник первого отдела Федор Григорьевич Мартюшев ежедневно без устали проводил по этому поводу устный инструктаж со всеми командированными и вновь принятыми на работу. Мартюшев был ветераном режимной службы, собаку съевшим на всевозможных запретах и регламентах. Юношей он проходил воинскую службу в охранном взводе одного из первых челябинских реакторов, еще в ту горячую пору, когда там непосредственное научное руководство осуществлял сам Курчатов. Видел Федор Григорьевич собственными глазами и своего кумира, Лаврентия Павловича Берия, который прилетал к ним с инспекцией. Мартюшев любил вспоминать, что Берия очень квалифицированно и быстро определял главных виновников аварий и бракоделов. Рассказывал Федор Григорьевич в узком кругу и такой забавный эпизод…
…Молоденький солдат, замерзающий в тридцатиградусный мороз на посту, чтобы согреться, решил потанцевать на плотном снегу русскую плясовую. Увлекся и не заметил приближения из-за угла здания группы начальников во главе с Лаврентием Павловичем. „Вот уж они все смеялись от души над этим танцором. Особенно Берия хохотал”. Правда, потом солдатика все-таки наказали, сослали на север, где он и сгинул в небытие. „Но в тот момент все хохотали до упаду”…
Федор Григорьевич после окончания службы прошел трудный и долгий путь от простого инспектора — через заочный техникум — до начальника режимного отдела. И все благодаря своему упорству. Он искренне считал эту работу самой важной, ответственной и творческой.
Сейчас, в Шевченко, его главным делом была организация „правильного порядка” в условиях использования многотысячного контингента заключенных. Говорили даже, что он собирается писать на эту тему то ли кандидатскую диссертацию, то ли просто научное исследование. Первая заповедь Мартюшева гласила: вступать в какой-либо контакт с работающими на зоне зэками — категорически запрещается! Действовать можно только через прорабов строительного треста.
Нельзя сказать, что Федор Григорьевич перестраховывался. „Случаи” действительно имели место. Порой рабочих втягивали в карточные игры „по мелочи” (просто так, для небольшого азарта), в которых вольным игрокам почему-то всегда в конечном счете не везло. Иногда зэкам удавалось вовлечь командированных интеллигентов в горячие политические или литературные диспуты, после которых у столичных гостей случайно исчезали наручные часы, меховые шапки или кожаные портфели с технической документацией. Бывали случаи, когда зэки навязчиво предлагали купить у них по бросовой цене всевозможные изделия их самобытного творчества: портсигары, шкатулки и ножи с красивыми рукоятками. Понятно, что все необходимые материалы для творчества зэки безжалостно вырезали и извлекали из монтируемого оборудования. Уследить за зэками и предотвратить кражи и поломки щитов и пультов было немыслимо. Однако и обойтись без трудового участия тысяч дармовых строителей было невозможно. Зэки тоже понимали, что им повезло: попали на теплый объект. И поэтому сами старались не переходить грань терпения администрации. Драки и убийства в зоне бывали, но это были их внутренние дела и разборки.
Федор Григорьевич заканчивал инструктаж обычно с патетикой, на нервном взлете:
— Ни в какие разговоры не вмешиваться! Ни на какие реплики не реагировать! Не будете соблюдать режим — вас же ограбят, изнасилуют, убьют и забетонируют где-нибудь под лестничной клеткой. И никто… ни одна ищейка не найдет вас в этом лабиринте. Понятно?
Однако Игорь своим неразвитым умом не вполне осознавал, за что его могут убить или забетонировать, и поэтому полностью доверял Обухову. В ответную благодарность за доверие бригада Виктора работала в производственных помещениях, которые курировал Игорь, значительно старательнее и аккуратнее, чем в остальных.
Зэки встречали Игоря в своей комнате отдыха заранее подготовленными вопросами:
— Когда планируется закончить монтаж?
— Когда их собираются выводить из зоны?
— Опережаем ли мы американцев по части быстрых нейтронов?
— А что случится, если корпус реактора треснет или, еще хлеще, разорвется пополам?
В некоторых вопросах Игорь сам был недостаточно силен, но всегда старался разъяснять толково, с заиканием, тут же рисуя техническую схему или субординацию подвернувшейся щепкой на пыльном бетонном полу. Зэкам импонировало, что Игорь разговаривает с ними как с равными, на полном серьезе. Во время беседы Игорь часто оглядывал лица своих учеников, пытаясь понять, насколько глубоко они схватывают новые технические знания. К его сожалению, чаще всего он видел перед собой бестолковые усталые лица, хитрые бегающие глаза и приоткрытые рты с желтыми одинокими зубами или беззубыми деснами.
Любимой темой зэков был разговор про вождя всех трудящихся, товарища Сталина, про его гениальный ум и великий талант руководителя. Все они были абсолютно уверены в том, что, если бы Сталин был сейчас жив, то этот паршивый реактор уже давно бы построили. Даже раньше запланированного срока.
— Вот был настоящий мужик! — восхищенно говорили они взахлеб. — Не то что, например, этот козел Михалыч.
С этим Игорь искренне соглашался, в этом была определенная доля правды. Хотя в глубине души Игорь считал Сталина самым ординарным бандитом, недалеко ушедшим от Михалыча по своему интеллекту и умственному развитию.
— Ну ладно, ребята, спасибо за угощение, — Игорь поднимался, отряхивая брюки. — Мне пора. Есть небольшая просьба. Поднимите в четыреста восьмом станину сантиметров на десять.
Зэки сразу же соглашались с тем, что действительно надо бы поднять станину. Обещали выполнить просьбу.
— Приходите завтра, пожалуйста. Поговорим еще о чем-то. Виктор лично выводил Игоря из „потайки”, пожимал руку и на прощанье говорил всегда одну и ту же фразу:
— Пока, Игорь. Привет жене.
Но Игорь никогда не рассказывал Але про Виктора и его бригаду. Не хотел зря тревожить.
В нерабочее время Игорь вспоминал про Обухова очень редко. Только иногда, когда засматривался из окна на красочный ночной горизонт в степи. В пяти километрах сияли, мерцали и переливались сотни разнокалиберных огней. Эта фантастическая пляска далеких приземных звезд в черноте ночи не была навязчивым миражом. Там другой жизнью жил параллельный город. Размещались, прижавшись к земле, три огромных лагеря заключенных, откуда каждое раннее утро, еще до начала рабочего дня, выползали один за другим сотни больших грузовиков с закрытым кузовом и двумя автоматчиками. С интервалом в 30 метров между машинами длинная колонна колесных близнецов держала путь в рабочую зону БН-350.
„Где-то там, среди этих огней, — думал Игорь, — находится сейчас Виктор Обухов. Со своими надеждами и мыслями о жизни. Смотрит ли он в эту минуту с завистью на ночной Шевченко? Или давно уже спит? Побудка-то у них ранняя. Наверно, спит…”
В 1944 году Лейпунского пригласили на преподавательскую работу в Москву, в новый механико-математический Институт (будущий МИФИ). А через год он был привлечен к сотрудничеству с НКВД в качестве заместителя девятого Главного управления по науке. Именно тогда в небольшом городке Обнинске Калужской области по предложению Берия начала сооружаться секретная научная лаборатория „В”. Это была одна из четырех подобных лабораторий, входивших в систему НКВД и предназначенных для использования научного багажа вывезенных из Восточной Германии ученых-физиков. Это представлялось разумным и логичным в условиях нехватки собственных физиков-ядерщиков, многие из которых погибли в лагерях еще до начала войны. Берия, отвечающий перед Сталиным лично за быстрейшее создание атомной бомбы, рассуждал правильно. Почему бы не использовать нерастраченные мозги немецких ученых, вывезенных в качестве научной контрибуции из восточной зоны? Конечно, с русским языком у них похуже, чем у наших евреев-теоретиков, но это не такая уж беда. Почувствуют необходимость — быстро осилят. А уж как заставить ученых добросовестно и благодарно трудиться на благо Социализма, Лаврентий Павлович хорошо знал из богатого жизненного опыта. Знающий иностранные языки Лейпунский был подходящей кандидатурой на роль организатора. В 1948 году Александр Ильич переезжает сюда с семьей на постоянное место жительства в небольшой деревянный домик со скрипучей лестницей, расположенный совсем рядом с основным зданием лаборатории. Вскоре небольшая „закрытая” лаборатория превратилась в Физико-Энергетический Институт (ФЭИ).
В начале пятидесятых годов определились две основные научные темы. Первая была связана с мирным использованием атомной энергии и строительством опытной атомной электростанции (руководитель Д.И. Блохинцев). Эта научная тема обещала достаточно быстрое и успешное решение. Атомный реактор с графитовым замедлителем нейтронов и водяным охлаждением, проектируемый для АЭС, уже имел солидный опыт эксплуатации в Челябинске-40. Хотя там он использовался в сугубо военных целях, для получения оружейного плутония.
Темой второго отдела, который возглавил Лейпунский, была выбрана проблема быстрых реакторов. Еще в конце сороковых годов Александр Ильич пришел к твердому убеждению, что управляемую цепную реакцию деления можно получить не только в тепловых атомных реакторах с „замедлителями” нейтронов, но и без „замедлителя”, исключительно на „быстрых” нейтронах. Но для этого потребуется использовать в качестве топлива не природный уран, а „искусственный”, обогащенный изотопом 235. Конечно, такое топливо будет более дорогостоящим. Зато у быстрого реактора есть очень важное преимущество. В нем можно получить ядерного топлива больше, чем сожжено. Иными словами, быстрый реактор может быть использован для воспроизводства ядерного горючего. Впоследствии его стали называть реактором-размножителем. Александр Ильич уже тогда прекрасно понимал главную трудность при конструировании реактора… При использовании обогащенного топлива потоки нейтронов в активной зоне такого реактора будут значительно выше, чем в обычных реакторах с замедлителями. Следовательно, и удельное тепловыделение, и разогрев топливных элементов будут также выше. По этой причине теплосъем в них невозможно будет осуществить обычной водой. Единственными реальными охладителями могут быть только жидкие, расплавленные металлы, обладающие большей теплопроводностью и высокой температурой кипения.
Конечно, в то время в СССР, да и во всем мире, не существовало научных методик расчета подобных реакторов. Не было опыта использования жидких металлов в качестве охладителей. Да и вообще, проблема быстрых реакторов в период атомной гонки представлялась проблемой не сегодняшнего дня, а далекого двадцать первого века. Она не обещала быстрого триумфа. И все-таки Лейпунский сознательно выбрал эту тему. И „увяз” в ней до конца своей жизни. Отныне оба отдела ФЭИ стали в какой-то степени конкурентами. В конечном итоге обе научно-технические проблемы были успешно решены и принесли заслуженную славу этому Институту. Но не все шло гладко, особенно во втором отделе…
В марте 1954 года сотрудники Лейпунского по технической небрежности допустили на одном из испытательных стендов сверхкритическую сборку топлива. Начался мгновенный неконтролируемый разгон мощности. Цепная реакция деления продолжалась, по-видимому, несколько секунд. Но этого было достаточно для серьезного переоблучения всего персонала, находящегося в помещении. Александр Ильич стоял в этот момент в десяти метрах от стенда, не вмешиваясь в обычную работу своих подчиненных. Последствия были тяжелые. В ту же ночь всех доставили в Москву, в Институт биофизики. Диагноз — острая лучевая болезнь. К счастью, обошлось без смертельного исхода. Несколько дней работала комиссия по расследованию причин аварии. Всю вину и ответственность принял на себя Лейпунский.
А через два месяца контролируемая цепная реакция была успешно осуществлена в первом отделе, на реакторе АЭС. 26 июня 1954 года первый пар с этого реактора был подан на турбогенератор. Впервые получена электроэнергия от атомного котла! Первая АЭС вступила в работу. О городе Обнинске узнал весь мир. Сюда потоком хлынули делегации ученых и политических деятелей. На фоне этого шумного триумфа пуск в следующем году экспериментального быстрого реактора БР-2 с ртутным охлаждением прошел почти незамеченным. Реактор предназначался для физических исследований и определения коэффициента воспроизводства. Незадолго до его пуска у Лейпунского случился тяжелый, обширный инфаркт. АИЛ — таково было уважительное прозвище Александра Ильича Лейпунского в Институте — надорвался! Он долго болел. Сказались и переоблучение во время аварии, и хроническое отравление парами ртути при подготовке к пуску БР-2, и общее переутомление И все-таки после выхода из больницы он безоглядно ринулся в работу. Несмотря на успешную работу БР-2, АИЛ решился на его полный демонтаж. Он считал его неперспективным, так как ртуть обладает сравнительно низкой температурой кипения и не может быть по этой причине использована для мощных реакторов. На месте БР-2 началось строительство нового реактора БР-5 с использованием в качества охладителя жидкого натрия. В конце 1958 года натриевая технология была освоена, реактор введен в эксплуатацию. И оказался устойчивым, надежным и достаточно простым в эксплуатации. В следующем году Лейпунскому и нескольким сотрудниками его отдела была присуждена Ленинская премия за успешное решение в СССР проблемы реакторов-размножителей на быстрых нейтронах.
Но сам Лейпунский категорически не хотел видеть в акте награждения завершение проблемы. Он искренне считал, что теперь предстоит самое главное: проектирование и строительство мощного промышленного реактора, предназначенного для выработки пара и электроэнергии. Александр Ильич уже видел его перед глазами. Огромное бетонное здание с высоченной вентиляционной трубой. А перед фасадом — высокие деревья с развесистыми кронами, клумбы ярких цветов, пешеходные дорожки из розовых плиток. Великие ученые — всегда немного поэты в душе и идеалисты…
Решить вопрос о строительстве такого дорогостоящего объекта мог только главный Хозяин страны, Первый секретарь ЦК Партии. И Лейпунский сумел при личной беседе с Хрущевым убедить его в целесообразности подобной стройки. Наряду с техническими аргументами фигурировал и эмоциональный: „Утрем нос империалистическим засранцам!” Местом строительства был выбран город Шевченко в Казахстане.
Модель советского атомного опреснителя была выставлена в 1967 году на Всемирной выставке в Монреале. Зарубежным ученым проект казался фантастикой. Они не подозревали, что БН-350 уже третий год строится в безводной степи. Но увы! Объект оказался настолько сложным и дорогостоящим, что даже централизованной индустрии СССР оказалось не по зубам его авральное сооружение. Строительство продолжалось почти десять лет.
Наверное, нигде не относились к сталинскому лозунгу „Кадры решают все” с такой серьезной почтительностью, как в Министерстве среднего машиностроения. Целый главк занимался исключительно вопросами подбора кадров и контролем за личным составом в закрытых городах. Особое внимание уделялось подбору кандидатов на главные руководящие должности.
На новые строящиеся объекты приглашались опытные организаторы, прошедшие огонь, воду, медные трубы и радиацию на первых атомных „точках” в Челябинске-40 или Томске-7.
В народе таких называли мягко и ласково: „старые пердуны”. И БН-350 не был исключением из правил: директором его был назначен Анатолий Ефимович Тимофеев, прошедший „школу жизни и смерти” на первых челябинских реакторах под крылышком И.В. Курчатова.
Тогда это были сверхопасные и сверхсекретные производства, поставляющие первый оружейный плутоний для ядерных бомб. К концу шестидесятых годов они технически безнадежно устарели и выработали свой проектный срок безопасности.
Анатолий Ефимович прошел на челябинских котлах через десятки серьезных аварий. Остался жив. Но вполне благополучно проскользнуть мимо радиационных клешней было, разумеется, невозможно. Интегральная доза его облучения по личному архиву превысила к этому времени восемьсот рентген. Это почти вдвое выше смертельной дозы при разовом, единовременном облучении. Счастье, что его доза была растянута во времени и складывалась из нескольких „аварийных” слагаемых. Тело Анатолия Ефимовича представляло собой любопытную модель переоблученного биологического организма, сохранившего полную работоспособность. Поэтому он был объектом постоянного контроля и исследования со стороны медицинской науки.
Тимофеев знал челябинские котлы назубок. Помнил на память расположение всех задвижек, контакторов, ключей управления. Видел во сне облезлые места штукатурки, стертые временем надписи на трубопроводах, сломанные ступеньки главной лестницы (восьмая и четырнадцатая). Анатолий Ефимович давно уже был награжден за свой доблестный труд медалями, орденами и Ленинской премией. Но теперь добросовестная работа потеряла для него запах творческого поиска, героического энтузиазма и самопожертвования; стала просто унылой обязанностью, превратилась в автоматическое функционирование технического робота. Он осознал вдруг, что если не примет в ближайшие месяцы какого-то кардинального решения в своей судьбе, то или повесится, или безнадежно запьет…
Поэтому-то он был сегодня так приподнят и счастлив: его кандидатуру утвердили в Министерстве. Он взял две кружки разливного пива в летнем кафе „Ласточка” и у столика нос к носу столкнулся с главным механиком одного из реакторов Константином Ивановичем Василенко. Настроение у Тимофеева было поющим. Разговорились по душам. У Константина Ивановича, оказывается, были свои причины для душевного сбоя. Высокий, красивый, добропорядочный Костя мучился, не зная, какие шаги предпринять для смягчения личной драмы. Жена его, Вера Николаевна, красавица со светлыми локонами и голубыми глазками, никогда в жизни не работала, потому что искренне полагала, что при данной ей от природы броской внешности работать в скучном советском учреждении было бы непростительным грехом. В то же время ее кипучая, экспансивная и даже взбалмошная натура противилась тихому укладу семейной жизни. Вера Николаевна маялась и скучала по званым вечеринкам и официальным банкетам. Незаметно она пристрастилась к качественным крепким напиткам из Армении. В последние годы свое свободное время она проводила в походах по многочисленным знакомым, к которым, конечно же, неудобно было заходить с пустыми руками, а уходить — трезвой. Для Константина Ивановича его красавица-жена, его когда-то до умопомрачения любимая Верка превратилась в постоянную головную боль, в неразрешимую жизненную проблему. После одного из семейных скандалов он собрал большой кожаный чемодан и переехал в ведомственную гостиницу. Прибавились мелкие хозяйственные заботы, но зато вокруг установилась чудесная тишина, подчеркиваемая тиканьем будильника. Но даже здесь Вера Николаевна не оставляла его в покое и время от времени устраивала пьяные дебоши.
— Я еще доберусь до тебя, сукин кот! — кричала она на весь этаж визгливым голосом. — Ты у меня, миленький, в парткоме по-другому заговоришь.
Но в парткоме спускали на тормозах его семейные дела. Человек он был в городе авторитетный, полезный и положительный. Ну не повезло с бабой, что тут поделаешь?
Более всего Константину Ивановичу было жаль даже не заплеванную романтическую молодость, а взрослеющую дочь Людмилу. Она закончила школу вполне прилично, но, по непроверенным слухам, тоже катилась под откос. Кто-то видел ее вечером в городе под руку с мамашей, и обе были хорошо навеселе. Кто-то слышал о ее гульбе в подозрительных молодежных компаниях. Одним словом, все неладно. Покинуть этот благоустроенный закрытый город стало для Василенко насущной необходимостью.
— Костя, давай еще по одной! — произнес Анатолий Ефимович сочувственно. — А выход есть! Поедешь со мной в Шевченко, на „быстрый”? Главным инженером?
Василенко был ошарашен возможностью мгновенного решения всех жизненных проблем.
— Анатолий Ефимович, если бы вы сказали мне: „Поедем завтра в Антарктиду, на зимовку к пингвинам!” — то и тогда я бы ответил не раздумывая: „Да! Поедем!”
— Ну что, по рукам?
— Считайте, что договорились.
— Главное, чтоб за нами Померанцев не потянулся. Как ты к нему относишься?
— Да мне-то до фени. Поедет — так поедет. Будет другой — сработаемся с другим…
Глеб Борисович Померанцев мог претендовать на должность заместителя директора по научной части. Он тоже рвался в Шевченко. Свою научную степень и Ленинскую премию Померанцев получил по личной рекомендации Курчатова, который оценил удивительную научную интуицию молодого физика во время ликвидации одной из первых аварий…
…На тех первых котлах контроль расхода воды и температуры в каждом технологическом канале был весьма ненадежным. Распухание и деформация урановых блочков в каком-либо канале давали о себе знать, конечно, и по косвенным признакам и изменениям некоторых общих параметров. В первую очередь по увеличению радиоактивного фона в реакторном зале. Именно так и произошло в тот памятный день. Появились аэрозоли в здании, затрещали предупредительные звонки и завыли аварийные сирены. Красные лампы в реакторном зале пугающе вспыхивали мощными импульсами. Реактор был немедленно остановлен. Надо было срочно найти аварийный канал. Но как выделить его из сотен других, совершенно аналогичных, если расходомер дал сбой и не зафиксировал номер канала? В каком из них расплавилось топливо? Где она, эта мерзкая аварийная „сопля”? Срочно вызвали Курчатова.
— Игорь Васильевич, „козел” на первом аппарате. Реактор остановлен. Фон выше всякого…
— Сейчас буду.
Курчатов положил трубку. Вылез из массивного кресла и похлопал себя по карманам. Бросил привычный взгляд на любимые напольные часы, огромного каслинского медведя, и пошел к двери. „Разберемся”, — уверял он сам себя по дороге. Однако разобраться наскоком не получилось.
Десятый час он корпел с несколькими сотрудниками над приборными диаграммами. Каждый высказывал „умные” теоретические предположения, которые Курчатов трезво, неумолимо браковал. Из Москвы уже дважды звонили. Игорь Васильевич отвечал традиционно-расплывчато: „Принимаются все необходимые меры”. К вечеру физики, сидевшие над бумагами и оперативными журналами, надоели друг другу. Новых идей уже не высказывали. Пили чай, помалкивали. В этот момент научного затишья в бой рванулся молодой Глеб Померанцев. Он самоуверенно и с некоторым вызовом предложил Курчатову предоставить ему лично все журналы с записями температур в каждом канале, которые велись инженерами управления со штекерного табло, некоторые приборные диаграммы и отдельный, непрокуренный кабинет. Он, Померанцев, определит за несколько часов дефектный канал. „С достаточной степенью точности”, — добавил он.
— Что значит „с достаточной степенью?” Определишь номер канала, но окажется совсем не тот? — ухмыляясь, спросил Курчатов.
— Нет, не так. Я определю не точный номер канала, а дефектный эпицентр. Группу из пяти-шести каналов. Их придется поочередно извлекать из котла для визуального осмотра.
Конечно, пять-шесть каналов — это не тысяча. На это можно было бы пойти. Игорь Васильевич устало, но поощрительно махнул рукой.
— Ладно, Глеб, действуй. Если правильно определишь, гарантирую тебе степень кандидата технических наук. — Курчатов улыбнулся. — Без диссертации и защиты. Иди в мой кабинет.
Через четыре часа Померанцев вышел из кабинета, собранный в кулак. Правую, парализованную с детства руку аккуратно придерживал левой. Ногу волочил сильнее, чем обычно.
— Ну что? — спросил Курчатов в упор. — Решил задачку?
— Номер 12–16 и четыре канала вокруг него, — уверенно заявил Померанцев.
— А если сбрешешь?
— Тогда уволюсь „по собственному”.
Курчатов дал добро на поочередное извлечение каналов, указанных Померанцевым. Извлечение из активной зоны реактора технологического канала с помощью подъемного крана — тяжкая процедура. Она опасна не только предельным повышением радиации в зале. Она еще более опасна вероятностью рассыпания в зале смертельно опасных урановых блочков, что является по сути дела новой, дополнительной аварией. И при ликвидации последней переоблучение персонала, очень многих людей, неминуемо. Курчатов все это понимал прекрасно и все-таки, выслушав аргументацию Глеба, „дал добро” на операцию.
Дефективным оказался третий по счету канал, № 13–17. Его извлекли, аккуратно перетащили с помощью крановой тележки в угол зала и утопили в водяном могильнике.
— Герой, однако, ты, Померанцев! — поздравил Глеба Курчатов.
— Считай себя уже кандидатом наук.
Курчатов сдержал слово. Померанцев действительно стал кандидатом без диссертации и традиционной защиты: по совокупности секретных научных отчетов.
Так началась научная карьера Глеба Борисовича. С той самой памятной аварии он безнадежно „заболел” распространенной научной „болезнью”. Он искренне уверовал, что главным действующим лицом на атомном реакторе является научный руководитель и его лаборатория физиков и экспериментаторов. А все эти эксплуатационники, механики и КИПовцы — сущая шантрапа, только мешающая своим консерватизмом совершенствованию атомных котлов. Померанцев постоянно влезал со своими научными экспериментами в ремонтные работы механиков, проводимые на планово-предупредительных остановках.
Тимофеев недолюбливал Померанцева, считал его бесполезной навязчивой осой.
— Этому горе-ученому трын-трава до государственного плана!
— бурчал Анатолий Ефимович. — Ему только и дела, что проводить свои надуманные эксперименты и руководить своими диссертантами.
— Он же ничего не понимает в науке! — в свою очередь говорил о Тимофееве Глеб Борисович. — Уткнулся в свой план и все. Дальше своего носа не видит ничего. А вперед кто будет смотреть? Как будто эти реакторы — последнее слово науки и техники!
Померанцеву челябинские котлы к концу шестидесятых надоели так же, как и Тимофееву. Глеб Борисович давно уже слышал о совершенно новом направлении в реакторостроении — о быстрых реакторах. „Так неужели, — думал он, — я упущу такой подходящий момент, как строительство первого в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах?”
И Померанцев через голову Тимофеева, через Москву, по ходатайству академика Александрова получил свое назначение на юг, в казахстанскую степь.
Так три челябинских „старых пердуна” оказались вместе в городе Шевченко.[1]
Секретарь заводской парторганизации Валериан Александрович Шеманский вел разговор в мягкой вкрадчивой манере опытного агитатора.
— Игорь Евгеньевич, вашей главной задачей будет не столько ознакомить своих слушателей с глубинами диалектического материализма, сколько сблизить наше руководящее ядро в неформальной обстановке партийной учебы. Вы сами понимаете, приближается пуск объекта. Все они из разных городов, им нужно притереться друг к другу. От их сплоченности и дружеского расположения во многом зависит успех общего дела.
— Это я все хорошо понимаю, — нетерпеливо перебил Игорь, — но я-то чем могу помочь?
— Здесь вот какой расчет. — Шеманский продолжал, не обращая внимания на возражения юного собеседника. — Все они люди в возрасте, проработавшие на атомных объектах по двадцать лет и более. Одним словом, старая гвардия. Разумеется, они будут относиться к вам как преподавателю скептически, даже с насмешкой. Вы для них — философский массовик-затейник. А вам, Игорь, надо будет создать раскованную атмосферу дружеских дискуссий на абстрактные философские темы. Формальный подход к учебе тут неуместен. Это должна быть скорее не учеба, а интеллектуальный отдых. Понятна вам идея?
— Валериан Александрович, вы явно преувеличиваете мои способности. Для решения подобной задачи нужно быть философом, психологом и актером одновременно. Я, честное слово, не обладаю такими задатками.
— А уж об этом позвольте нам самим судить. — Шеманский двигался к своей цели, как ледокол „Челюскин”. — И еще вот что скажу. Все должно быть достаточно серьезно с вашей стороны, но… в то же время… без страха допустить идеологическую ошибку или бросить аполитическую реплику. Вы меня понимаете? Проверять вас не будем, не беспокойтесь. Тему вам подобрали: „Философские основы марксизма-ленинизма по книге В.И. Ленина „Материализм и эмпириокритицизм”. Так что с понедельника — за дело!
Игорь грустно затих, осознав, что попал в партийную ловушку.
— Справишься успешно с заданием, — сказал на прощание Валериан Александрович, — я лично дам тебе, Игорь, рекомендацию в партию.
Игорь вообще не собирался вступать в организацию коммунистов, но на всякий случай сказал „большое спасибо”.
Вышел на улицу с путаницей в голове. С одной стороны, дополнительные хлопоты по пустому делу. С другой стороны, это предложение давало ему возможность познакомиться поближе со знаменитыми Курчатовскими сотрудниками, а при желании — покомандовать или попугать итоговым неудом…
Четыре дня Игорь по вечерам прокуривал кухню. Штудировал первоисточник. Выписывал длинные цитаты вместе с мыслями в кавычках и знаками препинания. Голова его пухла от напряжения. Аля через каждый час подносила ему крепкий чай с лимоном, гладила по волосам, ласково целовала сзади в макушку, не отрывая от важного дела. „Какой же он у меня”, — думала про себя с затаенной гордостью.
В результате добровольного углубления в метафизические дебри Игорь совершенно запутался в сумбурной философии пролетарского вождя. То ли дело — эволюция Вселенной. Здесь все было совершенно непонятно, и поэтому никто из мыслителей не претендовал на роль гегемона, знающего конечную истину. А тут?! Цитат набралось аж на пятнадцать страниц, что давало Игорю уверенную надежду на победу: в случае чего ими можно было легко швырять как булыжниками в головы сомневающихся учеников…
Игорь осторожно отодвинул на край стола зеленую вазу с бумажными цветами и уверенным движением раскрыл журнал посещаемости.
— Тимофеев! — произнес он спокойно и величественно, как и подобало строгому преподавателю.
Разговоры мгновенно затихли. Двенадцать пар послушных глаз обратились к учителю.
— Я, — отреагировал Анатолий Ефимович и непроизвольно привстал.
— Садитесь, — разрешил Игорь. — Баюклин!
— Здесь.
— Самаркин!
— Я.
— Померанцев!
— Я, — произнес Глеб Борисович, неловко поднимаясь на здоровой ноге.
— Садитесь, пожалуйста. Давайте, товарищи, не будем вставать: мы же не в начальном классе.
Игорь прошелся по всему списку и захлопнул журнал.
— Дорогие товарищи! — начал он вступительную беседу. — Сегодня мы с вами приступаем к изучению философского труда В.И. Ленина „Материализм и эмпириокритицизм”, написанного им в 1908 году под псевдонимом Вл. Ильин. Я надеюсь, вы предварительно ознакомились с этой работой?
Все ученики дружно заулыбались, сочувствуя его юной наивности.
Эта первая фраза была произнесена Игорем, чтобы откровенно, во всей неприкрытой наготе, продемонстрировать почетным ученикам свой прирожденный дефект речи. Чтобы они примирились с его заиканием и не ожидали ничего другого. По реакции стало понятно, что слушатели осознали и примирились.
— Вы знаете, что гениальная книга В.И. Ленина является, образно говоря, философской библией марксизма. Хотя… в 1909 году в российских журналах было опубликовано много критических рецензий.
В этом месте Игорь раскрыл свой цитатник и надел очки.
— Некто Авраамов, например, в журнале „Возрождение” пишет: „Читатель будет сильно разочарован, если будет искать… в труде Вл. Ильина… новое, более глубокое трактование диалектического материализма, чем то, какое мы имеем в глубоко продуманных „Философских очерках” другого вдумчивого и серьезного ученика Плеханова, Л. Аксельрода”. В другом журнале, „Критическое обозрение”, М. Булгаков так заканчивает свою рецензию: „Если даже признать справедливыми материалистические положения г. Ильина о существовании внешнего мира и его познаваемости в наших ощущениях, то все же эти положения не могут быть названы марксистскими, так как и самый отъявленный представитель буржуазии нисколько в них не сомневается”.
На лицах слушателей застыло испуганное удивление, а Игорь продолжал и продолжал напрягать их нервную систему.
— Хочу привести еще несколько цитат из рецензии Ортодокса („Современный мир”, № 7): „В аргументации автора мы не видим ни гибкости философского мышления, ни точности философских определений, ни глубокого понимания философских проблем… Полемика Ильина… всегда отличалась крайней грубостью, оскорбляющей эстетическое чувство читателя… Авенариус — „кривляка”, „имманенты” — „философские Меньшиковы”, Корнелиус — „урядник на философской кафедре”…”Петухи Бюхнеры, Дюринги и К°… не умели выделить из навозной кучи абсолютного идеализма диалектики — этого жемчужного зерна”. Уму непостижимо, как это можно нечто подобное написать; написавши, не зачеркнуть, а, не зачеркнувши, не потребовать с нетерпением корректуры для уничтожения таких нелепых и грубых сравнений”.
Тут Игорь оторвался от своих листков и снял очки, чтобы подвести некоторые итоги. Он попытался „свежими” цитатами зацепить внимание своих учеников, установить доверительный контакт с аудиторией и побудить ее к самостоятельному размышлению.
Однако то, что он увидел, выбило из намеченной колеи. Перед ним застыли бледные испуганные лица. Никогда в своей сознательной жизни „старые пердуны” ничего подобного не слышали о гениальном вожде мирового пролетариата: „Ни гибкости философского мышления, ни глубокого понимания философских проблем!” И это о великом Ленине! Некоторые непроизвольно поглядывали на дверь кабинета: не подслушивает ли кто в коридоре? Хотя прекрасно знали, что, кроме диспетчера и охраны на выходе, никого в здании управления в столь поздний час быть не может. Другие подозрительно оглядывали стены и потолок: нет ли в этом кабинете подслушивающих устройств?
Все эти двенадцать руководителей были воспитаны в светлой атмосфере всепобеждающего социализма Сталина-Берии, когда люди и за более мелкие политические промашки исчезали в неизвестном направлении. Они расценили вступительную речь Игоря как „хитрую мышеловку”, как проверку их собственной политической лояльности. Атомные первопроходцы, орденоносцы и лауреаты многочисленных премий, не раз рисковавшие своим здоровьем и жизнью во имя успеха общего дела, вдруг мгновенно и трусливо спрятали, словно улитки или черепахи, свои головы в защитный панцирь гробового молчания. Игорь понял, что перегнул палку и что надо немедленно искать новый подход, чтобы вывести их из политического столбняка. Решил перейти к индивидуальным вопросам.
— Анатолий Ефимович, начнем с вас. Какая, по-вашему, проблема в философии является центральной и решающей? С места, пожалуйста.
Тимофеев, сразу вспотевший от политического напряжения, лихорадочно пытался вспомнить лекции по ОМЛ в далекие студенческие годы. Отрапортовал уверенно.
— Главным вопросом философии является вопрос об отношении бытия и сознания. Диалектический материализм учит нас, что первичным является бытие, а сознание — вторично.
Анатолий Ефимович полностью исчерпал на этом свои философские познания и замолк.
— Правильно! — отечески поддержал Игорь. — Это и есть сокращенная формулировка главной проблемы. А могли бы вы привести какие-либо аргументы в пользу истинности вашего заключения?
Тимофеев покраснел, натужив свой мыслительный аппарат. Но никакие доводы в голову не приходили. Он упорно молчал.
— Хорошо, — продолжил Игорь, — я попытаюсь поставить вопрос по-иному.
Он встал из-за стола и начал прохаживаться перед учениками.
— Послушайте внимательно мое рассуждение… Вот перед вами стоит светлый полированный стол. — Игорь легонько стукнул ладошкой по его поверхности. — Вы его видите, можете оценить его размеры. Вправе дотронуться до него рукой. Вы его можете, так сказать, осязать. Если же захотите пройти напролом через пространство, занятое столом, то наверняка ушибетесь, почувствовав боль от удара об острый край. Правильно?
Раздались возгласы „конечно” и „правильно”.
— Тогда пойдем дальше. Доверяя своим чувствам: зрению, осязанию, и т. д., — я делаю вывод, что стол этот реально существует. Существует, потому что воспринимается мною. Существовать — значит быть воспринимаемым!.. И вот теперь я снова обращаюсь к вам, дорогие товарищи. Логично и здраво ли мое суждение? Верно ли приведенное мной рассуждение с точки зрения диалектического материализма. Глеб Борисович, — обратился Игорь к Померанцеву, — каково ваше мнение на сей счет?
Померанцев чувствовал какой-то подвох со стороны юного „мудреца” и в последний момент заколебался:
— Вроде бы да… С первого взгляда… Как будто логично.
— А вы, Шведенко, согласны с Померанцевым? Главный приборист колебался еще сильнее Померанцева.
— Я согласен. Но не совсем. Отчасти — да, а отчасти — нет. Надо еще подумать поглубже.
— А кто еще согласен? Поднимите руки, пожалуйста.
Под авторитетным взглядом Померанцева поднялись еще несколько неуверенных рук. Остальные воздержались.
Игорь позволил себе сделать глубокомысленную паузу перед включением в действие ораторской гильотины.
— Из ваших ответов я вынужден заключить, что вы никогда не читали первоисточника. В противном случае вы бы знали, что это рассуждение, приведенное Лениным на одной из первых страниц, принадлежит реакционному идеалисту епископу Беркли и датируется 1710-м годом. Ну а теперь попробуйте опровергнуть поповское высказывание с позиций материализма.
Последнее предложение учителя расшевелило начальников. Заговорили шумно и все разом. Про Игоря вообще забыли, как, впрочем, и о замаскированных микрофонах. Кричали до хрипоты, размахивали руками, пока через двадцать минут не выдохлись. Не пробившись к истине через коллективное мнение, вспомнили о третейском судье.
— Игорь Евгеньевич, мы сдаемся, — произнес за всех Василенко. — В чем же логическая ошибка в этом рассуждении?
Игорь вздохнул и решил окончательно добить несмышленых атомщиков:
— Да нет там никакой логической ошибки, нет и все! Напрасно искали, мои милые.
— Как же так? — всполошились учащиеся. — Кто же прав? Материалист или идеалист? Что же первично: материя или дух?
Игорь поднял обе руки вверх, взывая к тишине:
— Дорогие товарищи, если бы на ваши вопросы можно было бы дать логически четкий, доказательный и обоснованный ответ, то вся мировая философия разом, в один момент, перестала бы существовать. Увы, сформулированные более двух тысяч лет назад Платоном, Аристотелем, Демокритом и другими греческими мудрецами основные положения идеализма и материализма не имеют в своей структуре явных логических изъянов. Поэтому-то и тот, и другой взгляд на мир преспокойно дожили до наших дней. Как видите сами, вплоть до пуска реактора на быстрых нейтронах.
Померанцев попытался возразить Игорю, потому что никак не мог примириться во второй половине двадцатого века с каким-то паршивым идеализмом Платона.
— Я все-таки считаю, — произнес он авторитетно, — что существуют определенные критерии истины: научный эксперимент, историческая практика и прочее.
— Отчего же ваша историческая практика так и не расставила все точки над „и”? — парировал Игорь язвительно, заикаясь сверх привычной нормы.
Глеб Борисович обиделся на бестактность учителя, но промолчал. Только покачал головой в знак своего упорного несогласия. Остальные учащиеся притомились от напряженной умственной работы и в спор не лезли. Игорь решил, что пора закругляться:
— На этом первое занятие разрешите считать закрытым. Автобус в город будет через пятнадцать минут. Так что десять минут — на произвольные мысли, сплетни и анекдоты. Следующее занятие — через две недели. Благодарю за внимание.
Услышав слово „анекдоты”, Соломенцев вылез первым:
— В парке по берегу пруда прогуливается стройная девушка. Мужику сзади она приглянулась. Он говорит ей: „Девушка, вы такая красивая, как лебедушка. Как будто сейчас нагнетесь к воде и сами поплывете”. А девушка поворачивает к нему голову и бросает: „Охота была жопу мочить”.
Игорь ясно представил себе парк, пруд, девушку и лебедей. Девушка ему тоже понравилась сзади. Такая стройная. Надо бы запомнить…
Уселись в „рафик”. Шофер рванул на полной скорости. Тимофеев от имени всех учащихся поздравил Игоря Евгеньевича с Новым годом партийной учебы. А от себя лично пообещал Игорю в ближайшие годы повышение оклада на двадцать рублей. В награду за добросовестный труд и активную общественную работу. Игорь скромно отказался от повышения оклада, но попросил взять его в экскурсию руководящего персонала на рудник. Такая поездка действительно намечалась на следующей неделе. Тимофеев обещал посодействовать.
Микроавтобус иногда вздрагивал на выбоинах, но Максим не обращал на это внимания, скорости не снижал и все сорок километров до рудника гнал по бетонке на предельной скорости. „Великолепная семерка” во главе с Тимофеевым периодически подпрыгивала на своих сиденьях, но претензий к Максиму не предъявляла. При очередном взлете все дружно выдыхали: „Ох, мать честная!” И тут же успокаивались. Игоря взяли в компанию главных ветеранов седьмым „для ровного счета”, по рекомендации Анатолия Ефимовича, который после первого занятия марксизмом испытывал благоговейный трепет перед его философской мудростью.
Рудник и обогатительная фабрика входили в состав Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК), который подчинялся другому главку в министерстве. Документы дважды тщательно проверяли по пути, на контрольно-пропускных постах. В „зоне” на территории рудника их уже ждали. Игорю в голову лезли мрачные мысли о страшных подземных каменоломнях, где в чудовищной темноте задыхались и гибли от радиации тысячи обреченных. День, однако, был яркий, лучистый. Атмосфера мирная, доверительная. Одним словом, действительность оказалась светлее предположений…
Пожилой сморщенный начальник смены Юрий Васильевич и дежурный маркшейдер встретили их с дружелюбностью смежников, стирающих разное белье в одном общем мыльном тазу. Напоили всех зеленым чаем, поболтали о бытовых мелочах и повели на прогулку по степной вытоптанной дорожке к берегу главного котлована. Впереди не было видно никаких заводских сооружений или горных тоннелей с канатными дорогами. Только рыхлые холмы солончаковой земли на горизонте. По дороге Юрий Васильевич по просьбе „семерки” вводил в курс неизвестных исторических событий. Говорил он без выражения, монотонно, как будто читал надоевшую заученную лекцию…
По существу, добыча и переработка урана началась в СССР в 1944 году, когда ее передали из Наркомцветмета в Наркомат Внутренних дел.
— Берии, что ли? — вырвалось у Игоря.
Юрий Васильевич посмотрел на молодого человека спокойным взглядом, но ничего не ответил и повторил:
— В Наркомат внутренних дел…
Кто-то из ветеранов мягко положил руку на плечо Игоря. Дескать, не лезь с глупыми вопросами, помолчи.
— …Сразу после войны на базе старых, еще довоенных мелких предприятий в Таджикистане в „их” системе был создан секретный горнодобывающий комбинат № 6.
Юрий Васильевич закурил, сделал несколько глубоких затяжек и тут же бросил сигарету под ноги.
— Очень торопили с добычей. А дела шли, если честно сказать, плоховато. Тогда говорили точнее: „подрасстрельно”. Рабочую силу из лагерей-то подкинули сразу. А вот квалифицированных геологов и геофизиков — разведка велась буровыми скважинами — практически не было. Срочно необходимы были десятки добротных специалистов. Берия написал на докладной, направленной в Совет Министров, такую резолюцию: „Примите в оперативном порядке необходимые меры. О результатах доложите. Срок — пять дней”.
— О! Этот почерк нам знаком, — выдохнул Тимофеев.
— Пахнуло родным и близким! — поддержал тут же Василенко. А Померанцев, ехидно улыбнувшись, спросил:
— И что? Выполнили резолюцию?
— Еще бы! — ответно улыбнулся Юрий Васильевич. — Через четыре дня пятьдесят специалистов высшей социалистической пробы были уже в Табашарах, на рабочем месте. Вгрызлись в работу как черти. И дело сразу пошло. Уже к концу сорок пятого добыли пятнадцать тонн. Но, сами понимаете, для основной задачи это — капля в море. А других месторождений на территории СССР тогда не было. Хорошо, немцы помогли. Акционерное общество „Висмут” выручило.
Иван Васильевич закурил очередную.
— Но там тоже были свои проблемы. В Саксонии, например, работы велись на глубине тысяча, полторы, и даже две тысячи метров. Температура пород на такой глубине под семьдесят, а воздуха в добывающих шахтах — около сорока. Влажность, считай, сто процентов. Обмороки считались в порядке вещей. Бывало, и замертво падали, хотя и нечасто. Потом уже наши специалисты вместе с немецкими инженерами запустили мощную систему кондиционирования рудничного воздуха. Температура сразу упала; задышали веселее.
А в Тюрингии была другая беда: пожары! Урановые руды вообще склонны к самовозгоранию. Но там и сама руда горела, и вмещающие породы. Тоже справились. Сами знаете: перед нами только поставь задачу, а уж как ее решать — разберемся. Кулибиных и Левшей на наш век хватит. Да, „Висмут” помог! У них темпы добычи росли в пять раз быстрее, чем в Таджикистане. Ну а потом начались разработки у других наших друзей, в Чехословакии, Болгарии, Польше. А в середине пятидесятых годов у нас и своей руды появилось достаточно…
— На Украине? — спросил Тимофеев.
— Не только. И в России, и в Узбекистане, и вот… как сейчас увидите… у нас в Казахстане. Уже приближаемся. Добыча у нас ведется открытым способом. „Крыша” из песчаника — пятьдесят — сто метров. Снимаем с помощью мощных роторных экскаваторов. О них вы, наверное, слышали?
— Немецкие „Юги”, что ли? — проявил свою осведомленность кто-то из „семерки”.
— Совершенно верно, — подтвердил Юрий Васильевич, — гэдээровские роторные „Юги”. Сейчас мы с вами их увидим сверху. Уже подходим. Немцы здорово помогли нам не только „Югами”, но и отвалообразователями, и другой техникой. Сами же и обслуживали все эти годы. Но теперь мы опыт переняли. Разъезжаются друзья.
— Юрий Васильевич, ну и как контактировали? Нормальные ребята?
— Мужики ничего. Только слишком аккуратные и чистюли. Ни сморкнуться громко не умеют, ни пернуть от души. А так ничего. Сейчас их осталось несколько человек. Оформляют визы на русских жен. Нашли здесь местных, в обслуге. Одна — горничная в гостинице — Валя. Другая — парикмахерша. То ли Изабелла, то ли Нателла. Светленькая такая, вся из себя…
Игорь был поражен тем, что начальник смены был в курсе не только далеких исторических событий, но и волнующих проблем сегодняшнего дня.
— Как женщины? — живо заинтересовался Померанцев. — Не опозорят… наши идеалы?
— Насчет идеалов не знаю. А так, внешне, вполне приличные. Не скажу, чтобы красавицы. Но грудь, задница — это все на месте. Я думаю, для немцев — сойдет!
Глеб Борисович был вполне удовлетворен ответом. Между шуточками подошли к обрыву. Гости были захвачены фантастической, неземной красотой. Настоящий лунный кратер! Огромный котлован вырытой земли с холмистыми склонами по форме напоминал чашу стадиона, увеличенную примерно в двадцать раз. Где-то на дне были смонтированы два механических чудовища со стометровыми стальными лапами и роторными ковшами для вскрышных работ.
По склонам в нескольких местах извивались ручейки шоссейных дорог, ведущих от здания управления непосредственно к месту рабочей выработки. По ним нескончаемым потоком двигались самосвалы величиной со спичечный коробок.
Насмотревшись вдоволь сверху на космический пейзаж, Тимофеев попросил подкинуть их, если это позволено, на дно чаши, к месту погрузки руды.
— Для вас можно, — снисходительно согласился начальник смены, — как-никак, свои друзья по несчастью. Пойдем назад, к управлению. Дам вам в сопровождение рабочий самосвал и… дуйте на своем автобусе вниз.
Пожилой, красный от загара шофер в белой парусиновой кепке сел за руль самосвала и, выглянув из кабины, махнул Максиму рукой. Дескать, давай потихоньку за мной. Поехали.
Внизу, на самом дне колодца, было жарко и душно от неподвижного воздуха. Работа протекала размеренно, отлаженно, по-домашнему буднично. Два обычных экскаватора с двух сторон от проезжей дороги методично вгрызались в черный грунт прямо под ногами. Самосвалы растянулись в очередь: где-то был небольшой затор. Подъезжали и тормозили между экскаваторами. Три-четыре полных ковша черной породы, и… самосвал дернулся и пошел. Тут же его место занял следующий. Опять три-четыре ковша. „И так вот, — подумал Игорь,
— наверное, день и ночь. День и ночь. Недели, месяцы, годы. И никаких заключенных. Все шофера и ремонтники — вольнонаемные”.
Игорь нагнулся и с интеллигентной почтительностью двумя пальцами поднял из-под ног кусочек черной руды.
— На память можно взять? — спросил он у сопровождающего их шофера.
— Да хоть две горсти, — беззаботно бросил тот, — у нас тут этого добра навалом.
— А не вредно голыми руками трогать? — пристал к нему Игорь.
— Радиоактивность большая?
— Елки точеные, — искренне рассмеялся шофер, снимая кепку, — да это же простая смолка. Дай ну-ка твой кусочек. Я его сейчас тебе языком оближу, чтобы ты не беспокоился. Вот так, понял? На! — возвратил обратно. — Все у тебя будет в порядке, парень. Баба есть — дети будут.
— Так-то оно так, — произнес задумчиво Тимофеев, — а за вредность сто процентов все-таки идет?
— Это само собой, — согласился шофер.
По дороге в город Игорь между прочим поинтересовался у Василенко, как же используют эту урановую руду в качестве топлива для атомных реакторов, в частности, для БН-350.
Константин Иванович посмотрел на „мудреца” с отеческим снисхождением.
— Игорь Евгеньевич, на БН-350 в качестве топлива будет использована двуокись урана, обогащенная двести тридцать пятым изотопом до двадцати трех процентов. От природной руды до ядерного топлива еще десятки переделов. И делается это не в Шевченко, а совсем-совсем в других местах. И необязательно — именно из этой руды.
Вечером Игорь с некоторой гордостью показал жене кусочек урановой руды. Аля отшатнулась и вскрикнула от испуга.
— Ты что, Игорь, совсем с ума сошел?
— Да это же, Алька, совершенно неопасно, — попытался успокоить ее Игорь, — это безвредная урановая смолка. Ее даже облизать можно. Жена у меня есть — дети будут.
И он тут же, высунув язык, продемонстрировал жене полную безопасность руды для человеческого организма. Игорь положил памятный кусочек на подоконник в кухне, в небольшое кофейное блюдечко с голубым узором. В течение всего вечера он время от времени с трепетом подходил к нему и любовался матовыми черными бликами.
Ночью Аля тихонько спустила ноги с кровати. Приподняв двумя руками длинную ночную сорочку, босиком прошлепала в кухню. Сначала широко открыла форточку. Завернула черный комочек в газету и, неуклюже, по-женски размахнувшись, выбросила сверток на пустынный пляж. „Так-то спокойнее!” — решила она. Помыла руки с мылом. Шмыгнула под простыню. Что-то не давало ей заснуть. Она опять пробралась в кухню и выбросила в форточку кофейное блюдце.
Тимофееву приходилось поддерживать тесные контакты с представителями сотен проектных институтов и конструкторских бюро. Они ехали в Шевченко непрерывным потоком. Принимали оборудование, изготовленное по их техническим заданиям. Отслеживали правильность монтажа. Подготавливали на месте массу технических решений и корректирующие проектные документы. При подписании большинства подобных „увязывающих” и „утрясающих” бумаг подпись Тимофеева была зачастую решающей. На нем же „висела” и переписка с министерством. А Василенко сразу же по приезде погряз в непрерывных оперативных совещаниях строителей и монтажников. „Каламбуры” или „ляпы” вылезали ежедневно и ежечасно. Например, трубопровод большого диаметра согласно проектным документам проходил в верхней части какого-то помещения. По логике, он должен был бы продолжаться и в соседнем, примыкающем. Но там его по документации почему-то не было. Правда, потом он снова появлялся, через сорок метров и вообще на другом этаже. Иногда строители сооружали громоздкую бетонную лестницу в точном соответствии с чертежом. А она бессмысленно упиралась в глухую стену. Оказывается, чертеж этот давно, год назад, устарел, и проектный институт давно уже заменил его на новый вариант, который до строителей почему-то не дошел. Иногда в непримиримый спор между собой вступали разные эксплуатационные службы. Пожарники требовали прорубить в каком-то зале окна и установить в них вытяжные вентиляторы. А режимная служба принципиально не могла с этим согласиться: по их инструкциям зал должен быть глухим и герметичным.
Как опытный технический дипломат Константин Иванович избрал единственно правильную тактику поведения. Он никогда никому не возражал и никого не переубеждал. Мягко соглашался с каким-то начальником СМУ. Но точно так же не возражал и против доводов его оппонента. Если же конкурирующие стороны сходились в рукопашном бою на оперативке в его кабинете, то он искренне заливался смехом, слушая их многоярусный изощренный мат. А потом усаживал их вдвоем друг против друга за отдельный стол, подставлял глубокую пепельницу, графин с водой и вежливо предлагал:
— Ищите, товарищи дорогие, общий язык. Когда найдете — дайте знать.
Интересно, что без публики и зрителей у них сразу исчезал актерский пыл, и они переходили на деловой тон вынужденного компромисса.
Ко всей суматохе и неразберихе, царящей в зоне, Константин Иванович относился по-философски спокойно. Он понимал, что время неуклонно отсчитывает свой счет. В бетонном лабиринте ежедневно с утра до поздней ночи, работают тысячи людей. И, значит, независимо от него лично и независимо от кого бы то ни было вообще дело неумолимо продвигается к своему завершению. Маховик крутится уже восьмой год. Его невозможно остановить, изменить скорость. Все основное оборудование уже изготовлено и большей частью находится на складах или монтажных площадках. И потому — через год ли, через два — все системы будут смонтированы и отлажены. В стальной корпус реактора будет в конце концов загружено ядерное топливо! Рано или поздно физический пуск реактора будет произведен. И Василенко был уверен, что произведен успешно.
Он вспоминал о своем участии молодым специалистом в сборке РДС-1, первом атомном взрывном устройстве на Семипалатинском полигоне. Тогда, в 1949 году, многие конструкторы и большие ученые допускали возможность неудачи или неэффективного взрыва. Василенко, молодой монтажник, был уверен, что все пройдет нормально, потому что он — „везучий”. Сейчас в Шевченко он тоже был уверен в конечном успехе. Раздражало до обиды другое. Проект этого мощного быстрого реактора был закончен намного раньше подобных проектов в других странах. И вот Франция со своим быстрым „Фениксом” начинает нагонять. Между прочим, французы удивлялись советскому долгострою. Когда много позже, после пуска, Василенко встретился с французскими специалистами, он никак не мог объяснить им причину этой задержки. Переводчик испытывал неимоверные трудности при объяснении таких ситуаций, когда труба в одном помещении имела место, а в соседнем — обрывалась, или вдруг произвольно изменяла свое направление. Французы никак не могли уразуметь такие простейшие монтажные истины. Где уж им до охвата всей таинственной русской души?
В первые месяцы работы на новом месте Тимофеев и Василенко испытывали чувство растерянности и придавленности. Это было связано с необузданной грандиозностью строящегося объекта. По сравнению с „домашними” челябинскими реакторами, БН-350 производил на них впечатление повзрослевшей пирамиды Хеопса или увеличенной десятикратно Вавилонской башни. И только постепенно они оба притерлись и втянулись в сумбурный научно-технический хаос.
На личном фронте у Константина Ивановича все как-то уладилось. После разрыва с бывшей женой, от подсознательного воспоминания о которой он иногда вздрагивал по ночам, жизнь предстала перед ним переливающейся замечательными красками, тишиной и спокойствием. Выяснилось, что птички прекрасно поют по утрам. Море изумительно красиво плещет волнами. И вокруг много прекрасных и, главное, трезвых женщин. „Это же настоящее счастье — жизнь!” — думал он, глядя на себя в зеркало. На него смотрел человек приятной наружности, с правильными чертами лица, темными, зачесанными назад волосами.
Накануне отъезда из Челябинска к нему в гостиничный номер пришла Люда.
— Я хочу ехать с тобой, папа, — сказала она, — возьми меня с собой.
— Что же, поедем, — согласился он.
Главному инженеру не могли отказать в просьбе пристроить куда-нибудь его дочь.
И вскоре Люда по-хозяйски устроилась в управлении, между двумя массивными дверями с табличками. На столе перед ней выстроились в ряд разноцветные телефонные аппараты. На тумбочке справа — телевизор и большая хрустальная ваза с цветами. Светлые шторы прекрасно оттеняли ее яркие шелковые блузки. Юбку Люда носила всегда одну и ту же, темно-синюю, предельно обтягивающую ее прелести. Смазливая мордашка с глуповатыми глазами навыкате вполне соответствовала стереотипу провинциальной секретарши. Люда гордилась своим служебным положением. Перед ней в глубоких кожаных креслах почтительно ожидали своей очереди важные посетители, некоторые — из далеких столичных городов. Люда с видимым удовольствием прерывала телефонные звонки заученной фразой: „ОКС. Приемная Мокшина. Слушаю вас”. И только иногда: „Да это я, Люда”. В ее облике откровенная вульгарность сочеталась с детской наивностью и мягкостью. Дома, с отцом, она была трогательно-нежной, заботливой. Ей было хорошо вдвоем с этим молчаливым и важным человеком. Он был для нее почти забытым, но очень родным…
А вот третьему ветерану, Померанцеву, откровенно говоря, на строящемся объекте делать было пока нечего. Но он не скучал. Устраивал себе командировки в Обнинский ФЭИ, все больше увлекаясь проблемой повышения коэффициента воспроизводства. В промежутках между поездками важно восседал в своем кабинете, предаваясь мечтам о создании в будущем на БН-350 мощной научной лаборатории под своим руководством. Аккуратным почерком писал длинное обоснование и пояснительную записку к предлагаемому штатному расписанию. Однако отдел труда и заработной платы не выделял ему лимита даже на одного сотрудника. Поэтому ему не с кем было поделиться своими научными фантазиями. Оставив жену в Челябинске и не желая возврата к прошлому, Глеб Борисович тяжело страдал от мужского одиночества. Он полагал, что новая жена ему крайне необходима. На этот счет у Глеба Борисовича была особая научная теория. Общеобразовательный и культурный уровень жены, по его твердому убеждению, не гарантировал семейного счастья. Скорее даже наоборот. Чем проще, „народнее” будет жена, тем лучше. Род ее занятий: доярка, техничка, парикмахерша — не имеет абсолютно никакого значения. Главное достоинство — простота, здоровье и доброта. Глеб Борисович страстно мечтал о такой женщине. Когда в конце рабочего дня появлялась с ведром и тряпкой молоденькая техничка, он прикидывался озабоченным срочными делами, не позволяющими ему даже на десять минут оторваться от разложенных бумаг и выйти в коридор. Краем глаза поверх очков Померанцев с плотоядным удовольствием наблюдал, как вспотевшая молодуха нагибается над ведром, отжимая тряпку сильными руками. Настя иногда ловила на себе этот взгляд и смущалась, хотя представительный ученый был ей чем-то симпатичен. Другие технички подшучивали во время чаепития в подвальной подсобке над юной девушкой.
— Настюха, если хочешь выскочить за этого лауреата, то чего проще? Действуй решительнее. Во время вечерней уборки трусики не надевай. Халатик выбери покороче. И не синий, а беленький, накрахмаленный. Нагнись пару раз около его стола пониже. И все! Он — твой!
Настя отшучивалась; деловым советам не внимала. Однако ее теплые, с начесом, длинные салатовые штаны с толстой резинкой будили чувства Померанцева сильнее обнаженной натуры. Глеб Борисович пытался заводить с Настей разговоры о жизни. Предлагал вместе позаниматься и подготовиться к поступлению в техникум. Иногда он осторожно, почти по-отечески, прикасался к ее прическе, от чего у него бегали мурашки даже вдоль парализованной ноги. Сначала Настю забавляли эти прикосновения, потом надоели. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы зоркий и бдительный Мартюшев не настоял на переводе Насти в другое административное здание, подальше от передовой науки. Однако напористого Глеба Борисовича ничто не могло остановить в достижении поставленной цели…
Как-то вечером Игорь забежал в угловой хлебный магазинчик. Без десяти минут восемь магазин уже закрылся. Игорь раздраженно постучал в дверь, не надеясь, впрочем, на ответную реакцию. К его удивлению за дверью тут же раздался мужской голос:
— Магазин закрыт. Подсчет дневной выручки.
Голос показался Игорю знакомым каким-то рассудительным оттенком.
— Как же, закрыт, — на всякий случай буркнул Игорь, — еще целых десять минут до закрытия. Мне одну буханку, без сдачи.
Изнутри звякнула щеколда и на улицу высунулась голова Померанцева.
— О, учитель! — узнал он его. — Валя, надо отпустить. Это свой! Глеб Борисович взял у Игоря деньги и через минуту протянул ему буханку и мелочь.
— Спасибо, — успел произнести Игорь, но уже в закрытую дверь.
Валя оказалась как раз той женщиной, которая была нужна профессору Померанцеву. Они прожили всю жизнь в тихом согласии. Глеб Борисович был всегда ухожен. Белая сорочка всегда сияла чистотой, а туфли или ботинки, сшитые на заказ для больной ноги, — начищены до блеска.
Корпус реактора по форме напоминает домашнюю хрустальную вазочку. Конечно, изготовлен не из стекла, а из высококачественной стали толщиной три сантиметра. Диаметр — переменный, как и положено по законам изящного искусства. От трех до шести метров. А по высоте — чуть выше четырехэтажного жилого дома. Вот такая стальная вазочка, весом более ста тонн!.. Сварить ее предполагалось из тридцати двух фрагментов. Первоначально мыслилось сделать это на заводе-изготовителе. Но спохватились: ширина дорожной колеи и грузоподъемность железнодорожных платформ не смогли бы обеспечить транспортировку подобного груза. Так что в Шевченко отправили только „осколки” разбитой вазы. Сварили их на открытой монтажной площадке, в полутора километрах от строящегося здания. В 1969 году серебристая красавица застыла во всей своей проектной красоте, подавляя копошащихся у ее постамента монтажников своей величавостью. Несколько месяцев проводили испытания на герметичность: сварные швы проверяли ультразвуком и гелиевым течеискателем. Затем вазочку вычистили до праздничного блеска: хоть ставь в нее букет из стройных тополей. Предстояла установка ее на родное рабочее место в реакторном зале. Одна бетонная стена здания была предусмотрительно недостроена. В ней зияла огромная рваная дыра, так называемый „монтажный проем”. От монтажной площадки до проема была проложена железнодорожная ветка. Под вазочку сконструировали огромную платформу на двадцати колесах.
Операция началась рано утром. Руководитель стройки Иван Тюленев, отвечающий лично за ее благополучный исход, молился в душе всем святым. Малейшая ошибка, небрежность или неправильно понятая команда могли привести к непоправимым последствиям и долгим судебным разбирательствам. Тюленев, по строительной привычке, не мог в принципе разговаривать без сочного трехэтажного мата. Даже на технических совещаниях высшего уровня. Но в этот день он молился самими чистыми, проникновенными словами, а команды отдавал в мегафон четко и ясно на непривычном для себя вполне литературном языке. Эта операция была центральной в строительной эпопее БН-350. Тимофеев и Василенко ожидали ее завершения в реакторном зале. Здесь тоже могли быть сюрпризы. Под потолком была смонтирована самая мощная в СССР по своей грузоподъемности кран-балка. Четыре стальных крюка зависли в неподвижной готовности. На каждом закреплены по два стальных троса толщиной с кулак. Все было обдумано и опробовано накануне.
Наконец, к полудню в проеме, как сказочная светлая принцесса, показалась стальная ваза. Восемь мощных тросов схватили ее за горловину и чуть-чуть, на пару сантиметров, приподняли над платформой. После того, как убедились, что тросы держат, монтажники раскрепили корпус. И крановщик потащил его к посадочному гнезду в центре зала. Над дырой застопорил. Проверили соосность. „Майна, — скомандовал Тюленев, — на самой медленной!” Ваза пошла в подпол. Села на постамент. Тросы ослабли. Все. Все! Победа! Начальники бросились обниматься и поздравлять друг друга. Монтажники закурили. Кто-то включил громкую связь на зал. Из репродукторов донеслась бравурная мелодия: „Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…” Тимофеев пошел к импровизированной трибуне, чтобы поблагодарить от имени руководства всех присутствующих монтажников и лично Тюленева. Последний не остался в долгу. Загасив ногой окурок, Иван Тюленев взглянул тепло на своих подчиненных и вдруг разом освободился от железных цепей и внутренних ограничений, сковывавших его горячую натуру на протяжении всего дня.
— Уважаемый Анатолий Ефимович! — торжественно начал он.
Собственно, эти три слова и были единственными цензурными словами в его пламенной речи. Затем полился мат. Он был густой и переплетающийся, уходящий своими корнями в допетровские времена. В арсенале художественной прозы и политической публицистики никогда не было ничего подобного по своей выразительности и эмоциональному воздействию. Все смеялись и дружно аплодировали. Он был истинным героем момента.
А Константин Иванович стоял в сторонке. Его глаза сквозь плиты пола и сталь корпуса видели уже весь реактор в сборе. Он видел, как в шестигранные отверстия коллектора устанавливаются сотни кассет с ядерной начинкой. Как они в центре этой стальной вазы образуют небольшой цилиндр — „активную зону”. Видел, как в первый раз в ней разгорается таинственный смертельный огонь цепной реакции.
„Уму непостижимо, — думал Василенко, — цилиндр диаметром всего полтора метра и высотой около метра. Кусок мертвой материи. И вдруг оживет, вспыхнет. И тепла этого крошечного источника хватит, чтобы обеспечить электроэнергией и опресненной водой целый город!”
Константин Иванович обежал глазами зал. Взгляд остановился на мощных натриевых насосах высотой с двухэтажный дом. На них вся надежда. Это они будут под давлением гнать потоки жидкого натрия в стальную вазу через шесть патрубков. Жидкий металл пройдет сквозь активную зону, охладит ее пыл и снова пойдет через верхние патрубки на вход насосов. Шесть независимых петель — это и есть самый опасный, первый контур охлаждения.
Константин Иванович закурил. Он непроизвольно достраивал мысленно технологическую цепочку: „…Натрий в этих петлях будет соприкасаться непосредственно с активной зоной. И значит, сам жидкий металл будет радиоактивным, „грязным”. Все помещения и боксы, где проходят трубопроводы первого контура, где установлены задвижки, фильтр-ловушки и другое оборудование, — все эти помещения и тоннели тоже будут „грязными” и опасными для обслуживающего персонала. Некоторые — просто смертельно опасными. Конечно, они прикроются тяжелыми свинцовыми дверями. Будут вывешены плакаты, запрещающие вход в них без дозиметристов. Из всех этих помещений мощная вытяжная вентиляция будет непрерывно отсасывать радиоактивные газы и аэрозоли и выбрасывать их через высокую трубу повыше и подальше, в приземный слой атмосферы. Часть радиоактивных нуклидов попадет в сбросные воды и, вполне вероятно, эпизодически пойдет в голубой прозрачный Каспий. Неминуемые издержки технического прогресса! И ведь кому-то все это пришло в голову? Эх, мать честная! Лучше бы мне на трактор — поле пахать…”
Несмотря на аргументированные претензии Померанцева к заводскому начальству, ему не давали ни одной штатной единицы для комплектования физической лаборатории.
— Глеб Борисович, не обижайтесь, — убеждал его директор МЭЗа Дмитрий Сергеевич Юрченко[2], — пустим реактор — тогда и карты в руки. А сейчас дозарезу нужны механики, технологи, прибористы. Каждая штатная единица на вес золота. Потерпите немного.
У Юрченко, помимо строящегося реактора, забот был полон рот: ТЭЦ, морской водозабор, опреснительные установки, станции приготовления питьевой воды, месторождение минерализованной воды в восьмидесяти километрах от города и десятки вспомогательных цехов и служб. Ему было сейчас не до физиков-теоретиков.
И вдруг неожиданно и настойчиво Глебу Борисовичу предложили срочно принять на работу в лабораторию талантливого физика из Алма-Аты Тлеуберды Зикиринова. Померанцев поморщился, мучительно вспоминая эту фамилию по публикациям в научных журналах. Но когда ему разъяснили, что это сын какого-то высокого партийного руководителя Казахстана, Глеб Борисович равнодушно пожал плечами: дескать, надо вам из дипломатических соображений пристроить отпрыска — пожалуйста, оформляйте: „Я не возражаю. Только я не дам всю лабораторию превратить в отстойник, наполнив его балластом”. Его заверили, что случай этот особый и единственный в своем роде.
А вообще Тлеуберды нельзя было назвать балластом в точном смысле этого слова. Он закончил школу с золотой медалью и считался не просто лучшим выпускником, а специфическим талантом, склонным с юных лет к теоретическому, абстрактному мышлению. Любопытно было слышать из уст мальчика рассуждения о том, что геометрические свойства пространства определяются происходящими в нем материальными процессами. В университете Зикиринова мало интересовали обычные лекции. Зато увлекали горячие студенческие дискуссии в научно-техническом кружке. Он с пеной у рта выкрикивал:
— При переходе к микромиру должны изменяться исходные понятия, лежащие в основе современной математики. Точка в микромире не является пределом бесконечного процесса. Расстояние и угол — понятия далеко не очевидные…
С ним никто и не спорил, поскольку это были общеизвестные положения, вытекающие из теории Эйнштейна. Но Тлеуберды произносил эти тирады горячо и воинственно, как будто защищал их от коварного нападения невидимого врага; высказывал эти мысли почти как свои, близкие и выстраданные.
После университета его пристроили в какой-то научно-исследовательский институт. Однако Тлеуберды скучно было исследовать что-то мелкое, недостойное его абстрактного мышления. Его жизнь не затрагивали обычные юношеские увлечения: спорт, кино, театр, девушки, музыка. Родители, глядя на свое умное чадо, забеспокоились, не скажется ли разлад между его высокими мечтами и суровым бытом на психике. Их опасения были не напрасными: он увлекся наркотиками.
Лечили его настойчиво, старательно и долго. Ему нашли прекрасную милую девушку из приличной семьи. Женили. Детей не было. Врачи и родные понимали, что женитьба — это полумера. Вылечить же окончательно его сможет только увлеченность каким-то реальным, практическим делом. Строящийся атомный реактор в городе Шевченко показался отцу чрезвычайно подходящим местом для лечебной ссылки горячо любимого сына.
„Там уж, среди всяких ядер и нейтронов, — думал отец, — может быть, успокоится, окунувшись в свой любимый микромир, в котором „течение времени может изменять свое направление”.
Тлеуберды почти равнодушно согласился с отцом. Реактор — так реактор. Главное, что в микромире действительно закон причинности может нарушаться, и следствие может предшествовать причине…
Зикиринов появился в 202-й комнате заводоуправления тихо и незаметно. Здесь шумели и кружились вокруг столов с разложенной документацией четырнадцать инженеров, будущих эксплуатационников. Они бегали поочередно в строящееся здание, что-то там проверяли. Возвращаясь, снова тыкались в чертежи. Кому-то звонили. Ругались иногда с заходящими сюда монтажниками. Одним словом, комната № 202 была проходным двором, в котором царствовала предпусковая текучка. И поэтому в первые дни никто не обратил внимание на появление в комнате нового инженера. Вернее, каждый заметил его: „О, у нас и казахи появились!” — но не придал этому ровно никакого значения. Внешне Зикиринов походил на забитого казаха из глухого аула: узкоглазый, кривоносый, черный, небрежно одетый в полинялый серый свитер. На самом деле область, где вращались его мысли, — материя, пространство и время, — была абсолютно интернациональной. Его смело можно было назвать человеком Вселенной. Но никому и в голову не приходило называть его столь патетически, как впрочем и его собственным именем — Тлеуберды. С чьей-то легкой руки его переименовали в Сашу. Зикиринов нисколько не обижался на это простое русское имя, и сам начал вскоре представляться новым знакомым как Саша. Он нашел себе неприметное место за крайним столом у окна и отсюда, с высоты своего величественного полета, равнодушно наблюдал всю эту рабочую суету. В его взгляде было что-то снисходительное и мягко-презрительное. Он часами молчал, если к нему не обращались, и не вставал из-за стола. Сидел, часто не снимая верхней одежды, и непрерывно курил плохие дешевые папиросы.
— Саша, опять задумался? — шутили над ним. — Тебе надо было родиться не Зикириновым, а Эйнштейном.
— Разумеется, — соглашался он, — я бы кое-что подправил в его теории.
Померанцев после первой же беседы с Зикириновым понял, что вряд ли этот загипнотизированный теоретик является находкой для физической лаборатории, и вскоре вообще перестал обращать на него какое-либо внимание.
Сашу добродушно обзывали всякими кличками. Самая популярная — „жопа с ученой ручкой”. Саша снисходительно отвечал: „А ты просто жопа. Без ручки”.
Чтобы как-то втянуть этого бездельника в рабочий ритм, его иногда просили выполнить конкретное поручение.
— Саша, — вежливо обращались к нему, — ты все равно сидишь без дела, как птичка на дереве. Будь другом, сходи на реактор. Проверь, смонтирована ли в 116-м помещении задвижка для насоса.
Саша никогда не возражал.
— Хорошо, сейчас докурю и схожу.
И пропадал на несколько часов. Возвращался только в самом конце рабочего дня.
— Ну что, Саша, стоит задвижка?
— Да, стоит. Лично проверил.
— А маховик есть?
— Какой маховик?
— Ну, насажен маховик на ось или нет?
— А я откуда знаю? — удивлялся Саша.
— Ты же там был, видел задвижку…
— А я не обратил внимания на маховик. Ты же мне такого поручения не давал.
Саша был прав. Ему не давали такого задания. Задвижка задвижкой, а маховик — это же совсем другое дело.
Зикиринов был дружен со всеми, и со своими, и с монтажниками. Уж очень он был безобидным. Сидит себе тихо и сидит. Витает где-то в фантастическом мире — ну и ладно. Никому же не мешает. Потом вспоминали, что в некоторые дни Саша был подавлен и апатичен. А порой наоборот — перевозбужден. Никто этому значения не придавал. Не до него.
В конце января, в бодрый морозный день, Саша вдруг исчез. Дома нет. На работе нет. Подняли на ноги милицию. Нашли быстро — замерзшим на одинокой скамейке, в пустынном голом приморском парке. Он сидел в легком демисезонном распахнутом пальто. Руки — в стороны. Голова закинута. Рот чернеет дырой. Заключение: „смерть от обморожения”. Похоронили Сашу тихо, без помпы. Был человек, и вот — не стало. По какой причине не стало? Кто-то брякнул в комнате: „Передозировка”. Кто знает? На его место Померанцев принял опытного теплофизика из Обнинского ФЭИ.
Спокойная домашняя жизнь Константина Ивановича вдруг разом изменилась и запуталась. Виной этому была тихая, миловидная Елизавета Дмитриевна. Она была на десять лет моложе его, но выглядела ровней. Прошлого не имела. Просто никогда не рассказывала о нем. На ее лице лежал отпечаток давнего примирения с неудавшейся судьбой. Жила одиноко, в комнате с подселением, незаметно, как мышь. Работала в архиве ОКСа и тоже незаметно. Их познакомила Люда рабочим вечером. Константин Иванович после окончания рабочего дня заглянул в управление. Здание было уже пустым, покинутым. Но в ОКСе горел свет.
— Привет, Людка. Что, переработали маленько?
— Да, самую малость. Скажи, разве можно важные совещания проводить в конце дня?
— Ни в коем случае! — улыбнулся Василенко. — Это просто преступление. За это судить надо.
— Вот и я говорю, — согласилась Люда, — возьмешь меня?
— Возьму, только быстренько собирайся. Раз, два…
— Пап, а еще одно местечко найдется? Может, прихватим Елизавету Дмитриевну из архива? Ее тоже задержали. А дежурный автобус будет только через сорок минут.
В этот момент в дверях приемной появилась застенчивая женщина.
— Людочка, не беспокойтесь. Я и на дежурной спокойно доберусь.
— А зачем ждать, если есть место, — произнес Константин Иванович добродушным тоном большого начальника. — Спускайтесь, я вас в машине жду…
И вот результат случайной встречи: через два месяца Елизавета Дмитриевна вошла в их дом на правах хозяйки. До этого Люда относилась к ней с большой симпатией, с некоторой жалостью и сочувствием. Но видеть ее постоянно третьим человеком в квартире, да еще хозяйкой — это было невыносимо. Никакой дружбы у мачехи и дочери, на которую так рассчитывал Константин Иванович, не получилось. Отношения обострились. Атмосфера прежней духовной близости с дочерью растаяла, в квартире поселились холодная вежливость и затаенная обида. Каждому порой хотелось крикнуть: „А разве я не человек? Почему я не имею права на счастье?”
Люда почувствовала себя ужасно одинокой. Она ехала сюда, в Казахстан, с отцом. И оказалась ненужной, выброшенной на улицу собачонкой. По вечерам снимала стресс с помощью нескольких глотков коньяка из отцовских запасов. Потом начала прикупать и сама. Просто так, как снотворное. Кто-то из монтажников подарил ей миниатюрную фляжку из полированной нержавейки. Иногда прикладывалась к горлышку в обеденный перерыв, прямо в приемной. Новая привязанность быстро наложила отпечаток. Свежесть исчезла с лица, под глазами появились небольшие темные припухлости. Высокая прическа стала небрежной, блузки не доглаживались. Очень скоро в приемной ОКСа вместо юной Людки сидела раздраженная, усталая, пьющая женщина, Людмила Константиновна. В этот неудачный период ее жизни перед глазами засветился свежий посетитель, Сергей Васильевич Бобылев…
Приехал он в южные края из Ленинграда. Толчком послужило позорное отчисление из баскетбольной команды высшей лиги. При росте двести пять сантиметров Боб, как его называли в команде, был универсальным и классным игроком. Мог вполне прилично сыграть и „за столба”, и в защите. В нападении цепко сражался под кольцом, но мог выручить команду и неожиданным трехочковым броском из-за красной линии. Болельщики обожали Боба.
Ничто не предвещало заката его спортивной карьеры. Скромный детдомовский парень увлекся послематчевыми „расслаблениями” в кругу своих горячих поклонников. Здесь его хвалили на все лады, хлопали запросто по могучим плечам. Дескать, так держать, Боб! Он стал ленивее тренироваться. Дальние броски разладились. „Дыхалка” стала временами подводить. Тренер все чаще не выставлял его в основную пятерку. Боб и сам стал замечать, что играет хуже, грубее. Дело кончилось вежливым отчислением из команды. Хотя у Боба была неплохая специальность после окончания техникума, устроиться на работу сразу не смог. Кто-то из друзей упомянул в случайном разговоре об ударной стройке на берегу Каспия: „А там, может быть, снова заиграешь, за Казахстан”. Боб подумал вечерком, а утром собрал свои пожитки в спортивную сумку и махнул в дальний край за новыми впечатлениями…
— Вообще-то набора сейчас нет, — начальник отдела кадров почесал за ухом. — Но в порядке исключения, как большого спортсмена, куда-нибудь пристрою.
Начальник уважал атлетов, сам когда-то был чемпионом школьного класса по русским шашкам.
Боба оформили начальником участка на базу оборудования. Работа была по душе, живой и хлопотливой. Непрерывным потоком шли двигатели, задвижки, трубы, листовой металл, кабельные бухты и пр. Ежеминутно требовалась безопасная разгрузка. Оборудование необходимо было укладывать на стеллажи, маркировать, оформлять накладные, заполнять картотеки. Боб чувствовал себя важным начальником над толпой грузчиков, такелажников и кладовщиц. Любой его приказ исполнялся немедленно. Если хмурил брови, дрожали все.
Он быстро привык к огромным прохладным складским помещениям, скрежету механизмов и людскому гомону. Раз в неделю Боба приглашали на оперативное совещание к начальнику ОКСа. Он и здесь держался на высоте: на память помнил об отгрузках оборудования или задержках на железной дороге. В приемной ОКСа и произошла его встреча с Людой, которая сразу же выделила его. Не только из-за роста и накачанных плеч, а главным образом из-за нестандартного поведения. Он никогда не подыгрывал, не заискивал. Не опускался до дешевых комплиментов или подозрительных букетиков. Боб смотрел на нее как на разновидность электронного ответчика. Его вопросы всегда были четкими и краткими: „У себя?”, „Мне ждать?”, „Собрались уже?” Ей оставалось для ответа два слова: „да” или „нет”. Всегда серьезный и деловой вид Боба не допускал игривой болтливости. Люда смущалась. Молча поглядывала на вытянутые из кресла длинные ноги и горбатый породистый нос. Непроизвольно поправляла перед маленьким настольным зеркальцем свою дурацкую прическу. Злилась на себя: „Чего это я выпендриваюсь перед ним? Да катись ты подальше со своими граблями”. Так ни разу и не заговорила. Как-то с тяжелого похмелья Люда мучилась жуткой головной болью и тошнотой. Выглядела распущенной и расклеенной. Именно в этот день заглянувший в пустую приемную Боб нарушил обычное молчание и, глядя ей прямо в глаза, спросил с чуткостью:
— Что, Люда, тяжко?
— Да, тяжко, — тихо и доверчиво откликнулась она. И тут же разозлилась на себя за откровенность. — А вам, собственно, какое дело?
— Сочувствую.
В пятницу Боб позвонил в обеденный перерыв. Здороваться не стал. Представляться тоже не счел нужным: и так узнает по голосу. Просто сказал:
— Пойдем сегодня вечером со мной? Если хочешь.
— Хорошо. Пойдем.
Люда повесила трубку и задумалась: „И чего я так изнываю от него? Вот дура набитая!”
Этот вечер они провели в летнем кафе „Дружба”, из которого были видны море, луна и звезды. Но эти атрибуты любовной лирики мало трогали Люду и Боба. Напились быстро и дружно. Вышли на улицу, поддерживая друг друга. Боб галантно проводил ее до самых дверей. Но Люде не хотелось домой, несмотря на поздний час. Не хотелось видеть счастливых: отца и чужую женщину. Ей хотелось любви. Она оттягивала расставание; в который раз наклоняла к себе его лицо и по-пьяному неловко то ли целовала, то ли слюнявила его щеки, нос, губы. Наконец, от всего разомлевшего сердца крепко обняла бычью шею и прижалась грудью: ах, как хорошо!
— Ты меня любишь? — спросила Люда с навязчивой нежностью. — Да! — моментально солгал Боб. — Очень!
— И я тебя очень люблю. Пока. Я пошла.
С этого вечера все выходные дни они проводили вместе. Покупали бутылку водки, простенькую закуску. Гуляли по улицам города, держась за руки, как в детском саду. Одевались по-туристически небрежно, с некоторым вызовом. Наступала теплая южная весна. В приморском парке зазеленели редкие, высаженные добрыми руками молодые деревца. Пустыня за городом заголубела мелкими, короткоживущими цветочками. Люда и Боб уходили далеко за город, по берегу Каспия. Они всегда были навеселе и совершенно свободны. Вокруг не было людей. Кроме них никого в мире не существовало. Славная пора придуманного счастья! Счастья нет, но ведь его можно выдумать, на время. Они оба чувствовали, что оно не может продолжаться долго. В душе спокойно ожидали любой расплаты. Первым принял на себя удар Боб. Его появления на работе „с похмелья” не могли остаться незамеченными. А обиженные есть у любого, даже маленького начальника. Кто-то по-граждански просигналил. Кто-то чутко прореагировал. Падение по служебной лестнице произошло быстро: экспедитор, грузчик, выговор, последнее предупреждение. В конечном итоге — увольнение „по собственному желанию”. В этот вечер они выпили двойную норму, до квартиры дотащились в три часа ночи. На звонок никто не реагировал.
Люда яростно застучала босоножкой, взвизгивая с паузами и придыханием:
— Папа, открывай. Это я, Люда. Это мы! Открывайте нам. Константин Иванович показался в дверном проеме в ночном белье и тихонько ахнул. Боб, грязный и обтрепанный, сидел на корточках перед дверью и звучно, импульсивно рыгал белой вонючей слизью.
— Папа, не бойся! Это мой муж! Мы хотим жить… вместе с вами. Люда сильно икнула и упрямо повторила:
— Да, с вами! Вместе… все…
От удушающего отвращения Константин Иванович немедленно захлопнул дверь. Затем, снова приоткрыв, спросил:
— Милицию вызывать? Или сами уберетесь отсюда? Люда посмотрела на отца печально, с осуждением.
— Не беспокойся… Мы сами уберемся.
Василенко поступил не по-доброму. Но его тоже можно было понять. Он сверх головы намаялся с пьяницей-женой. Потом — дочка. Не хватало ему повесить на шею этого двухметрового болвана. Имеет же он право хотя бы в конце жизни пожить спокойно. Он же тоже не машина — человек!
Люда домой больше не возвращалась. Приходила один раз днем забрать личные вещи. Ночевала у знакомых. Иногда у Боба, в мужском общежитии. Работу бросила. Люда и Боб ушли в глубокий загул. Все припасенные деньги шли на водку. Они бродили по берегу одинокие, подавленные; между ангарами для яхт, складскими помещениями, перевернутыми рыбачьими лодками. Если ночь была теплая, то и ночевали на песке, проваливаясь в пьяное беспамятство. Первые лучи солнца не отрезвляли. В их отношениях уже не было того искристого начального счастья. Ушло оно. Осталась обреченность.
Денежные запасы иссякли. Боб попытался припрятать в карман чекушку в магазине самообслуживания. Бутылку отобрали на выходе, составили протокол и отпустили с богом. На улицах они навязчиво приставали ко всем знакомым. Некоторые подкидывали из жалости пару рублей, как бы в долг. Другие шарахались и обходили стороной. Люда продала за бесценок все свои кольца и серьги. Хватило ненадолго. Через две недели Боба снова задержали в том же магазине. Влепили пятнадцать суток для разгрузки гнилых овощей на базе ОРСа.
Сильного и жилистого Боба не тяготила грязная тяжкая работа от зари до зари. Но его мучила жажда. Ему страшно хотелось распить бутылочку вместе с Людой, на берегу моря. Еле дождался. Люда ждала его, вооруженная горючим. Первый вечер после долгого перерыва показался им прекрасным прощальным лучом. Никогда им не было так хорошо. И почти все время молчали, глядя на алую полоску горизонта над морем.
В следующий раз Боба задержали по-настоящему. Дали год в колонии общего режима и отправили на север, в район Гурьева. Колония находилась в десяти километрах от города, в степи. Накатанная песчаная дорога вела от Гурьева прямо к зеленым металлическим воротам.
Игорь обычно заканчивал жевать философский вздор о „вещах как комплексах ощущений” примерно за пятнадцать минут до прибытия дежурного автобуса. Эти минуты он оставлял „старшим товарищам” для бытового трепа и светлых воспоминаний. Сам при этом углублялся в журнал посещаемости и ленинский цитатник с мудрыми мыслями на все времена.
Как только Игорь начинал заветную фразу „на этом, дорогие товарищи, разрешите…”, ветераны дружно сбивались в кучку, рассаживались на столах и закуривали, несмотря на категорический протест некурящего Померанцева. Через минуту-другую благодушной болтовни они непроизвольно обращались к волнующей всех теме пускового строительства. И сразу же их голоса начинали вибрировать, напрягаясь до хрипоты. Они были раздражены пусковой неразберихой, низкой дисциплиной подчиненных, неоперативностью строителей и проектных институтов.
— Берия на них нет, честное слово! — говорил Анатолий Ефимович с явной ностальгией. — Или Ванникова, на худой конец.
— Вот именно! — поддерживал Василенко. — Уж они бы вывернули здесь кое-кому задницу наизнанку. Вчера спрашиваю бригадира монтажников ясно и четко: „Когда закончишь монтаж щита?” А он мне мямлит: „…Я не знаю точно… Надо подумать… Надо согласовать”… с хрен знает каким-то Аркадием Петровичем. Тьфу!
Их мысли возвращались в далекие сороковые годы, когда строился их родной плутониевый комбинат в Челябинске-40. То был очаровательный мир полной творческой самоотдачи. И заработки, и здоровье, а часто и сама жизнь были не в счет по сравнению с искренним желанием выполнить в срок Правительственное Задание. Жестокая несправедливость тех лет обошла ветеранов. Они вспоминали чуть ли не с восторженным одобрением о старых методах работы с подчиненными.
Анатолий Ефимович хорошо помнил, как проводил в Челябинске важные оперативные совещания легендарный Ванников…
Борис Львович Ванников был типичной фигурой сталинской эпохи. Перед войной он занимал пост наркома вооружений. За две с половиной недели до начала войны его, генерал-полковника инженерно-артиллерийской службы, наркома важнейшей отрасли, лично знавшего Сталина по многочисленным совещаниям в Кремле, арестовали, как мелкого воришку, и без всяких объяснений бросили в глухую одиночку. Спустя полтора месяца, уже после начала войны, Ванникову передали указание Сталина „изложить свои соображения по вопросу срочного увеличения производства вооружений”. Борис Львович работал в камере несколько дней. Его докладная записка понравилась Сталину. Он выпустил Ванникова из тюрьмы, назначив наркомом боеприпасов. Борис Львович до конца жизни беззаветно и преданно служил своему Палачу-освободителю, игравшему роль Великого Вождя пролетариата. Свою совесть Ванников успокаивал тем, что служит не диктатору, а своему народу. В этом была своя диалектика. Так рассуждали многие в те годы…
В августе 1945 года, после первых атомных бомбардировок в Японии, на заседании еще не распущенного Комитета обороны были сформированы руководящие органы для решения урановой проблемы в СССР: Специальный комитет и Первое Главное Управление (ПГУ). Председателем комитета Сталин утвердил Берия, а начальником ПГУ был назначен Ванников. Оба органа получили чрезвычайные, практически ничем и никем не ограниченные полномочия. Главная цель — быстрейшее создание атомной бомбы.
В 1947 году решение проблемы зависело от успешного пуска первого промышленного реактора”А” („Аннушка”) в закрытом городе Озерске (Челябинск-40). По указанию Берии Ванников и Курчатов жили в „сороковке” безвыездно. Вплоть до получения первого оружейного плутония. Оба находились тогда под жесточайшим прессом, фактически головой отвечая за этот первый реактор…
И вот сейчас, в семьдесят первом году, Анатолий Ефимович вспоминал о том, как в те времена проводил совещания „железный Ванников”…
Среди технических участников совещания всегда сидели два полковника госбезопасности. Они не вмешивались в ход совещания. Они просто присутствовали. Но бывали случаи, когда по знаку Ванникова они подобострастно вскакивали и молча сопровождали провинившегося на выход, прямо к машине. Шофер заводил двигатель при виде выходящих из здания, не дожидаясь посадки подконвойного. Маршрут был один. Тюремные камеры в „сороковке” всегда находились в полной готовности.
Любимый вопрос Бориса Львовича, обращенный к неисполнительному или нерадивому подчиненному, был бесхитростным, но гневным и грозным:
— Дети есть? — спрашивал он неожиданно. После утвердительного ответа или понурого молчания провинившегося продолжал:
— Так вот: не выполнишь задание к концу недели — не увидишь их больше!
Иногда, если особенно сильно горячился, добавлял:
— И жалуйся тогда кому хочешь. Хоть Берия. Хоть самому Сталину! Понял?
И только один-единственный раз Тимофеев слышал неожиданное продолжение этой тирады, произнесенное тихим голосом:
— А мне вот жаловаться некому. С меня Сталин спрашивает так, как вам и не снилось. Так что не обижайся.
И ведь не обижались. Уважали. Анатолий Ефимович и Глеб Борисович бережно сохраняли это уважение и по сей день. А вот Берия ветераны вспоминали с трепетом и неостывшим страхом. Лаврентий Павлович был не то чтобы круче Ванникова, а, пожалуй, мрачней и зловещей. Во время его инспекционных поездок в „сороковку” дрожали все, от простого прораба до директора комбината. Да и у Ванникова, Курчатова и Доллежаля (главного конструктора „Аннушки”) тряслись поджилки. Берия знал о том страхе, который испытывали люди в его присутствии, и считал его полезным для дела: дрожащий человек всегда работает лучше и воодушевленнее.
Весной сорок седьмого барахлили железные дороги. Строители жаловались Лаврентию Павловичу во время его первого приезда в Озерск на задержку драгоценного оборудования. Берия отреагировал моментально. Он „предложил” министерству путей сообщения немедленно ввести специальную серию вагонов с грузами для Челябинска-40. Скорость передвижения грузов должна была быть со дня распоряжения не менее 400 километров в сутки. Парочку железнодорожных служащих расстреляли за невыполнение этого указания. Зато уже в следующем месяце в „сороковку” поступило в пять раз больше вагонов, чем до этого. Берия считал, что без жертв большого дела не сотворишь. Он хорошо усвоил русскую пословицу про лес и щепки.
Некоторые ветераны „сороковки”, как и многие руководящие работники ПГУ, считали Лаврентия Павловича неплохим организатором промышленности. Но, с другой стороны, трудно ли быть „хорошим организатором”, когда перед тобой вся страна на коленях? Потому и темпы на первой атомной стройке были ударными. Весной сорок седьмого еще рубили котлован в скальной породе. А летом сорок восьмого реактор „А” уже начал накапливать первый боевой плутоний. Конечно, строителей тогда нагнали побольше, чем сейчас в пустыню Мангышлака. Одних заключенных работало около семидесяти тысяч.
Тимофеев не мог забыть:
— А какие были заключенные! Пальчики оближешь! Плеханова цитировали страницами. Шекспира декламировали. И сознательные были. Патриоты! С такими зэками можно было горы свернуть.
И после паузы раздраженно закончил:
— А сейчас что? Уголовники, ворюги и бандиты. На них даже смотреть страшно.
Игорь молчал во время этих шумных, торопливых и сумбурных воспоминаний челябинских ветеранов. Но в душе никак не мог согласиться с ними. Ему казалось, что вежливым и уважительным приказом можно добиться от подчиненных несравненно больше, чем угрозой и страхом. „Да и время было другое, — думал Игорь. — Тогда стране и ее вождю срочно была нужна атомная бомба”.
И еще он думал о том, как прекрасно сложилась его судьба. Он попал на совершенно мирный атомный объект. Этот быстрый реактор будет служить благородной цели — для опреснения морской воды и выработки электроэнергии. Для нового города в покоренной пустыне…
Игорь даже не подозревал, что в процессе эксплуатации БН-350 в его активной зоне попутно будет нарабатываться высший по своему качеству оружейный плутоний. А, может быть, и хорошо, что не знал об этом?
Городской телефон зазвонил в кабинете Мартюшева рано утром.
— Мартюшев, — привычно представился он в трубку.
— Федор Григорьевич?
— Да, я.
— Это майор Семенов, из Управления. Полковник Карамышев срочно вызывает вас к себе на совещание.
— Когда совещание? — поинтересовался Федор Григорьевич.
— Выезжайте немедленно.
— Я еще почту не подписывал…
— Не до почты! Дело серьезное.
— В туалет-то хоть можно сходить? — пошутил неловко Мартюшев, чтобы прощупать обстановку на том конце провода.
— Можно, если по-маленькому.
— Ладно, сейчас выезжаю.
Совещание еще не началось. Все серьезны, официальны. Федор Григорьевич занял указанное ему место за длинным приставным столом. Карамышев начал без предисловия, спокойно и деловито.
— Итак, что мы имеем по данному вопросу на сей момент. Доложи, Иван Алексеевич.
Пожилой майор Удовиченко открыл папку, но практически в нее не заглядывал. Вся необходимая известная информация умещалась в памяти, буквально в нескольких фразах.
— Восьмого апреля в 17 часов 50 минут дежурный по зданию № 130 — это здание строящегося реактора — сержант Евсеев камерой внутреннего наблюдения зафиксировал в коридоре, на отметке +28 метров три подозрительные фигуры. Видимость на экране была нечеткой, с горизонтальными полосами, но сержант утверждает, что одна или две фигуры были женские. Третий, в шляпе, точно мужчина. Через неделю, 15 апреля, дежурный Петренко в 19 час 40 минут, то есть после вывода заключенных из зоны и окончания рабочего дня, примерно в том же месте зафиксировал одинокую женскую фигуру. Осмотр помещений на седьмом и восьмом этажах ничего подозрительного не выявил. Устные дознания среди работающих заключенных также ничего не дали…
Удовиченко произнес еще несколько шаблонных фраз, по существу ничего не прибавляющих к уже доложенной информации.
— У меня все, — сказал он в заключение, закрыл папку и сел. Продолжил Карамышев.
— Я думаю, все сидящие за этим столом понимают серьезность происходящего. Ни для кого из вас не секрет, что за все время строительства БН-350 ни одного (повторяю: ни одного!) женского пропуска в зону выписано не было. Появление в здании женщин в принципе невозможно. Однако… Тем не менее… Вот такая информация. Кто был третий в шляпе, тоже непонятно.
Полковник помолчал пару минут, давал возможность всем переварить информацию и настроиться.
— Не надо забывать, что БН-350 — это первый в мире быстрый реактор такой мощности. Сооружение уникальное и единственное в своем роде. Интерес к нему со стороны вражеских разведок вполне вероятен и реален. Этот интерес может проявляться, так сказать, на разном уровне: научном, проектном и даже строительном. Я связывался уже по этому поводу с Москвой. Каких-то признаков активизации разведки в этом направлении в последние годы не наблюдалось. Ничего конкретного сообщить не смогли. Однако рекомендовали нам отнестись к этому делу очень серьезно. И через неделю — доложить о результатах. Вот такие пироги…
Карамышев позволил себе сделать еще одну паузу. И, наконец, сообщил главное:
— Мы решили провести в ближайшие дни операцию „Ожидание”. С деталями каждого из вас после совещания ознакомит майор Удовиченко. А на вас, Федор Григорьевич, ложится тоже ответственная задача. Организация круглосуточного дежурства в одном из помещений внутри здания № 130, лучше всего — на первом этаже. Там установим станцию связи и посадим нашего оперативника. На этом — все. Все вопросы — с майором…
Федор Григорьевич привык за долгие годы к чисто бумажной работе. Подписывал и отправлял спецсвязью секретную документацию. Следил за хранением ее в сейфах. Периодически докладывал в Управлении о положении на вверенном объекте. В столь серьезной операции он никогда не участвовал. Охрана закрытых городов была настолько продуманной и совершенной, что за все время их существования были известны только единичные случаи попыток проникновения агентов. Да и то легальным путем. Конечно, Шевченко не был в полной мере закрытым городом, поскольку сплошной заградительной сети по всему периметру не существовало. И это оставляло шанс…
Услышанное в кабинете полковника как-то сразу приподняло Мартюшева в собственных глазах. „А оклад, как у какого-нибудь простого начальника отдела, — с обидой подумал Федор Григорьевич, — разве это справедливо? Даже дополнительных дней к отпуску не положено”.
Все устные инструкции майора Удовиченко Федор Григорьевич выполнил быстро и с неукоснительной точностью. Доложил по телефону лично Карамышеву: „Товарищ полковник, ваше задание выполнено”…
Операция „Ожидание” началась на следующий день после совещания. Охранная зона по периметру здания была взята под дополнительный контроль замаскированными оперативными группами, снабженными рациями и биноклями ночного видения. Параллельно была проведена обстоятельная разъяснительная работа с солдатами, дежурившими на вышках, и со всеми завербованными „суками” среди заключенных. Операция продолжалась уже четыре дня. Однако никаких признаков появления в зоне или рядом с ней неизвестных или подозрительных лиц зафиксировано не было. Собственно, сам Карамышев особенно и не рассчитывал на успех. Он считал так: „Если выявится что-то само, случайно, то всегда успеем принять срочные меры”.
А бесконечно держать ночных наблюдателей по всему периметру — процедура дорогостоящая и, скорее всего, совершенно бесполезная. Только отвлекает людей от других оперативных дел. Он уже подумывал об отбое и отмене операции…
…Звонок в три часа ночи сбросил его босые ноги на прохладный пол.
— Слушаю. Карамышев.
Дежурный лейтенант Коровкин докладывал с периметра наблюдения торопливо и сбивчиво:
— Пять минут назад с южной стороны замечены двое неизвестных. Один — с большой хозяйственной сумкой через плечо. Дали им свободный проход. Через прорытые заранее ямы под проволокой проникли на территорию. Двигаются осторожно в сторону здания…
Сна как не бывало. Голова работает четко, как будильник на тумбочке.
— Коровкин?
— Да, товарищ полковник.
— Не трогать до проникновения в здание! Нам надо знать, как и куда именно они проникают на реактор. Как только войдут в здание, прикройте отход. Блокируйте лестницы и коридор. Еще раз повторяю. Брать только внутри здания. И только живыми! Лейтенант, головой отвечаешь. Ты меня понял?
— Понял, товарищ полковник.
— Все. Я выезжаю. Свяжусь через пять минут из машины по рации.
Кнопку вызова машины он нажимал уже несколько раз, пока разговаривал по телефону. Давно полковник не одевался с такой стремительностью. Жена сидела в кровати, прижав сложенные руки к горлу. Она сразу поняла, что произошло что-то сверхважное. Полковник сунул пистолет в боковой карман. Излишне, наверное. Ладно, на всякий случай. Выбежал из подъезда в ночь. Шофер давал о себе знать включенными фарами. Карамышев бухнулся на сиденье.
— Митя, гони на объект. На полной скорости. И включи мигалку. Потянулся за трубкой от рации.
— Я — „Луна”. Прием.
— Я — „Ромашка”. Слушаю, товарищ полковник.
Машина уже сорвалась с места и как сумасшедшая мчалась в ночной тишине.
— Доложи обстановку.
— Подошли к зданию. Сейчас устанавливают лестницу в окно второго этажа. Со стороны моря. Участок в самом здании блокируем.
— Освещение там есть?
— Нет пока. Я еще не давал команду.
— Коровкин, не теряй времени. Уже пора. Дай команду на освещение, и начинайте захват. Головой отвечаешь…
Потом связался с постом Мартюшева в здании.
— Я — „Луна”. Прием.
— Я — „Гвоздика”. Слушаю, товарищ полковник.
— Кто дежурит?
— Я, сержант Митрохин.
— Митрохин, я — в пути. Еду к вам. Через минут десять буду. Дай команду, чтобы на всех КПП открыли ворота настежь. Чтобы нигде не было задержки. Номер моей машины знаешь, 00–08. Все. Отбой.
Лейтенант Коровкин решил действовать с помощью психологического шока. Он приказал включить не только освещение по этой оси здания, но и две мощные звуковые сирены. Как только темные фигуры скрылись в окне здания, запланированная, разработанная до мелочей операция „Захват” вступила в действие.
Под окном засели два автоматчика, отрезав путь к отступлению. На крайних лестничных клетках по оси были оставлены посты. Остальная оперативная группа, разделившись на две части, двинулась с разных сторон по коридору второго этажа. Некоторые помещения были без дверей, в строительном мусоре. В других уже стояли смонтированные шкафы контроля и сигнализации. В третьих — кучами валялись трубы мелкого диаметра и металлические прутки.
Один из оперативников прикрывал дверь стволом. Двое врывались в помещение. Потом осматривали внимательно каждый уголок. Оперативники двигались навстречу друг другу. Кольцо сужалось. Не могли они исчезнуть. Не могли провалиться сквозь землю. Где-то здесь…
Полковник Карамышев проскакивал в этот момент последний КПП и рвался к зданию. Запыхавшись, вбежал в дежурку.
— Где? — спросил.
— С южной стороны. Уже начали захват.
— Веди меня.
— Я не знаю туда дороги, товарищ полковник. Здесь настоящий лабиринт.
— Тьфу, черт! — снова выскочил на воздух. — Митя, давай тихо, с потушенными фарами, объезжай здание. Остановись со стороны моря.
Карамышев непроизвольно сунул руку в карман. Нащупал сталь. Снял с предохранителя. Только вылез из машины — резкий окрик за спиной.
— Стой! Кто идет?
Карамышев догадался, что это прикрытие.
— Свой, свой. Как дела?
— Здравия желаю, товарищ полковник. Извините, сразу не узнал.
— Ладно, докладывай. Что там? — он кивнул в сторону здания.
— Не знаем, товарищ полковник. Мы с Сергеевым — на хвосте. А что там внутри… — пожал плечами.
— Хорошо. Будьте начеку. До тех пор, пока не снимем. Полковник вернулся в дежурку. Рация вызывала его уже во второй раз.
— „Луна”! „Луна” — я „Ромашка”. „Луна”! „Луна” — я „Ромашка”. „Луна”!
Карамышев судорожно схватил трубку:
— Я — „Луна”. Докладывай.
— Все, товарищ полковник, операция закончена успешно. Сейчас спустимся к вам в дежурку.
Полковник расслабленно опустился в единственное кресло. Налил из графина воды, запил таблетку. И тут же закурил.
— Митрохин, узнай телефон Тимофеева. Надо срочно вызвать. Возможно, понадобится при первом допросе.
Через пять минут где-то вдали послышались гулкие голоса и приближающийся топот ног. Карамышев глубоко затянулся дымом.
— Слава богу. Все позади.
В дежурку ввалились пять автоматчиков во главе с лейтенантом Коровкиным и две женщины средних лет в темно-серых комбинезонах. Обе весьма приятной наружности и смертельно перепуганные.
— Русские? — был первый вопрос полковника.
— Конечно. Мы русские. Какие же еще?
— Что в сумке?
Женщины замялись. Карамышев построже повторил вопрос, давая понять, что с ними не шутят.
— Я спрашиваю, что в сумке?
— Белье, — промямлила одна.
Коровкин рывком расстегнул молнию. Внутри оказалось чистое постельное белье.
Пятнадцать минут спокойной беседы с „агентами” все прояснили… Идея организовать внутри здания публичный дом для обслуживания самых почетных зэков принадлежала Коляну-колхознику, который всю свою сознательную жизнь провел в разных тюрьмах и колониях. Идея родилась, вызрела и оформилась как-то случайно во время обеденного чифиропития в узком кругу нескольких авторитетов. Все должно быть оформлено порядочно. Никакого насилия. Оплата — немедленно, на месте, наличными. Деньги должны быть льготными, чтоб женщины сами захотели прийти на повторный сеанс. Женщин, Оксану и Лену, нашли на воле. У Оксаны муж шестой год был в заключении, где-то на севере. У Лены муж умер два года назад, оставив троих детей от двух до девяти. Солдата на вышке подкупили хорошими деньгами. Проход ночью в зону был обеспечен. На восьмом этаже, в одном из запущенных, отдаленных помещений оборудовали спальню, в соответствии с эстетическими представлениями Коляна и реальными возможностями. Ложе смягчили опилками и кусками поролона. Нашлись две синие подушки и шерстяной плед с цветными квадратиками. Будуар прикрыли от посторонних глаз двумя монтажными панелями с черными выключателями. В первый раз женщины провели в этом гостиничном номере около двух суток, обслужив около двадцати клиентов. Последних вызывали поочередно из разных концов здания. За сохранность женщин и культуру обслуживания отвечала бригада из трех человек. Женщинам давали время отдыхать, перекусить, сходить по нужде в соседнее помещение. Кормили горячей пищей. Конечно, зэки занимались любовью чересчур азартно, но это можно было понять. После первой вылазки женщины долго обменивались впечатлениями. За два дня они заработали больше, чем за два последних года. Одним словом, решили продолжить почетную работу. Оксана из зоны выносила кое-что для стирки в домашних условиях; заносила чистое, проглаженное…
Сейчас они сидели в дежурке зареванные, испуганные, пришибленные. Вскоре из города подъехал Тимофеев, который был лично хорошо знаком с Карамышевым. Полковник вывел его в коридор и, прогуливаясь по бетонным закоулкам, объяснил сложившуюся ситуацию. Тимофеев взорвался:
— Етти вашу… Я уже в третий раз поднимаю вопрос о выводе зэков из зоны строительства. Каждый день — новый балаган. То стянут что-то, то пульт управления разберут на части. Когда это все кончится, скажи мне?
— Анатолий Ефимович, — одернул его полковник, — ты на меня голос не повышай. Я тоже считаю — надо выводить. Вот вы и добивайтесь в Москве этого решения. Мне-то что, прикажут — завтра выполню. Ты же сам знаешь, кто за них держится — строители! Вот и нажимай на них.
— Ладно, я поеду, — успокоился Тимофеев, — досплю еще пару часиков.
— Будь здоров. Извини за декорацию.
Некоторое оборудование БН-350 было уникально не только по своей сложности. К нему по условиям безопасности работы реактора предъявлялись сверхвысокие требования по надежности.
По этой причине наиболее ответственные системы и узлы проходили предварительные испытания на специальных стендах и только после этого транспортировались в Шевченко. Одним из самых сложных и ответственных технологических комплексов являлась система наведения и перегрузки топливных пакетов…
Для биологической защиты от радиации корпус реактора закрывался сверху двумя многотонными защитными плитами, которые в проектной документации назывались большая и малая поворотные пробки”. Главная техническая проблема заключалась в том, каким образом производить смену или перестановку топливных кассет внутри наглухо закрытого, герметически закупоренного стального котла. Да еще под слоем жидкого натрия, разогретого до температуры 500°. Понятно, что все операции перегрузки должны совершаться дистанционно управляемым манипулятором. Таким манипулятором являлся специальный „механизм перегрузки” (МП), установленный в малой пробке. Обе пробки — и большая, и малая — должны быть на металлическом гидрозатворе. При разогревании сплава гидрозатвора он позволял поворачивать пробки вокруг своих осей. А поскольку пробки монтировались не соосно, а эксцентрично одна в другой, появлялась возможность разворотом пробок на определенные углы установить механизм перегрузки точно над головкой определенной урановой кассеты. Точность „наведения” „МП” на кассету должна быть идеальной, плюс или минус три миллиметра. Разумеется, достигнуть такой точности без вычислительных управляющих машин было невозможно.
Система разворота пробок („наведение”) и сам механизм перегрузки (МП) должны были без сбоя проработать все двадцать пять проектных лет, которые были отпущены реактору для жизни.
Проектирование электрической части системы „наведения” и „перегрузки пакетов” было поручено московским институтам ВНИИЭМ и ЦНИИКА. В качестве базовой основы системы предполагалось использовать бортовые авиационные и вычислительные машины УМ-1НХ, предназначавшиеся по замыслу их разработчиков для систем точечного бомбометания. Конструирование и изготовление всех механических внутрикорпусных манипуляторов возложили на Особое Конструкторское бюро (ОКБМ) в городе Горьком. История создания этого конструкторского бюро теряется в дебрях сталинского управления социалистическим хозяйством. В конце сороковых годов было на то указание Сталина: для выполнения любых, самых фантастических военных заданий в самые кратчайшие сроки!
В состав ОКБМ вошли не только проектные и конструкторские отделы, но и опытные заводы, полигоны для испытаний; химические, металловедческие, физико-технические лаборатории и вспомогательные подсобные службы. Всего десять тысяч человек. За одной колючей проволокой. Под управлением одного генерального директора И.И. Африкантова, в кабинете которого была поставлена кремлевская вертушка. Сталин мог легко вызвать Африкантова на ковер в любое время дня. Но чаще звонки бывали ночью. Африкантов ни разу не подвел ни Сталина, ни Центральный комитет партии. Само перечисление основных изделий и конструкций этого ОКБМ, некоторые из которых известны сейчас всему миру, представляет собой государственный секрет. Вот именно здесь в Горьком, на одном из испытательных стендов № 740 было решено произвести предварительный монтаж, стыковку и проверку работоспособности и надежности систем „наведения” и „перегрузки” реактора БН-350.
В испытании принимали участие заинтересованные организации Москвы, Ленинграда, Горького и Обнинска. От эксплуатации в работе стенда приняли участие несколько механиков и прибористов. От министерства контроль осуществлял неприметный и тихий, спокойный и хитрый Геннадий Александрович Киселев.
От ОКБМ на передний план были выдвинуты две колоритные фигуры, Юрий Николаевич Кошкин и Боря. Первый был главным конструктором дистанционных механизмов перегрузки, которые испытывались на стенде. Это был типичный русский изобретатель с врожденной технической интуицией. Ему было уже за шестьдесят. Поджарый, седой, с острым носом. Глаза его устали от жизни, которую он наблюдал вокруг. От чертежей и конструкций, от тупости и несправедливости. На всех заседаниях межведомственной комиссии он позволял себе закрыть глаза и вздремнуть, хотя в уме фиксировал все дельные замечания и предложения. И вносил необходимые изменения в свои конструкции с немыслимой оперативностью. Но глаза его оставались равнодушными и безразличными к начальникам любого уровня, членам комиссии, которые горячо и шумно обсуждали за столом ход испытаний. Его взгляд оживал только при виде перед собой молодых женщин приятной наружности. Кошкин тогда подтягивался, у него появлялась масса вопросов к этим порхающим созданиям, которые он задавал им беспрерывно, стараясь обнять талию или плечи. Возраст и авторитет конструкторского Гения позволяли ему вести себя легкомысленно и фривольно. Но никто на него не обижался. Его даже по-своему любили. Женщины, знающие Кошкина, флиртовали с ним без всякого стеснения, напоказ для всех, как на театральных подмостках. Как только женская фигура исчезала с горизонта, Кошкин затухал и терял интерес к жизни. Ему хотелось закрыть глаза и вздремнуть.
Оперативным начальником стенда 740 был назначен руководитель группы, болезненный человек, у которого всегда были или насморк, или ячмень на глазу. А чаще и то, и другое вместе. Ему было под сорок. Почему-то никто из окружающих не знал его фамилии. Все называли его просто Боря. Злые языки говорили, что Боря не дурак поддать в теплой компании. Но за все восемь месяцев испытаний на стенде никто не разу не видел Борю с похмелья. Он был всегда чист, как стеклышко; предельно пунктуален и исполнителен. Только постоянно сморкался при разговоре, для чего в каждом кармане брюк, пиджака и пальто носил по два платка.
Летом 1971 года испытания на стенде успешно завершились. Они показали работоспособность системы. Механизмы Кошкина работали на порядок надежнее любых швейцарских часов. Заключительный протокол межведомственной комиссии подписывали сорок два человека от восьми организаций. От ОКБМ — заместитель директора В.И. Ширяев, конструктор Ю.Н. Кошкин и начальник стенда Боря. От БН-350 на подписание приехал Василенко. Подписи его и Киселева были решающими. Оба брали на себя ответственность за дальнейшую эксплуатацию системы в рабочих условиях. Дело это надо было, конечно, обмыть. Ширяев пригласил членов комиссии на вечерний банкет, в один из закрытых залов какого-то большого ресторана на окраине Горького. Банкет на халяву с неограниченной выпивкой и деликатесными закусками — любимое мероприятие всех межведомственных комиссий. Это альфа и омега успешного функционирования социалистической экономики…
Стол ломился от непривычных яств и сюрпризных напитков. С особенным удовольствием подливали Василенко. Константин Иванович неожиданно быстро опьянел, не успев хорошо закусить. Через час он уже с гордостью показывал всем за столом свои рабочие мозолистые ладони и рассказывал, как он в сорок девятом участвовал в сборке РДС-1. Киселев почти не пил, приглядывая за всеми с каким-то исследовательским интересом. В соседнем общем зале громко звучала танцевальная музыка. Стройная женщина с большим накрашенным ртом печально стонала о потерянной любви. Но за банкетным столом женщин не было. И выпив три рюмки „Столичной” и славно закусив, Кошкин пересел в угловое кресло и задремал. Он видел прекрасный романтический сон. Все размытые контуры — в серебристых, фиолетовых и пурпурных красках. Стальные лапы цангового механизма ныряли в жидкое марево и плотно схватывали там головку топливной кассеты. Извлекали ее с усилием из базового коллектора. Схватывали и извлекали. Схватывали и извлекали. В четыре часа утра Кошкина разбудили и отвели в служебную машину.
А вот Борю на банкет не пригласили. Возможно, из-за его некрасивой привычки постоянно сморкаться в помятые носовые платки. Но Боря нисколько не переживал и не обижался на несправедливую судьбу. Параллельно с официальным банкетом он сам организовал со своими рабочими-стендовиками праздничное застолье. Оно проходило прямо в пультовом помещении стенда, рядом с вычислительной машиной УМ-1НХ и кошкинскими механизмами. На стол, застеленный старыми синьками, был установлен графин со спиртом, по-хозяйски сэкономленным от протирочных работ. Его разбавили водой и вишневым вареньем. Закуска народная: вареные яйца, соленые огурцы и капуста, колбаса толстыми кружочками. На стенде было и торжественнее, и веселее, чем на банкете. Боря поблагодарил всех за добросовестный труд, пожелал крепкого здоровья. Насморк у него внезапно совершенно исчез. И с радости Боря запел: „Из-за острова на стрежень…” И начал даже дирижировать. „На простор речной волны”, — дружно поддержали его ребята. Народные песни неплохо звучат ночью, в пустынных технических помещениях.
Спирту чуть-чуть не хватило. В два часа ночи кто-то подал неплохую идею о соседней кладовке, где — это точно известно! — должна находиться полная канистра спирта. Узорчатое стекло в двери аккуратно выдавили. Шкаф вскрыли легко с помощью подручного приспособления. Снова полилась народная песня. Появилась охрана, разбуженная сигнализацией. Всех тут же переписали и составили акт. Дело неприятное, но все обошлось. Всю вину за хищение социалистической собственности взял на себя Боря. Ему дали год условно и понизили в должности до техника. Через неделю все оборудование стенда было разобрано, тщательно упаковано и отгружено на пусковой объект, в город Шевченко.
К осени семьдесят первого года набранный штат приблизился к сотне. Кому-то пришла в голову мысль, что пора бы уже собраться всем вместе в нерабочей обстановке: почему бы не организовать вечер отдыха по случаю приближающегося Пуска реактора? Профком подхватил и развил мысль вширь и вглубь. Тимофеев поддержал идею по-партийному твердо: „Можно! Народ нас поймет!”
Организацию вечера поручили Валентине Ильиничне Зубовой из бухгалтерии, женщине с пышной грудью и живыми глазами, недавно разведенной со вторым мужем. Зубова взялась за дело немедленно.
— Игорь Евгеньевич! — произнесла она приказным тоном, входя в табачную атмосферу комнаты механиков. — За вами текст пригласительного билета. Никаких „но”! Готовность номер один — к обеденному перерыву!
Игорь никогда не отказывался от посильных общественных поручений.
— Слушаюсь, Валентина Ильинична! — бодро ответил он, приложив руку к уху. — Ваше задание будет выполнено в срок.
Двадцать минут Кошелев корявым почерком рожал недоношенного литературного ребенка. Труднее всего — начать. Игорь сразу споткнулся на эпиграфе, без которого торжественное приглашение, как он считал, просто немыслимо. Перебрав в памяти с десяток актуальных изречений Гераклита и Дарвина и забраковав их тут же по причине чрезмерной выспренности, он в конце концов остановился на собственной литературной конструкции, близкой к текущему рабочему моменту: „Вот такие дела… А ведь неплохо идем, товарищи!” Подумал еще немного и подписал: „А. Чесноков (из неопубликованного)”.
Дальше работа пошла быстрее, почти галопом. В официальную часть вечера Игорь включил „пламенную речь директора по поводу” и „воспоминания заслуженных ветеранов о минувшем и давно забытом”.
Художественная часть опиралась на драмколлектив клуба „Энергетик”, усиленный неизвестной исполнительницей сентиментальных мелодий Розалией Козюшкиной (романс „Капризная, упрямая…”).
В заключение Игорь обещал трудящимся производственные телевизионные новости, самодельный салют и танцы, а также кофе с бубликами в домашних условиях.
Валентина Ильинична чуть-чуть подкорректировала текст дополнительными восклицательными знаками и со словами „пойдет, пожалуй” побежала к машинистке. Первый отпечатанный билет Зубова положила в почту Тимофеева. Через час Анатолий Ефимович звонком вызвал секретаршу:
— Танечка, узнайте, пожалуйста, кто составлял текст этого… билета… И пригласите его ко мне в обеденный перерыв.
— Игорь Евгеньевич, вы? — изумился Тимофеев. Возмущение его было искренним и бурным. — Я ничего не понимаю! Объясните мне, пожалуйста, кто такой А. Чесноков? Что еще за „капризная Козюшкина”? Я вас знаю как серьезного инженера. И вот тебе, пожалуйста, „кофе с бубликами”. Как вам такое в голову могло прийти?
Игорь молчал, почтительно склонив голову.
— Убедительно прошу вас прекратить подобные шутки… И немедленно перепечатайте билет.
Игорь вышел из кабинета, разочарованный необъективностью директора.
К производственным TV-новостям, которые ему поручила Зубова, он подошел более серьезно и ответственно. Продумал все до мелочей. По его эскизу в клубе изготовили фанерный ящик метр на два, имитирующий телевизор. На передней панели под дыркой-экраном нарисовали два выключателя, сделали надпись „Горизонт”. Внутри коробки установили лампу дневного света для подсветки „телеведущих”. Текст для них Игорь писал два вечера, взвешивая каждое слово и каждую запятую…
…Праздничная атмосфера чувствовалась уже у входа, где духовой оркестр периодически играл туш. В фойе, украшенном бумажными гирляндами, вывесили большой стенд с фотографиями ветеранов. На втором этаже, в буфете, распоряжалась Эмма Васильевна, плотная женщина из заводской столовой, отпускавшая лимонад и бутерброды (спиртные напитки разрешили продавать только после официальной части).
Вечер начался с поздравлений пионеров, которые с выражением прочли трогательные стихи о партии, а потом дружно разнесли по одному цветочку сидящим в первом ряду ветеранам. О задачах текущего момента выступил с коротким докладом Тимофеев. В запланированные сорок минут он, конечно, не уложился, хотя по ходу речи опустил некоторые мелкие детали и главные проблемы. В конце речи он заверил всех, что задание партии и правительства будет выполнено в срок. Ему горячо аплодировали, радуясь переходу к художественной программе.
После романса Козюшкиной дошла очередь и до „Горизонта”. В качестве ведущих выступали руководители драмкружка Виолетта Нестеровская и Василий Костюков, разбившие заранее текст Игоря на „Ж” и „М” и читавшие его со спокойным столичным достоинством:
— Добрый вечер, уважаемые телезрители!
— Добрый вечер! Мы начинаем с новостей из-за рубежа. Нестеровская сообщила, что накануне этого праздничного вечера редакция получила массу поздравительных писем и телеграмм со всех концов света. От передовых рабочих Боливии, скромных банковских служащих из предместий Лондона, а также от трудящихся туземцев из тропических кустов на островах Фиджи и Новая Каледония. И все они поздравляют сидящих в зале с приближающимся завершением строительства первого в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах.
В зале захихикали и захлопали.
— По родной стране, — торжественно объявил Костюков, а Нестеровская тут же поведала о новом трудовом почине рабочих Новокраматорского завода. Не вдаваясь в суть почина, она рассказала: это уже 14-й почин с начала года; их периодически, обычно по понедельникам, выдвигают рабочие этого прославленного коллектива.
Затем в передаче шли короткие сообщения под рубриками „Вести с полей”, „Рационализаторам — зеленую улицу”, „Высокую культуру — в массы начальников” и „Новости археологии”. В заключение, чтобы приблизить передачу к текущим волнениям и злобе дня, Игорь написал „Репортаж с места событий” о стихийном бедствии в доме номер шесть четвертого микрорайона.
В этот момент в зале установилась заинтересованная тишина, поскольку этот дом был только на прошлой неделе заселен работниками БН-350, которых в первые же дни замучили сантехнические недоделки. Многие из них сидели в зале. Нестеровская невозмутимо сообщила им о том, что два часа назад стихия вышла из подвала дома, образовав приличный водоем с мелкой зыбью и разными запахами. Затем невидимый внештатный специальный корреспондент Шура Зандыба из-за кулис по микрофону сообщил: бедствие развивается нормально, а вода все прибывает, несмотря на самоотверженные усилия аварийной бригады.
В зале начали шушукаться. Понеслись выкрики с мест:
— Пусть вентиль в подвале перекроют!
— Надо весь дом отсечь в колодце. Аля наклонилась к Игорю:
— Не слишком ли наворотил?
— Ничего, перенесут, — ответил Игорь шепотом.
На фоне возникшего шума в зале Костюков с трудом и со смехом дочитал спортивные новости:
— Команда стрелков БН-350, возглавляемая мастером спорта Волошиным, заняла первое место на летней городской Спартакиаде. „Стрелять — не работать! — скромно сказал в интервью прославленный стрелок. — Дайте нам только винтовки в руки, а уж мишени мы всегда найдем”.
После этого Виолетта Львовна торопливо пообещала слушателям о погоде на завтра сообщить послезавтра. И при потухшем уже экране, в полной темноте, торжественно закончила:
— До свидания! До новых встреч в эфире! Передачу для вас подготовил Игорь Кошелев, а вели ее Нестеровская и Костюков. Концерт окончен. Приглашаем всех в танцевальный зал.
Молодые потянулись на танцы, но большая часть рванула в буфет. У Эммы Васильевны появились шампанское и коньяк. Очередь набежала и выстроилась мгновенно. Воздух сразу наполнился криками: „Отпускайте быстрее! Почему им без очереди?” Эмма Васильевна торопилась с расчетом и округляла до рублей в свою пользу. „Эх, да разве в деньгах счастье? — думала она по привычке. — Главное — это люди, наши труженики…”
Игорь с Алей тоже взяли бутылку шампанского и три пирожных. Повеселев, Аля рискнула принять участие в танцевальном конкурсе и неожиданно получила поощрительный приз из рук Зубовой. Плюшевого мишку, похожего на плюшевого зайца.
По мнению Игоря, вечер удался. Неприятности ждали его на следующий день…
Заводская столовая находилась рядом со зданием управления. Но многие механики, работавшие на реакторе, ленились переодеваться в обеденный перерыв из-за паршивой тарелки супа. Сегодня Игорь тоже остался. Витька Дробышев выложил в общий котел домашнюю вареную картошку. Юра Нестеров подкинул несколько сморщенных соленых огурцов, третий — кусок колбасы. А пожилой слесарь шестого разряда Самсон Филиппович, участник строительства двух атомных объектов, извлек пачку апельсинного печенья и большую горсть липких конфет. Пережевывать по традиции следовало в быстром темпе, чтобы осталось еще время на оздоровление спортом. Один огурец оставался недоеденным, когда все дружно устремились к узкому самодельному столику с небрежно разбросанными черными костяшками. Самсон Филиппович первым присел на лавочку и привычно скомандовал:
— Ребятки, присядем ненадолго. А вы, Игорь Евгеньевич, поскольку со спортом не в ладах, расскажите нам какой-нибудь новый анекдотик с легким матерком.
— Можно и с тяжелым. Мы выдержим, — поддержал Дробышев. Самсон Филиппович, награжденный за ударный труд по ошибке двумя совершенно одинаковыми медалями „за трудовое отличие”, пользовался в бригаде заслуженным авторитетом. Только ему было дозволено размашистыми круговыми движениями перемешать костяшки, подготовив их к очередному сражению.
— Поехали, ребята. Разбирайте свои.
Игорь закурил, добродушно усмехаясь над их глупейшим увлечением. Он уже трижды начинал им рассказывать полюбившийся анекдот, усвоенный на занятиях по марксистской философии. Игорь принял его на вооружение на несколько лет вперед и пытался на практике отшлифовать до блеска. Опробовать в своей бригаде никак не получалось из-за нехватки времени. Игорь решил сделать сегодня последнюю попытку, тщательно подбирая слова и паузы. Еще раз затянулся сигаретой и начал…
— …Теплый вечер опустился над вечерним городом. Хорошо в это время в тенистом парке по берегу пруда…
Если учесть, что Игорь заикался, рассказывал не торопясь, с придыханием, и делал к тому же дополнительные актерские паузы в наиболее драматических местах, то вполне естественно, что анекдот растягивался на несколько партий. Витька Дробышев во второй раз провозглашал „рыбу”, а Игорь со своими героями никак не мог добраться до сути общественного явления.
— Еще чего! Больно надо мне заднее место мочить! — закончил он с облегчением.
Игорь замолк, ожидая дружного смеха, или по крайней мере бурного одобрения. Но никто из бригады не заметил, как он закончил. Один Витька Дробышев ухмыльнулся:
— Игорь Евгеньевич, я ваш „новый” анекдот еще в третьем классе слышал. Но насчет девахи вы не правы. Она совсем не так сказала этому фраеру.
— А как, Витек? — поинтересовался Нестеров.
— Она ему сказала так: „Охота была жопу мочить”!
— Ну и какая разница? — удивился Игорь.
— Какая, какая… Вот такая! Не умеешь рассказывать, так и не берись.
— Вы же меня сами попросили! — оправдывался Игорь.
— Мало что попросили. А ты все равно не берись. Если не можешь… Дисциплинированный Самсон Филиппович посмотрел на свои офицерские часы и примирительно произнес:
— Кончай базар, дорогие товарищи. Перерыв окончен. Механики нехотя потянулись к своим каскам.
— Нет, правда. Не умеет рассказывать, а берется, — не унимался Дробышев.
— Пошли, пошли… Ты вот тоже не умеешь играть в домино, а ведь садишься.
„Надо бы к Виктору забежать, — подумал Игорь, — проведать”. В раздевалку ворвался запыхавшийся инспектор первого отдела Мукрышкин.
— Кошелев! Игорь Евгеньевич! Переодевайтесь. Вас Мартюшев срочно вызывает к себе.
— А что такое случилось?
— Не знаю. Ждет вас. Сказал, срочно.
Однако до управления Игорь не дошел. На автостоянке перед управлением его встретили два молодых человека под тридцать и вежливо по очереди представили ему красные удостоверения. Один — Зайцев. Другой — Кажегильдин.
— Нам необходимо побеседовать с вами, Игорь Евгеньевич. Пройдемте в нашу машину.
Игорь инстинктивно оглянулся: Где Мукрышкин-то? Но его лисья морда уже куда-то исчезла. Дверцы „Волги” 00–14 были гостеприимно распахнуты.
— Прошу вас, — командовал Зайцев, — садитесь на заднее сиденье.
Сами сели по бокам, отчего Игорь почувствовал себя окруженным и взятым под стражу. По дороге все трое молчали. Игорь не понимал, что происходит. Единственная мысль: „Какая-то глупая ошибка…”
Остановились перед светлым зданием с высаженными кустарниками вдоль фасада. Известное место в городе: „Контора глубокого бурения”. У входа дежурят всегда несколько машин с нулями. Жители Шевченко почему-то обходили это здание стороной, по другой улице. Поднялись на третий этаж. Зайцев, за ним — Кошелев. Сзади — Кажегильдин. Обычный светлый кабинет с веселенькими шторами. Стол, стулья, сейф в углу.
— Садитесь, Кошелев, — предложил Зайцев, — сегодня у нас с вами, если так можно выразиться, ознакомительная беседа. Без протокола.
Игорь пожал плечами. Подумал: „Мне-то какая разница, мне протокол не нужен”.
Кажегильдин сел чуть в сторонке и сразу закурил. Зайцев сел напротив. Протер профессионально-показательным движением „усталые” глаза. Оба сотрудника были в штатском. Обыкновенные мирные ребята. Ни один предмет в комнате не настораживал внимание. Все походило на дружескую беседу по душам. Зайцев вытащил из ящика стола несколько отпечатанных листков и небрежно бросил их перед собой. Игорь с удивлением узнал в них текст своих TV-новостей.
— Игорь Евгеньевич, — начал Зайцев продуманную заранее беседу, — вы по всем отзывам неплохой инженер. И в институте учились неплохо… Объясните, пожалуйста, мне… я искренне не понимаю этого… Зачем вы сами себя втягиваете в подобную антисоветчину?
— Какую антисоветчину? — Игорь решил сразу открещиваться от любых ярлыков. — По-моему, вы сильно преувеличиваете.
— Хорошо. Возможно, я не был точен. Найдите сами термин для вашего способа публичного самовыражения. Пусть не антисоветчина. А что это? — показал рукой на листки. — Как вы сами это назовете?
Игорь искал самую правильную и безопасную манеру поведения и разговора с Зайцевым. Кто он такой? Что за шишка? Что зависит лично от него? Зайцев ни в жестах, ни тоном разговора не проявлял своего характера и положения. Был спокойным, почти беспристрастным.
— Я бы назвал это так, как это и называется — сценарий для самодеятельного номера „TV-новости” на праздничном вечере отдыха.
— „TV-новости”, говорите? А вы сами где-нибудь… когда-нибудь… слышали такой подбор новостей?
— Нет, не слышал. Но ведь это не серьезные новости, а шуточные, юмористические.
— Понял вас, Игорь Евгеньевич. — Зайцев все время соглашался, готовясь загнать в угол. — Шутка! Вы хотите уверить меня, что все это просто безобидная шутка?
— Ну да, конечно, — подтвердил Игорь, — а для кого она обидная? Конечно, безобидная.
— А вот здесь позвольте с вами не согласиться. Кое-кого ваши шутки все-таки задели и обидели. Мы вчера на праздничном вечере не присутствовали. Однако кто-то же сообщил нам о ваших „шутках”. Не правда ли?
В душе Кошелева похолодело. Дело оборачивалось хуже, чем он предполагал. „Кто-то” — это безликая общественность. Зыбкая, расплывчатая и потому страшная. А ведь кто-то им действительно сообщил. Не сам ли серьезный директор? Игорь не отвечал. И этим раздразнил Зайцева.
— Сообщили нам, между прочим, ваши же сотрудники. Вполне порядочные люди, которым были не по душе ваши язвительные насмешки над всем, что нам дорого. Эти люди, очевидно, смотрят вокруг несколько по-иному… как истинные строители нового общества.
Выспренность последних слов была чрезмерной и лицемерной. Она сразу ослабила позицию Зайцева. Он сам это почувствовал и внутренне разозлился на собственную ошибку. Взял в руки листки, как бы перечитывая заново некоторые места.
— Что это за аварию в четвертом микрорайоне вы организовали?
— Никакой аварии не было. Это же просто… я же объясняю… Игорь начинал горячиться, все чаще заикался.
— А винтовки?
— Что „винтовки”? Не понял?…
— Кому вы предлагаете дать оружие? И какие подготовили „мишени”?
Игорь от неожиданности привстал, совершенно потерялся. Господи, что же это такое?.. Ему страшно захотелось закурить.
— Сядь на место! — спокойно произнес Зайцев.
— Ничего, я постою, — буркнул Игорь и полез в карман брюк за сигаретами.
— Я сказал „сядь”! — прохрипел Зайцев со злостью. Игорь взглянул ему в глаза и вдруг увидел в них неистребимую и неисправимую жестокость. Они светились, как у дикого животного, смертельным желтым огнем. Игорю стало страшно. Перед ним стоял злобный и сильный личный враг. Кошелеву захотелось расстегнуть ворот рубахи и пойти на него грудью. Он замер.
— Сядь! — еще раз проговорил Зайцев с хрипотцой. И неожиданно сам не сдержался: — А то я тебя в такое густое дерьмо посажу, что очки не выплывут.
Игорь сел и решил больше не разговаривать и не отвечать на вопросы. Зайцев закурил, выпустил сильную струю дыма вверх, к потолку. Остыл. Решил, вероятно, что на сегодня для душевной беседы достаточно.
— Октай! — произнес он громким начальственным голосом. — Дай ему подписать бумажку о невыезде.
Кажегильдин поспешно положил ее перед Игорем и пальцем показал, где надлежало расписаться.
— На всякий случай. Это формальность. А сейчас — свободны. Игорь отупел; с места не двигался.
— Свободны, я сказал, — погромче надавил на него Зайцев. — Мы вас еще вызовем… Для продолжения беседы.
Когда Игорь вышел из комнаты, Зайцев резким движением загасил окурок:
— Говно собачье!
На улице Игоря чуть не вытошнило, как будто он съел что-то протухлое. Страха за себя не было, только отвратительное чувство, что теперь он на крючке у этих дураков. Они могут снова вызвать, когда им заблагорассудится. И беседовать, сколько им захочется. А ты должен будешь почтительно сидеть перед ними и объяснять, что ты не верблюд, а овечка.
— Я всегда, Игорь, тебе говорила. Не надо, чересчур. Не надо наворачивать сверх меры. Но тебя разве удержишь? Как понесет… Что теперь будет? — Аля волновалась больше него.
Однако ни на следующей неделе, ни позже Игоря никуда не вызывали. И они с Алей постепенно успокоились и забыли об этом случае, как о чем-то глупом и несуразном. В памяти у Игоря остались только желтые глаза. Никогда Игорь не узнал, кто помог ему…
О том, что Игоря „повезли” в город, Тимофеев узнал случайно, вечером того же дня, от Мартюшева. Утром Анатолий Ефимович позвонил Карамышеву по „прямому”.
— Слушаю, — откликнулся полковник.
— Здравствуй, Иван Васильевич. Как жив?
— Спасибо, вашими молитвами. А сам?
— Я все бегаю. Правда, хромаю на левую, но бегаю…
— Ну, что там у тебя?
— Слушай, Иван, там твои ребята наехали на одного нашего инженера…
— Кошелева, что ли?
— Да, точно. Кошелева. Я тебя лично прошу, оставьте его. Честное слово, он парень неплохой, ну молодой, с вывихом… Сам понимаешь.
— Ладно, Анатолий Ефимович. Только скажи ему, чтоб заткнулся со своими шутками.
— Это обещаю.
— Ну, хорошо. Будь здоров!
Тимофеев положил трубку: „Надо, в самом деле, поговорить при случае. После занятий в школе”. Но не успел или забыл.
После суда Люда бросила пить. Для нее решение судьи было просто изуверским. Она думала, дадут Бобу условный срок и тут же выпустят. Целый год заключения за какую-то паршивую бутылку водки! Что-то сломалось в ней в момент объявления приговора. На следующий день она пошла к отцу. Слезно просила прощения и за себя, и за Боба. Обещала впредь быть порядочной и послушной. Просила только об одном: устроить на любую работу. Константин Иванович сам чувствовал себя виноватым. В ту ночь он поступил сухо и черство. Елизавета Дмитриевна надоедливо повторяла, что „Людочке надо помочь во что бы то ни стало”. Василенко было неловко вновь обращаться с просьбой к начальнику отдела кадров. А что делать? Ему, конечно, пошли навстречу. Люду приняли курьером в канцелярию заводоуправления. Она разносила по этажам и кабинетам папки с документами, приказы и протоколы совещаний. Из канцелярии — по коридорам, и обратно. Вверх-вниз. Как автомат. Люда потеряла всякий интерес к окружающей жизни. Перестала употреблять косметику. Одевалась неаккуратно, однообразно. Выглядела потухшей, серой, болезненной. Следы природной красоты стерлись. Медленным шагом передвигалась она по длинным служебным коридорам, думая про себя какую-то свою думу. Все заработанные деньги уходили на посылки, передачи и поездки к Бобу в Гурьев.
Свидания их были невеселыми, слова — случайными.
— Ну, как дела, Боб?
— Ничего, Люда, терпимо. Все нормально.
— Кормят-то как?
— Нормально, хватает.
Оставалось месяца полтора до выписки. Люда, как обычно, привезла всякие мелочи. Боб был грустнее и молчаливее обычного.
— А что это у тебя за ссадины? — она осторожно дотронулась до свежекровавых порезов на небритой щеке.
— Да так… Вступился вчера за деда Федора, беззубого старика. А они подкараулили меня вчера, всей стаей…
— Ножом, что ли?
— Да нет. Какой-то жестянкой или ложкой заточенной. Боб задумался, вспоминая вчерашнее:
— Ну я их тоже не обидел. Кое-кому досталось.
— Боб, ты будь осторожен. Зачем ты лезешь не в свои дела?
— Да я, Люда, не удержался. Скоты поганые! Последнюю пачку сигарет отняли у старика.
— А я тебе как раз привезла сигареты. Двадцать пачек. „Прима” краснодарская. Вот и поделись.
Люда полезла в сумку и достала аккуратный целлофановый пакет.
— Здесь, Боб, творог, печенье, всякие мелочи.
— Спасибо, Люда. Спасибо за все, дорогая. Одна ты у меня… Ты больше уже не приезжай до выписки. Скоро уже выйду.
Помолчали натянуто. Да и о чем говорить?
— Может быть, начнем с тобой, Людка, с нового листа… А знаешь, что интересно, меня сейчас совсем не тянет к бутылке. Даже хочется быть трезвым. Хочется с тобой на морской берег…
— И мне, Боб, тоже, — Люда неожиданно для себя расчувствовалась, — нам будет с тобой хорошо, Боб. Вот увидишь…
— Должно быть хорошо. Что мы, сопливее других?
Это было их последнее свидание перед освобождением. В следующий раз приехала встретить его свободным. В большой сумке были аккуратно сложены выстиранные и поглаженные вещи Боба. А поверх старых вещей — новая голубая летняя сорочка на молнии.
Побеленные стены с двумя рядами колючей проволоки стали ей близкими, почти родными. Перед воротами, чуть поодаль, прямо на земле, расположилась группа казахов. Они шумно переговаривались на своем языке. Пили чай из большого термоса. Курили. Рядом с ними стояли две легковые машины. Люда не подходила к ним. Прогуливалась перед воротами, поглядывая на часы. Пятнадцать минут двенадцатого. Пора. До ее слуха долетел какой-то шум за спиной. Затем топот ног, крикливый переполох. Вскоре вышел майор с раздраженным лицом.
— Бобылева ждет кто?
— Я! Я Бобылева жду, — подскочила к нему Люда.
— Прошу прощения, неувязка. Драка произошла.
— Что с ним?
— Ударили трубой. Сзади, по голове. Может, очухается? Сейчас вызвали врача. Ждите, пока определимся. — И ушел.
Эти минуты были для нее длиннее всей предыдущей жизни. Через десять минут появился молоденький солдат-охранник.
— Вы к Бобылеву?
— Я, я! — Бросилась Люда. — Ну как он?
— Врач сказал: „Все”. Сегодня вечером отправят в городской морг. Сейчас там разбираются, что к чему…
— Как в морг? Может быть, выживет?
— Какой там выживет… Череп пополам раскроили.
Сумка выпала из рук. Она повернулась спиной к солдату, белым стенам, и медленно пошла. Но не в сторону дороги в город, а в сторону пустынной степи. Мимо ошалело глядящих на нее казахов, дальше и дальше, куда-то к горизонту. Казахи обратили внимание, что лицо у нее было белое, мертвое. Она уходила все дальше в степь, уменьшалась в размерах. И, наконец, скрылась где-то далеко, за барханами песка. Казахи удивленно смотрели ей вслед и перешептывались…
На следующий день Василенко нашел этих казахов. Как свидетелей. Но они ничего толком не могли сказать. Только, что лицо у нее было мертвое. „А ушла туда. Прямо в степь!” Константин растормошил все городское начальство. Один вертолет подняли геологи. И еще две машины дали в войсковой части. Десять дней винтокрылые птицы непрерывно кружили над желтыми песками. Сверху, с небольшой высоты, в ясную погоду тысячи дорог и тропинок видны как на ладони. В пустыне негде спрятаться. Не могла же она пропасть бесследно, испариться! Не могла же! Поиски не принесли никаких результатов. Пропала Люда. Пустыня тоже имеет свои домашние тайны. У Василенко появилась седина в эти дни…
Александр Ильич Лейпунский сидел у иллюминатора, все время посматривал вниз, пытаясь увидеть море. Ничего не видно. Облака, облака… Попросили пристегнуть ремни, самолет начал снижаться… Усталая голова работала трезво, логично, подводя итоги… Вполне возможно, что путь быстрых реакторов и есть главный для Человека третьего тысячелетия. Запасы органического горючего, нефти и газа, да и урановой руды не бесконечны. Термоядерная энергия? Над этой проблемой упорно работают. Возможно, она и разрешима, хотя и не так скоро, как представляется некоторым ученым. Волею судьбы, он, Лейпунский, оказался у истоков развития другого направления в атомной энергетике. За кем будущее? Неизвестно. Уже никогда не узнаю. Вся жизнь ушла на решение проблемы быстрых реакторов. Сейчас физически слаб, мечты и надежды — все размытее. И все-таки техническое тщеславие, желание увидеть свое детище в почти завершенном виде подтолкнули его к этой тяжелой поездке. Безошибочная интуиция подсказывала ему, что надо торопиться. Вряд ли он доживет до физического пуска реактора. Так хоть увидеть его в бетоне и металле, готовым ожить, задышать…
За бортом стали видны белые барашки волн. Показался песчаный берег Мангышлака. Ровная стрелка, ведущая из аэропорта. А вот и сам город, белоснежный, сказочный, ажурный. Боже, какая красота! И вдруг его сознание отвлеклось от реакторных проблем. Остановилось на естественной мысли о тщете и суете обычной человеческой жизни. Все грандиозные научные достижения и великие технические свершения представились ему такими мелкими и бессмысленными перед вечностью и необозримостью вселенной. И нужен ли мне или кому-то еще этот мощный быстрый реактор? Приходит время, когда человеку становиться ненужным и безразличным весь этот реальный, видимый мир, когда поневоле хочешь верить во всевышний Разум. И неистребимая в последние месяцы грусть о приближении смерти и неминуемости конца мгновенно перестала давить на его больное сердце. Наоборот, стала естественной и даже желанной…
Самолет шлепнулся и побежал по бетонированной полосе. Замедлил бег почти до остановки, развернулся и спокойно двинулся к месту стоянки. Двигатели заглохли. Встал. Пассажиры припали к окнам. На стоянке выстроились в ожидании несколько черных „Волг”. Около — солидная, важная публика. Кто-то с букетом. В салоне зашушукались.
— О, кого-то встречают!
— Это эстрадную певицу! Ту, что в шляпе.
— Какую?
— Вон, впереди, с большой оранжевой сумкой.
— Нет, не ее. Скорей какого-то мужика.
— „Шишку” из Москвы.
Застенчивый и скромный, Александр Ильич был смущен такой пышной встречей. Он вышел из самолета вместе со своим заместителем, Виктором Орловым. И сразу попал в объятия высшего руководства. Встречали первые лица комбината, Дмитрий Сергеевич Юрченко и главный инженер Иван Петрович Лазарев[3] (оба из Томска-7); хозяева пускового объекта: Тимофеев, Померанцев, Василенко. Встреча была такой радушной и трогательной, что Лейпунский по-стариковски прослезился самую малость…
На Лейпунского завод произвел хорошее впечатление. Он посмотрел не только свой родной пусковой объект БН-350. Он пожелал убедиться воочию, что и ТЭЦ, и испарительные установки технически готовы к приему перегретого, высокоатмосферного пара, который начнет поступать с реактора после его пуска. По мнению Лейпунского, можно было объявлять готовность № 1. И начинать надо с приемки, очистки и заполнения системы охлаждения жидким теплоносителем. Бочки с натрием начали уже поступать на завод… К вечеру Александр Ильич утомился, сердце шевелилось со сбоями. Но от запланированной встречи с инженерами БН-350 он не только не отказался, но и сам настойчиво напомнил о ней. Ему хотелось поблагодарить их как единомышленников и соучастников большого дела. Он почти не останавливался на технических деталях и тонкостях проекта. Выразил абсолютную уверенность в том, что успешный пуск реактора полностью подтвердит правильность выбранных проектных решений.
— Я благодарю вас всех за вашу работу. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Спасибо вам большое! Желаю удачи.
Игорь сидел почти рядом, и видел, как дрожат и бьются жилки на его лбу. Его поразила простота и скромность Лейпунского; домашняя, бытовая приближенность к людям. После официальной встречи все окружили Лейпунского и желали одного: здоровья!
В эти дни в Шевченко стояла нестерпимая жара. И ночью столбик не опускался ниже 35 градусов. Из пустыни просачивался в город раскаленный воздух. Он расплавленными ручьями растекался по улицам, заполнял объем распахнутых настежь квартир. Обмотанные мокрыми полотенцами или простынями, жители спасались от изматывающей жары. Люди были почти сварены в этом мареве, не досыпали, не доедали. Под глазами у всех темнели круги. Но жители привыкали: один раз за лето такая неделька-другая в порядке вещей, примета местного климата. И днем, и особенно ночью на берегу моря, вдоль всей песчаной полосы за четвертым микрорайоном, сидели и лежали тысячи людей. Они беседовали, периодически обмывались в теплой воде, которая давала только минутное облегченье, пили из термосов зеленый чай. Ночью жизнь здесь была веселее, жгли костры, закусывали, спали урывками. Александр Ильич мучился. Он не представлял, где и как спрятаться от вездесущей жары. Вечером Орлов повел его поужинать в кафе „Карагез”. Это было единственное место в городе, где в зале были установлены новые для города приборы: кондиционеры воздуха. Кроме того, под потолком плавно поскрипывали два вентилятора с широкими сломанными лопатками. А когда воздух двигается около лица и проникает за мокрый ворот — жить становится легче. Кафе было небольшое, уютное, вычурно изукрашенное цветными витражами. Готовили здесь кусок мяса получше, чем в других общественных местах. Неофициально это кафе называлось „армянским”. Не только потому что директор, повар и музыкант Роберт Манукян, сидящий за вечерним расстроенным пианино, были чистокровными армянами. По вечерам здесь собирались представители небольшой армянской диаспоры: таксисты, торговцы мороженым и чебуреками, ремесленники и люди неизвестной им самим профессии. Просто армяне. Захаживал сюда и всеми уважаемый человек с могучими плечами, бывший борец вольного стиля, а ныне почетный заместитель начальника административно-хозяйственной части Энергозавода, добродушный Анатолий Багратович Егоянц. Сегодня он от порога поднял руки вверх и шумно приветствовал всех сразу:
— Барев! Баревтез! Вон цэк? Ему дружно отвечали от столиков: — Сахыниз, лявэнк.
— Шат лявэнк.
— Как настроение? — спрашивал Анатолий. — Кэпт вонца?
— Сахыниз, Багратыч, лява.
Атмосфера в маленьком зале становилась все шумней. Александр Ильич выбрал место между вентилятором и кондиционером. Сразу достал из кармана носовой платок для промокания пота и только потом, усевшись поудобнее, произнес:
— Как здесь хорошо!
В воздухе висела цветастая армянская речь, переплетенная с легким русским матом. От одного стола к другому летели бутылки советского шампанского. Обратно шли в ход бутылки хорошего коньяка и плитки шоколада. Традиция! Белые начинают и выигрывают! В кафе зашли поужинать случайные посетители, две привлекательные светловолосые девицы, загорелые, стройные, в коротких сарафанчиках. Роберт Манукян, сидевший спиной к залу, повернулся немедленно, когда услышал многоголосный вздох: „Пай, пай, пай-э!” Прекратил играть длинную мелодию собственного сочинения. Потому что зачем искусственная музыка, если наяву живая?
На столик девушкам тут же передали с других столов шампанское, бутылку коньяка и две плитки шоколада. Девушки мило улыбались во все стороны.
Лейпунский еще раз произнес задумчиво:
— Боже мой, как здесь хорошо!
Александр Ильич остыл от жары и даже пригубил рюмочку. Силы возвращались к нему. И он заговорил о том, что надо будет особенно обратить внимание на очистку натрия от окислов и тщательно следить за работой фильтр-ловушек.
— А сейчас главное — вакуумирование корпуса…
Девушки, выпив по бокалу шампанского, сели поудобнее, положив одну очаровательную ножку на другую.
Все столики были завалены красочными закусками, многочисленными салатами и буграми фруктов. У девушек — две яичницы с перцем. Официанты услужливо беспокоились у их ног, но девушки больше ничего не желали заказывать в такую жару. На небольшую эстраду вышел в белой накрахмаленной рубашке темный юноша с длинными бачками и жирными блестящими волосами. В зале стало тихо. Он запел на армянском языке грустную песню о далекой Родине. Наверное, о солнечных долинах, где растет виноград. За столиками некоторые тихо подпевали. Они испытывали спокойное счастье единения, какую-то родственную связь с древними морщинистыми дедами, глядящими утром под ладонью на сияющие вершины…
Эти люди ничего не знали о реакторе, который готовился к пуску где-то за городом. Слова „изотоп” или „нейтрон” ни о чем им не говорили. Им было наплевать и на атомную гонку, и на вероятное разоружение. Они знали друг друга. Слышали, что у Вартана, который сидел за крайним столиком, вчера родился маленький Давидик. Знали, потому что они уже выпили за него. Точно знали, что Стелла у Регины и Ашота поедет в этом году поступать в московский институт, потому что она почти отличница (всего две тройки!) За Стеллу тоже поднимали бокалы. Было достоверно известно, что ереванский „Арарат” последнюю игру сыграл на выезде вничью (чуть не выиграл!) Они весело пили, хорошо ели, радуясь той жизни, которую выделила им судьба…
Лейпунский не хотел уходить в жаркий гостиничный номер. Он готов был сидеть до утра среди этих простых, беззаботных людей с непонятной речью и выразительными жестами. Он им в чем-то завидовал.
Было уже двенадцать. Зал, пропахший потом и алкоголем, напружиненный говором и музыкой, опустел.
Александр Ильич подвел итог.
— Виктор Владимирович, мне не по карману этот климат. Я завтра полечу. А вас прошу остаться. Но звоните мне каждый день. Докладывайте все, даже мелочи. Сейчас самое главное — не упустить мелочи. Вы же сами знаете: сейчас всеобщая электрификация. Всем все до лампочки…
Чем ближе подходило время к Пуску, тем интенсивнее и хлопотливее проходили монтаж и наладка важнейших узлов и систем. На голову сыпались аварийные ситуации и непредвиденные проблемы, требующие оперативных решений. Многие из эксплуатационного персонала проходили уже в своей жизни через подобный „атомный” аврал на тепловых реакторах. Но на БН-350 предпусковая лихорадка была возведена в степень. Этого надо было ожидать. Сооружение промышленного быстрого реактора большой мощности по своей грандиозности не имеет аналогов в человеческой деятельности двадцатого века. Сравнить можно разве что с большими космическими программами. Всего четыре страны в мире нашли в себе силы взяться за подобный проект. Но БН-350 был первым в мире — такой мощности… К концу лета началась подготовка к загрузке в корпус реактора атомного топлива. Урановые кассеты уже начинали поступать на завод. Корпус кассеты — это стальная шестигранная труба высотой с деревенский дом и диаметром около 10 сантиметров. Внутри кассеты смонтированы сотни тоненьких урановых стерженьков диаметром несколько миллиметров. Они называются тепловыделяющими элементами — ТВЭЛами. Все 650 кассет должны быть с небольшим зазором установлены в держащем коллекторе внутри корпуса реактора. В совокупности весь набор кассет образует мощное цилиндрическое „сердце” реактора, которое начнет „биться” после пуска. Материал ТВЭЛов различен для центральных кассет и бокового экрана. Центральный объем высотой в один метр и диаметром полтора метра называется активной зоной реактора. В этом небольшом „бочонке” ТВЭЛы изготовлены из обогащенного урана. Он содержит в себе примерно в 30 раз больше изотопа 235, чем его содержится в обычном природном уране. Этот уран-235 и является поджигающим топливом реактора, в котором разгорается цепная реакция деления.
По мере работы реактора исходное ядерное топливо (уран-235) будет убывать или, как говорят физики, „выгорать”. Зато в боковом экране, где ТВЭЛы изготовлены из обычного урана, будет под действием нейтронного потока накапливаться новое ядерное топливо в виде плутония. И что самое главное: в быстром реакторе новое топливо будет накапливаться быстрее, чем будет „выгорать” старое. Быстрый реактор не просто воспроизводит, но и „размножает” ядерное топливо. Через десять лет работы дополнительно накопленного топлива хватит для сооружения еще одного такого же реактора. Поэтому-то быстрые реакторы и называются размножителями. Может быть, именно это их свойство и окажется востребованным в XXI веке…
В активной зоне реактора БН-350 по проекту должно содержаться около тонны исходного горючего, урана-235. Много это или не очень? Для взрыва атомной бомбы достаточно 5 килограмм. Так что загрузка БН-350 по топливу эквивалентна примерно 200 атомным бомбам. Почему не взрывается?
Потому что вся эта тонна топлива не представляет собой единую массу. Она распределена дистанционно в ТВЭЛах и кассетах маленькими порциями, масса каждой из которых меньше критической взрывоопасной массы. Каждая порция находится на некотором расстоянии от другой. По правде говоря, на очень небольшом расстоянии — семь миллиметров. Маловато, конечно, по бытовым понятиям, но для физической безопасности — вполне достаточно…
В процессе работы реактора ТВЭЛы в активной зоне будут разогреваться почти до 700° за счет энергии, выделяющейся при делении ядер урана-235. Если их не охлаждать, они просто расплавятся. А расплавленная масса топлива, слившись воедино, может при определенных условиях превысить критическую массу. И тогда взрыв неминуем. Не дай бог получить подобный взрыв в густонаселенной местности! В крайнем случае, уж лучше в пустыне…
Поэтому главное назначение основных систем реактора — обеспечить постоянный и надежный отвод тепла, выделяющегося в этом адском источнике. Это достигается прокачкой через активную зону специального охладителя — расплавленного натрия. Жидкий натрий должен прокачиваться под давлением в 10 атмосфер между кассетами и внутри них, между ТВЭЛами. Чтобы увеличить надежность системы охлаждения, жидкий натрий будет подаваться в корпус реактора по шести независимым трубопроводам („петлям”). Каждая „петля” состоит из мощного натриевого насоса (сложнейшего сооружения высотой с двухэтажный дом), системы трубопроводов, теплообменников, фильтр-ловушек и технологической арматуры. За несколько секунд своего движения через корпус реактора натрий успеет нагреться от 300° до 500°. Снятое таким образом тепло в конечном итоге будет превращено в перегретый водяной пар, который будет использоваться для получения электроэнергии и опреснения морской воды.
Однако надежная работа натриевых насосов — это еще не полная гарантия безопасности. В проблеме охлаждения реактора есть еще целый ряд аспектов. В частности, повышенные требования предъявляются к чистоте жидкого натрия. Наличие в нем примесей и окислов может привести к зашлакованию узких зазоров между ТВЭЛами и ухудшению теплосъема, хотя бы и в локальном объеме активной зоны. А это, в свою очередь, чревато опасностью расплавления топлива. Конечно, на реакторе БН-350 предусмотрено несколько защитных кассет из материалов, эффективно поглощающих нейтроны. Эти „кассеты защиты” в аварийных случаях могут быть за считанные доли секунды сброшены внутрь активной зоны для прекращения цепной реакции. Однако эта помощь при сильном объемном оплавлении топлива может оказаться запоздалой и неэффективной. Примерно такая авария и произошла в 1964 году на полупромышленном американском реакторе „Энрико Ферми” вскоре после его пуска. Оплавилась почти вся активная зона. Оборудование и конструкции этого реактора после аварии в течение года демонтировали, резали и хоронили в могильниках. Хорошо, что обошлось без взрыва. Вскоре после этой аварии американцы отказались от своей долгосрочной программы строительства быстрых реакторов. А ведь „Энрико Ферми” — детская игрушка по сравнению с БН-350…
В конце августа 1972 года, за несколько месяцев до пуска БН-350, когда система охлаждения была готова к заполнению натрием, прочищена, промыта специальными жидкими составами, высушена и вакуумирована, произошло непредвиденное. При испытании одного из насосов обнаружилась утечка масла в одном из узлов. Анализ аварии показал, что около 10 килограмм масла могли через петлевой трубопровод попасть непосредственно в корпус реактора. Эта посторонняя примесь могла бы стать причиной аварии уже при первом пуске реактора. Когда об этом сообщили по телефону Лейпунскому, он был страшно расстроен. Александр Ильич в 1964 году был в Америке и своими глазами видел поверженный „Энрико Ферми”. Что теперь делать? Весь первый контур уже смонтирован. Реактор герметично закрыт поворотными пробками. Каким образом попасть внутрь реактора и вычистить эту паршивую лужу масла на самом дне? Этого Лейпунский не знал.
Оперативное совещание началось вечером по окончании рабочего дня. В нем принимали участие руководители механомонтажа, наладчики из горьковского ОКБМ и — в связи со специфичностью обсуждаемого вопроса — начальник отдела техники безопасности.
Тимофеев был хмур и озлоблен. Сказывалась невероятная физическая и нервная нагрузка. Василенко — внешне спокоен, но молчалив и удручен. Обстановка — тише и серьезнее, чем на обычных оперативках с шуточками и матерком. Обсуждался один-единственный вопрос: что делать с вероятной утечкой масла в корпус реактора? Как с минимальными демонтажными работами попасть внутрь корпуса?
Техническое решение было принято к полуночи. Остановились на „вскрытии” трубопровода одной из „петель” первого контура примерно в 30 метрах от реактора. Диаметр трубы (около 60 сантиметров) допускал возможность проникновения в него человека с небольшими габаритами. Это было опасно из-за сравнительно длинного участка и наличия двух поворотов трассы, однако ничего лучшего придумать не смогли. Начальник отдела ТБ настоял на специальном обсуждении мер безопасности в случае потери сознания „кандидатом X” во время проведения операции. В центральном зале над трассой было решено поставить аварийную бригаду монтажников, укомплектованную лучшими сварщиками. В случае приказа Василенко они обязаны были оперативно вскрыть участок пола, демонтировать бетон и арматуру и вырезать, не считаясь с материальным ущербом и последствиями, большой участок трубопровода для доступа к потерявшему сознание. В этом случае пуск реактора пришлось бы отложить на несколько месяцев.
Тут же на совещании был составлен план проведения работ с указанием необходимых мер безопасности при их проведении. Единоличная ответственность за проведение операции возлагалась, как и положено в таких случаях, на главного инженера. Константин Иванович невозмутимо подписал план. С этого момента он отвечал за жизнь будущего „лазутчика”.
Монтажников и наладчиков отправили домой, но человек пять эксплуатационников еще задержались. Решили обсудить возможную кандидатуру на роль „лазутчика”. Сошлись на том, что он должен быть небольшого роста, тощим и иметь инженерное образование, чтобы хорошо понимать сущность операции и принять в случае необходимости самостоятельное технически грамотное решение.
На роль малогабаритного героя был единогласно утвержден физик по фамилии Болгарин. Валерий Иванович закончил в 1969 году Томский Политехнический. В Шевченко его не распределили, он сам приехал сюда со свободным дипломом и упросил Тимофеева принять его на любую должность, даже рабочую, и с любым окладом. Его стремление попасть на реактор из романтических соображений подкупало. Приняли техником на испытательный срок. Однако очень скоро Болгарин проявил себя исключительно прилежным и грамотным специалистом. Все основные монтируемые системы реактора он знал назубок. Все, даже самые мелкие и небрежно отданные указания руководства выполнял с такой педантичной точностью, что через полгода его перевели инженером в постоянный штат. Рост его был чуть больше 160 сантиметров. Кандидатура как-то сразу определилась, смущала только скромность и застенчивость Болгарина. Вероятно, это наталкивало на мысль о его мягкотелости, нерешительности и даже трусоватости. Смелость, особенно азартная, на грани риска, жизни или смерти, часто ассоциируется со стандартным кинообразом рубахи-парня с кучерявым чубом. Болгарин совсем не походил на такого героя. Начались сомнения вслух.
— Чего мы гадаем? — вдруг взорвался Тимофеев. — Я его лично завтра спрошу в упор. Согласится — значит, будем готовить его. Не согласится — будем думать. Все! Поехали по домам.
Болгарин согласился сразу. Без уговоров. Не вдаваясь в подробности и не обговаривая каких-либо условий.
Операция началась через день утром. Под непосредственным руководством Василенко. Болгарина одели в стерильный хлопчатобумажный костюм. Без обуви. Герметичная емкость для сбора масла. Маленькая нагрудная аптечка. Стерильная ветошь для вытирания масляных пятен. Ни противогаза. Ни кислородного прибора. Ни радиосвязи. Перед погружением головой в черную дыру ему долго объясняли, как он должен подавать сигналы через страховочную веревку: „Отпустить”, „Тяни” и „Теряю сознание”.
Константин Иванович по-отечески обнял его и тихонько, в лицо, сказал:
— Валерий, ничего не бойся. Не дрожи! Если понадобится, я весь реактор разрежу к чертовой матери. Давай!
До первого поворота трубы веревка уходила довольно быстро. Потом начались минутные паузы. Когда ушло тридцать пять метров, пауза затянулась. Пять минут. Десять. Вероятно, Болгарин залез уже через нижний патрубок в корпус реактора. Возможно, что-то обнаружил там и работает?
Эта пауза была тяжелой для Василенко. Работает или потерял сознание? Сколько ждать? Тянуть назад страховочную веревку бесполезно. Тело могло заклинить на пороге патрубка. Может быть, пора подавать аварийный сигнал сварщикам? Веревка чуть-чуть ослабла. Капли пота на лице Василенко сливались на его шее в ручейки. Через минуту веревку уже можно было выбирать. Но очень медленно, буквально по сантиметрам. Это хорошо. Значит, ползет обратно. Но уж очень медленно. Наверно, ослаб.
„Доползу! — сверлило в голове Болгарина. — Обязательно вылезу. Последний поворот. Там, по прямой, будет легче”
Оставалось каких-нибудь пять метров ровной трубы, когда Валерий почувствовал, что обессилел. Не двигается тело. Пустил по веревке волну, затрепетал ею: „Тяни!” Веревка напряглась под мышками. Его понесло. Уже через три минуты он сидел на стуле в окружении монтажников. Василенко стоял перед ним полусогнувшись:
— Ну как? Как себя чувствуешь? — голос Константина Васильевича дрожал от непоказного восхищения этим маленьким человеком.
Сзади него замерла медсестра с поднятой вверх иглой шприца.
— Нормально, — ответил Болгарин и протянул Василенко емкость, в которой было всего двести грамм масла.
Один стакан! Зато теперь можно не волноваться.
„Сегодня можно будет спать всю ночь, — мелькнуло у Василенко. — Сегодня маленький праздник”.
Константин Иванович протянул не оборачиваясь руку назад, и начальник отдела ТБ вложил в нее плотный лист бумаги. На нем был заранее напечатан приказ, подписанный директором комбината Юрченко — „Об объявлении благодарности Валерию Ивановичу Болгарину за выполнение важного производственного задания”.
„Премировать в размере ста (100) рублей”, — прочитал про себя Болгарин. Улыбнулся и спокойно свернул приказ в трубочку, удобную для ладони.[4]
Тимофееву доложили, что монтажники завезли в здание пульт перегрузки, прибывший со стенда 740. Разгрузили в 208-м помещении, на втором этаже.
— Пойду-ка я гляну своими глазами, — решил Анатолий Ефимович. Уж больно интересно было ему сравнить современный, модерновый пульт со старым челябинским дерьмом. Пульт оказался разобранным на несколько блоков. Тимофеев обошел каждый из них, заглянул внутрь, на клеммники; мысленно компоновал его в единое, рабочее место оператора. Сердце радовалось: техническое совершенство! Ну, хорош!
Он увлекся пультом и совершенно не обратил внимания, как в помещения вошли два зэка. Они подошли к Тимофееву почти вплотную, сзади.
— Мужик, — обратился один из них добродушно, — купи игрушку. Отдам задаром.
На его ладони лежал нож с изящной отполированной эбонитовой рукояткой. Лезвие короткое, мощное, из блестящей легированной стали. Тимофеев опешил в первую секунду. Он очень редко ходил по зоне один. Всегда в сопровождении группы прорабов или начальников СМУ. Жалобы инженеров на привязчивость зэков доходили до него неоднократно. Но сам впервые столкнулся с ними один на один, лицом к лицу. Он постарался взять себя в руки.
— Нет нужды, — сказал он спокойно, — не требуется! Обратил внимание на то, что оба зэка были „накачаны”, не в себе.
Глаза покрасневшие, не свои.
— Дешево отдаю. За плитку чая.
— Дал бы и две, — повторил свой отказ Анатолий Ефимович, — да не нужно.
— А вот такой тебе, наверное, пригодится, дядя, — второй зэк продемонстрировал нож совершенно иной конструкции. Он нажал на невидимую кнопку, и мощная пружина выбросила вперед длинное сверкающее лезвие. Неожиданно зэк ошалело попер с этим ножом вперед, прямо на Тимофеева. Лезвие почти уперлось ему в живот. От зэка несло сильным махорочным перегаром; он был противен и страшен Анатолию Ефимовичу.
— Стой! — закричал прораб, показавшийся в дверях. Он, разумеется, знал Тимофеева в лицо. Мгновенно оценил ситуацию. Главное — в первый момент что-то громко крикнуть.
— Стой! — еще раз жестко повторил прораб, быстрым шагом подходя к зэкам. — В чем дело, ребята?
Зэки тут же спрятали ножи в карманы.
— Ни в чем дело, начальник, — небрежно ответил один, — просто разговариваем. Из-за чего базар?
— Анатолий Ефимович, — обратился почтительно и громко прораб к дрожащему Тимофееву, — вас срочно вызывают. Москва на проводе!
Он хотел дать понять зэкам, что перед ними не случайный дядя, а большой начальник. И „шутки” могут плохо кончиться для них самих же. Тимофеев оценил уловку прораба и поддержал спектакль.
— Иду, иду… Это, наверное, министр. — И быстро, не оборачиваясь, пошел к выходу.
Прораб дружески посоветовал зэкам сгинуть как можно быстрее и куда-нибудь подальше, в другой конец здания.
— Сейчас такое подымется, братки! Мало не покажется.
Зэки оценили ситуацию правильно: испарились мгновенно. Тимофеев был взбешен. Он срочно заказал Москву. Начальнику главка сказал без длинных объяснений и аргументов:
— Или завтра же заключенных выводят из зоны, или я немедленно слагаю с себя полномочия директора.
— Что у вас там произошло, Анатолий Ефимович? Тимофеев не стал рассказывать о случившемся и о том, что никак не может отойти от страха. Просто твердо повторил свое условие. Через два дня из Москвы привезли секретный приказ Министра: со следующей недели заключенных из зоны здания № 130 вывести! Окончание всех строительных работ возложить на Прикаспийское Управление строительством (ПУС). Весть облетела всех в тот же день. Эксплуатационный персонал принял это известие с одобрением: присутствие в зоне зэков становилось нетерпимым. Для зэков эта весть была трагедией: им предстояла пересылка из теплых южных краев в холодную Сибирь, на новый объект. В четверг вечером Игорь попросил Алю приготовить хороший праздничный съедобный презент: курицу, котлеты, немного овощей.
— Сигареты и пару плиток шоколада я сам куплю. Мне, Аля, надо завтра попрощаться с одним зэком.
Аля удивленно приподняла брови.
— Понимаешь, через два дня зэков выводят из здания реактора. Я его больше не увижу… Мы с ним были дружны…
Игорь попрощался с Обуховым сдержанно, без громких слов и выражения каких-то особенных, дружеских чувств. Передал большой пакет с домашней едой.
— Это от жены, — пояснил он.
Обухов не отказывался, ничего не спрашивал, молча принял пакет. Посидели вместе на ступеньках лестницы, где-то в безлюдном уголке. Покурили.
— Ну что, — Игорь со вздохом поднялся, — мне пора идти. Пока, Виктор. Счастливо тебе.
— Пока, Игорь. Привет жене. И разошлись…
Тимофеев выглядел героем в глазах всех реакторщиков. Но в министерстве запомнили его звонок и ультимативный тон. Здесь не любили, чтобы им выдвигали условия снизу. Когда после пуска реактора в высшей инстанции обсуждался список кандидатур на присвоение звания Лауреата Государственной премии, чья-то важная рука вычеркнула имя Тимофеева из этого списка. В высших сферах — свои законы жизни.
— А где подпись Кошелева? — спросил Виктор Васильевич, задержав на мгновение свою руку перед утверждением Акта о готовности системы накопления натрия…
— Виктор Васильевич прилетел сегодня утром из Москвы. И прямо на пусковой объект.
„Покормить — толком не покормили. А бумажки уже подсовывают”, — недовольно подумал он про себя.
Среди многочисленных подписей столбцом фамилия Кошелева была последней и потому малозначительной. Хотя именно его бригада должна была выполнять подготовительные работы, связанные с заполнением контуров жидким натрием, подпись Игоря по сути ничего не решала. Были специалисты поважнее простого бригадира.
Заместитель Василенко, Виталий Кузьмич, задержался с ответом:
— Как бы ему получше объяснить?
— Вы знаете, Виктор Васильевич, Кошелев отказался подписывать Акт.
— Как это вдруг „отказался”? По какой причине?
— Этот Кошелев у нас маленько с вывихом, — Виталий Кузьмич покрутил пальцем у виска, — чересчур умного из себя корчит. У него даже кличка такая: „мудрец”. Считает, что установка для баков-накопителей требует доработки.
— А что именно нужно доработать, по мнению этого вашего… „мудреца”? — Виктор Васильевич отложил ручку в сторону и решил разобраться поточнее. — Пробную бочку разогревали? Сдренировали?
— Да, конечно, — подтвердил Виталий Кузьмич. — Все прошло нормально.
— Так какого же хрена ему не хватает? — важный чиновник Министерства был явно раздражен „непорядком” на местах.
Виталий Кузьмич бросился с подобострастием объяснять:
— Он, видите ли, считает, что печь смонтировали чересчур далеко от баков. В другом конце помещения. Таскать разогретые бочки через все помещение на кране неудобно. Вроде даже опасно.
— Или я что-то не понимаю, — произнес Виктор Васильевич с ударением на слове „я”, — или действительно этот ваш Кошелев немного… чокнутый. Бочки ведь герметичные? Так?
— Так! — поддакнул Виталий Кузьмич.
— Так какого же…? — чиновник хмыкнул. Снова взялся за ручку в готовности поставить свою размашистую подпись. Но опять задержался.
— Вы вот что, Виталий Кузьмич… на всякий случай, — постучал пальцем по столу, — проверьте еще раз все на месте. Если что-то надо доделать — время еще есть. Целая неделя впереди. Все-таки с жидким натрием шутки плохи.
— Хорошо, Виктор Васильевич. Мы еще раз все проверим. Если будет необходимо, примем дополнительные меры безопасности.
— Ну, ладно, я надеюсь, не подведете. — Виктор Васильевич успокоился. — А этот Кошелев… он что, принципиально не хочет подписывать Акт?
— Да, именно принципиально. С ним уже настоятельно беседовали. Несколько раз.
Виктор Васильевич помолчал. Вспомнил, как в его молодые годы таких „принципиальных” быстро обламывали. „Времена не те!” — то ли с грустью, то ли с облегчением подумал он. И подытожил ситуацию:
— Ну, ладно. Не хочет — так не хочет… Не давите на него больше. Только зачем его фамилию в Акте оставлять? А?… Дай команду секретарше, пусть аккуратно выведет его подпись. — Опять постучал пальцем по столу. — И на всех экземплярах! Действуй. Я пока буду здесь, в кабинете.
Виктор Васильевич отодвинул от себя так и не подписанные акты и добавил:
— И распорядись, пусть чайку принесут. Покрепче.
Погода благоприятствовала. Двигались цепочкой по берегу моря, по мокрому песку и мелким ракушкам. Впереди предстояла ночевка и коллективная выпивка на свежем воздухе. Игорь шел рядом с Алей, постоянно подпрыгивая и подправляя за спиной тяжелый рюкзак. Ему достался самый ответственный и неудобный груз: огромная кастрюля с замаринованными кусками мяса для шашлыка и с большими острыми ручками, впивавшимися в ребра. Левой рукой он размахивал в такт своей любимой песне „Дан приказ ему на Запад”. Вообще-то он стеснялся своего пристрастия к этому устаревшему маршу. А потому пел его только в узком кругу и в самые возвышенные моменты жизни. Иными словами, когда был достаточно пьян. Но сегодня у него было какое-то особенно острое чувство свободы. Горизонт над морем был окрашен чистым красным светом. Нетронутая красота пустынного края вызывала в душе Игоря языческое восхищение. В десяти километрах от города остановились на ночлег. Палатки возникли мгновенно, сами собой. Вскоре все окружили советами Юру Нестерова, который томительно долго переворачивал шампуры над мерцающими углями. Мужики пили разбавленный спирт. Женщины — сухое вино. Дружно произносили по очереди короткие тосты и наслаждались пахнущим от костра мясом. Игорь блаженствовал. Порывался рассказать „новый анекдот”, но ему не позволили. Запели. Сначала шумные песни. Потом затянулись тихие, без надрыва. О „невесомом густом звездопаде” и „взорвавшейся в мае сирени”. Игорь во время пения практически не заикался, но пренебрегал тональностями и высокими нотами. Слова рвались у него из души безмотивно и громко. Аля же пела тихо, правильно и проникновенно, как опытный турист. И все время осаждала Игоря:
— Потише ты! Не кричи в самое ухо. Спокойно, с грустиночкой…
Постепенно и песни исчерпались. Паузы между ними растягивались. И тут-то Игорь снова вспомнил свою „комсомольскую”. Его всегда трогала до слез пронзительная правдивость первого куплета, в котором „ему” был дан приказ отправляться в одну сторону, а „ей” — в совершенно противоположную. Трагичность ситуации притягивала Игоря к этой старой музыкальной драме. К тому же это была единственная песня, которую он знал от первого до последнего куплета. И вдруг все у костра, со смехом и показным пафосом, дружно поддержали Игоря: „Уходили комсомо-о-льцы… на гражданскую войну”. Игорь видел во тьме ночи блеск острых клинков; слышал ржание усталых коней; всем сердцем ощущал трагизм гражданской бойни, развязанной по указанию автора книги „Материализм и эмпириокритицизм”. Песня дотянулась до грустного финала. И все со смехом зааплодировали:
— Браво, Игорь Евгеньевич.
— А „Варшавянку” помните?
— Кошелева — на всесоюзную эстраду! Ура-а!
С моря порывами дул теплый ветерок. Угли почти перестали шевелить огненными язычками. Кругом звенели цикады под взглядом обнаженных южных звезд. Всем хотелось какого-то хорошего заключительного аккорда. Уважаемый Самсон Филиппович предложил самое очевидное:
— Ребята, а не пора ли нам коллективно искупаться под луной?
— Только без всяких там предрассудков и купальников! — высказался разомлевший Витька Дробышев.
— Правильно! — поддержали все мужики. — Как в иностранном кино!
— Гениальная мысль! — заверил всех Игорь. — Наступает эпоха полного обнажения личности. Если периодически не охлаждать свое тело и ум, они могут перегреться. И тогда начнутся сбои…
— У тебя уже, я смотрю, начались, — забурчала Аля, — тебе только и обнажаться. Геракл засушенный…
Они вошли в воду, держась за руки. Ни визг женщин, ни брызги мужчин вокруг не мешали их блаженному уединению. Игорь обнял ее за талию и прошептал в мокрое ухо:
— Эх, Алька, Алька! Как я тебя уважаю!
— Все, Игорек. Пойдем назад, к берегу. Прохладно стало.
Аля ласково вырывалась из его периодических объятий, тянула к берегу, поближе к их палатке, где был заботливо разложен двуспальный мешок. На берегу она с удовольствием, по-матерински добротно, обтерла его узкие плечи и бедра махровым полотенцем.
— И вот, что еще интересно, — Игорь неожиданно начал трезветь и потянулся к своим сокровенным мыслям, — у одних людей нравственного чувства в душе не больше, чем у диких зверей. А у других — просто с избытком, как у святых. Ты понимаешь, Аля?
— Я понимаю. Пойдем, дорогой, спать. Напелись, нагулялись. Пора уже.
Но Игоря остановить было не так просто.
— У всего человеческого рода функция нравственности распределена по нормальному статистическому закону. От нуля до бесконечности. Внешне все одинаковы: рубашка, галстук и брюки. А на самом деле… Один еще там, в животном царстве, а другой — уже в будущем. Вот в чем вся петрушка! Эволюция нравственности! Понимаешь?
— Я полностью согласна с тобой, Игорь. Но я уже устала… Пойдем в палатку. Ляжем… и ты мне все расскажешь, подробно…
— А я, может быть, хочу еще выпить.
Аля испугалась. Еще „чуть-чуть”, а потом последуют новые прогнозы об эволюции вселенной.
— Миленький, хватит уже. Я прошу тебя.
Слово „прошу” его сломило. Он подчинился. Из уважения. Первым залез в мешок. И тут же взлетел в небо. Он летал и сталкивался с облаками, приближался к звездам, совершал таинственное круговращение. Но когда почувствовал рядом, совсем близко, свою Алю, вдруг понял, что вот она-то и есть вся вселенная. С туманностями и черными дырами.
„Боже, какой он неловкий и любимый”, — подумала Аля. И слабеющая сонная память донесла до ее сознания: „Вдруг, у огня ожидают, представьте, меня…”
Заводской корреспондент Федя Ершов, проведенный по штату как оператор котельной, приготовил для этого торжественного случая кинокамеру, взятую на телецентре под „честное слово” и денежный залог из личных сбережений. Бригада уже начала работу по закачке натрия. Федя, не торопясь, как и положено настоящему мэтру, проехался объективом по всему помещению, останавливаясь крупным планом на некоторых механизмах и приборах, назначение которых было ему непонятно, а потому вызывало уважение. Точь-в-точь, как в киношедевре Эйзенштейна. Потом он сосредоточил операторское внимание на главных героях. Камера восторженно разглядывала раскрасневшиеся лица механиков, брезентовые робы и оранжевые каски. Федю распирала гордость за порученное дело: запечатлеть для потомков пуск первой системы БН-350…
Игорь отдавал команды четким голосом, почти торжественно. Работали слаженно и спокойно. Сам производственный процесс был лишен романтики. Столитровые металлические бочки с застывшим натрием с помощью крана устанавливали поочередно в термопечи. Следили по приборам за температурой разогрева. Затем, дождавшись расплавления содержимого, бочку извлекали и долго, осторожно тащили краном в другой конец помещения, под самым потолком к огромным бакам-накопителям. Когда-то и эти баки с помощью обогрева будут готовы к тому, чтобы жидкий металл побежал из них по трубопроводам к задвижкам, насосам, к пылающей ядерным огнем активной зоне. Но сейчас надо заполнить сами баки. Надо накопить для системы охлаждения многотонные запасы натрия — 14 000 тонн!
По лицам механиков ручьями стекал противный соленый пот. По очереди выходили на свежий воздух для кратковременного перекура. Самсон Филиппович и Игорь скинули с себя брезентовые куртки. Шел уже пятый час скучной, кропотливой работы. Федя убрал кинокамеру. Однообразие происходившего не подталкивало его к режиссерским находкам и открытиям.
Очередная горячая бочка висела у потолка. Крановую тележку включили на ход „вправо”. Колеса заскрипели по направляющим балкам. Бочка закачалась на тросе и поплыла. И в этот момент ее герметичную крышку выбило в потолок внутренним избыточным давлением. Из бочки взлетели вверх несколько пылающих светло-серых фонтанов жидкого, горящего в воздушной атмосфере, металла. Всю бригаду накрыло мелкими блестящими брызгами. И только главная, мощная струя пришлась на шею и спину Игоря. Белая нательная рубашка и тело под ней задымились. Все инстинктивно разбежались в разные стороны с дикими криками. Только Игорь осел, встал на колени. Федя, повалив камеру, бросился в соседнее помещение, где был установлен городской телефон. На испуганных лицах механиков сверкали застывшие металлические блямбы, которые они в горячке пытались сковырнуть вместе с кожей. Через несколько минут общей паники стало понятно, что взрыв обошел всех. Кроме Игоря. Его на руках вынесли на воздух и кое-как усадили на бетонных ступеньках. Он был в шоке. Попросил закурить. Серое лицо ничего не выражало. Зрачки дико расширились и стали неподвижными. От него отвратительно пахло горелым мясом и мочой. Руки дрожали. Но сознание он не терял. До приезда „скорой”. Спросил только: „Зачем уже она?” В больницу увезли всех, кроме Феди и Самсона Филипповича, который в момент разгерметизации емкости вышел на перекур. Через полчаса прибыли Василенко, начальник отдела техники безопасности и местный инспектор ЦК профсоюза. Выслушав Самсона Филипповича и Федю, тут же составили акт о несчастном случае. Сразу связываться с Министерством не стали. Решили подождать немного до заключения врачей. Но и те не могли ничего толком сказать о состоянии Кошелева. „Положение тяжелое. Без памяти”. Запросили на всякий случай добровольцев на сдачу крови и пересадку кожи. А вскоре сами позвонили домой Юрченко: „Умер, не приходя в сознание…”
Через два дня состоялись скромные похороны. Людей, цветов и стандартных речей было немного. Аля не могла ни спать, ни разговаривать с людьми. Не могла ничего делать. Сидела тупая, черная, безжизненная. Люди входили, выходили. Приносили венки. „От бригады”, „от профсоюза”, „от Обухова”. Кто-то плакал. Кто-то ее успокаивал, хотя она и не плакала. Господи, какое значение имеют слова, цветы, ритуал. Его-то нет уже!
Аля взяла две недели в счет отпуска. Бессонница замучила. Рано утром выходила на безлюдный берег. В мокром песке шевелились белесые рачки. В воде резвились молоденькие рыбки. По берегу ползали ужи…
Через день после смерти Кошелева Лейпунскому позвонил кто-то из чиновников министерства и сообщил о смертельном несчастном случае на БН-350, происшедшем при закачке натрия. Жизнь Александра Ильича была богата и счастливыми минутами научных побед, и неудачами, и несчастьями. Он был свидетелем гибели своих друзей при разгроме УФТИ. Сам был много раз на волосок от гибели. Казалось, что его нервная система адаптировалась к непредсказуемой жизни. Мысли его все последние годы сконцентрированы на самом главном — Пуске промышленного реактора БН-350. Смерть незнакомого человека, тем более из-за собственной небрежности и несоблюдения правил техники безопасности, не должна была вывести Александра Ильича Лейпунского из заведенного жизненного ритма. Внешне спокойно и выдержанно прореагировал он на звонок из министерства. А может быть, это было и не совсем так…
Через день у Лейпунского случился очередной инфаркт. Последний. Это произошло в ночь на 14 августа 1972 года. Грустная весть мгновенно облетела обнинские дома. Прощался весь город. Люди плотной толпой стояли на всем пути похоронной процессии. Прощались с ним официальные лица, друзья, ученики, незнакомые люди. „Его имя стало синонимом ФЭИ”. Это было правдой. „Его вклад в советскую науку огромен и неоценим”. И это было верно. „Он был принципиальным, внимательным к людям и добрым”. Наверное. Но никто не произнес вслух, что он так и не увидел свою мечту осуществленной. Не дожил несколько месяцев.
Из отчета В.В. Орлова, председателя Государственной Комиссии по физическому Пуску реактора БН-350:
Из книги отзывов почетных гостей Мангышлакэнергозавода:
P.S.: 22 апреля 1999 года решением Правительства Республики Казахстан реактор БН-350 был снят с эксплуатации. За несколько лет до этой даты был законсервирован урановый рудник.
В шестидесятых годах за создание гуманистической среды в пустыне городу Шевченко была присуждена международная архитектурная награда — золотая медаль имени Патрика Амберкромби. Ныне город болеет и чахнет. Оживится ли когда-нибудь? Или умрет, занесенный равнодушными песками? С надеждой на будущее…
нн
Молодой инженер категорически отказывался от поручения, ссылаясь на простуду, дефекты в дикции и малый рост. И все-таки энергичная женщина из профкома его уговорила, обращаясь напрямую к его общественной совести:
— Вы понимаете, Василий Егорович, что без вас мы просто сорвем праздник! Нам до зарезу нужен третий Дед Мороз! Если не вы, то кто же? У нас нет другого выхода…
Беда Василия Егоровича заключалась не только в его мягкости и отзывчивости, но и в том, что он к любому поручению относился в высшей степени творчески. Именно это превращало для него любую простейшую задачу в своеобразную „проблему гравитации”. Костюм он взял напрокат в городском Доме Культуры имени Крупской. Халат был маловат даже для его роста 164 см. Пришлось некоторые швы распороть. Зато шапка оказалась шестьдесят второго размера и накрывала его ниже плеч. Василий Егорович сузил ее наполовину и существенно модернизировал, прикрепив в лобовой части полупрозрачную елочную игрушку. Под рукой нашлись заяц и сова. После долгих раздумий Василий Егорович остановился на сове, которая имела более выразительные глаза. Внутри совиного живота он смонтировал коммутаторную лампочку на шесть вольт, а два длинных проводка подсоединил к батарейке с кнопкой. Весь этот маскарад Василий опробовал в общежитии перед треснутым зеркалом. Батарейку с кнопкой и левую руку он поместил в боковой карман, а в правую руку взял длинную суковатую палку. При ударе ею об пол, он нажимал на кнопку, и сова при этом светилась изнутри душевным светом и пучила глаза, чем достигался надлежащий новогодний эффект. Василий Егорович предполагал, что в этот момент нормальные дети с удивлением будут осматривать и ощупывать „волшебную” палку. Экспериментальных детей под рукой не было, но инженер остался в общем доволен изобретенной конструкцией: действовала безотказно. После этого Василий Егорович глубоко задумался о поэтическом антураже для юной Снегурочки: срочно нужно изготовить какое-либо самобытное новогоднее поздравление! Для него это было сложнее „Фауста” Гете, потому что не совпадало с личным техническим профилем деятельности. Василий сочинял целый вечер. Пил кофе, нервно курил и задумчиво глядел в морозное окно. В результате творческих мук родились следующие проникновенные строки:
Сегодня праздник — Новый год!
И елка всех к себе зовет!
А добрый Дедушка Мороз
Подарок Вовочке принес!
Имя „Вовочка” он, конечно, употребил условно, допуская возможную замену на „Юрочку” или „Софочку”. Перечитав эти строки в восьмой раз подряд, Василий Егорович остался доволен самовыражением. И откровенно, и искренно! Немного смущало его наличие трех восклицательных знаков в четырех строчках. Не много ли? Но, поразмыслив, решил, что подобное иногда случается при излиянии глубоких чувств. Генеральная репетиция с живой Снегурочкой Таней прошла успешно. Танечка оказалась актрисой от Бога. Стихи она читала с таким надрывом, что Василий немного пожалел о своем загубленном поэтическом даре. Но… как говорится, с Судьбой не спорят!..
Василию Егоровичу достался список из шестнадцати квартир в трех соседних домах. Конечно многовато, но за часа четыре, с восьми до двенадцати, можно было осилить, если не отвлекаться на непредвиденные обстоятельства… В огромном мешке за спиной были упакованы аккуратно обвязанные детские подарки, обозначенные номерами домов, квартир и именами новогодних детей. Снегурочка вся сияла и излучала восторг от предстоящего праздника… На улице было не холодно, около -20 °C. Навстречу двигались веселые гуляющие компании и другие Деды Морозы, часть из которых была уже навеселе.
Первое посещение инженерной четы Кузьминых с дочкой Мариночкой прошло вполне успешно, в соответствии с задуманным сценарием, если не считать небольшого сбоя в четвертой строке новогоднего приветствия и неожиданного угощения рюмочкой водки в интимной обстановке у кухонного стола.
Далее в плановом документе шел дом № 3, квартира 46. Мать-одиночка Клавдия Андреевна и дочка Света. Здесь нужно было проявить особое внимание и такт.
— Заходите, пожалуйста, — томно пропела Клавдия Андреевна, — я вас так ждала.
На ней было длинное платье из легкого шелка с глубокими вырезами на груди, сбоку и сзади. Весь ее облик выражал долгожданную радость встречи. Василий Егорович стукнул два раза палкой, но ни мама, ни дочка на сову никак не прореагировали.
— Светочка, скажи дяде Васе „здравствуйте”. Почему ты молчишь?
— Это же не дядя Вася, — логично отпарировала девочка, — это же Дедушка Мороз!
— Правильно! — согласилась мама. — А прочитай дедушке какой-нибудь стишок. Ну… Какой мы учили сегодня с тобой… Ну…
Светочка наморщила детский лоб, почесала пальчиками щеку и неожиданно вспомнила:
Сегодня праздник. Новый год
К нам обязательно придет…
— Молодец, — тут же похвалила Клавдия Андреевна. — Она у меня такая смышленая. А теперь, Светочка, идите со Снегурочкой в комнату. Поиграйте около елочки, обменяйтесь подарками. А мы с Дедом Морозом пошепчемся чуть-чуть в кухне.
Василий Егорович двинулся за мамой, мучительно припоминая, где он слышал эти навязчивые детские стихи. На кухонном столе стояла толстая оплывшая свеча, а рядом — на плоской тарелке — два больших хрустальных фужера, до краев наполненных бесцветной жидкостью. Несколько бутербродов с ветчиной и кривым сыром давно ожидали Деда Мороза.
— Василий Егорович, я вас так ждала сегодня, — пролепетала душным шепотом Клавдия Андреевна, протягивая ему огромную хрустальную емкость.
— Что вы, Клавдия Андреевна, — засмущался Василий, снимая усы и бороду. — Это как-то неожиданно…
— Это — за Новый год, — двусмысленно улыбнулась она, — и за нашу дружбу. Давайте вместе, до дна… Закусывайте, пожалуйста.
Василий Егорович закусил уголком сыра и почувствовал жгучее тепло, мгновенно разлившееся по телу.
— Спасибо, Клавдия Андреевна, вы так любезны.
— Ну что вы! Это вам спасибо. Вам сегодня предстоит такая тяжелая работа. Все празднуют, а вы, понимаете ли, на боевом посту.
У нее на глазах готовы были появиться слезы благодарности, но, поскольку Василий уже повернулся спиной и двинулся к выходу, она решила попридержать их для другого раза.
— Василий Егорович, — досказала она самое главное уже в дверях, — Когда обойдете всех, заходите снова ко мне. Не стесняйтесь: Светочку я уложу спать. Посидим, знаете ли, по-дружески. Подведем итоги…
— У меня еще четырнадцать квартир, — оправдывался Василий, надевая на плечи мешок.
— Ничего страшного. Дела — делами, а потехе тоже нужен свой час. Я жду вас.
Дом № 3, кв. 88. Сын — Коля. Родители — неизвестны. Открывает дверь седая бабушка с буклями и бельмом на глазу. Сзади маячит худой мальчик с косым глазом. Оба смотрят подозрительно и в квартиру не приглашают. Василий Егорович для установления дружеского контакта стучит несколько раз палкой. Сова высвечивает выпученные глаза. Все вроде бы по сценарию. И тут Коленька вдруг завизжал от страха, а бабка от испуга сделала шаг вперед. Василий случайно дыхнул на нее всем объемом легких. Бабушка обмякла и сразу же успокоилась: свой! И впустила в квартиру. Коленька же от страха забился под диван и категорически отказывался покидать свою крепость. Снегурочке пришлось лечь на пол для того, чтобы передать ему подарок и прочесть новогоднее четверостишие. Коленьку стихи напугали еще больше, чем сова. Он продолжал безнадежно визжать.
— Бабуля, — пояснил Василий Егорович авторитетно, — за новогоднюю реакцию ребенка мы ответственности не несем. — И пошел уверенным шагом в кухню, повинуясь быстро сложившемуся рефлексу.
К его удивлению, на кухонном столе не было ни свечей, ни фужеров.
— Какие у вас милые обои, — разочарованно протянул он, — и все в цветочках.
Случайный выстрел попал в „десятку”. Так часто бывает в жизни.
— Вам нравятся? Правда? — бабуля вся вспыхнула от гордости. — А какие вазоны! Представьте, я сама выбирала. Сын говорил, давайте купим попроще, в полосочку. А я говорю — никогда!
— Правильно! — поддержал Василий. — Полосочки сейчас не в моде. Только вазоны! Таня — на выход! До свидания, бабуля.
Следующим был слесарь Михаил Евсеевич Никифоров с безымянным ребенком.
— Ну, с этим будет попроще, — подумал про себя Василий.
На деле все было еще проще, чем думал. Квартира — насквозь холостяцкая. Ни жены, ни детей у Михаила Евсеича никогда не было. Просто он решил под Новый год выпить пару стаканчиков с настоящим Дедом Морозом. А в качестве подарка собственноручно упаковал бутылку „Столичной”. В центре единственной комнаты, вместо елки, стояла неубранная кровать. Снегурочку оставили в прихожей для повторения стихов, а сами дружно прошли в кухню. На столе были гостеприимно приготовлены два непромытых граненых стакана и три бутылки водки. Василий добавил к ним четвертую, подарочную. Но это не все. В тарелке китайского фарфора с экзотическими рыбками блестел прямоугольник из холодца по два рубля восемнадцать копеек.
К празднованию приступили сразу, без лишних слов. После первого новогоднего тоста с заключительным словом „будем”, перешли к обсуждению политического конфликта в районе Карибского моря, который давно завершился мирным исходом.
Михаил Евсеич выступил первым.
— Кеннеди все-таки был неправ. Как ты считаешь, Василий?
— Еще бы! Тут и считать нечего. Посудите сами, если бы он был прав, разве мы бы сейчас вот так сидели в этой кухне и мирно выпивали? Да никогда.
— Вот именно. Подумаешь: ракеты, ракеты… Больно напугал нас.
— А вот Никита наоборот оказался прав. Как ты считаешь, Михаил?
— И не просто прав, а тысячу раз прав. Да если бы он был неправ, нам бы сейчас не сидеть за этим столом. Это как пить дать! А может, еще по разу?
— Нет, Мишаня, не могу. У меня впереди еще двенадцать квартир.
— Елки точеные! Как же ты выдержишь, Вася?
— Что делать? Надо держаться. Поручили.
— Ну ладно, Василий. Походи немного. А потом — снова ко мне. Допьем. Ко мне еще Витек должен подгрести попозже. Посидим втроем, обсудим конфликт до конца. За Фиделя Кастро надо выпить…
На улице впервые пришлось опереться на снегурочкино плечо. Квартира 64. Дом вроде тот же. Заместитель начальника отдела Миронов подозрительно оглядел Деда Мороза с ног до головы. Василий стукнул палкой, но кнопку нажать забыл. Стукнул еще раз. Миронов миролюбиво посоветовал:
— Идите домой — проспитесь.
Василий молча протянул ему подарок и добродушно икнул. Дверь захлопнулась. На улице Василий Егорович почувствовал необходимость смены тактики и решил сократить рабочую новогоднюю бригаду до одного человека. Проводил Таню до подъезда, сдал на хранение палку, сову и мешок с подарками.
— Спасибо, Танюшка, за содействие. Дальше я уже сам как-нибудь управлюсь. С Новым годом!
Дом № 3, кв. 46. Что-то родное. Она без шелка, в синем запахнутом халате с большими желтыми птицами:
— Здравствуйте, я вас так ждала.
Ах какие фантастические, волшебные слова! Василий Егорович сразу расцвел. А в кухне — те же одинокие фужеры.
— Ну давайте теперь за любовь. На брудершафт!
— Клава, какая вы нежная. Хоть не уходи.
— А вы и не уходите.
— Не могу, у меня еще четырнадцать квартир.
— Ну, а потом — сразу ко мне. Обещаешь?
— Слово — закон!
— Не возись долго с каждым. С Новым годом, и все, и дальше.
— Я постараюсь.
Бабуля дверь вообще не открыла. Подумаешь: вазоны! А вот Никифоров — настоящий друг. Сразу открыл.
— Здорово, Мишаня!
— Я не Мишаня, я Витек!
— Понятно. А где Мишаня?
— Заснул. Умаялся бедняга. Силы у него уже не те. — пожалел его Витек. — Ну пойдем в кухню, трахнем по стаканчику.
Трахнули. Закусить нечем: холодец закончился.
— Ну я пошел, Витек. У меня еще работы невпроворот.
— Не забывай-то друзей, захаживай периодически.
На улице Василия совсем развезло. Но до знакомой двери дошел:
— Здравствуй, Клавочка. Здравствуй, дорогая.
— Наконец-то! А я жду, жду. Думаю придет или не придет? Загадала на картах. Дали ответ — придет!
— И вот он я, здесь! Я, Клавочка, не мог не придти. Меня чувства вели. Сильные. Ты понимаешь меня?
— Как я тебя понимаю, Вася! Фужеры, как всегда, были наготове.
— Давайте, Клавдия, выпьем за нас и наших детей.
— Как, у тебя тоже есть дети? — изумилась Клава. — Когда, сейчас?
— Да.
— Сейчас, нет. Но будут, Клава, будут. Попозже. Это я тебе обещаю. Вот только обойду по списку, а потом — сразу к тебе.
Клавдия Андреевна взгрустнула от предстоящей новой разлуки. Около самой двери она слегка прижала его к стене мягкой грудью и простонала:
— Милый!
На свежем воздухе в разных направлениях перемещались толпы Дедов Морозов. Кто-то из них, покрепче, и довел Василия Егоровича до общежития…
Шестого января состоялось общее собрание трудового коллектива. Празднование Нового года проходило в повестке дня под рубрикой „Разное”. Слово для отчета по данному вопросу было предоставлено члену профкома по социальным вопросам Клавдии Андреевне Смирновой. Она взошла на кафедру и положила перед собой стопку мелко исписанных листков.
— В этом году мы задействовали трех Дедов Морозов из нашего коллектива. Большинство из них успешно справились с порученной задачей. Особенно хочется отметить Василия Егоровича Пяткина. За одну новогоднюю ночь он обслужил… Кстати, я попрошу поднять руку тех, кого успел обслужить наш молодой специалист.
Вместе с собственной рукой и рукой Василия, она насчитала шесть и продолжила доклад.
— Итак, почти 50 % ожидающих в новогоднюю ночь Деда Мороза получили то, что они и ожидали.
Из зала раздался осипший голос какого-то рабочего с математическим уклоном:
— И не 50 %, а только тридцать пять.
Но Клавдию Андреевну не так просто было сбить с намеченного курса.
— Давайте, товарищи не будем акцентировать внимание только на количественных показателях. Значительно более важным мне представляется качество обслуживания.
— Подтверждаю качество! — выкрикнул с места слесарь Михаил Никифоров. — Он ко мне три раза заходил. Сверх нормы.
— Вот видите, я же говорила, — поддержала Клавдия Андреевна. — И ко мне лично, — она слегка поправила прическу, — Василий Егорович тоже дважды приходил.
Про третье посещение Клавдия решила не упоминать, чтобы не вызвать преждевременных подозрений.
— К вам-то два, а ко мне вот ни разу не зашел. Я ведь тоже, возможно, его ждал, — крикнул с места какой-то мелочный правдолюбец.
Но Клавдия Андреевна эту реплику попросту проигнорировала и продолжала ход своих мыслей:
— Таким образом, качество естественно переходит в количество. Если добавим к шести плановым заходам еще три внеплановых, то в результате получится, если не ошибаюсь, цифра девять. А это уже, товарищи, далеко за пятьдесят процентов, о которых я говорила выше.
Здесь Клавдия Андреевна сделала десятисекундный перерыв и, с достоинством оглядев зал, отложила в сторону два исписанных листка.
— Я думаю, надо отметить как положительный факт и художественное оформление визита Василия Егоровича. Если вы помните, Снегурочка читала превосходные стихи его собственного производства. Конечно, я выражаю только свое собственное, объективное, мнение, но я оценила бы его работу на «отлично». Что касается двух других Дедов Морозов, у которых показатель посещения значительно ниже — соответственно три и четыре квартиры — то здесь, я думаю, можно ограничиться удовлетворительной оценкой. У меня — все!
Сложив снова все листки стопкой, Клавдия Андреевна с поднятой головой сошла с трибуны. Собрание дружно поддержало ее мнение. Начали шумно расходиться. Клавдия Андреевна лично поздравила Василия Егоровича от имени профкома и пригласила к себе в гости на чашечку чая в ближайшую субботу:
— Тем более, адрес вы уже знаете. Приходите, я вас буду очень ждать.
В назначенный вечер Василий Егорович надел свой новый костюм и галстук цвета морской волны. Светочка в этот вечер осталась ночевать у своей любимой тети Ксении. Фужеры были те же самые. Свеча горела до самого утра…
Через три года в их семье было уже три девочки. Добавились Юля и Оля. Василий Егорович, конечно, хочет еще и мальчика. Возможно, его желание осуществится. Клавдия Андреевна недавно ушла в свой очередной декретный отпуск.
…С удивлением заметил я, что со всяким ударом весел, почти касающихся дна, всплывали большие круги жирного зеленоватого вещества. При ближайшем рассмотрении оказалось, что то была чистейшая белая нефть, коею столь обильно напитался восточный берег Каспийского моря…
…Незамерзающие озера Мангышлака принимают на зимовку тысячи уток, лебедей, фламинго…
Небрежно отшвырнув с порога заблудшую скрюченную змею, Базарбай вышел из своего жилого вагончика и зажмурился от слепящего солнца.
«Какое-то красное, — подумал он. — Наверное, завтра похолодает. Пора уже».
Пробуренная скважина обещала приличный дебет. И самое главное — вчера она была успешно законсервирована до следующего рабочего этапа… Базарбай ждал фонтана. Накануне доложил по рации начальнику промысла. Глинистый раствор выходил из скважины с газом. Просматривалась уже нефтяная пленка. Бур извлекли. Спустили обсадную трубу. Приволокли всей бригадой задвижки, патрубки с флянцами, грунтонасос, цемент… И все-таки фонтан ударил неожиданно. И бил в небо три дня черным маслянистым факелом, оглашенно рыча на всю безлюдную степь. Только через десять часов после сигнала на поисковой площадке появились пожарники и аварийная бригада. Все обошлось, скважину обуздали. Когда затянули задвижку, установилась неправдоподобная тишина, от которой у Базарбая сразу заболела голова. Вокруг бесновались от радости взрослые люди. Прыгали по нефтяным лужам, мазали друг другу лица черным кремом. И смеялись, смеялись. Только двое рабочих из аварийки не участвовали в общей вакханалии радости. Они расслабленно сидели на прохладной земле и неудержимо блевали. Отравление выворачивало их пустые желудки. Базарбай присел рядом с ними и отрешенно, не глядя на них, произнес:
— Ничего… Это газ!.. Скоро пройдет.
Базарбай сам не угорел у скважины, но маленько оглох: не заткнул сразу уши ватой. А сейчас в наступившей тишине почувствовал…
Сегодня с утра все аварийщики разъезжались на вертолете, в два рейса. Он улыбался каждому привычно, чуть-чуть, без особой гордости:
— Спасибо тебе… Спасибо, Саке… Спасибо.
Проспав пять часов убойным сном, вышел на воздух, чтобы окинуть опытным взглядом свою площадку. На голубом фоне чернел металлический остов вышки. Рядом, в естественном котловане с крутыми обвальными берегами, поблескивало на солнце черное, гладкое озеро.
— Тонн триста, — прикинул Базарбай…
Скоро сюда придут другие люди. А он со своей бригадой на тракторном поезде двинется дальше, на юг, вглубь Мангышлакской степи. Вместе со всем оборудованием: буровым станком, лебедками, трубами, насосами. Вместе с новой сорокаметровой вышкой. Вместе с серебристыми вагончиками.
— Эх, время сейчас замечательное, — вздохнул он.
Жара уже прошла. Ни гнуса, ни мошкары. Закаты сказочные. Живи только и радуйся жизни. Для бурового мастера Базарбая Нуржанова одинокая кочевая жизнь в солончаковой степи, поросшей верблюжьей колючкой и солянками, давно уже стала естественной и единственной формой существования. Вертолетный летчик Саша Авдеев меняет бригаду каждые две недели. Они вахтовики. Отработали свое — и домой. А у Базарбая нет своего дома. Есть закрепленное за ним место в общежитии рабочего поселка нефтяников, где он раз в три месяца отсыпался и вываривал одежду, очищая кое-как от черных пятен. А дома нет. Поэтому его часто называли несменяемым мастером. И так уже двадцать лет. Даже больше. Уж почти тридцать. Как-то пролетело время неспешно, незаметно. Сейчас затянулся сигаретным дымом и вспомнил, как совсем еще недавно отец подбрасывал его, трехлетнего ребенка, высоко под потолок. А потолок — грязный, закопченный. Руки отца сильные, мозолистые, пахнут конским потом и нефтью. Работал конюхом и возницей в Доссоре. Нефть тогда возили в бурдюках или бидонах, на лошадях и верблюдах. Вокруг низенького домика — глиняный забор, всегда подпертый сбоку или желтым песком — летом, или серым снегом — зимой. Вместо трубы на плоской крыше — ведро без днища. Жидкий кизячный дым прибивается к мерзлой земле. Мать, сморщенная, больная и всегда усталая, целовала Базарбая редко, потому что и так очень любила, без поцелуев.
В 1919 году появились на Эмбе первые агитаторы. «Мы должны поднять производительность труда до наивысшего революционного предела. И тогда, товарищи, мы победим на этом последнем фронте — фронте труда — и с честью выйдем на светлую дорогу мирной и вольной коммунистической жизни». А в рабочем поселке — грязь, голод, пьянки. И цинга. Кругом цинга. С нетерпением ждали из Москвы, спасения: виннокаменной кислоты или клюквенного экстракта. Ходили упорные слухи: из Москвы по реке идет большой буксир с долгожданной помощью. И действительно, вскоре в Гурьев прибыл буксир „Богут”. Он доставил на барже первый в этом краю старенький паровоз, который должен был связать Гурьев с Доссором и Макатом. Экстракт так и не привезли. Мать умерла, не дождавшись помощи. Отец доверился всем сердцем пылким ораторам. И активно включился в исторические события. „Нет, не иссякли на Эмбе нефтяные пласты! Большевикам нужна позарез эмбинская нефть! И мы дадим ее, товарищи!” Отец отдавал все свои силы перестройке мира на „справедливый” лад. Отдавал так рьяно, что забыл о „кыбле”, той стороне, где находится священная Мекка. Перестал молиться из-за недостатка времени. Злобные старики перешептывались, что вот от этого и помер. А на самом деле у него в животе что-то лопнуло и разлилось желчью. Всевышний был тут не при чем. До смерти своей успел пристроить Базарбая в трудовое училище. Сына учили там всему понемногу. И слесарке, и кузнечному делу. Учили, как делать гвозди. Он освоил этот процесс хорошо. Откусить — расплющить. Откусить — расплющить. И так целый день, с утра до вечера. Базар-бай не обижался на судьбу. Наверное, гвозди тоже нужны кому-то. Так и началась трудовая жизнь Базарбая, с подсобного рабочего. „А теперь, — подумал он с правомерной гордостью, — я почетный буровой мастер. Люди уважают. Обещали какую-то медаль скоро вручить. Сказали, готовь, Нуржанов, черный пиджак, белую рубашку и галстук. Вызовем в Гурьев…” Ушел в свой вагончик досыпать. Проспал усталый до раннего утра.
— Эй, Бабай! Выйди на минутку! — электрик Сергей Еремин стучал в грязное окошко. — Выйди, посмотри что творится.
Бригадир уже не спал, грелся под одеялом. Рыхлый, обрюзгший, он нехотя скинул ноги с твердой лежанки.
— Ну что такое? Почему кричишь с утра?
Заспанный Базарбай появился в проеме двери в длинных помятых трусах и толстом свитере из верблюжьей шерсти. „Может, опять что со скважиной?” — промелькнуло в голове. Серега уже отбежал от вагончика. Он стоял на берегу нефтяного пруда и показывал двумя руками на глянцевую поверхность.
— Ты такое видел когда-нибудь, Бабай? — кричал он, ошеломленный обнаруженной утром картиной природы. Ночью в нефтяной плен попали по собственной инстинктивной глупости полтора десятка лебедей. Вероятно, под лунным мерцающим светом они приняли сверкающую поверхность за мелкое озеро, на котором можно было бы перезимовать или отдохнуть перед дальнейшим перелетом. Лебеди были замызганы парафинистой нефтью. Только шеи белели хрупкими торчками.
— Бена — мать! — вскрикнул Базарбай. — Буди людей, Серега. Надо что-то делать. Я сейчас оденусь, — и снова скрылся в вагончике.
Вскоре на берегу котлована собралась вся бригада: Сергей, Тле-ген, Сафи, Октай, Ибрагим и дядя Володя. Наблюдали, как бессильно барахтались в липкой грязи гордые изящные птицы. Их попытки выбраться по крутым склонам на берег были беспомощны, смешны своей повторяющейся безнадежностью. Они цеплялись лапками за скользкий склон, стараясь помогать крыльями и даже клювом. Проваливались в котлован и снова пробовали, как одержимые. Сергей и Октай от души смеялись над их неловкостью. Лебеди похожи были на толстую даму в немом кино, которая скользит на льду, пытаясь подняться. И тут же снова падает. Скользит и падает.
— Чего „ха-ха” развели, Бена-мать! — раздраженно оборвал их Базарбай. — Жалеть надо. И помогать. А не смеяться, как верблюд.
Ребята реагировали каждый по-своему:
— А что делать, Бабай? Мы же не виноваты, что у них голова не сварила.
— Бабай, верблюд не смеется, а плюется.
— Да-а, милые мои, это вам не термальные воды. Тут не перезимуешь!
— И рыба здесь тоже не водится.
— Надо хлебом их подкормить. Ибрагим, сходи за буханкой.
— Подкормишь раз, а потом что? Все равно сдохнут от холода и голода.
— Ну что, бригадир, долго будешь рожать? Что делать-то? Ты же начальник у нас.
Старый бурильщик знал твердо только одно: надо спасти птиц, чтоб не осталось плохое воспоминанье на всю оставшуюся жизнь. Вслух процедил как приказ:
— Надо вытащить их! Отмыть! Потом покормить и отпустить на волю.
— Всех отпустить? — удивился Октай. — Давай хоть пару на ужин оставим.
— Подавишься, Бена-мать! — озлился Базарбай. — Серега, сделай какой-либо загон около моего вагончика. Тлеген, Сафи и Октай — будете вытаскивать по очереди каждую птичку. И подносить мне. Я буду отмывать с дядей Володей. Порошок у меня еще должен быть. Попробуем с водой. Вода в бидонах вроде есть.
— У нас воды осталось только на два дня. Только до вертолета! — предупредил Ибрагим, отвечающий за снабжение. Главным образом, за воду, чай, хлеб и махорку.
— Не твое дело! — огрызнулся Базарбай. — Я здесь начальник, а не ты! Приказал?
— Ну, приказал.
— А тогда, чего стоите и яйца чешете? Делайте, что сказал. Повернулся и пошел, неловко переваливаясь, к своему вагончику.
Базарбай достал из шкафчика последние запасы ценнейшего продукта — две пачки моющего порошка. Из-под лежанки вытащил таз, предназначенный для мытья своих ревматических ног. Приготовил мешок с тряпками и грязными вафельными полотенцами, ожидающими вахтовой смены. Все это вытащил на площадку перед вагончиком, где Серега с помощью переносных заграждений уже сооружал что-то вроде тюремной клетки „два на три”. Базарбай подтянул поближе к себе два неполных бидона с водой и сел на каменную лавку, растопырив колени, в ожидании первой принесенной птицы. Закурил в мудром спокойствии в ожидании долгой и важной работы.
Происходящее было удивительно, не по-книжному. Лебеди не шарахались от людей, не отплывали от берега. Наоборот, сами лезли в протянутые руки. Они поняли, что люди хотят им помочь, вылечить от приключившейся болезни, перед которой бессилен их собственный жизненный опыт.
Два человека брезгливо подносили птиц к каменным ступенькам, где устроился мастер. Дядя Володя держал за лапы и помогал расправлять крылья, а Базарбай быстрыми резкими движениями снимал скребком налипшие баклажки нефти. Потом вместе с дядей Володей протирали их полотенцем, смоченным в мыльном растворе, обмывали чистой водой из большой глиняной кружки и наскоро обтирали сухим тряпьем. Базарбай действовал жестко, резковато и в полном молчании, забыв даже про свою любимую Бену-мать. Ни один лебедь не возражал против „грубого” обращения. Не дергался, не вырывался из его рук. Замирал в шершавых ладонях Базарбая, полностью доверяя ему. Каждая отмытая птица в загоне сразу же делала несколько размашистых пробных шагов, расправляла крылья, для нескольких легких взмахов, как будто обсушивая крылья, и проверяя себя в готовности к продолжению прерванного полета. Примеривались, смогут ли? Все ли у них в порядке? Но никто из них не делал попытки выйти из загона и взлететь. Ждали остальных. Ждали последнего.
Работа продолжалась пять часов без перекуров. На Базарбая было страшно смотреть. Как в кино: загримированный черт! Все его испещренное мелкими морщинками и оспинками лицо лоснилось от жирных черных пятен. Он устал, вспотел, но действовал в прежнем темпе. Порошок и, самое печальное, вода, были на исходе. Оставались неотмытыми две птицы.
— Бабай, эта последняя, — Сергей облегчено сунул дрожащую черную лебедушку.
— А там вон еще одна, на берегу! — крикнул Октай.
— Та сдохла! — уточнил Серега. — Мертвую же не будем обмывать? Так, Бабай?
— Мертвую что отмывать, — бригадир устало положил грязные руки на брезентовые колени. — Да и воды уже нет. Сами будем полтора дня на глотке сидеть. — Обтер руки тряпками и с наслаждением закурил. Вся бригада тут же дружно, как по команде, задымила, в ожидании дальнейших указаний.
— Ибрагим, — приказал Базарбай строго. — Чего стоишь? Сколько раз надо говорить, Бена-мать? Неси две буханки.
— Чего кричишь-то? — обиделся тот. — Сколько раз, сколько раз… Первый раз, бля, говоришь. Тоже корчит из себя великого полководца. Жуков узкоглазый. — Последние слова — уже отойдя шагов десять.
Базарбай услышал эти слова, но не обиделся, потому что Жукова он уважал, а глаза у него были действительно, узкими. Еще с самого детства. Он деловито перелил оставшуюся воду из одного бидона в свой таз и поставил его в самую гущу трепыхающихся птиц. Поднесенный хлеб покрошил туда же большими кусками. Снова закурил, с удовлетворением и какой-то детской радостью, наблюдая за их жадной торопливой трапезой. Наконец, открыл загон, приглашая птиц на сухую, открытую, утоптанную площадку между вагончиками. Переваливаясь на своих лапотках, птицы вышли осторожной гурьбой, шумно размышляя о чем-то между собой. На взлетной площадке отряхнулись, приготовились, словно ожидая команды Базарбая. Они выглядели смешно, пестро, с бурыми пятнами. Все какие-то разные.
— Все, все! Давай, давай! — заголосил мастер и принялся с горячностью и присвистом размахивать руками снизу вверх, показывая на небо. — Летите дальше! Куда летели!
— Давай, давай! — загалдели все хором.
Вожак первым сделал несколько быстрых шагов, взмахнул крыльями и взлетел. И мгновенно остальные зашуршали, затрещали, закурлыкали и дружно взмыли в ласковое воздушное пространство.
— Пошли! Пошли! — кричали им буровики с земли, размахивая руками и подкидывая вязаные шапочки. — Счастливого пути! Эй!
Лебеди набрали высоту и собрались в аккуратную летную стаю. Потом немного приспустились и сделали два прощальных круга над головами людей, как будто благодаря их за милосердие. Оглядели в последний раз серебряные домики и черное озеро. Снова взвились. Уже начали уходить. И в этот момент Базарбай испуганно вскрикнул:
— Бена-мать! Вот это да!
Он первым понял то, о чем другие еще не догадывались. Одна птица вдруг отделилась от уходящей стаи и камнем ринулась вниз, на людей. Нет, не на людей. Она упала шлепком, как-то неловко, на берегу нефтяного пруда, почти рядом с дохлой. Не убилась, а поковыляла к той, неподвижной, черной. Потрогала ее клювом несколько раз. И легла рядом, в нефтяную лужу. Бок о бок, склонив шею. Ребята бросились было шугать ее, дуру.
— Не трогайте ее! Не надо! — остановил их окриком Базарбай. Потом тихо добавил:
— Не видите что ли, Бена-мать? Она сама хочет умирать вместе с ним.
Все застыли в нерешительном ожидании
— Чего стоите? Театр, что ли? — Базарбай сердился неизвестно на кого. — Идите обтирайтесь тряпками — воды нет.
Но тут же смягчился, осознав несправедливость своего раздражения:
— Спирт зато есть. Всем по сто грамм дам. Сегодня вечером будем отдыхать. А завтра — всю территорию убирать: трубы, доски, струмент всякий…
И пошел, опустив голову, в свой вагончик, чтобы достать из-за лежанки маленькую канистру из нержавейки с техническим спиртом. Это был его личный НЗ, но сегодня ему почему-то хотелось быть щедрым. Ребята с удовольствием шумели в своих вагончиках до поздней темноты, выпив первым тостом за своего Бабая. А самому бригадиру не спалось в эту ночь. Он оделся потеплее и вышел посидеть на камешке, пытаясь уразуметь своим умом, кто же это добровольно упал с неба в руки смерти: Шарифа или Балия?.. Базарбаю только исполнилось восемнадцать лет, а Шарифе и того не было. Она выступала иногда в самодеятельности при рабочем клубе имени Ералиева. Женщины-казашки еще не решались ходить в клуб, а Шарифа не стеснялась появляться на сцене в национальном костюме, с малиновым и зеленым орнаментом, и с домброй в узких руках. Базарбай сравнивал ее с веткой сирени, потому что никогда в жизни не видел, как цветет сирень. Отец Шарифы, Ержигит Урисбаев, руководил партийной ячейкой на промысле и слыл красным помощником директора. В поселке его вслух уважали и боялись. А старики его тайно недолюбливали за то, что забыл старые обычаи и говорил чужие слова. Когда Базарбай познакомился с Шарифой в клубе, она все время стеснительно улыбалась ему губами и очень смущалась. Базарбай мечтал остаться с ней наедине и рассказать подробно о ветке сирени. Но когда они однажды вечером вышли вместе из клуба, случайно сделали по дороге небольшой крюк, и оказались в степи, далеко за поселком, он нечего не мог говорить своим засохшим языком. Они стояли в степной тишине одни в целом мире. Он обнял ее на всю жизнь, а она вся дрожала в его руках. Дрожала и молчала от страсти. А через день Шарифа исчезла из поселка. Одни говорили, что отец отправил Шарифу по ее же просьбе в Алма-Ату для продолжения музыкального образования и развития таланта. Другие говорили, что кто-то видел, как ее увозили связанной с кляпом во рту два брата Ержигита.
Базарбай набрался храбрости и пошел в кабинет к товарищу Урисбаеву с законным вопросом. Тот посмотрел на него змеиными глазами и посоветовал, чтобы он забыл о Шарифе, и напомнил, что в степи бывают несчастные случаи. И с коня можно упасть. И позвоночник сломать. Базарбай вдруг ясно понял, что уже никогда не увидит своей Шарифы. И тогда поменял свой старенький домик на хорошего степного коня и вместе с ним ушел рабочим в поисковую группу нефтяников, чтобы быть поближе к соленой земле и подальше от людей, особенно больших начальников. С тех пор и ходил около тридцати лет с разными бригадами. Сколько всего перевидал за это время… Но ветку сирени так ни разу и не повстречал. Один раз только шевельнулось что-то в его засохшем сердце. Уже за тридцать пять было тогда. Встретил в ауле, который находился в трех километрах от буровой, тихую дурочку Балию. Не от мира сего. Над ней взрослые насмехались, дети дразнили. Старухи немного боялись как худого знамения. Базарбай часто ходил в поселок за махоркой и залежалыми сигаретами. Встретил около общего колодца. Она первая сказала: „Здравствуйте”. Он решил всегда в это же время подходить к колодцу: вдруг и она придет. А она-то приходила каждый день. Базарбаю показалось, что это вторая судьба, что Балия — хорошая и безобидная. Только больная от рождения. Она рассказала, что родилась в Чимкенте и воспитывалась у бабушки, которая в детстве подарила ей книжку со стихами Пушкина. А сейчас она вечерами, при керосиновой лампе, пробует перевести их на казахский язык. Но у нее плохо получается, слов не хватает в голове. Базарбай пожалел ее и решил полюбить, потому что никто ее не любил в целом свете. Он продал материнский пояс с царскими серебряными монетами и отцовский кинжал, чтобы были деньги на свадьбу. Пока Базарбай размышлял о том, как пристроить Балию рядом с собой в кочевой жизни, она возьми да и умри от своей болезненной слабости. С тех пор Базарбай больше ни в кого не влюблялся. Как он обходился долгие годы без женщин в своей кочевой жизни, не знал никто. Только он сам. Со стороны казалось так: привык Базарбай за долгие годы к вагончикам, буровому оборудованию, запаху нефти, звуку тарахтящих моторов тракторов и грузовиков, — чего ему еще надо? По его безмятежному лицу в мелких морщинистых трещинах, по глазам-щелкам, ничего не выражающим, трудно было судить о внутренних страстях и раздумьях. А в последнее время он действительно начал привыкать к однообразным сменам дня и ночи, зимы и лета. Утекает куда-то жизнь, все быстрее и быстрее, торопится… Базарбай подумал о том, что он сейчас завидует тем двум птицам на берегу. Зависть схватила буквально за горло, начала душить. Решил, пойду-ка посмотрю на них. Дошаркал до котлована. Зажег сдвоенную спичку, чтоб поярче было. Темный бугорок из двух черных птиц не шевелился. Базарбай вернулся, вытащил старые кошмы, укрылся потеплее и снова закурил на своей любимой скамеечке…
Мертвая тишина вокруг, доисторическая… Мертвая пустыня… Нет, вот это неправда. Пустыня только кажется высохшей и безжизненной. Это ведь не Сахара с голыми песками. Базарбай больше любил слово „степь”. Как красиво цветет она голубым цветом в начале мая! И сколько в ней неисчерпаемой таинственной жизни, невидимой для равнодушной души! Базарбай знает: если лечь на теплую землю и сковырнуть любой засохший коркой бугорок земли, то глазу представится поразительная жизнь. Тысяча мелких букашек, усатых червячков, извивающихся многоножек спешат там, в земле, по каким-то своим, домашним делам. И все они радуются своему существованию и продлевают его рождением потомства. Живут и продлевают свой род. Только у Базарбая не получилось… Луна рассыпалась мерцающими бликами по черной поверхности пруда. Печально сияли звезды… Сияли звезды… Звезды.
От аэропорта в пустыне до города Шевченко на берегу лазурного Каспия двадцать три километра по бетонированному шоссе. Вокруг — древняя земля Мангышлака. Этот край называют краем „тысячи зимовок». Самолет из Москвы прибывает в аэропорт рано утром. Вокруг — туман, еще белесый, державное безмолвие однообразной желто-серой степи. По обочинам шоссе тут и там угадывается таинственный силуэт „корабля пустыни”. Это пасутся нары — выносливые одногорбые верблюды. Они с философским спокойствием жуют скудную пыльную траву и колючки, высокомерно поглядывая на проносящиеся автомобили. Точно так же паслись в этих местах их предки тысячи лет назад; им нет нужды менять свои привычки. Через несколько минут перед взором путника слева от дороги выплывает из тумана, как мираж, сказочный город мертвых. Это — старинный некрополь небольшого казахского поселка Ак-Шукур. На переднем плане видны древние каменные надгробия, саганатаны и кулаптасы, изъязвленные песчаным ветром, с сохранившейся кое-где арабской вязью. Обрывки мудрых изречений. „…Если вам будет очень плохо, ищите помощи у лежащих в этих могилах”. На заднем плане — современное кладбище. Невысокие каменные надгробия — мазары и настоящие мавзолеи из местного ракушечника, с куполами и полумесяцами, украшенные ярким бисерным восточным орнаментом. И среди всех этих молчаливых и скорбных памятников один выделяется своим величественным куполом и розовым цветом ракушечника. Он окружен тяжелой металлической цепью. На цоколе купола выложены четыре заглавные русские буквы: „Д”, „У”, „С” и, несколько поодаль — „Я”. В усыпальнице всегда стоит вазочка с цветами или сухими веточками. От этой могилы веет какой-то священной тайной.
— Тарас, — произнесла с недоумением старшая медсестра Евдокия Мироновна Колпина, — а чего это тебя, такого узкоглазого, Тарасом назвали?..
Девятнадцатилетний сержант после коленного пулевого ранения валялся в углу палаты на металлической койке. Медсестра имела в запасе несколько свободных минут и хотела грубоватой шуткой отвлечь молодого казахского парня от удручающих мыслей.
…Конечно, обидно. Первые числа мая, война уже почти закончена. Разрушенный до основания мощными залповыми ударами крошечный городок в Восточной Пруссии. Небольшой гарнизон и госпиталь остались здесь, в тылу. Война гремит где-то дальше, в Берлине и под Прагой. А тут — гулкая пыльная тишина среди каменных руин. Местных жителей не видно: разбрелись, попрятались.
Два друга по совместному воинскому пути, Виктор и Тарас, вышли из подвала дома — хотели на свежем воздухе затянуться остатками махорки. Для первого выстрела снайпер выбрал голову Виктора. Он нешумно осел к ногам фронтового друга. Тарас нагнулся к земле, к безжизненной голове. Вторая пуля угодила в его коленную чашечку. Тараса через полчаса положили на импровизированный операционный стол.
— Ну как? Ходить будет? — спрашивали хирурга солдаты и сестры.
И майор медслужбы мрачно отвечал:
— Ходить-то будет. Только вот на своей ноге или на культяшке
— этого не знаю. Время покажет…
Тарас ничего не отвечал медсестре. Не шевельнулся. Лицо его было серое, усталое.
— Тарас, а Тарас!
— Что надо?
— Чего, спрашиваю, тебя Тарасом назвали? Ты же чистокровный казах! Что ж, казахского имени не нашли?
Тарас улыбнулся глазами.
— Почему это не нашли? Нашли… Тарас — это меня так старая бабушка называла в честь Тараса Шевченко. Он там на ее родине, в форте Александровском, несколько лет в ссылке жил. Говорят, хороший человек был: две вербы посадил, своими руками глубокий колодец вырыл. Шинграу называется. А любил он казашку Катю. Его казахи уважали. Иногда называют и сейчас мальчиков Тарасами. А меня назвали — Рахмет. Рахмет Джуманов. Теперь у меня два имени: среди вас я — Тарас. А вообще-то я по паспорту
— Рахмет.
Помолчал несколько секунд.
— А что скажешь, Евдокия Мироновна, будут мне резать ногу? Или оставят?
— Батюшки мои! Да что ты, миленький, спятил, что ли? Да кому ж твоя волосатая нога нужна, чтобы ее отрезать? Оставят, конечно. Даже сомнений нет! Вот и Валентин Иванович говорит все время: „Ногу Тарасу оставим. Это как пить дать!”
Валентин Иванович ничего не обещал. Говорил неопределенно: „Посмотрим. Через пару дней”.
— Рахмет, а Рахмет! Чего ты замолчал? Расскажи еще что-нибудь про свою бабушку, про свой край. Или про отца с матерью.
— Умерла мама. Нету у меня мамы.
— Прости, Тарас, я ведь не знала.
— Ничего… А отец живой. Только старый очень. Аксакал уже. Ждет меня домой с медалью. С костылями не ждет…
— Да что уж ты все про одно и то же бубнишь и бубнишь? Вон даже Валентин Иванович говорит… Ну ладно, пора мне.
— Приходи вечером посидеть около меня. Я тебе про наш край расскажу. Сейчас вспомню хорошо, а вечером расскажу. Придешь?
— Приду, приду. Дела свои переделаю и приду. Собралась уже уходить. Тарас сурово спросил:
— А кто снайпер был?
— Девушка молодая. Светлая и худая, вся в тряпье. Расстреляли без предварительного допроса… Ну ладно, отдыхай. Забегу вечером…
Идет Евдокия Мироновна к Тарасу и сомневается. Как называть ей смуглого, крепкого высокого паренька — Тарасом, как все вокруг? Или Рахметом? Тарасом вроде бы ближе, сама родом с Украины. А правильнее все-таки Рахметом.
— Рахмет, вот я и пришла. — Села поудобнее, чтоб слушать. — Ну вот я тебя спрашиваю, а чего ты такой узкоглазый? У вас все там такие?
Рахмет улыбнулся.
— Все такие, как я. Ветер…
— Надо же, как интересно. Ты расскажи про свой край. Обещал же…
— Ну слушай, если хочешь.
Рахмет весь день готовился. Повторял про себя отдельные фразы, вспоминал, выстраивал.
„…Родом я адаевский. Адаевцы ведут свой род от Адая, сына степного барина Лакбыбая. При дележе наследства Адая обделили. Ему достались только лошадь и сабля. Тогда молодой джигит собрал по всей степи обездоленных и нищих удальцов, уважающих свободу и правду, и увел их на юг, на край степи — в Мангышлак. Образовалось там постепенно новое племя. Вроде казацкой Запорожской Сечи. Вольное племя гордых адаевцев. Каждый обиженный находил здесь приют, защиту и кров. Адаевцы были сплоченные, воинственные степные бунтари. Когда два незнакомых степняка встречались на лошадях в безлюдной пустыне, они вместо приветствия спрашивали друг у друга: „Адай?” И если оба были адаевцы, значит, сразу становились друзьями. Однако потом адаевцы перессорились между собой — богатые с бедняками. И попали в зависимость от хивинского хана, который обложил их зекетом, то есть тяжелым налогом — по пять баранов с каждой юрты. А потом с севера — от Гурьева — начали просачиваться в этот район русские люди. Они построили на берегу Каспия вооруженное укрепление — форт Александровский… Где моя бабушка жила… Возвели бастионы, насыпали вал, подняли каменную засеку. Пушки навели в сторону степи. И устроили торжественный праздник. Курили ладан, пели песни, пили брагу из бочек. Вечером был фейерверк из ракет. С крепостных валов до глубокой ночи палили из пушек и ружей. Они нарочно шумели. Хотели, чтоб узун-кулак, степной телеграф, донес до хивинского хана весть о том, что в эти земли пришли русские. И встали здесь прочной ногой, надолго. От Мангышлака до Хивы путь долгий. Большой караванный путь вдоль цепочки колодцев Алты-кудук занимал двадцать дней конской езды. А до русских можно было доскакать за два дня. Адаевцы как бы встали под защиту русских пушек…”
— О, Рахмет! — не выдержала в этом месте Евдокия Мироновна. — Ты настоящий историк! Ты мудрец! Ну ладно, ты выдумывай дальше, а я приду к тебе завтра — дослушаю. А теперь — пора спать. Слышал, что Валентин Иванович сказал? „Отдых! Прежде всего отдых!”.
— Сестра, — попросил Рахмет, — а ты свою руку на мое лицо положи и скажи: „Спи, Тарас”. И я буду спать.
Она погладила ладонью по его небритой щеке и ласково сказала:
— Спи, Тарас, хорошо и крепко. До завтра.
Евдокии Мироновне было около тридцати лет, но ей самой казалось, что она пожилая, побитая жизнью, умудренная опытом усталая женщина. И к больному сержанту она относилась как к сыну.
Утром, до обхода, Евдокия Мироновна вкрадчиво подкатила к строгому врачу:
— Валентин Иванович, как с ногой-то будет? Майор несколько опешил:
— С какой еще ногой?
— Ну с этой, тарасовской?
— Не знаю. Не знаю, родная, завтра решим окончательно.
Вечером Евдокия Мироновна снова пришла посидеть на угловой койке. Рахмет дремал, прикрыв глаза рукой от света яркой лампы.
— Рахмет! — потеребила она его легонько за локоть. — Слышал, что Валентин Иванович сказал? Если сразу, говорит, не отрезали, то чего уж теперь? Пусть, говорит, со своей доживает. Только, наверное, первое время хромать будет. А так, говорит, все ничего. Слышишь, Рахмет?
Парень окончательно проснулся от навязчивого шепота почти в самое ухо. Улыбнулся, показав белые зуба, не испорченные табаком:
— Успокаиваешь меня, сестра? Спасибо тебе.
— Да че мне тебя успокаивать? Нечего мне больше делать — ходить тут и успокаивать вас. Просто передаю сведения от руководства, вот и все. Ну это, рассказывай дальше про своих, аульских.
Рахмет положил удобнее голову и, глядя в потолок, продолжил как бы случайно оборвавшийся рассказ…
„…Был темный вечер. Звезды светились большие, яркие. На стройном лице кюйши играли медные блики. Издалека доносился призывный визг табунного жеребца. Старик сел поудобнее, поправил руку на тонком грифе своей любимой домбры и снова ударил по струнам. Но не в скорбной и протяжной мелодии был главный накал страстей, а в словах народного певца. Он пел о старинных подвигах батыров… Солнце скрыло лицо свое в месте уединения и поместило ноги в спальне заката. И тогда Бахрам-кровопийца вынул свой острый меч из ножен. Нечестивые кызыл-баши захватили в плен могучего и славного батыра Кобланды. Сколько слез и горя обрушилось на бедные кочевки! Все жалели и молились за него. Но не пропал во вражьем стане Кобланды. Дочь предводителя разбойников, красавица Карлыга, пленилась молодым воином. И любовь ее была глубока и безбрежна. И Карлыга спасла батыра, помогла ему бежать из плена. И сама бежала вместе с ним. „О Кобланды! — сказала она ему. — Я буду любить тебя вечно!..”
— О, Рахмет! — произнесла в этот момент очарованная медсестра, Евдокия Мироновна. — Ты сам настоящий кюйши! Ты самый большой поэт вашего аула! Настоящий талант.
Рахмет ухмыльнулся с достоинством:
— А продолжение хочешь узнать?
— А что, и продолжение было? — удивилась Колпина.
— Конечно, было. Любовь просто так не заканчивается, без трагедии.
— Много ты знаешь про любовь! — она распрямилась, потянулась локтями, выпятив грудь. — Ладно, приду завтра дослушивать. Пока.
Потеребила его жесткие волосы небрежным жестом и ушла.
Раннее утро застало ее у дверей майора.
— Ты что ко мне в такую рань прибежала? Я еще не видел его ногу! Понимаешь, не видел!
Потом посмотрел на медсестру, с которой проработал три года, удивленным новым взглядом, как будто впервые столкнулся с ней:
— А ты, чего, Колпина, разнервничалась так? Никак, влюбилась в джигита?
— Ну вы уж скажете, Валентин Иванович, — засмущалась Евдокия Мироновна. — Прямо уж влюбилась… Просто жалко паренька.
— Ну-ну. Всех их жалко. И тех, что полегли, и тех, что живыми остались по случайности… Через два часа скажу тебе точно.
— Про что скажете? — встрепенулась задумавшаяся медсестра.
— Да про ногу твою скажу.
— А, про ногу. Конечно. Это хорошо.
Никогда еще за время войны Валентин Иванович не осматривал так долго и обстоятельно одного больного, как в этот день. Теперь не было нужды торопиться. Все! Война окончена! Теперь все можно делать не торопясь, в свое удовольствие.
— Ну что, Тарас, — произнес майор, складывая аккуратно очки в потертый кожаный футляр. — Считай, что тебе повезло. Хромать, наверно, будешь всю жизнь. Но… на своей ноге. Понимаешь?
— Спасибо, доктор, — прошептал Тарас. — Скажите мне ваш адрес, пожалуйста. Я, когда домой приеду, верблюда в подарок пришлю.
— Верблюда, говоришь? Какой добрый! Сначала ходить научись.
Вечером, чуть позже, чем положено по регламенту, когда оставили только ночник, Колпина осторожно скользнула между кроватями в привычный угол.
— Понял, Рахмет? Радуйся! Кричи на весь свет от радости. Хромой будешь! Просто хромой… и все!
Ее глаза светились неподдельной радостью. Рахмет взял ее руку в свои ладони и осторожно поцеловал. Она стеснительно отдернулась.
— Ну, рассказывай продолжение. Небось, за день придумал?
— „… И вот наступила весна. Вся пустыня заголубела мелкими цветочками, запахла свежей полынью. Все дышало любовью вокруг. Даже мыши вылезали по ночам из своих нор и пели, как соловьи. Вот в это время и вернулся Кобланды со своей Карлыгой в свой родной аул. И тут Карлыга узнала страшную весть. Оказывается, сердце Кобланды было уже обещано местной девушке, которая ждала его возвращения. И тогда в сердце степнячки вспыхнул огонь ревности и мщения. К аулу приближались разбойники, посланные вдогонку отцом Карлыги. Готовилось сражение. И вот в тот момент, когда ударили боевые барабаны и начал гореть огонь битвы, Карлыга нанесла витязю смертельный удар копьем. Сзади, меж лопаток…”
— О, Рахмет! Ну и дурацкий конец ты придумал!
— Я ничего не придумал, сестра. Это такая народная легенда. А ты какой конец хотела? Ну, например… „И стали они жить-поживать и добра наживать”. Просто и понятно. А тут — копья, барабаны. Немножко перегнул ты, Рахмет.
Он долго смеялся, закрыв ладонями лицо.
— Какая вы смешная женщина. Это же легенда! Коварство и любовь. Все вместе. Понимаете?
— Нет уж, Рахмет. Любовь так любовь, и точка. Без всякого коварства. Я так думаю. Так что ты, Рахмет, подумай до завтра. И поменяй конец своей казахской легенды на наш коммунистический революционный лад. Завтра приду. Скоро будем учиться ходить.
— А кто учитель будет? Если вы, то я согласен.
— Я, я. Кто же еще! Кому ты еще нужен, батыр сопливый… Учеба была трудной, болезненной. Рахмет очень старался. Дело на поправку шло медленно. Все легенды он уже пересказал Евдокии Мироновне, а ходил все еще плохо, придерживаясь за ее руку. И все больше привязывался к ней душевными нитями. Да и он стал для нее почти родным. Только никак не могла Евдокия Мироновна определить, чего в ее сердце больше: материнского или чисто женского. Ей нравилось, что Рахмет был с ней очень деликатным и целомудренным, но горячо вздрагивал при случайном прикосновении… Через неделю уходил поезд на Родину, на Брест. И чем ближе был день отъезда, тем печальнее становился Рахмет. Что-то важное он должен был сказать медсестре, но выдавить из себя никак не мог. „Легенды сочинять легче”, — думал он про себя. Вышел покурить вечером. Что-то душило его. Сзади раздалось шуршание. И шаги.
— Куришь, Тарас? Правильно, подыши в последний раз чужим воздухом. Завтра — домой!
Рахмет повернулся к ней и почти беззвучно прошептал: — Евдокия Мироновна… поедем жить вместе…
— Ты что, Рахмет, спятил, что ли? — обрадованно удивилась она, как будто он погладил своей смуглой рукой по нежной коже живота.
— Я не шучу. Я серьезно предлагаю. Тебя никто не будет так любить, как я. Всю жизнь буду любить. После смерти тоже буду любить.
— Рахмет, миленький, я не хочу тебя огорчать. Не могу я сразу, прямо сейчас, сказать тебе что-то определенное. Поедем вместе до Бреста. По дороге разберемся, а?
— Хорошо. По дороге разберемся.
И пошел прихрамывая в палату, оставив ее одну в ночной прохладе.
Когда она вернулась в подвал, Рахмет лежал лицом к стене, натянув на голову одеяло.
О чем он думал этой ночью? Что ей мерещилось и виделось?..
Утром шумно грузились на машины. Прощались, обменивались адресами. Целовались и плакали, размазывая слезы на лицах друг друга. Евдокия Мироновна залезла в кузов вместе с Рахметом.
До станции ехать двадцать километров. Моросил дождь. Укрылись плащ-палаткой и в уютной темноте, держась за руки, обменивались случайными мыслями.
— Ты понимаешь, что я на десять лет старше тебя?
— Понимаю.
— Ты понимаешь, что я ни одного казахского слова не знаю? Как я буду разговаривать с твоим отцом?
— По дороге тридцать слов выучим. Для начала хватит.
— А смогу я жить в ауле, по вашим законам и обычаям?
— Будем учиться. Я же научился снова ходить.
— Корову-то я доила. А верблюдицу — смогу?
— Конечно, сможешь. Сиськи такие же, только длиннее. Она замолчала. Потом он начал спрашивать.
— А у тебя родные есть?
— Родители умерли от голода в тридцать втором. Когда опробовали крестьян на прочность при переходе к колхозам. Есть тетка, да и та не родная.
— А ты сможешь любить меня, с другой верой?
— Попробовать надо.
— А родить сына сможешь?
— Родить? — при этих словах Евдокия Мироновна задумалась. — А черт его знает! Рожать-то я как раз не пробовала. Но, наверно, смогу.
— А как мне называть тебя? Я тебе буду Рахмет. А ты для меня как?
— Я-то? А я буду тебе просто Дуся. Устраивает? Или по-казахски не звучит? Карлыга красивее?
— Дуся тоже ничего. Я привыкну к тебе, Дуся.
И тогда они в первый раз поцеловались. Помолчали.
— Целоваться, Рахмет, скажу тебе честно, ты не умеешь. Не обижаешься?
— А я научусь потом. Ходить научился — целоваться тоже научусь.
— Это правильно, Рахмет. Мы с тобой всему научимся, да?.. Но жизнь их складывалась так, что учиться пришлось больше ей, чем Рахмету…
Подвезли их к аулу на попутке по проселочной дороге, когда уже стемнело. Дальше пешком с полкилометра. Сердце у Евдокии Мироновны трепетало. Ей было страшно от чужеземности и неизвестности. Она чувствовала себя одинокой в этой гулкой пустыне, под яркими южными звездами.
Рахмет подбадривал:
— Ничего не бойся. Самое главное, как отец нас встретит. Он мудрый, поймет. Ну-ка, повтори еще раз по-нашему: „Здравствуй, отец! Я — Дуся. Как ваше здоровье?”
Колпина старательно повторила заученные фразы. Рахмет громко рассмеялся:
— Ты говоришь очень с русским акцентом. Ну ничего, отец поймет. Он мудрый.
Прошли несколько шагов.
— Завтра барашка зарежем. Будет дастархан…
На фоне синего горизонта показались черные саманные домики, окруженные низким глиняным забором. В темноте спотыкались на каких-то ухабах.
— Осторожно, Рахмет. Береги ногу.
Прошли еще три дома.
— Сейчас будет наш дом, — шепотом произнес Рахмет.
В доме было темно. Ставни заколочены. Дверь закрыта. Или забита? Рахмет постучал тихо в окно. Потом громко — в дверь. Загремела где-то рядом металлическая щеколда. Из соседнего дома вышла темная фигура. Рахмет пошел навстречу. О чем-то долго шептался на своем языке. Потом вернулся, держа в руках свечку и ключ. Евдокия Мироновна уловила непредвиденное.
— Что, Рахмет? Что-то случилось?
— Отец умер. Полгода назад. В доме никого нет. Будем жить одни.
Где-то зацокал копытами и заржал конь. Ей снова стало страшно. Эту прохладную темную ночь она запомнила на всю жизнь. При свете свечи кое-как улеглись на полу, на старых кошмах. Рахмет был очень грустным и нежным, неумелым и сильным. Дусе легко было помогать ему в его желаниях. Он всю ночь ворочался, шептал что-то на смешанном языке горечи и любви. К утру успокоился. Прочитал короткую молитву, лег на спину и затих. А она все не спала. Усталая, утомленная до невесомости, тихо плакала от жалости к самой себе.
Но настал солнечный день с житейским шумом между домиками и юртами. Рахмет сказал утром:
— Никакая дверь к счастью не открывается без ключа терпения. Будем жить с тобой, Дуся!
Колпина покорно ответила:
— Ладно. Будем жить.
Рассказывать об их совместной четырнадцатилетней жизни — значит, долго рассказывать. Дуся научилась ничему не удивляться и постепенно привыкла к окружающему миру. Привыкла стирать в каменном корыте — астау. Таскать воду с моря и из глубокого колодца. Доить верблюдицу и пить шубат. Готовить бешбармак. Научилась терпеливо ждать, когда муж уезжал на несколько дней отгонять совхозные стада овец и верблюдов. И месить ногами грязь, делая глиняные кирпичи. Выучилась бытовой казахской речи. Труднее всего было привыкнуть ей к этому климату. Зимы морозные, холодные, как в Заполярье. А летом — жара, песчаные бури. От солнца не спрятаться, а температура в тени доходит до пятидесяти градусов. Да и где она здесь — тень? Ни деревца, ни кустика. Сначала в ауле сторонились этой странной семьи. Но их трудолюбие и терпение ломали все преграды.
Мальчики рождались один за другим: Сафи, Базарбай, Джуман, Октай. Четверо. И все были похожи на мать. Почти светловолосые. Но все узкоглазые, как Рахмет. Дети были послушные, ласковые. Любили свою мать, не похожую на других женщин. Но сильнее всех ее любил Рахмет. За четырнадцать долгих и нелегких лет он ни разу не обидел ее ни единым словом или упреком, даже взглядом. И было справедливо, что с течением времени в эту семью пришел пусть скромный, но вполне сносный достаток. И на их дастархан с удовольствием приходили все соседи. И мужчины, скрестив ноги или облокотясь на подушки, вели долгие беседы и произносили тосты. И находились те, кто потом, после крепкого чая, с радостью брали в руки домбру и пели грустные песни и легенды. За четырнадцать лет Евдокия Мироновна ни разу не отлучалась из аула. И вся прежняя жизнь казалась ей каким-то полузабытым сновидением. Новый 1959 год обещал быть не хуже других. Но беда всегда приходит случайно. В январские морозы Евдокия Мироновна сильно простыла. Лечиться серьезно было некогда. Перетерпела недуг на ногах. Только кашель не проходил. Ждала лета, тепла. Но и летом ей не стало легче. Рахмет старательно лечил ее народными средствами. Растирал грудь растопленным овечьим жиром. Обмазывал ноги какой-то грязью, похожей на вязкую нефть. Привез из Шевченко лекарства и башкирский мед. Ничего не помогало. Евдокия Мироновна все слабела и чахла на глазах. Она не жаловалась и не ощущала нигде острых болей. Просто жизнь уходила из нее. В последнюю ночь в ее голове было кружение. Она отчетливо видела черную украинскую ночь, лимон-но-зеленоватый Днепр. Хаты под соломенными крышами. Ощущала запахи трав и сухих листьев. Дети спали в соседней комнате. А Рахмет сидел у изголовья и шептал молитвы, которые знал. Потом снова повторял их. Просил об одном: только не сейчас! Пусть она встанет на ноги утром и улыбнется!
Она умерла рано утром, как только забрезжил рассвет и горизонт зажегся красной полоской над хмурым Каспием. Рахмет подержал в своих теплых руках холодную руку покойницы. Осторожно опустил ее на грудь. И вышел из дома. На площади кучкой стояли в ожидании женщины в черных платках. Рахмет махнул им рукой в направлении своей двери и пошел к морю. Здесь он уселся на голую скалу, расстегнул ворот и завыл. Проходили долгие часы, а до аула все долетали истошные нечеловеческие завывания. Казахские женщины поют на смерти и в горе. Унылая ровная мелодия вылетает порой из их уст, чтобы облегчить страдания верблюдицы, родившей мертвого верблюжонка. Но такого дикого воя, который вылетал из горла Рахмета, они никогда не слышали в своей жизни. И потому никто не решался подойти и успокоить его. Все понимали, что он сам по себе должен затихнуть и примириться с неизбежным. К вечеру Рахмет вернулся, равнодушный и отстраненный. В сложившийся веками ритуал похорон он не вмешивался. Только попросил закопать ее на окраине кладбища, в пустом месте. Сказал, что будет строить мавзолей сам. С каменного карьера ему привезли восемь машин розового ракушечника. Строил он почти год. Сам месил цементный раствор. Сам выкладывал кирпичи. Даже орнаменты рисовал своей рукой. Он хотел, чтобы они были яркими, праздничными, с красными и зелеными узорами. Когда все было достроено и черная тяжелая цепь легла на каменные столбики с вырубленными дорожками, Рахмет пошел к старому учителю Есболу, единственному в ауле, у которого был русский букварь. Он хотел посмотреть в него и выбрать самые красивые заглавные буквы. Четыре русские буквы, из которых складывается имя: ДУСЯ. Иностранцы, бывающие здесь проездом в Шевченко, просят перевести это слово на английский язык. И только жители поселка Ак-Шукур знают, что оно не переводится ни на какие языки. Потому что это слово — Имя! Имя женщины, которую любил Рахмет, лежащий теперь рядом с нею.
Поле для рационализаторской мысли было бескрайним…
Молодой специалист Григорий Мраковский решил „потоптать” его своими мудрыми мозгами. Взамен какого-то громоздкого шкафа с сотнями реле он предложил миниатюрную электронную схему. Смонтировал он ее сам, своими собственными интеллигентными руками. Иными словами, кое-как. Одна высокая электронная лампа шаталась в своей панели, как выпившая женщина в узком вагонном туалете. С монтажной стороны беспомощно обвисали, словно детские сопли, два желтых провода. Вместо кнопок на плате зияли дырки неведомой науке Геометрии формы — что-то среднее между квадратом и кругом. Гришка, по сути дела, был не виноват. Четырех кнопок у него просто не хватило. Схема, естественно, не работала, но у молодого специалиста было еще достаточно студенческой наглости для демонстрации своей „каракатицы” высокому начальству. При этом он весьма уверенно разъяснял:
— Вы же сами видите! Это не какие-то там реле с дребезжащими контактами! Это настоящая электроника!
Несмотря на убедительные интонации, начальник службы от письменного заключения вежливо отказался, посоветовав прежде всего прикрыть неприличные дырки кнопками.
— Знаешь, где наш снабженец сидит? Володя Бочкарев. Вот-вот. Сходи к нему, передай, что Тарасов приказал срочно обеспечить.
Пришлось идти. Володя оказался детиной под два метра с небрежно закинутыми назад длинными волосами и угрюмым выражением на круглом лице. Гришка начал мягко, неуверенно и издалека:
— Тарасов просил вам передать, что, если будет возможность…
— Ну! Чего надо?
— У меня, понимаете, в электронной схеме не хватает…
— Ну?
— Кнопки!
— Сколько?
— Четыре!
— Нет проблем!
Володя встал на стул, который тоскливо и привычно заскрипел под ботинками 46-го размера. Несколько секунд пошурудил длинной рукой на третьей полке и наконец вытянул несколько обтрепанных заявочных ведомостей.
— Кнопки, значит, говоришь? Так… Кнопки… Кнопки… Какие надо-то? Их здесь до хрена. И даже чуть больше.
— Да мне любые подойдут. Для электронной схемы…
— Ну, если все равно, так и покажи пальцем на любой шифр. Мне-то вообще до лампочки. Верно?
— Это верно, — согласился Гришка. — Ну давайте закажем вот эти, № 1894.
— Так, 1894. Сколько, говоришь, нужно?
— Для электронной схемы нужно четыре.
— Что ж так мало? Четыре даже неудобно заказывать. Ну ладно, мелочиться не будем, заявим двадцать пять.
— Мне-то всего четыре…
— Ничего. Это про запас будет. Чтоб больше ко мне не ходил. Согласен?
Гришка вынужден был согласиться и даже расписаться на рваных полях напротив выбранного шифра. После этого он стал прощаться, рассыпаясь в изысканных комплиментах. Дескать, посещение этого барака доставило ему массу удовольствия, вызвав неподдельный интерес к сложившейся системе снабжения атомной промышленности. Бочкарев перезвонил через две недели:
— Товарищ электронщик? Григорий Павлович? Приходи, забирай свои кнопки.
— Владимир Сергеевич, — ответил Гришка с предельной учтивостью, — я сейчас очень занят. Может быть, вы захватите их в карман и мимоходом на обед занесете?
— Эхма! В карман, говоришь? Да они каждая по 16 килограмм веса.
Гришке стало жарко.
— Эй, на проводе! Потерялся, что ли?
— Я здесь, — прошептал он, — я не потерялся. Я к вам сейчас зайду. В обязательном порядке.
Гришка не шел, а летел в отдел снабжения. Техническая совесть его была смущена и трепетала. От ее толчков сердце билось, как у новобранца перед первым парашютным прыжком.
— Ну, чего надо? А, это ты? Заходи, друг. Вон твои кнопки, в углу. Забирай их все.
Гришка поворачивал голову медленно, словно боясь встретиться взглядом с гигантским металлическим осьминогом. То, что он увидел, превзошло его разумение. В деревянной оправе, почти до самого потолка, стояли двадцать пять чудищ с какими-то ушами, клепанными защелками на пружинах. Кое-где красные надписи вещали: „Стоп!” и „Нажимать осторожно!”
— Что это? — вырвалось у Гришки.
— Как что? Твои кнопки. Для взрывоопасных помещений в химических производствах.
— Мне не такие нужны, — замямлил рационализатор. — Мне бы для электронной схемы.
— Это уж я не знаю, — бормотал снабженец, — сейчас проверим. Так, страница 16. № 1894. Все верно! Фирма веников не вяжет. Так что забирай. Может, где и пригодятся.
— Так мне же для электронной схемы, — снова затянул Гришка свою колыбельную песню.
Володя посмотрел на него серьезно и внимательно. И вдруг поинтересовался:
— Чаю хочешь?
— Чаю? Да, хочу.
— Тогда присаживайся. Сейчас все обсудим. Шибко не переживай.
За чаем они сошлись поближе. Володя оказался из-под Горького. Из детдома. Окончил вечернюю школу и техникум. В Томск приехал добровольцем. Здесь добровольно женился на готовой жене. С двумя детьми.
— А сейчас уже четверо, — закончил Володя свое повествование.
Гришка посочувствовал, но одобрил.
— А спиртику будешь? В честь обеденного перерыва и очного знакомства.
— Спирту? Я, вообще говоря, спирт не употребляю. Разве что чуть-чуть.
Гришке было неловко отказываться от предложения. Он чувствовал, что его карьера находится всецело в этих больших волосатых руках.
— По чуть-чуть можно, — повторил Гришка.
Но повторять и не требовалось. Володя решительно встал и задвинул полуметровый засов на дверях. Объединил плотные шторы на окнах. Сразу стемнело. Володя снова с деловым видом сел за свой стол. Из нижнего ящика извлек небольшую пузатую химическую колбу с прозрачной жидкостью и два стакана. Потом протянул руку к правой полке, вытянул из толстой стопки большой плакат по технике безопасности „Не влезай — убьет!”. Разложил. Затем снова полез в нижний ящик. На красочном плакате появился кусок кривой засушенной колбасы подозрительного малинового цвета, нож и молоток.
Выпили только по две рюмки. Вернее, два раза по полстакана. Один раз за здоровье, а второй — за успех безнадежного дела. У Володи чуть засветились и помягчели глаза. А Гришка сразу поплыл в неведомые загадочные дали. Там раскачивались на ветру высокие зеленые пальмы, шептались пенистые волны. Зачем-то светила луна. Берег был песчаным и чистым. И нигде не было ни одной взрывоопасной кнопки. Из прекрасного далека доносился рассудительный голос туземного вождя:
— Не переживай, Григорий. К концу квартала спишем твои кнопки как миленькие. Это я тебе обещаю. Четыре года назад еще хлеще случай был. Мне покойный Степан Иванович рассказывал. Тоже в обеденный перерыв.
История была трогательной. Гришка восстановил ее в своей памяти потом, на трезвую голову…
Степан Иванович Козюбердин был легендарной личностью. Воевал еще в гражданку в коннице Буденного, которого знавал лично. Часто вспоминал: „Бывало, рубаем два дня подряд… А потом — отдых. Тут уж и гармонь, и девки, и самогону вдоволь. Это, конечно, ежели в жилой деревне. А бывало, что и в поле. Тогда хуже. Особенно зимой, в метель. Бр-р-р.” С тех самых удалых пор Степан Иванович никакого дополнительного образования не получил. Но политически был подкован и тверд в своих убеждениях относительно повсеместной неминуемой гибели буржуазного класса. И поэтому ему доверяли снабжение очень важных государственных объектов оборонного значения. Школа подготовки ворошиловских стрелков. Потом первый тракторный, алюминиевый и, наконец, под занавес служебной карьеры — атомный реактор. Степан Иванович считался снабженцем высшей квалификации. Это от него Володя почерпнул принципы работы с персоналом, а также отдельные обороты русской речи, в частности, „Ну? Чего надо?” и „Нет проблем!”
В тот ненормированный рабочий вечер перед пуском первого реактора сюда, в этот самый барак к Степану Ивановичу пожаловал седовласый и сверх меры интеллигентный Марк Соломонович Цукерман. По паспорту Цукерман был русским, хотя в уединенных устных беседах не скрывал свое историческое происхождение. На атомных объектах евреи отродясь не водились. И увидев его лицо, Козюбердин непроизвольно сжал подлокотник, как в былые времена сжимал рукоятку любимой шашки. Однако появление в этом бараке Цукермана было не случайным. В среде отраслевых проектных институтов, особенно ленинградских, подобных специалистов было немало. Марк Соломонович был подброшен сюда из Северной Пальмиры к последнему этапу перед пуском. Группа наладчиков под его чутким руководством должна была сдавать приемной комиссии одну из важнейших измерительных систем, которая была спроектирована в недрах института и изготовлена на ленинградском же производственном объединении „Красная Заря”. Цукерман ехать в командировку, откровенно говоря, не хотел — он ужасно боялся радиации. Как говорил потом Степан Иванович, „он свои яйца ставил выше Государственного задания”. Но Марк Соломонович сознавал свою ответственность не только перед своей Идочкой. Он также понимал, что если он вовремя не успеет сдать Комиссии свою систему, то, вполне возможно, лишится не только любимого инструмента, но и своей умной, уже лысеющей головы. Поэтому Цукерман старался изо всех сил. Он был требовательным и настойчивым. И с подчиненным персоналом, и с руководством реактора. Во время наладочных работ ему понадобился прибор для измерения волнового сопротивления электрических кабелей. Он ходил по всем инстанциям и говорил с разными интонациями одно и тоже:
— Мне нужен волномер! Понимаете? И нужен срочно. Немедленно! До зарезу! Я не могу сорвать правительственное задание!
Начальник приборной службы направил его к Степану Ивановичу, сидевшему за этим же столом с выдвижными ящиками и многочисленными химическими колбами разных размеров.
— Ну? Чего надо? — спросил Козюбердин, подняв левую бровь поближе к сабельному шраму.
— Понимаете, мне срочно нужен волномер! До зарезу! Я не имею права сорвать…
— Волномер? — перебил Козюбердин. — Нет проблем! А срывать ничего не будем… Это что такое — оборудование, кабели или прибор?
— Это такой настольный прибор, который можно использовать…
— Спокойно, без паники! Ежели есть такой в природе — сейчас найдем.
Степан Иванович спокойно положил на стул, который уже тогда скрипел, плакат по технике безопасности „Проверь ограждение!”. Потом бодро залез на него сапогами и извлек с третьей полки пухлую ведомость „Приборы и средства измерения”. Открыл на букву В.
— Так-так… Говорите, волномер… Точно, есть такой! Страница 14, № 1688. Изготовитель — Краматорский завод. Цена… Дороговат, паскуда! Ну, раз надо для дела — значит, надо. Верно я мыслю?
Цукерман безоговорочно согласился с его мыслями и, засыпав бывшего кавалериста извинениями и благодарностями, мгновенно упорхнул в дверь. Через три недели Марка Соломоновича достали телефонным звонком с разгрузочной железнодорожной станции:
— Волномер по вашему заказу прибыл. Приезжайте срочно и забирайте.
Цукерман летел на станцию на крыльях благоговейного уважения к социалистическому порядку и дисциплине. По пустынной платформе бродил одинокий дежурный в замасленном ватнике, представившийся просто и по-домашнему: „Васек!”. По торцам стояли солдаты охраны со штыками. Из окон станционной дежурки не доносилось ни звука.
— Где же, я извиняюсь, будет волномер?
Васек безразличным жестом махнул куда-то за спину. Марк Соломонович, не удовлетворенный ответом, приподнял тон на несколько децибел:
— Мне уже звонили. Я вас ясно и четко спрашиваю, где мой волномер?
Васек повернулся к Цукерману неподвижным лицом и без выражения процедил:
— А я те чо показываю? Лягушку с лапками, что ли? Вон стоит на втором пути твой волномер.
Марк Соломонович несколько смутился и с жутким чувством какой-то незримой опасности двинулся через рельсы к трем железнодорожным платформам на колесах, обтянутых сверху маскировочным брезентом. На одной из них большими гвоздями была прибита аккуратная фанерная дощечка с отчетливой надписью масляной краской: „Оборудование для измерения параметров волны океанского прибоя”. И небрежная приписка: „Срочно! Под контролем!”. В этот самый момент, в середине морозного сибирского дня, Цукерману стало душно. Ноги его сами, без участия головного мозга, стали подгибаться. Он рухнул на снег около передней оси.
— Эй, что там с тобой? — закричал ему Васек. — Плохо, что ль?
Марк Соломонович не отвечал. Он лежал на плоской спине, в своем ратиновом пальто с серебристым меховым воротником, раскинув в стороны полуживые руки и ноги. Васек среагировал мгновенно, по инструкции. Вскоре он уже лежал плашмя на упругом инженерском животе и упорно пытался привести в чувство „пострадавшего” с помощью новейшего метода искусственного дыхания „рот в рот”. Васек старательно и глубоко дышал в Цукермана вчерашним перегаром, но тот почти не реагировал. Прибежавший на шум начальник станции первым делом столкнул Василия с живота лежащей на снегу жертвы. Затем расстегнул у Цукермана „молнию” на брюках и сунул под нос нашатырь. Марк Соломонович зашевелился. Под язык ему тут же подложили валидол, а под голову — ватник, который услужливо стянул с себя Васек.
— Душно, видать, ему, — сочувственно произнес Васек, пытаясь махать своей ушанкой перед посеревшим лицом владельца волномера. Свежий сибирский воздух, нагретый под дневным солнцем до температуры —20°, постепенно проникал внутрь цукермановских легких…
— Да… Вот такие были дела! — прервался в этом месте своего повествования Володя, отрубая при этом на закусь кусочек колбасы с помощью ножа и молотка.
— И что же? Так и умер? — спросил Гришка с уважением к столичной науке.
— Не, очухался! Только очень переживал. Опасался, что посадят. Но его успокоили. Сказали, сначала сдай комиссии свою систему, а потом уж будем разбираться, что делать. Сажать или расстреливать.
— А сдал систему-то?
— Сдал, еще как! На „отлично”. И что интересно — без всякого волномера!
— А потом посадили?
— И что, бля, еще более интересно — даже выговора не дали. Отпустили с богом и благодарностью за проделанную работу. Вот так, Григорий, — закончил Володя. — А ты говоришь — „кнопки”.
— А что с этим… оборудованием для волны? — не унимался юный рационализатор.
— Да ничего. А что с ним можно делать? Здесь, в Томской области, ни океана, ни морей никогда и не было. Сгрузили на обочину. А по весне — в металлолом. Там тоже свой план. А ты говоришь — „кнопки”…
Если сказать по правде, Гришка давно уже не говорил о кнопках. Ему вообще было трудновато разговаривать. Кусочек колбасной пружины застрял между верхними зубами и мешал нормально шевелить языком… Пары спирта разлагали его изнутри. Но при последних словах он встрепенулся:
— Володь, а Володь! А где же все-таки кнопки взять? Для электронной схемы?.. Снова заказывать?
— Нет проблем! Закажем снова! А, впрочем, это долгая история. Я тебе вот что посоветую как мужик мужику. Сбегай лучше вечерком к танку.
— Что за танк? Какой еще танк? — Гришка сердцем начинал чувствовать, что у него слишком много впечатлений от одного обеденного перерыва.
— Обыкновенный боевой танк марки Т-34. Между прочим, по отзывам специалистов, лучший танк во второй мировой.
Гришка, начавший было трезветь от смертельной опасности, грозившей Цукерману, после настойчивого упоминания о танке снова почувствовал легкое головокружение.
— Да, хорошая машина Т-341 — Володя вспомнил, вероятно, экзамен по военному делу, когда ему незаслуженно поставили оценку „тройка с минусом”. — Как сейчас помню. Гусеницы с траками. Двигатель мощностью 512 лошадиных сил. 12 цилиндров. Смазочное масло МТ-16п. С присадкой… Но я не об этом. Ты хоть отличить танк от полуторки сможешь?
Гришка утвердительно кивнул головой.
— Ну так вот и сходи к танку. Он стоит за зданием первого реактора прямо на открытой площадке, в поле…
История с танком оказалась не менее увлекательной, чем с волномером…
Вскоре после пуска на первом реакторе произошло несколько серьезных аварий. При ликвидации последствий иногда приходилось извлекать из реактора дефектный технологический канал, загруженный урановыми блочками. Эта операция таила в себе реальную опасность рассыпания десятков высокоактивных блочков по всей площади реакторного зала. В таких случаях радиационный фон в зале становился смертельно опасным для ремонтного персонала. Войти в зал без специальных защитных и транспортных средств становилось абсолютно недопустимым. Было известно, что наиболее защищенным от радиации транспортным средством является обычный боевой танк с его толстой стальной броней. Советские кинооператоры для съемок кратеров, образующихся после испытательных атомных взрывов, подъезжали к ним как раз на танке Т-34. Неудобство заключалось только в ограниченности обзора через смотровую щель в башне. Рационализаторам на первом реакторе пришла в голову почти фантастическая мысль использовать для наблюдения из танка не щель, а само артиллерийское дуло. Только нужно было бы оборудовать его для этой цели телескопической системой. И сделать максимально подвижным. На таком модернизированном танке можно было бы спокойно, без всякой опасности переоблучения, въехать в реакторный зал и не торопясь исследовать обстановку. Даже произвести дозиметрические замеры. Идея была предельно смелой, но, как оказалось, для русских умельцев ничего невозможного не существовало. На Уральский танковый завод доставили бригаду мастеров на все руки. Выдали им техническое задание и предоставили двухмесячный срок для реализации великой идеи. Задача эта была, разумеется, посложнее, чем подковать полчище блох. Однако, умельцы справились с ней. Через три месяца уникальный танк был доставлен к транспортным воротам пятого объекта. Своим ходом он проехал на площадку перед первым реактором, задиристо поднял дуло к верхним этажам и гордо застыл. Как оказалось — на всю оставшуюся жизнь. Никто не подумал о том, как же он проедет в реакторный зал сквозь трехметровые бетонные стены здания.
Шли годы. Вокруг танка выросла высокая пышная трава. Летом она расцвечивалась полевыми цветами. Но дорожка к танку не заросла. Уже вскоре через опечатанный люк танка полезли первые любопытные. Внутри кабины обнаружилось несколько пультов местного управления, напичканных дефицитными радиодеталями. И все с военной приемкой. Реле и кнопки были только с посеребренными контактами. Индикаторные лампочки всех цветов, от матово-белого до рубинового, завораживали глаз. Пульты стали разбирать на запчасти…
— Сходи. Отковыряй там кнопок десять для своей электрической схемы. Вот и все дела! — закончил Володя, стряхнув последние капли прямо из колбы.
Гришка так и сделал. Но врожденная порядочность не позволила ему ничего взять. Кроме четырех кнопок. После этого электронная гришкина схема заработала, как часы. Рацпредложение его приняли и даже выдали денежное вознагражление в размере 20 рублей. Но внедрять почему-то не стали. Первое время Гришка оскорбленно переживал из-за этого. А потом подумал: „Ну и ладно”. И успокоился.
Делегация английских ученых прибыла на комбинат по предварительной договоренности в Министерстве. Совместная работа прошла вполне успешно и результативно. Поэтому настроение у всех участников встречи на прощальном ужине было хорошее, благодушное. Но деловая атмосфера отдавала какой-то казенщиной, чувствовалась натянутость и взвешенность каждого слова. Возможно, это было связано с присутствием людей из спецорганов. Загримированные под великих мужей науки, они „тайно” контролировали весь ход совещания. Хотя они были уверены в своей конспирации, могучие плечи и бегающие глаза выдавали их сразу и всем. Перед ужином директор комбината предложил Анатолию Сергеевичу быть готовым к произнесению легкого шутливого тоста на тему „дружбы народов”:
— Так сказать, для разрядки напряженной атмосферы. Вы же у нас интеллектуал с широким кругозором?!
Анатолий Сергеевич глубоко задумался над непривычным заданием директора, что однако не мешало ему участвовать своей рюмкой и в официальных тостах, с которых начался ужин. Анатолий Сергеевич не прочь был поесть и, особенно, выпить за общий счет. Когда ему предоставили слово, он еще очень уверенно стоял на ногах. Переводчица Светлана встряхнулась и напряглась в ожидании труднопереводимых слов. Но к ее удивлению Анатолий Сергеевич говорил четко, без ненужных междометий и повторов, фиксируя паузы для перевода…
— Леди и джентльмены! Друзья и товарищи! Я заранее прошу Вас не судить строго о моем выступлении. Ему присущ характерный недостаток всех моих публичных речей. Какие бы важные и серьезные тосты я ни произносил: об эксплуатации реакторов, экологии или захоронении отходов, — я неминуемо, незаметно для самого себя, переходил к разговору о моей любимой супруге. Я уже чувствую, что и данный тост не будет исключением. Но сегодня это в какой-то мере оправдано тем обстоятельством, что моя жена в глубокой молодости была в Англии. И, кстати, с ней там произошел курьезный случай, о котором она до сих пор вспоминает с нежным трепетом… Во время осмотра туристической группой Вестминстерского аббатства моя жена чем-то увлеклась, замешкалась и отстала от группы. Когда же спохватилась и бросилась нагонять ее, то неловко споткнулась о массивную металлическую цепь между колоннами. С цепью ничего страшного не произошло. Она висит там, насколько я знаю, и поныне. С женой (тогда еще, между прочим, не моей) дело обстояло хуже. Она разбила колено, и кровь из раны потекла буквально маленькой струйкой. В этот миг к ней подбежал на помощь пожилой англичанин. Насколько я помню, Джеймс Стюарт. Или, может быть даже, Том Алисон. Он помог перевязать ей ногу своим носовым платком, который, к слову сказать, моя жена хранит до сегодняшнего дня. Она хранит его как память о добрых английских словах сочувствия, которых она — увы! — не поняла из-за незнания языка. Для нее это также память о нежных прикосновениях рук Джеймса (или Тома), которые были понятны ей и без слов…
Узнав о сегодняшнем прощальном вечере, она попросила меня передать самые добрые сердечные слова приветствия всем членам английской делегации, а ее руководителю, мистеру Смиту, подарить ее фотографию. Разумеется из той самой, глубокой молодости. Что я и делаю с большим удовольствием (аплодисменты). Она также просила передать, что даже сейчас… рискнула бы с удовольствием своей второй коленкой, лишь бы снова побывать на той памятной площади… чтобы вспомнить… или увидеть наяву Тома (или Джеймса).
Уважаемый мистер Смит! Если вы… как-нибудь случайно… увидите со своего маленького острова… яхту в открытом море… а на палубе, под парусами, мою жену в розовом платье… встретьте ее, пожалуйста, с теми почестями, которые она вполне заслужила. Разрешите мне поднять этот бокал за старую добрую викторианскую Англию. За ее лучших и достойных граждан, будь то Том или Джеймс, а также отчасти за мою любимую супругу, открывшую для себя этот остров более тридцати лет назад…
Объявили небольшой перерыв для перекура и кулуарных бесед. Два англичанина с улыбкой и полными рюмками подошли к Анатолию Сергеевичу вплотную, предложив выпить русской водки in private, то есть тет-а-тет. Анатолий Сергеевич выпил. Потом к нему подошел мистер Смит, торжественно преподнес красивую коробку шоколадных конфет и выпил с ним рюмочку русской водки на брудершафт. Анатолий Сергеевич не возражал. После перерыва за стол усаживались уже раскованно и шумно. Не успел директор призвать всех присутствующих к „минуточке внимания”, как Анатолий Сергеевич, разомлевший и осмелевший, попросил опять слово для продолжения тоста. Это было уже вне протокола, и службист забеспокоился, ожидая промашки. Светлана напряглась. Директор замолк в недоумении. Но англичане бурно поддержали предложение Анатолия Сергеевича, который разумно придерживался одной рукой за ближайший стул. Речь его на этот раз была менее четкой, но достаточно громкой…
— Дорогие английские друзья! Разрешите мне еще раз на несколько минут вернуться к предыдущей теме… (раздались поощрительные аплодисменты). Только что в перерыве я звонил своей супруге. Я пересказал ей содержание нашей беседы и передал привет от мистера Смита. Должен признаться, что она с обидой в голосе внесла некоторые важные уточнения в мой рассказ о ее путешествии. Оказалось, что мои слова о „пожилом англичанине” были не совсем адекватны исторической действительности. Вряд ли я имел право называть его „пожилым”, когда ему не было и двадцати пяти. Во-вторых, „теплые и нежные прикосновения”, как она точно помнит, были не на месте происшествия, а несколько позже, вечером в гостинице, где они договорились встретиться. А звали его, оказывается, совершенно не Джеймс и не Том, а Майкл. В связи с этими новыми историческими фактами я вынужден изменить концовку моего тоста. Конечно, первую часть за Англию можно повторить. Однако… мистер Смит! Если вы когда-нибудь с вашего туманного берега… увидите в море яхту… я думаю, вам нет смысла оглядывать палубу и присматриваться к парусам… Занимайтесь спокойно своими личными делами… Итак, исключительно за Англию и англичан!..
В следующем перерыве мистер Смит подошел к Анатолию Сергеевичу под руку со Светланой. Он хотел поделиться некоторыми глубокими мыслями о международном сотрудничестве:
— Юмор и широта души — основа настоящей дружбы и хорошего сотрудничества.
Анатолий Сергеевич к этому времени ослабел и слегка пошатывался. Но мозг его по-прежнему работал без перебоев. Он согласился с мистером Смитом, и раскованно добавил:
— Елки зеленые! Мы все должны дружить на этой планете.
Анатолий Сергеевич сделал при этом широкий жест рукой, который вывел его временно из шаткого равновесия. Светлана быстро справилась со второй частью убедительной фразы, но затруднялась с переводом первой. Помог сам господин Смит:
— Йес, йес! Йелки!
Последняя посадка за столы была запланирована для обмена прощальными здравицами между мистером Смитом и директором комбината. Но Анатолий Сергеевич не дал развернуться официальщине… И снова вылез.
— Да простят меня все присутствующие. Но я вынужден попросить еще раз слово для внеочередного тоста. Несколько минут назад сюда позвонила моя супруга и внесла еще одну маленькую склеротическую поправку в те далекие события. Оказывается, вся эта история произошла с ней совсем не в Англии, а в Норвегии. А в Англии она, оказывается, вообще никогда не была. Просто всю жизнь мечтала об этом. Но ее назойливая мечта так и не стала явью. Поэтому… мистер Смит!.. Если вы все-таки… хоть раз в жизни… увидите яхту под парусами… а на палубе полную русскую женщину… в темных очках… и с грустными глазами, устремленными к скалистым берегам… не поленитесь сказать ей простую фразу: „Добро пожаловать! Англия уже давно ждет Вас”. Я лично думаю, что Англия, конечно, не хуже какой-то там Норвегии. Просто тридцать лет назад… Англии немного не повезло. Но я думаю, у нее еще все впереди… За процветающее будущее Англии! За наше сотрудничество!..
С этого времени Анатолию Сергеевичу больше никогда не давали слова на торжественных приемах. А сам он не напрашивался.