Михаил Грабовский
Плутониевая зона
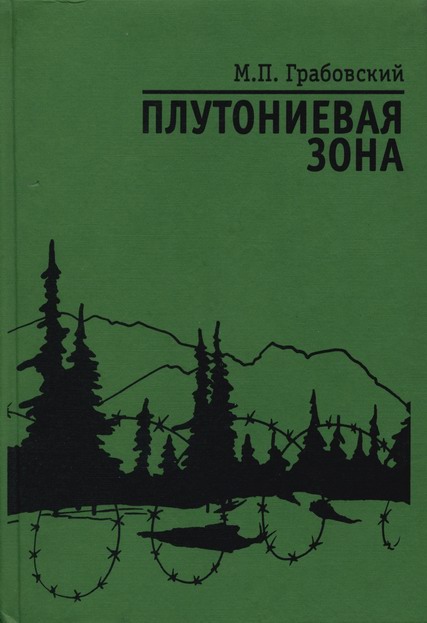
6 августа 1945 года.
Внезапно над Хиросимой вспыхнуло солнце поразительной яркости. Люди, случайно смотревшие в этот момент в сторону вспышки, ослепли. Потом на город распространилось жгущее тепло. Первыми приняли на себя этот жар летающие над городом птицы, мгновенно превратившись в безразмерные темные точки. Затем горячий воздух опустился на крыши домов, расплавил черепицу и кристаллы кварца в гранитных плитах. Телефонные столбы превратились в сгоревшие спички. Тысячи людей на улицах, близких к эпицентру взрыва, оставили на стенах домов и тротуарах свои тени-силуэты. У тех, кто находился подальше, сначала вспыхнула одежда. Через долю секунды вздулись руки, лица, животы. Лоскуты кожи сползали вниз, как резиновые лепестки невиданных цветов. Через несколько секунд до людей донесся грохот. Пришла воздушная волна со скоростью 800 километров в час. В радиусе четырех километров все жилые постройки исчезли в кучах дымящегося мусора.
Город превратился в руины с тысячами пламенеющих языков.
Через 16 часов после взрыва президент США Трумэн объявил на весь мир об атомном чудо-оружии.
Листовки с фотографиями разрушенной Хиросимы посыпались на японские города.
«Японскому народу!
Америка призывает Вас прочитать эту листовку как можно внимательнее!
Мы располагаем самым разрушительным из всех когда-либо созданных человеком взрывчатых веществ… Мы только что начали применять это оружие на территории вашей страны.
Если вы еще продолжаете в этом сомневаться, поинтересуйтесь, что стало с Хиросимой после того, как на нее упала одна-единственная атомная бомба… Незамедлительно примите меры к прекращению военного сопротивления. В противном случае мы полны решимости использовать эту бомбу… для быстрого завершения войны. Немедленно покидайте ваши города!».
Немедленной капитуляции Японии не последовало.
9 августа в 10 часов утра американский самолет-разведчик сбросил над городом Нагасаки тысячи листовок, в которых было написано всего два слова: «Час пробил!».
Примерно через час обитель легендарной мадам Баттерфляй, отчаянно любившей американского офицера, была навечно помечена клеймом ядерной смерти. В тот же день Трумэн по радио поделился со всей планетой переполнявшими его чувствами: «…Мы благодарим Бога за то, что бомба появилась у нас, а не у наших противников, и мы молим о том, чтобы Он указал нам, как использовать ее по Его воле и для достижения Его цели…».
Сталин не был противником Трумэна по военной коалиции, но он понял, что бомбы, сброшенные на японские города, показавшие, по словам Трумэна, всему миру величие Америки, были грозным предупреждением и ему.
Он был страшно расстроен тем, что какие-то две атомные бомбы неожиданно могут принизить его личную роль — великого полководца-победителя и мирового законодателя. Рушилась его тайная мечта о распространении социалистической революции на всю континентальную Европу. Мечта эта казалась ему вполне осязаемой и реальной ввиду явного превосходства сухопутных войск на континенте и наличия плацдарма в оккупированных странах. И вот теперь — мечты вдребезги! Ситуация кардинально изменилась.
Несмотря на подавленное состояние духа, Сталин действовал в эти дни ответственно и решительно.
Уже на следующий день после бомбардировки Хиросимы он подписал приказ о наступлении Советской армии на Дальнем Востоке, пренебрежительно проигнорировав доклад маршала Василевского о том, что войска будут готовы к началу операции только во второй половине августа. Ждать нельзя было ни одного дня!
10 августа Сталин вплотную занялся атомной проблемой. Распорядился представить ему технический отчет об атомных бомбардировках и предполагаемую эскизную конструкцию самой бомбы.
Отчет Сталин прочитал бегло, обратив внимание только на конечный показатель: количество жертв — пятая часть от миллиона! Разом, мгновенно! Это впечатляло: быстро и эффективно. Что же касалось самой конструкции, то он без постороннего разъяснения-никак не мог уразуметь, почему точно такую же бомбу нельзя изготовить в срочном порядке на одном из наших оборонных заводов. Раздражение и недоверие к ученым болтунам во главе с Курчатовым нарастало у Сталина по ходу доверительного собеседования с Берия по атомному вопросу:
— Что скажешь, Лаврентий? Все козыри дали этим засранцам в руки. Все необходимые средства, людей, оборудование. Что еще надо?
Но Берия продолжал упорно молчать, то поправляя пенсне, то делая судорожное движение рукой к внутреннему карману, где был приготовлен список потенциальных дублеров научных руководителей атомного проекта.
— А все потому, — продолжал Сталин убежденно, — что плохо контролировали. Доверились… и вот сидим теперь в дерьме… Какую-то урановую бомбу не могли сделать вовремя.
Сталин мягко прошелся по кабинету. Закурил трубку и успокоился.
— Собери их всех. Через два дня. Курчатова и Первухина в первую очередь.
Потом добавил:
— Ванникова тоже пригласи. Надо все обсудить и подготовить постановление ГКО.
Совещание состоялось 13 августа.
Курчатов тщательно готовился к нему, понимая, что оно будет носить отнюдь не столь благодушно-покровительственный характер, как его первая встреча со Сталиным в 1943 году.
Тогда Сталин почти ничего и не спрашивал о сути проблемы. Сам мудро вещал о значении социалистической науки на нынешнем историческом этапе. Теперь же ему, Курчатову, придется отчитываться за конечную безрезультатность прошедших лет. И конечно же, объяснять собравшимся и, прежде всего, лично Сталину принцип действия и поражающие факторы атомного оружия.
Если первая фаза совещания пройдет благополучно и гнев вождя не завершится наказанием или отстранением от научного руководства, необходимо будет кратко доложить о срочных мерах, которые могут ликвидировать отставание от США в ближайшие два-три года.
Все вызванные на совещание собрались в приемной и почти не разговаривали друг с другом. Угрюмо молчали, думая каждый о своем. Наконец, пригласили.
Насупленное лицо Сталина и резкость в движениях и жестах не сулили собравшимся ничего хорошего. Благожелательной беседы не предвиделось.
Пока шла деловая «пристрелка», Игорь Васильевич мучительно корректировал в мыслях технические детали подготовленного накануне ночью отчета.
Вся сложность заключалась в том, как простыми, обыденными словами изложить техническую и научную суть проблемы. Учитывая невысокий естественнонаучный уровень вождя, сделать это было чрезвычайно трудно. Как объяснить Сталину суть цепного деления урана-235 или плутония?
Как представить технические проблемы разделения изотопов урана, избегая по возможности самого слова «изотоп», смысл которого Сталину, по-видимому, совершенно недоступен?
Говорить надо четко и ясно. И, как неоднократно советовал Курчатову Первухин, предельно кратко. Сталин не любил многословия на совещаниях. Но не из-за недостатка времени. Просто он плохо воспринимал длинные логические рассуждения. Уставал от них, забывал исходные базовые аргументы, а потому и плохо понимал необходимость конечных итогов и выводов.
Но опасения Курчатова были напрасны: технического доклада не потребовалось. После краткого сообщения Первухина о результатах атомной бомбардировки японских городов Сталин пригласил Курчатова (остальные потянулись за ними, чуть поотстав) к отдельному журнальному столику, на котором под прикрытием синей ткани был разложен эскизный чертеж атомной бомбы, выполненный в крупном масштабе по описаниям Клауса Фукса. Вероятно, Сталин предварительно знакомился с чертежом и консультировался с кем-то, потому что некоторые детали конструкции он называл совершенно точно. В первый момент это производило впечатление всеобъемлющих знаний Сталина. Однако вопросы, обращенные к Курчатову, были просты и наивны. Сталин никак не мог понять, в чем же особая сложность бомбы.
Курчатов мягко, кратко и доступно попытался объяснить Сталину, что главная сложность — не в конструкции самой бомбы, а в ее начинке.
— Вот в этих заштрихованных мелкой сеткой полусферах, — произнес Курчатов. — Их надо изготовить из специальных материалов. Или из урана-235, или из плутония-239.
Более всего Сталина раздражали цифры, произносимые после названия химических элементов. При своей прекрасной памяти на лица и фамилии, особенно тех, которых надлежало расстрелять в ближайшее время, он никак не мог запомнить эти цифры.
— Ну и в чем же проблема? — резко спросил Сталин, повернув голову и глядя прямо в глаза ученому. Белки у Сталина отливали розовым. В этот миг Курчатову стало страшно. Он с усилием взял себя в руки.
— Проблема в том, товарищ Сталин, что этих материалов в чистом виде не существует в природе.
Сталин удивленно поднял брови.
— Откуда же они взялись у американцев?
Курчатов оторопел. Пауза затянулась. Наконец, он выбросил из головы подготовленные ночью фразы и разразился полнейшим экспромтом:
— Их можно получить только искусственными путями. И все эти пути очень сложны и не изучены наукой досконально.
Сталин молчал и этим подстегнул Курчатова на сбивчивую торопливость:
— Это требует огромных материальных затрат. Строительства нескольких грандиозных заводов. Освоения новых производственных технологий. Требуется увеличить в десятки раз добычу урановой руды. Развернуть новые конструкторские бюро и специальные НИИ. Нужен единый управляющий центр — атомный комиссариат. Товарищ Сталин, нужна грандиозная перестройка всей промышленности…
Курчатов облегченно выдохнул, поскольку успел сказать главное.
Сталин смотрел на него, расширив глаза от глубокого удивления. И только на словах «всей промышленности» прервал его невозмутимым вопросом:
— А почему же вы, товарищ Курчатов, не потребовали у нас вовремя всего того, что нужно было для максимального ускорения работ?
Игорь Васильевич ждал этого вопроса. И все равно он застал его врасплох.
— Столько городов разрушено, товарищ Сталин. Столько людей погибло. Вся страна — на голодном пайке. Всего не хватает…
Такой ответ разъярил Сталина еще больше.
— Дитя не плачет — мать не разумеет, что ему нужно. А в результате?
И вдруг Сталин совершенно успокоился и четко произнес:
— Просите все что угодно. Отказа не будет!
Сталин дал присутствующим пять дней для подготовки постановления ГКО, которое разом решило бы все организационные вопросы. В заключение произнес фразу для истории:
— Создание атомной бомбы — государственная задача № 1.
Ответом было благоговейное молчание, поскольку все понимали: только сейчас, в самом конце совещания, Сталин произнесет то, что он единолично уже решил в предыдущие дни.
— А отвечать за решение этой задачи будет лично товарищ Берия, — и, после короткой паузы, повернувшись в противоположную сторону, — и товарищ Ванников вместе с Курчатовым.
И тихо закончил:
— Я думаю, все присутствующие понимают важность поставленной задачи.
Совещание ГКО под председательством Сталина состоялось 20 августа 1945 года.
«Постановление ГОКО № 9887 сс/оп[1]
О Специальном комитете при ГОКО
г. Москва, Кремль
20 августа 1945 г.
строго секретно
(Особая папка)
Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать при ГОКО Специальный комитет в составе:
1. Берия Л.П. (председатель). 2. Маленков Г.М. 3. Вознесенский Н.А. 4. Ванников Б.Л. 5. Завенягин А.П. 6. Курчатов И.В. 7. Капица П.Л. 8. Махнев В.А. 9. Первухин М.Г.
2. Возложить на Специальный комитет при ГОКО руководство всеми работами по исследованию внутриатомной энергии урана… а также строительство атомно-энергетических установок и разработку и производство атомной бомбы…
4. Для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями… организовать при СНК СССР Главное управление — «Первое главное управление»… подчинив его Специальному комитету при ГОКО…
10. Утвердить начальником Первого главного управления при СНК СССР и заместителем председателя Специального комитета… т. Ванникова Б.Л. с освобождением его от обязанностей народного комиссара боеприпасов…
11…. Никакие организации, учреждения и лица без особого разрешения ГОКО не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность Первого главного управления, его предприятий и учреждений или требовать справок о его работе или работах, выполняемых по заказам Первого главного управления. Вся отчетность по указанным работам направляется только Специальному комитету при ГОКО.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин».
На этом же заседании по предложению Сталина Берия был освобожден от обязанностей наркома внутренних дел. Однако за ним оставили руководство всей разведывательной работой «по получению более полной технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах».
Этим постановлением Специальный комитет (СК) был наделен никем и ничем не ограниченными полномочиями. СК фактически был поставлен над правительством (Совнаркомом) и над главными партийными органами (ЦК, Политбюро). Он подчинялся только одному человеку в СССР — Сталину. Этим подчеркивалось и подтверждалось устное заявление Сталина: «Создание атомной бомбы — государственная задача № 1».
Контроль за выполнением этой задачи доверялся Берия, а руководство всеми организационными, проектными, строительными и оперативными вопросами по созданию первой атомной бомбы возлагалось на Героя Социалистического Труда Бориса Львовича Ванникова.
Именно ему, награжденному многочисленными орденами, сидевшему дважды в тюрьме накануне войны и подорвавшему свое здоровье во время войны, пользующемуся особым доверием Сталина за организационный талант и решительную хватку, — именно ему было поручено руководство работами по созданию в СССР новой, всемогущей атомной отрасли промышленности. Борис Львович стал, по существу, первым атомным министром СССР (начальником ПГУ), ему поручалось строительство первых атомных объектов. Через полтора месяца Ванникову удалось сформировать атомный штаб отрасли в составе 406 сотрудников, разместившийся временно в здании НКВД по улице Ново-Рязанская, 8а, недалеко от Казанского вокзала. Ванникову, согласно вышеприведенному постановлению (п. 3), пришлось возглавить также Технический Совет, предназначенный для рассмотрения самых важных научных и технических вопросов и состоящий из маститых академиков.
На первых заседаниях Технического Совета Ванникову приходилось особенно трудно.
«Вчера сидел с физиками и радиохимиками из Радиевого Института. Пока мы говорим на разных языках. Даже точнее, они говорят, а я глазами моргаю: слова будто бы и русские, но слышу их впервые, не мой лексикон…
Мы, инженеры, привыкли все руками потрогать и своими глазами увидеть, в крайнем случае, микроскоп поможет. Но здесь и он бессилен. Атом все равно не разглядишь, а тем более то, что внутри него спрятано. А ведь мы должны на основе этого невидимого и неощутимого заводские агрегаты построить, промышленное производство организовать».
И все-таки Ванников уловил главное: наиболее важное звено в проблеме — получение ядерной начинки для бомбы. Это мог быть уран-235 или плутоний. Следовательно, задачей ПГУ являлось на первом этапе строительство двух промышленных комбинатов. Одного — для разделения изотопов урана и получения делящегося легкого изотопа урана-235. Второго — для получения оружейного плутония.
Еще не была отработана технология новых производств, не существовало даже проектных заданий на строительство этих заводов, но Ванников действовал во фронтовом духе. Его приказ № 032 от 26 декабря 1945 года устанавливал окончательные сроки ввода в действие заводов: сентябрь 1946 года для первого (комбинат № 813) и второй квартал 1947 года для второго (комбинат № 817).
Сроки были абсолютно нереальными. Но Борис Львович не признавал долгой раскачки. Надо выбрать место и начать строительство. А конечные сроки можно потом и подкорректировать. Пусть соревнуются между собой. Какой из комбинатов раньше заработает, такой и будет первая советская атомная бомба: урановой или плутониевой.
Исторически сложилось так, что необъявленное неофициальное соревнование выиграл плутониевый комбинат.
Выбор места для его строительства Ванников поручил своему первому заместителю по ПГУ — Авраамию Павловичу Завенягину…
Авраамий увидел революцию мечтательными юношескими глазами. В 16 лет вступил в партию большевиков и со всем пылом включился в гражданскую бойню на стороне заманчивых светлых идей о всеобщем равенстве и счастье.
После войны пошел учиться. Учитывая организаторский талант Завенягина, ему одновременно со студенческой скамьей предоставили место проректора Горной академии в Москве.
Производственная карьера была феерической. В тридцать два года он руководил магнитогорским металлургическим гигантом. В тридцать шесть — заместитель наркома тяжелой промышленности.
В феврале 1937 года — непредвиденная авария на жизненном «шоссе»: застрелился доведенный до отчаяния Орджоникидзе. Вскоре после этого началась великая чистка кадров в высших промышленных эшелонах. Родной наркомат был разгромлен, и тучи вокруг Завенягина сгущались. Наступил момент, когда он перестал выходить на работу. Закрылся наглухо в своей квартире, ожидая ареста и мучительно пытаясь найти выход из безвыходной ситуации. Он решился на отчаянное покаянное письмо Молотову, которого знал лично, втайне рассчитывая, что оно дойдет и до вождя.
Зная и принимая правила игры и жизни в этой стране, Завенягин прежде всего признал себя виновным в том, что потерял «бдительность и не рассмотрел, в каком болоте, напичканном вредителями и саботажниками, он работал». Просил предоставить ему возможность доказать на деле свою искреннюю преданность Советской власти, поручить ему любой, самый тяжелый участок работы. Предлагал направить себя на Север, за Полярный круг, где нужно было осваивать для страны новые месторождения, строить города и дороги.
Сталин расслышал голос человека, готового служить верно и, если надо, пожертвовать своей жизнью. 8 апреля 1938 года Завенягин был назначен директором строящегося Норильского комбината.
Построили город быстро, на костях тридцати тысяч заключенных. Авраамий Павлович продемонстрировал железный напор и организаторский талант, не считаясь с вынужденными жертвами. В условиях вечной мерзлоты и девятимесячной зимы по его предложению начали добывать руду открытым, наиболее быстрым и дешевым способом.
Но, несмотря на крутой, авральный стиль работы, Авраамий Павлович снискал уважение среди строителей за свою прямоту и периодически проявляемую человечность, даже заботу о конкретном заключенном.
По ночам читал Пушкина. Мечтал о пышных садах вокруг нового города, который по праву мог носить его имя.
И вот новый поворот в карьере. Завенягина переводят в наркомат внутренних дел для укрепления научно-промышленного сектора. Вскоре он становится заместителем Берия, возглавив важнейшее, 9-е, Главное Управление комиссариата (научное).
С развертыванием работ по атомной проблеме в 1943 году Сталин поручает Завенягину лично возглавить добычу урана и производство графита, необходимых для конструирования в будущем ядерного реактора.
8 декабря 1944 года ГКО принял решение о создании в Средней Азии крупного уранодобывающего предприятия и передаче руководства этими работами из Наркомцветмета в НКВД, его 9-му Управлению. Одновременно было принято решение о создании в рамках этого управления специализированного научно-исследовательского института (НИИ-9) по металлургии урана.
Этому же Управлению подчинялось одно из наиболее мощных строительных объединений в СССР — Главпромстрой, использовавший в качестве бесплатной рабочей силы сотни тысяч заключенных.
В составе управления у Завенягина работали крупнейшие ученые страны — физики, металлурги, геологи.
Завенягин сумел наладить на урановом комбинате № 6 в Средней Азии добычу первых тонн руды. В 1945 году выработка составила 15 тонн, что было совершенно недостаточно даже для запуска экспериментального лабораторного реактора.
В начале мая 1945 года Завенягин с группой ученых-ядерщиков вылетел в поверженный Берлин со специальной миссией: найти припрятанные в Германии запасы урановой руды из Бельгийского Конго и срочно переправить их в СССР. Завенягину удалось решить и эту задачу. В СССР спецсоставом было отправлено более ста тонн урановой руды.
В ПГУ генерал-полковник Завенягин, назначенный первым заместителем Ванникова, принял на себя ответственность за организацию строительства и пуск первых атомных производств. В первую очередь, речь шла о плутониевом комбинате. Атомное направление работ увлекало Авраамия Павловича своей таинственной новизной, ураново-плутониевым подвигом во славу Родины. Он не щадил себя никогда. Его железное здоровье и энергию не подорвали ни полярные метели, ни бессонные ночи, ни круглосуточная работа на износ. Собирая комиссию для поездки на Урал для выбора места строительства плутониевого комбината, Авраамий Павлович не представлял себе, что радиоактивное пламя функционирующего завода очень скоро сожжет до пепла его богатырскую силу, превратив в слабеющего хроника; что ему, награжденному всеми возможными орденами, уже в ранге министра атомной индустрии СССР, придется сложить оружие перед надвигающейся атомной смертью в новогоднюю ночь ровно через десять лет.
Он оправдал доверие Сталина. После смерти Завенягина его жена получила трогательное письмо от бывшего норильского заключенного, скорбящего о кончине железного руководителя норильских лагерей…
Выбор месторасположения плутониевого комбината определялся несколькими факторами.
Стратегический объект надлежало расположить где-то в глубине страны, чтобы сделать его неуязвимым для вражеских бомбардировщиков.
Место должно было быть глухое, необжитое, вдали от случайных посторонних глаз. Лучше всего — в глубине нетронутого леса.
Но в то же время — не очень далеко от какого-нибудь приличного индустриального центра, железной дороги и высоковольтной линии передач.
Особые требования предъявлялись к источникам водоснабжения, поскольку для охлаждения только атомного реактора необходимо примерно такое же количество прохладной речной или озерной воды, как для снабжения города со стотысячным населением. В то же время необходимо было иметь в непосредственной близости открытую гидросеть для возможного слива многотонных радиоактивных отходов производства. Более всего подходил, по мнению специалистов и военных, район Урала.
Туда-то и направился Завенягин на рекогносцировку. Некоторые здешние места он хорошо знал — в 1937 году баллотировался в депутаты Верховного Совета от Кыштымского округа. Это — в 80 километрах от Челябинска. Еще тогда, объезжая здешние поселки и деревни, Авраамий Павлович был поражен дивной красотой этих заброшенных мест. Дикий лес, бесконечные розовые ряды сосновых стволов. Пение невидимых птиц, не боящихся никаких охотников. Кругом многочисленные — большие и малые — озера с прозрачной водой, хрустальные речушки. А вдалеке, где-то за желто-зеленой массой леса, порой просвечивают синие, сизые, сиреневые отроги Уральского хребта.
В 19 веке в этом районе существовали небольшие металлургические заводики, принадлежавшие барону Меллеру-Закомельскому, дальнему родственнику семьи Романовых.
Перед первой мировой войной заводы управлялись некоей американской фирмой, директором которой был Герберт Гувер, будущий президент США, тепло вспоминавший потом в своих мемуарах о способных русских инженерах и талантливых умельцах-самоучках, вместе с которыми ему довелось развивать в этих местах добычу и выплавку меди.
В качестве источника водоснабжения было выбрано красивейшее озеро Кызыл-Таш с акваторией в 17 квадратных километров. Из озера вытекала река Теча, впадающая далее в Исеть. На берегу Течи ютилось несколько полуразрушенных деревенек, жителей которых можно было без всяких хлопот переселить в другие районы Челябинской области.
В намеченной зоне с периметром в несколько десятков километров было вполне достаточно места для размещения трех первоочередных заводов: атомного реактора для наработки плутония, радиохимического завода по выделению плутония из облученного в реакторе урана и металлургического производства для окончательной очистки плутония от примесей и изготовления из него атомной взрывчатки.
Хватало места и для размещения будущих строителей (десять-двенадцать лагерей), и для жилого поселка вольнонаемных, инженеров и рабочих.
Одним словом, комиссия приняла решение единогласно
«Протокол № 9 заседания Специального комитета
при Совнаркоме СССР
г. Москва, Кремль
30 ноября 1945 г.
(Особая папка)
Хранить наравне с шифром
Сов. секретно
…II. 1. Принять предложение т. т. Ванникова Б.Л., Курчатова И.В., Завенягина А. П. и Борисова Н.А. о строительстве завода № 817 на площадке «Т» (Южный берег оз. Кызыл-Таш Челябинской обл.)…
Председатель Специального комитета
при СНК СССР Л. Берия».
Протоколом № 17 заседания СК от 25 марта 1946 года подтверждался ранее установленный срок ввода в действие завода № 817 — II квартал 1947 г.
Патоличеву и Завенягину поручалось этим же протоколом подготовить предложения «о переселении из зоны строительства жителей в другие районы Челябинской области».
Протоколом № 18 СК от 2 апреля 1946 года директором строящегося завода № 817 был назначен Петр Тимофеевич Быстрое. Через год он должен был закончить строительство комбината, состоявшего из трех промышленных гигантов, для которых в этот момент не существовало не только проектов, но даже проектных заданий.
Быстрое был обречен на заклание. И он сам понимал это прекрасно. Лишь бы пронесло и не расстреляли через год!
24 апреля 1946 года на заседании научно-технического совета ПГУ был принят генеральный план комбината, предложенный проектной организацией ГСПИ-11. В нем было определено расположение: реактора и двух других заводов, системы для проточного охлаждения воды, места для жилого поселка и размещения лагерей заключенных-строителей. Общее научное руководство и контроль за разработкой проектов и промышленных конструкций возлагался на Курчатова.
Однако главной действующей фигурой на начальном этапе строительства плутониевой зоны было 9 управление НКВД.
В ПГУ у Ванникова по штатному расписанию было несколько заместителей.
Если Завенягин, отвечавший за строительство промышленных объектов, официально считался первым заместителем, то последним (пятым по счету) числился Павел Яковлевич Мешик. Он отвечал за формирование кадров, а также за обеспечение охраны и режима секретности не только на промышленных объектах, но и во всех НИИ и КБ, работавших по заданиям ПГУ над созданием атомной бомбы.
Вскоре после перевода в ПГУ Мешику исполнилось тридцать пять лет. Он был самым молодым в руководящем аппарате атомного штаба. Отличался молчаливой дисциплинированностью. Всегда тщательно выбрит, аккуратно причесан. Правильные черты лица, бесстрастное выражение глаз, да и вообще весь облик производил впечатление чего-то стандартного, искусственного, не предназначенного для человеческой памяти. Единственное, что бросалось в глаза, — опрятная свежесть и невинная юность. И только чуть-чуть приподнятый левый угол сомкнутых губ мог подсказать опытному физиономисту, что скромный молодой человек обладал огромными тайными знаниями в какой-то области, совершенно недоступной обычным людям, куда вход посторонним был решительно запрещен.
Центральную школу НКВД Мешик закончил с отличием в двадцать два года. А в тридцать уже был наркомом внутренних дел Украины. С 1943 по 1945 год — заместитель начальника Главного управления контрразведки «Смерш» («смерть шпионам»)[2].
Жизнь в кабинетах НКВД приучила Мешика к тщательному изучению порученного для разработки материала. Он считал себя обязанным освоить внешние контуры порученной задачи, не увлекаясь мелочами и копанием вглубь, поскольку по жизненному опыту считал любую проблему «вещью в себе». Чем скрупулезнее и глубже изучаешь предмет, тем больше возникает вопросов и сомнений, мешающих принятию окончательного твердого решения. Поэтому тщательное изучение материала не означало для Мешика увлечения подробностями. Скорее оно было синонимом крепкого и твердого знания, запоминавшегося им на всю оставшуюся жизнь в виде незыблемых истин.
Лекции по основам ядерной физики, которые организовал в ПГУ Курчатов для расширения кругозора руководящего персонала, Павел Яковлевич посещал аккуратно, слушал с повышенным вниманием. Потом в своем кабинете переписывал эти лекции начисто, иногда даже повторяя некоторые узловые моменты и выводы вслух.
После первой ознакомительной лекции он записал в свою тетрадь несколько итоговых фраз: «Ядра урана (точнее, его легкого изотопа с атомным весом 235) делятся под действием потока нейтронов с выделением огромной энергии. При этом, кроме двух осколков, образуются два или три новых нейтрона. При определенных условиях возможно возникновение цепной реакции деления. А это — взрыв!».
Еще раз перечитав написанное, Мешик убрал рабочую тетрадь в личный сейф и снова устроился в кресле. Разложил перед собой на столе несколько чистых листов.
После некоторого раздумья он нарисовал на первом сверху листе пунктирный прямоугольник. Первая же линия, слово или предложение настраивали Мешика на рабочий лад.
Все лучшие организационные предложения возникали в голове Мешика не на шумных совещаниях или коротких оперативках, а в спокойной обстановке за письменным столом. Рождались под грифелем отточенного карандаша, которым он рефлексивно водил по поверхности чистого листа.
Через пять минут в верхней части прямоугольника появились три квадрата, обозначенные им буквами А, Б и В. Они символизировали три основных завода, необходимых для получения плутониевого сердечника: атомный реактор, радиохимия и металлургия.
Каждый квадрат тут же «осмыслен» вокруг штрих-пунктирной линией — это охраняемая зона каждого из заводов. Бетонный забор, проволока, сигнализация, вышки с автоматчиками.
Расстояние между заводами — двойной стрелкой — два-три километра. Лес между объектами не трогать! Подъездные пути — раздельные. В совокупности три утопающих в естественной зелени объекта вместе с насосными станциями на берегу Кызыл-Таша — это запретная промышленная зона.
Юго-западнее, в десяти километрах, Мешик расположил на поселение и ночной отдых главный трудовой элемент великой стройки — лагеря заключенных. Сколько их будет? Восемь, десять? Вероятнее всего, тысяч двадцать заключенных. Ничего, разместятся. В тесноте, да не в обиде. Здесь вроде было все ясно: отработано за предыдущие годы советской власти на многочисленных «стройках века».
Наконец, еще южнее Павел Яковлевич нарисовал ряд квадратиков и прямоугольников, выстроившихся в два — три ряда, разделенных стрелками улиц. Населенный поселок, жилгородок, предназначался для проживания вольнонаемных рабочих и специалистов. В этой части тоже должен торжествовать строгий контроль, идеальный общественный порядок. Может быть, его тоже оградить колючей проволокой? Мешик отклонился к спинке стула и глубоко задумался.
Он всегда был уверен, что хорошо разбирается в людях и глубоко понимает истинную суть православной русской души. Не хуже Достоевского. Только не может выразить такими точными литературными словами. Но чувствует прекрасно. Чувствует каждой клеточкой. Понимает душевные порывы простого русского человека, его многовековую мечту о наведении порядка в своей стране.
Павла Яковлевича никогда не удивляло, почему у русских людей сызмальства проявляется страсть к разрушению собственного дома. Его не возмущало, что в подъездах жилых домов изгибаются и выворачиваются почтовые ящики, ломаются деревянные скамьи в парках, изрезываются сиденья в общественном транспорте.
Мешик понимал, что в русском народе кем-то свыше заложена страсть к разрушению всего, что тот сам создавал талантливым, пытливым умом и умелыми руками.
В этот момент он вспомнил, как в восточной Пруссии на берегу маленькой речушки поразился аккуратной предупреждающей дощечке на тонком столбике: «Внимание! Купаться запрещено».
Никто из местных жителей не знал, почему и кем запрещено купание. Но никто никогда не купался, только отдыхали и загорали на берегу.
Русский человек первым позывом души, ударом ботинка повалил бы этот жалкий столбик на землю, а потом разделся и бултыхнулся бы в освежающую воду. А немцам такое невдомек. Ничего не поделаешь: национальные отличия будут еще существовать некоторое время. Вплоть до всемирной победы социализма.
Мешик давно уразумел простую истину организации общественной жизни в этой великой стране. Если желаешь, чтобы молодые деревца в новом скверике прижились и пошли в рост, чтобы они не были смяты, передавлены и вырваны с корнем в начальный период их жизни, — их надо окружить хотя бы невысокой оградкой.
Если же речь идет о парке с большими деревьями и зеленой травой для отдыха, то и ограда нужна повыше, потяжелее.
Чем крупнее масштаб и значимость ограждаемого, тем серьезнее и продуманнее надо отнестись к самому ограждению. А в данный момент Мешик решал вопрос о том, как лучше сохранить в подконтрольной чистоте и узаконенном порядке целый поселок на несколько десятков тысяч жителей.
Да что там говорить о поселке! При намеченном финансировании можно построить там настоящий сказочный город-мечту. Город Солнца!
Мешик позволил себе пофантазировать и заглянуть в будущее…
Широкие улицы с яркими узорчатыми фонарями. Цветные дома с ажурными балконами. Стеклянные крыши спортивных бассейнов. Стерильные тротуары с белыми бордюрами. Небольшая, озелененная елями центральная площадь перед светлым домом Управления в греческом стиле с колоннами над широкой маршевой лестницей. А в центре площади — бронзовый памятник одному из вождей: Сталину или Берия. И кругом цветы, цветы. Да, такой город, конечно, надо будет оградить.
И Павел Яковлевич тут же дорисовал вокруг жилых квадратиков два ряда колючей проволоки с перепаханной полосой земли между ними. И засомневался. А правильно ли заключать за проволоку вольных, еще не осужденных трудовых людей? Психологически — неверно. Одно дело — промзона и лагеря. Другое — жилгородок. Чутье опытного чекиста и человековеда подсказывало Мешику, что в этом решении была какая-то внутренняя неувязка.
Карандаш пошел ползать по бумаге без целенаправленного задания. А мысль параллельно работала в поисках гармонии.
В последний месяц, отойдя от привычных будничных хлопот по «Смершу», Павел Яковлевич ощутил в себе неистребимое желание окунуться в творческую деятельность.
Работа в ПГУ предоставила ему такую возможность. Она доставляла какое-то чувственное наслаждение, особенно если сопровождалась открытиями и находками. Так было и в этот день. Озарение приходит, если мозг упорно работает над поставленной задачей. Да, ограждаемая жилзона в принципе неприемлема. Охраняемый периметр должен охватывать все! Проволока вокруг всего города! Вокруг всего государственного объекта № 1 с условным и скромным названием. Например, «база № 10».
И в этом случае не будет никакого нравственного противоречия. Жилпоселок как бы и на свободе. Зато вся зона целиком — на замке, за проволокой. И ни один человек, ни один зверь — ни туда, ни оттуда! Только через охраняемую проходную. Только по пропуску и специальному разрешению.
Великолепная картина. Вокруг — нетронутый, дикий, величаво-мохнатый лес, а внутри плутониевой зоны — надежно контролируемый порядок в быту и на производстве. И на промышленном конвейере идет сборка сердечников для серийных атомных бомб…
Да, закрытый город — это хорошая идея. И для данного закрытого города, думал Мешик, нужен умный, толковый «хранитель» зоны, ответственный за порядок и соблюдение режима… Последующие дни Мешик упорно перебирал в голове подходящие кандидатуры. От первой навязчивой мысли взять кого-то своего из «Смерша» он вскоре отказался. Нужен более тонкий, с приличным образованием. Скромный, выдержанный, обходительный. Но с железной хваткой. Боец «невидимого фронта».
Все чаще на память приходила фигура Шутова. Надо посоветоваться с Завенягиным, решил Мешик. А последнее слово все равно останется за Ванниковым и Берия.
Майор госбезопасности Павел Анатольевич Шутов был обескуражен приглашением Завенягина приехать в ПГУ для личной беседы.
Никакого отношения к этой новой структуре он не имел, хотя и слышал о ней нечто расплывчатое и неопределенное в связи с новым назначением Берия.
Завенягина, пользовавшегося заискивающим уважением всех сотрудников НКВД, Шутов знал только заочно как руководителя научного Управления № 9. Получасовой разговор с Авраамием Павловичем поверг Шутова в состояние полнейшего смятения. Вернувшись в свой кабинет на Лубянке, он закрыл дверь на ключ, решив отвечать только на вызов прямого телефона начальника отдела. Придвинул к себе массивную пепельницу, пачку «Казбека». Предложение Завенягина предстояло «обсосать по косточкам», правильно спрогнозировать последствия.
Согласие на новое назначение автоматически выводило Шутова из штата центрального аппарата НКВД, хотя, как несколько раз подчеркнул Завенягин, сохраняло звание и все полагающиеся льготы. Предложение включало в себя надежные, четкие, почти гарантированные перспективы повышения и почетного награждения в недалеком будущем. «После пуска комбината, через пару лет», — пообещал Завенягин.
И все равно Шутову было трудно решиться. Более пятнадцати лет прошло в этих стенах и коридорах. Больше того, вся жизнь, по существу, была связана с родным ведомством. Бывали, конечно, и трудные времена. Но ведь были и счастливые моменты удачи, успешно проведенные операции. Награды, наконец. Воспоминания нахлынули на него, обступили со всех сторон, отвлекая от насущной головоломки…
…Тринадцатилетнего босоногого Пашку Шутова, бежавшего из родного дома ради романтической жизни, пригрели солдаты красноармейского полка, в 1919 году покидавшего Мелитополь под напором «самостийщиков». Через год толкового паренька, успевшего окончить два класса приходской школы и умевшего неплохо читать и писать, прикрепили к особому отделу дивизии, где срочно требовался телефонист и ученик шифровальщика. Вскоре ему доверили самостоятельно печатать секретные документы и расшифровывать телеграммы из Москвы.
Летом 1920 года перспективного младшего сотрудника «с интеллектуальными зачатками» перевели на стажировку в Полтаву, в губернскую ЧК. Здесь под руководством опытного матроса Черноморского флота Стеблова Павел прошел настоящий курс обучения чекистскому искусству…
В это время в губернии началась революционная ломка старого жизненного уклада.
Внедрением нового метода хозяйствования занимался губернский совет народного хозяйства, расположившийся в бывшем дворянском особняке. Хотя стекла в старинном здании были большей частью выбиты, штукатурка посечена пулями, а все двери сломаны или едва держались на одиноких петлях, в разграбленном пространстве бурлила азартом и шумела громким матом новая организационно-управленческая жизнь. Количество отделов и подотделов росло день ото дня. И все они дружно печатали свои директивы и постановления о секвестрированных частных предприятиях. По коридорам носились, жестикулируя, совслужащие, набранные исключительно из состава трудящихся классов, — общим числом, быстро приближающимся к двум тысячам.
Ежедневной страстью кипели бесконечные совещания, на которых производилась тарификация всех сотрудников совнархоза по многочисленным категориям.
Мизерная зарплата, постоянно к тому же задерживаемая, голод в семьях и неограниченная полнота власти постепенно начали разлагать души строителей нового мира и порождать среди наиболее неустойчивых многочисленные злоупотребления, которые чаще всего выражались во взятках натурой с хозяев секвестрированной собственности. Спустя полгода практически все служащие втянулись в выжимание подачек. Мимо опасного разложения не могла пройти безразлично другая, сознательная часть населения города — чекисты.
Появление их в коридорах в начале 1921 года для наведения порядка и выявления разложившихся сотрудников вызвало трепет среди служащих.
В эти групповые рейды опытный чекист Стеблов брал с собой и молодого сотрудника Павла Шутова.
Чекисты шли по коридорам медленной, уверенной походкой, внимательно вглядываясь в окружающие лица, сразу выделяясь в кишащей массе человеческих фигур. Чекистов боялись как огня, зная о нацеленной результативности подобных рейдов. Они действовали решительно, без нравственных колебаний.
Первым взяли председателя полиграфического отдела, старого рабочего-печатника. За взятку в десять фунтов муки перерожденца расстреляли. Вместе с шестерыми сотрудниками его отдела.
С тех пор ежедневно исчезали несколько неудачников. А через неделю их фамилии появлялись в списках расстрелянных, которые периодически вывешивали справа от входа в здание Губчека, с пометкой «за взятку».
Работы у чекистов было сверх головы, поскольку кругом вспыхивали контрреволюционные очаги саботажа. И справиться с ними — холодными руками или горячим сердцем — можно было, только действуя решительно, оперативно, без какого-либо намека на бюрократические издержки.
После текущего допроса или беседы с подозреваемым следователь ставил на деле свою личную резолюцию, предлагая меру наказания.
Осуществлять разнообразные по виду и срокам меры наказания не представлялось возможным. Поэтому резолюции были краткими и однотипными. Чаще всего — «освободить с предупреждением» или «расстрелять». В течение недели все дела просматривал — для контроля — заведующий секретно-оперативным отделом.
В пятницу подготовленные папки переносились на заседание коллегии из пяти человек под председательством начальника Губчека.
На коллегии дела уже не зачитывали из-за недостатка времени. После короткого доклада следователя — голосовали. «Ты понимаешь, Павел, — делился Стеблов своими сокровенными мыслями, — судить — не так уж и трудно, как мне раньше казалось. Самое тяжелое — приводить приговор пролетарского суда в исполнение».
Расстреливали обычно в субботу ночью, в подвале. Когда осужденных вели из сарая через замусоренный двор, большинство из них догадывались, куда и зачем их ведут. Начинали биться в истерике, умоляли о прощении, кричали истошными голосами. Главным исполнителем был комендант, здоровый, суровый детина из воронежских крестьян. Приходилось перед этим делом наливать ему полный стакан, поскольку после личного счета, перешагнувшего за тысячу, он начал сдавать и жаловаться на нервы.
За неделю успевали обрабатывать около трехсот дел и примерно сотню человек каждую субботу расстреливали. Это соотношение считалось соответствующим ориентирующей инструкции из Харькова, от Всеукраинской Чека: «Наблюдаемый темп роста сопротивления эксплуататоров дает основание повысить процент расстреливаемых до тридцати».
Одновременно предложено было вычерчивать графики «сопротивления эксплуататоров» и пересылать их в Харьков.
Вот этими зубчатыми кривыми и занимался большую часть дня молодой Шутов.
По горизонтали он отмечал, как его обучили, недели и месяцы, а по вертикали — количество ликвидируемых. Найденные точки пересечения он соединял жирной красной чертой. Когда кривая шла вверх, Шутову было ясно, что это фактически означало объективное усиление классовой борьбы.
Первый год работы в Полтаве многому научил Павла, расширил кругозор и углубил жизненные познания. В первые месяцы у него иногда возникало чувство жалости при виде конвоируемых на расстрел или вывозе трупов ранним утром на грузовиках. Однако постепенно он осознал историческую справедливость происходящего и его неизбежность.
Через несколько лет добросовестной работы в окружном отделе ГПУ ему доверили новую, весьма тонкую работу по связи с осведомителями в греческих, болгарских и немецких поселениях. Новое задание — новый, неоценимый багаж знаний и умений: осмотрительность, чуткость и такт в разговоре с собеседником, непроницаемость лица или благожелательная улыбка.
В 1927 году Шутов был повышен в ранге — переведен в центральный аппарат Харькова на сходную по профилю работу с осведомителями в среде творческой интеллигенции.
А через четыре года состоялся долгожданный переезд в Москву — на должность старшего инспектора по кадрам. Начал Шутов с курирования перемещений по службе и новых назначений в иностранном отделе (ИНО).
Но вскоре Шутова вернули к прежней, освоенной еще в Харькове работе с осведомителями в среде творческой интеллигенции Москвы.
Через несколько лет Павел Анатольевич обзавелся многочисленными знакомыми и даже друзьями среди поэтов и прозаиков, журналистов и театральных критиков, известных мастеров кино и балета. Шутов интеллектуально рос, постоянно общаясь с засекреченными знаменитостями и талантами. Всегда обходительный и вежливый, он мягкостью и лестью добивался значительно более высоких результатов, чем его коллеги — жесткими допросами. У него выработалась с годами своя собственная философия чекистской работы с сексотами.
Шутов был уверен, что любого осведомителя, штатного или внештатного, надо постепенно подводить к такому состоянию духа, чтобы последний не только не испытывал никаких угрызений совести, но и гордился своей почетной работой.
Только в этом случае, считал Шутов, возможно получение не только требуемой, но и добровольно-инициативной информации. Павла Анатольевича эта работа не тяготила. Наоборот, казалась творческой. Даже как-то приподнимала его в собственных глазах над работниками других отделов.
Но чем ближе подходили его воспоминания к 1936 году, тем они становились сбивчивее и путаннее. Расплывались в хаосе непрерывных разоблачений и измен, арестов и новых назначений в родном комиссариате.
Началась эта вакханалия в сентябре 1936 года после назначения Ежова. Но продолжалась и после его ареста и расстрела. Берия подчищал грехи предыдущего комиссара.
Шутов поддерживал прекрасные отношения с работниками многих отделов. Он был чрезвычайно коммуникабелен, отзывчив к любым житейским просьбам. Именно это чуть не обернулось для него личной трагедией в эти смутные годы, когда друзья и соратники вдруг по очереди оказывались изменниками и шпионами. Из кабинетов они препровождались в подвальные помещения, где молодые следователи вели допросы с пристрастием и энтузиазмом. Признания собственной вины следовали одно за другим, затягивая все новые и новые жертвы на ту же стезю.
Шутов с тяжелым чувством вспоминал те годы. Как он безропотно приходил в свой кабинет и… ничего не делал. Много курил. Безнадежно и безвольно ожидал собственного ареста. Но все обошлось. Лавина пронеслась мимо него.
Сейчас Шутов обдумывал, почему Завенягин «сватал» именно его на Урал? Какие его знания, черты характера и почему оказались вдруг востребованными? К вечеру Павел Анатольевич выстроил гипотезу, которая была недалека от истины. Хотя Завенягин в разговоре не употребил ни разу эпитета «атомный», а оперировал только понятиями «объект № 1», «изделие № 1», речь шла, вероятнее всего, о строительстве комбината для производства отечественного атомного оружия. Конечно! Эта догадка все ставила на свои места…
Еще в 1944 году Шутову было поручено заняться вплотную группой ученых, занятых атомными исследованиями. Имена их были четко обозначены: Курчатов, Кикоин, Алиханов, Харитон, Арцимович, Зельдович. Речь шла не только о тщательной перепроверке их биографий. Необходимо было заняться их родственниками, друзьями, знакомыми. Войти в круг хороших знакомых. Знать их мысли и настроение. Сомнительные высказывания необходимо было перепроверять, отфильтровывать, заносить в досье.
Обычной практики осведомителей было недостаточно. Тогда-то Берия и приказал Шутову взять на прослушивание домашние и служебные телефоны ученых. После бомбовых ударов по Японии чрезвычайная важность атомной проблемы стала очевидной. Недаром Берия вывели из наркомата, назначив руководителем атомного проекта.
В Москве сейчас — послевоенное благодушное затишье. А там, на Урале, могут скоро развернуться серьезные дела. И закордонные «друзья» полезут. Да и свои найдутся: разгильдяи, болтуны и саботажники. Враги у советской власти всегда были и будут — явные или тайные, притаившиеся до поры. Горячая, бурная работа была с молодых лет по душе Шутову. Организовать дело таким образом, чтобы в заводских цехах, в бараках заключенных, в медсанчасти, в жилых домах — одним словом, везде и всегда, — были свои заостренные уши. Чтобы свежий лесной воздух слышал, запоминал и докладывал все подозрительные новости. Любую, даже случайно оброненную, ошибочную фразу. Или никчемный анекдот с политическими намеками. А ведь, без ложной скромности, он действительно умеет работать с осведомителями. И подбирать их, и ладить с ними. Вопросы режима можно замкнуть на себя, а военизированную охрану спихнуть на своего зама.
Годика на два можно поехать и без жены. А там уж осмотреться. И ведь в случае успеха — без награды не останешься. «Впрочем, — одернул он сам свои тайные мысли, — главное не в наградах. Главное — быть полезным своей Родине».
Пожалуй, надо соглашаться, думал Шутов.
Через день согласился.
Завенягину идея его молодого коллеги понравилась. Закрытый от внешних глаз город за колючей проволокой. Засекреченная плутониевая зона. Многие организационные вопросы режимного характера разрешаются сами собой или, по крайней мере, значительно упрощаются. Молодец Мешик! И главное — такое решение само диктовало начальный план строительных работ.
На заседаниях Техсовета Ванникову и Завенягину порой приходилось выслушивать критические реплики некоторых ученых о торопливости: как можно начинать строить промышленный комбинат, не имея даже эскизного проекта? Что строить?
Теперь было совершенно ясно, что строить нужно зону. И начинать именно с ее строительства: ограждение, контрольно-охранные сооружения по периметру, бараки для будущих строителей-заключенных и солдат.
Главное — правильно выбрать руководителя строительства. Поскольку в качестве рабочей силы предполагалось использовать заключенных, то и руководить ими, по мнению Завенягина, должен был человек, имеющий опыт и понимающий толк в этом специфическом советском инструменте. В этом вопросе нельзя было ошибиться: нужен хваткий, решительный, напористый. Конечно, не какой-то ученый-интеллигент, а свой — послушный и верный.
Приказом Ванникова строительство завода № 817 было поручено одному из трестов НКВД (Челябметаллургстрою), входившему в состав Главпромстроя.
Для строительства плутониевой зоны было организовано новое — специальное — строительное Управление с условным номером 869. Во главе его после долгих, мучительных размышлений Завенягин поставил генерал-майора НКВД Якова Давыдовича Раппопорта.
Подвиг строительства стратегического объекта № 1 был предложен бывшему заместителю руководителя великой социалистической стройки — Беломоро-Балтийского канала.
Еще тогда, в те бурные романтические годы, у Раппопорта сложились твердые партийные принципы строительства: «Вся моя юность прошла в партии. Ее принципы, дисциплина, коллективная воля у меня в крови, в мозгу, в костях. Мне неизвестно, что значит «не могу», «не умею», если велит партия. Честное слово, это какие-то умирающие понятия. Мы все сможем, все сумеем, когда захотим».
Организация строительных работ представлялась ему тогда весьма простой: строят и отвечают за строительство — инженеры, дело чекистов — руководить ими.
А посему необходимо тщательно подбирать людей, контролирующих ход и качество выполняемых работ, то есть чекистов. Нехватка или отсутствие профессионалов-строителей среди них нисколько не смущали Раппопорта: «Профессионалы как раз необязательны! Достаточно точно знать, как не надо строить. А этому выучиться гораздо проще».
Тогда, в тридцатых годах, Якова Давыдовича настолько увлекла стихия массового строительного подвига, что он готов был пожертвовать ради успеха дела собственным здоровьем и даже жизнью. Просто не пришлось как-то. Конечно, от холода, голода и невыносимых условий труда погибли тогда десятки тысяч строителей-заключенных. Но ведь это — естественные издержки. Подвиг почти всегда сопровождается жертвами. Но ведь свершили! Построили Канал!
А какое воодушевление и счастье охватило его во время сопровождения на первом пароходном рейсе по каналу правительственной делегации во главе со Сталиным. А рядом Ворошилов, Горький. Улыбки, цветы. Восторженные возгласы удивления и одобрения. Разве не стоит ради этого жить?
После торжественного пуска канала Раппопорт был в числе других высших руководителей стройки отмечен почетной правительственной наградой.
В последующие годы Раппопорт дослужился до звания генерал-майора НКВД, хотя ничего, подобного героическому подвигу на канале, более не совершал.
Карьера его постепенно приняла кабинетный характер.
К концу войны он числился в штате Главпромстроя НКВД.
Завенягин лично знал Раппопорта и считал его очень подходящей кандидатурой для плутониевой зоны, поскольку тот имел громадный опыт работы с заключенными. Характер выдержанный. Предан до мозга костей. Привык с горячностью выполнять любые приказы начальства, даже самые невыполнимые, на первый взгляд.
В начале января 1946 года приказом по НКВД Яков Давыдович был назначен руководителем строительного Управления № 869 и через неделю отбыл к новому месту службы.
Уже через несколько дней громоздкая, но очень податливая и оперативная система исправительно-трудовых лагерей пришла в движение.
Для строительства плутониевой зоны предполагалось использовать 8 — 10 ближайших лагерей. Яков Давыдович, просмотрев их перечень, сделал первое руководящее указание: добавил в перечень еще один лагерь — женский. Он предполагал использовать женский труд на отделочных работах в управленческих корпусах заводов и лабораториях. Если уж строить, считал Раппопорт, то надо строить ярко, красиво. Так, чтобы приехавшее для контроля московское начальство ахнуло, увидев сделанное.
В январе 1946 года сотни вагонзаков потянулись на станцию Кыштым Челябинской железной дороги. От нее сотни мелких колонн под охраной горластых солдат с автоматами и овчарками двинулись в пешеходный поход к месту предполагаемого строительства.
В разных концах страны грузили десятки спецэшелонов военными строителями и спецпереселенцами.
Из отчета Раппопорта в августе 1946 года:
«…В настоящее время в зоне строительства комбината находится 21 608 работающих. В том числе: красноармейцев строительных батальонов — 8708 чёл., спецпереселенцев — 6882 чел., заключенных — 5348 чел., вольнонаемных — 670 чел.».
«Вольняшек» старались набирать ограниченно, только в случае крайней нужды, поскольку для них не было ни жилья, ни конкретной масштабной работы по узким специальностям.
Главной заботой Раппопорта в первые месяцы была организация внешней зоны по периметру и строительство внутри нее сотен землянок и деревянных бараков для размещения строителей и административных чиновников.
По снежной дороге, прорубленной в лесу и утрамбованной на скорую руку, от Челябинска к зоне ползли тракторы и грузовики. В воздухе стоял непрерывный грохот моторов, висел вонючий дым, раздавались хриплые крики и отборный мат шоферов и солдат-автоматчиков. Везли цемент, стекло, камень, готовый лес, уголь, гвозди, электрический провод. И главное — проволоку, сотни тонн колючей проволоки. Заторы машин, заглохшие моторы выводили из терпения всех. На ремонт время жалели. Заглохшую технику, мешавшую движению потока, переворачивали вверх колесами и отбрасывали в сторону, на обочину.
Тракторов не хватало. В качестве тягловой силы использовали танки с демонтированными башнями. В зоне практически не было техники для земляных работ. Мерзлый грунт разбивали кувалдами, клиньями, ломами.
Никаких смет и плановых заявок на строительство в первые месяцы не оформляли. Из области Раппопорту выделяли все, что было в наличии, по его первому требованию.
Яков Давыдович вертелся как белка в колесе, подгоняя и себя самого, и всех вокруг. Пытался (без особого, правда, успеха) воскресить опробованные еще на Беломорканале методы социалистического соревнования между бригадами заключенных.
Иногда ночами, усталый и разбитый, Яков Давыдович вспоминал милый сердцу канал. Сравнивал ту стройку с нынешней. Грандиозные объемы работ и предельно сжатые сроки были аналогичными. Но приоритетность сегодняшней была очевидной. Раппопорт ощущал это по реакции высших инстанций на свои многочисленные просьбы и требования.
Все, о чем он просил: материалы, оборудование, транспорт, люди, — абсолютно все выделялось немедленно, без отговорок и бюрократических проволочек. Особенно действенной и оперативной стала помощь после образования в составе ПГУ специального отдела, курирующего строительство промышленных атомных объектов, во главе с Ефимом Павловичем Славским — бывшим заместителем наркома цветной металлургии.
Летом 1946 года в торжественной обстановке, в присутствии почетных гостей из Москвы, под звуки духового марша состоялась церемония закладки реактора «А» («Аннушки»).
По сигналу Раппопорта десятки солдат энергично заработали кирками и кувалдами, вгрызаясь в скальный грунт, театрально начав рыть котлован для будущего реактора.
Гости похлопали в ладошки и разъехались. Солдаты тут же побросали на землю рабочий инструмент. На следующий день для продолжения работы сюда пришла пешим маршем тысяча заключенных.
В конце 1946 года рядом с котлованом был заложен фундамент для надземного трехэтажного здания управления, в котором должны были разместиться кабинеты для руководящего персонала, лаборатории, рабочие помещения различных служб и, самое главное, — пультовое помещение № 15 с приборным щитом и пультом управления.
Работая практически круглосуточно на износ, Раппопорт и Быстрое с треском провалили срок ввода завода, установленный приказом Ванникова и решением Специального комитета.
Срок был заведомо нереален. Корректировка его была так же неизбежна, как и наказание «виновных».
В мае 1947 года Берия направил в плутониевую зону комиссию для проверки хода строительства и выявления причин отставания.
В комиссию вошли: научный руководитель строящегося комбината Курчатов, начальник отдела Госплана Борисов, начальник Глав-промстроя Комаровский и представители МВД.
Промышленная новостройка предстала перед членами комиссии в виде вырытого в скальной породе котлована. Он представлял собой усеченный конус основанием вверх, с диаметром на поверхности земли 110 метров. Глубина котлована составила 54 метра.
Комиссия отметила очень низкий уровень механизации земляных работ, малый объем бетонных работ на объекте «А», а также такой «вопиющий» факт, что на строительстве объекта «А» работает только 5700 строителей из общего числа 31 000.
8 июля 1947 года в плутониевую зону для личной инспекции прибыл Берия.
Он выслушал доклад членов комиссии; уполномоченного Совета Министров И.М. Ткаченко, командированного в плутониевую зону на все время строительства для контроля за ходом работ; заместителя министра внутренних дел В.В. Чернышева, проживавшего в зоне с февраля 1947 года и наделенного полномочиями решающего арбитра по всем спорным вопросам.
Все они находили целесообразным замену Раппопорта на более опытного строителя. Предлагали Михаила Михайловича Царевского, тоже из Главпромстроя. Упорно возражал им один Завенягин.
9 июля, на следующий день после приезда в зону, Берия поставил на отчете комиссии краткую резолюцию для главы МВД Круглова: «Надо немедленно назначить М.М. Царевского». Вместо Быстрова директором комбината был назначен Ефим Павлович Славский.
Темп работ после посещения Берия вырос. В мае-июне на стройку поступало примерно 150 вагонов с различными грузами для обеспечения монтажных работ на объекте «А». В августе 1947 года поступило 800 вагонов. Общее число строителей превысило 40 тысяч. Большая часть из них была брошена на авральное строительство атомного первенца — реактора «А».
К началу осени строительная площадка объекта «А» напоминала человеческий муравейник. С раннего утра до поздней ночи и с поздней ночи до самого утра, посменно заменяя друг друга, в котловане копошились несколько тысяч одновременно.
Внутри котлована шли масштабные бетонные работы, готовились несущие конструкции под монтаж графитовой кладки — главной, центральной детали реактора.
На поверхности достраивались стены управленческого корпуса. Монтировались этажные перекрытия, лестничные клетки и лифтовые шахты, кабельные полуэтажи и коридоры. Отстраивались кабинеты и рабочие помещения.
В зону объекта для отделочных работ начали выводить женщин-заключенных. Невообразимый хаос и изнуряющий темп строительства напоминали настоящий ад. Несмотря на героические усилия, монтаж самого реактора отставал от вновь и вновь назначаемых сроков ввода.
Осенью 1947 года увеличился набор вольнонаемных специалистов: сварщиков, слесарей-ремонтников, электриков.
Многие рабочие высокой квалификации и с чистыми анкетными данными набирались в областном Челябинске, в частности, на тракторном заводе.
Эти рабочие не имели понятия о назначении «важного производственного объекта». Некоторые соблазнялись обещаниями высокой зарплаты и предоставлением отдельного благоустроенного жилья. Другие подталкивались к подписанию трудового соглашения патриотическим порывом, желанием достойно послужить своей партии и стране в тяжелое послевоенное время. Именно в этот набор попал в плутониевую зону бывший фронтовик и классный специалист по запорной арматуре Николай Михайлович Кузнецов.
На собственную одинокую судьбу Николай Михайлович Кузнецов никогда не жаловался. Ни в душе, ни вслух. И не завидовал другой, более удачливой. По его разумению, Советская власть дала ему, бедному крестьянскому пацану, почти все, о чем он мог мечтать. И все почти задаром, ничего не требуя взамен…
Когда классовые события докатились в 1918 году до его родной деревни, Кузнецову не было и пятнадцати.
По призыву души он активно помогал местному комбеду в борьбе с кулаками, попами и белогвардейцами. Позже, в красноармейском отряде, вступил в почетные ряды большевистской партии, обещавшей всем сочувствующим трудящимся просветление и всемерное благополучие.
После гражданской окончил с некоторым напряжением школу рабочей молодежи и поехал в Москву поступать в профтехучилище, которое обещало общежитие успевающим по всем предметам. Вышел из него созревшим специалистом широкого профиля по регулирующей и запорной арматуре: задвижкам, клапанам и пр. На Дорогомиловском заводе Кузнецов вскоре превратился в квалифицированного рабочего шестого разряда, ударника пятилетки и члена профкома по воспитательной работе с молодежью. После пятнадцати лет показательного труда он получил в личное распоряжение вполне приличную восьмиметровую комнату в пятикомнатной коммуналке. К сожалению, нестандартная внешность, испорченная крупным носом и тяжелым подбородком с двумя шрамами, а также принципиальный характер не способствовали благополучному разрешению семейного вопроса: так и остался бобылем.
В 1941 году Кузнецов пошел добровольцем в Московское ополчение и, к своему собственному удивлению, остался жив. Прошел всю войну, не затронутый ни пулями, ни осколками, хотя пару раз контузило со снижением природного слуха. А ранен был уже после окончания войны, в Берлине, какой-то шальной пулей неизвестного происхождения. Может, и свой по пьянке пальнул. Ранен Кузнецов был нетяжело, в левое плечо. Так, больше для памяти, чем для физического ущерба. Рука чуть усохла после этого случая, но работоспособность вполне сохранила.
Перед отправкой домой на его сержантской груди блестели три медали.
До посадки в товарные вагоны остатки их батальона выстроили на разрушенной, но чисто выметенной немецкими женщинами железнодорожной платформе. После расчета и пофамильной проверки команда на посадку задержалась. Ждали какого-то важного офицера из спецслужбы. Он приехал в сопровождении двух солдат на американском джипе. Обходя строй, офицер кричал сиплым голосом:
— Газо- и электросварщики… Механики-ремонтники… Электрики…
И еще, еще раз:
— Газо- и электросварщики… Механики-ремонтники… Электрики… Имеющие довоенный стаж работы по специальности. Повторяю… Имеющие довоенный стаж работы по специальности. Три шага вперед… арш!
Кузнецов мгновенно прикинул в уме, что его можно тоже отнести к механикам-ремонтникам, и шагнул вперед.
Их собрали в отдельную группу и через шесть часов отправили куда-то в товарном вагоне с двухэтажными нарами из толстых досок. Сопровождал их тот же сиплый офицер с двумя автоматчиками.
По дороге — 12 суток до Челябинска — офицер доходчиво объяснил им, что хотя все они и являются демобилизованными, Родина пока не имеет возможности отпустить их на вольную жизнь, а потому в порядке оргнабора направляет на временную работу по специальности на Восток.
О своей московской комнатушке, забитой наглухо четырьмя мощными гвоздями от посторонних глаз, Кузнецову пришлось временно забыть.
В Челябинске ему предоставили благоустроенное общежитие с комнатами на восемь человек, рукомойниками и туалетом в коридоре, общей кухней и душем. На тракторном заводе он зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом. Сам Николай Михайлович не ощущал никакой государственной необходимости в своем пребывании на Урале и постоянно просил в парткоме отпустить его в Москву, по месту постоянной прописки с заколоченной еще в 1941 году входной дверью.
Однако, не проработав и двух лет, Кузнецов попал под новый оргнабор, и по настойчивой рекомендации цеховой партячейки заключил трудовой договор на трехлетнюю работу на важной государственной стройке, именовавшейся Базой № 10.
Кузнецов понимал, что под этим условным названием скрывается, вероятно, какой-то секретный военный завод. Но это его нисколько не пугало. Лишь бы предоставили отапливаемую отдельную комнату и через три года отпустили в Москву.
И то, и другое ему твердо обещали. Первое выполнили практически сразу. В зоне ему провели беглый медосмотр. Врач потрогал с сомнением его усохшую левую руку, пробурчал что-то, чего Кузнецов так и не расслышал, и нехотя расписался в его личной карточке.
Сфотографировали на пропуск. Провели вводный инструктаж. Объяснили коротко стратегическую важность объекта «А», куда его направляли для почетной и важной работы. Предупредили о секретности завода, предложив подписать какой-то документ о неразглашении государственной тайны и ознакомлении с порядком проживания в зоне.
До начала монтажных работ в производственном цехе Кузнецова временно закрепили контролером-наблюдателем к двум бригадам отделочниц. «Нашли работу для мужчины!» — периодически возмущался он вслух, но тут же успокаивался, когда ему объясняли, что начало монтажа не за горами.
— Потерпи еще маленько, Михалыч, — советовал ему партгрупорг Серегин, — на днях переведем тебя в цех.
Сейчас же задача Кузнецова состояла в том, чтобы бригады не простаивали из-за отсутствия отделочных материалов, инструментов и плохого настроения. В отделе снабжения ему выдали два химических карандаша, блокнот для записи разных производственных мыслей и три десятка агитационных плакатов, призывавших заключенных работать ударно и добросовестно, если они желают снизить срок. Николай Михайлович периодически развешивал их на самых видных и людных местах…
Первая суббота октября 1947 года…
В субботу идти на работу веселее, чем в остальные дни недели. «Это уж везде так, — думал Кузнецов, — что на «большой земле», что здесь, в зоне».
Автобус фыркнул, дернулся и остановился, не доезжая метров ста до проходной объекта «А». Встал посреди большой жирной лужи. Николай Михайлович двинулся к проходной неторопливым размашистым шагом, хлюпая по осенней грязи резиновыми сапогами. Они были на два размера больше потребных, но уж какие достались по распределительному талону. Хорошо, хоть такие на ногах.
Сошедшие с автобуса обгоняли его с обеих сторон. Торопились, чтоб меньше стоять в длинной очереди на проверку входных пропусков.
Для зэков-строителей был заготовлен широкий проволочный коридор. Их привозили раньше и дисциплинированно, под лай собак, вводили во внутреннюю заводскую зону строительства. А для вольнонаемных существовала тесная рабочая проходная. Все спешили, чтоб сэкономить время, даже занимали друг для друга очередь. А Кузнецов никогда не ускорял шаги. Да и куда спешить-то? Жизнь не обманешь, не обгонишь. У нее своя, отмеренная и предопределенная со дня рождения скорость течения. Он и после окончания рабочего дня не спешил. Не участвовал в шумной давке около первых автобусов. Все равно всех увезут в жилпоселок. А на первом или на последнем автобусе — какая особенная разница? Может быть, в этих пятнадцати минутах у каждого свой резон и своя судьба…
Со своими подопечными Кузнецов сработался.
Бригады возглавляла заключенная из Рязани, Валентина Нефедова. Она являлась прирожденной ударницей, не умевшей работать в спокойном размеренном темпе, присущем заключенным.
Ее горячая натура требовала спешки с периодическим взрывом эмоций. Нефедова и на воле работала бригадиром отделочниц. Грех попутал ее во время увлечения несанкционированным ремонтом в подъезде собственного многоквартирного дома. Входные даери и лестничные перила давно облупились. На стенах не оставалось свободного места для именных сердец, пронзенных стрелами, сурового краткого мата и похабных пословиц, нацарапанных отвертками и перочинными ножами. Случайным днем чаша терпения Нефедовой переполнилась жаждой действия. С ведром голубой краски, выносимой ею через пролом в заводском заборе, ее и задержали. Валентина не оправдывалась в суде. Сказала, что любое наказание воспримет как необходимое в суровое военное время и выдержит его с честью. Думала, пожурят и дадут условный срок. А дали восемь лет.
В заключении Нефедова смекалисто постигла нехитрые премудрости и специфические правила поведения, превратившись через два года из симпатичной молодухи в жилистую бабу с хриплым голосом, которую соседки по барачной койке побаивались и уважали.
В Кыштымскую зону их лагерь перевели в конце 1946 года. Сначала бросали на случайные, подхватные работы. А в следующем году начались отделочные работы на объекте «А»…
— Привет, Валюха, — жизнерадостно приветствовал Нефедову Николай Михайлович.
Две стены в комнате были оштукатурены и подготовлены под покраску. На двух других еще копошились.
— Здорово, Михалыч! — и сразу к делу: — Чего ты стал как пень? Краску тащи. Видишь, простаиваем.
Ворчала она заблаговременно, но Кузнецов послушно притащил ведро зеленой краски.
— Принимай, Валентина. Такая, нет?
Нефедова поковыряла присохшую пленкой поверхность деревянным прутиком.
— Опять с комками, — недовольно пробурчала она, — принимаю условно. Потом олифы подкинешь. И еще одно ведро.
В этот момент Нефедова вспомнила о чем-то своем, припасенном на сегодняшний рабочий день, и сразу смягчила грозный тон.
— Михалыч, пойдем-ка посмотрим соседнее помещение. Говорят, чего-то там надо отделать по-особому.
И потащила его под локоть через зияющий пролом в большой зал, заваленный по щиколотку мусором и щебенкой. В углу небрежно разбросалась огромная куча полубитой глазурованной плитки.
Нефедова прислонилась к стене для интимного разговора:
— Слушай, Николай Михайлович, угости для начала чинариком. Кузнецов неторопливо вытащил из нагрудного кармана рубашки стопочку аккуратно нарезанных газетных заготовок. Он уже месяц как перешел на дешевые папиросы. Но на работу брал еще старые запасы махорки. Засыпал, свернул, облизал дважды языком по всей длине и вежливо подал. Бригадирша глубоко затянулась ароматным дымом и обмякла в блаженстве. Молчала, не желая оторваться.
— Как здоровье, Валюха? — прервал затянувшуюся паузу Кузнецов.
— Нормально, что ему будет? — откликнулась она и сразу вспомнила: — Слушай, Михалыч, дело у меня к тебе небольшое. На пять копеек.
— Ну?
— Ну да ну. Дай сообразить начало… — Еще раз глубоко затянулась. — Я спросить тебя хочу. Только без обид и слюней. Ты как, мужик еще?
— В каком смысле? — недоуменно взбрыкнул Кузнецов.
— Ну, жена, скажем, у тебя есть?
— Пока нет, — обиделся, задетый за живое, — может, появится скоро. Тебе-то какая печаль?
— Помоги одной нашей в бригаде…
— Чем помочь?
— Трудно ей, понимаешь. Не выдерживает физической нагрузки. Дохнет. А так она баба очень приличная.
— За что же села «приличная»?
— За что, за что… Кто его знает, за что. Нас послушаешь — все мы безвинные сидим. Говорит, пустила на ночлег «лесных братьев». Друзей или, может, родственников. Из Закарпатья она. Говорит, засекли, караулили. Гостей перебили на месте. А она схлопотала пятнашку.
— Ты про кого, однако, рассказываешь мне?
Кузнецов слышал плохо. По губам понимал прилично, но не очень сложные мысли. Переспрашивать стало для него привычкой.
— Про Ленку. Та, что угол выравнивает. — Нефедова мотнула головой в сторону дверного проема, потом крикнула в соседнюю комнату: — Ленка!
— Што? — откликнулся гулкий голос.
— Походь сюда на минутку.
В проеме показалась голова женщины, аккуратно повязанная темным платком. Усталое, сухое, но еще моложавое лицо. И глаза черные, равнодушные ко всему.
— Што тебе? — переспросила вялым движением губ.
— Ты это, Ленка… работай поаккуратней. После выходного будем сдавать комнату. Понятно? Ну что уставилась на меня? Все. Иди работай.
Лицо скрылось.
— Как, подойдет? — теребила бригадирша Кузнецова, пытаясь подвести итог и закруглиться.
— Да вроде ничего, — неопределенно промычал Кузнецов, не понимая ситуацию.
— Ну так что? — опять заторопила Нефедова.
— Что «что»? — почему-то обозлился Кузнецов и на бригадиршу, и на собственную бестолковость.
— Фу ты, мать-перемать! — начала горячиться Нефедова. — Ты что, совсем недоразвитый? От тебя-то ничего особенного не требуется. Расстегнул ширинку. Раз-два. Вот и все дела. Понял теперь?
— Где это? — совсем смутился бывший фронтовик.
— Да вон там, в углу, — она показала в сторону кучи побитой плитки. — Там лаз есть в кабельный полуэтаж. Вроде подвала. И лестница приставная, и лежанка из досок. Как в «Метрополе», — захихикала она. — Соображаешь?
— Как это? Прямо сейчас? — Николай Михайлович только сейчас уразумел окончательно, какой подвиг от него требуется.
— Господи, как ты воевал такой? — голос Нефедовой выражал нарастающее раздражение. — Мужик ты вроде ничего, добрый. Но голова твердая. Как кирпич.
Кузнецов молчал.
— Понимаешь, Михалыч, не может она с солдатами из охраны. Ненавидит их люто. А потяжелеть ей необходимо. Чтоб режим смягчили… Она и так дохлая. Иначе совсем загнется. Ну?
Кузнецов бросил окурок, притоптал его и решился.
— Не смогу я, Валентина, — выдавил он. — Не получится у меня. Хоть и жалко ее, а не смогу… Не обижайся.
— Ну и вали отсюда! — разошлась бригадирша. — Топай за олифой.
И уже в дверях добавила с тихой угрозой:
— Только помалкивай. И без тебя найдутся…
Два врача, обслуживающих всю лагерную зону, сбились с ног, принимая роды. Четверть женского лагеря забеременела в первые же месяцы. Между тем не было ни родильного отделения, ни детприюта.
Кузнецов возвращался с работы понурый.
Предпраздничного настроения как не бывало.
Когда же начнется настоящая работа? Скорей бы монтаж.
По дороге в барак он забежал в продуктовую лавку за бутылкой. И дома весь вечер огорченно вспоминал: «Зачем он тогда, в сорок пятом, сделал три шага вперед? Кто его тянул?..».
После открытия деления урана в 1939 году все оснащенные физические лаборатории мира превратились в полигоны для испытания и исследования уран-нейтронной реакции. Стимулом являлся не только факт выделения огромной энергии в процессе деления каждого ядра, но и расчет баланса нейтронов в момент самой реакции.
Вскоре ученые пришли к выводу, что при бомбардировке урана медленными нейтронами, имеющими скорость теплового движения молекул в газах, число высвобождающихся нейтронов на один акт деления равно примерно двум или трем. Итак, два осколка и два с половиной новых нейтрона.
А это означало, что вновь рожденные нейтроны могут вызвать новые деления. Процесс, начавшись от постороннего источника нейтронов, может превратиться в цепной и лавинообразный. Такой процесс был бы подобен адскому взрыву, поскольку выделяемая при этом энергия будет тысячекратно превышать по своей мощности и взрывной силе все известные взрывчатые химические вещества.
Однако в естественном уране никакого взрыва не происходит даже при инициации с помощью посторонних источников нейтронов. Какие-то факторы препятствуют развитию цепной реакции, уменьшая коэффициент размножения нейтронов с двух с половиной до спасительной величины, очевидно, не превосходящей единицы.
Прежде всего, причина заключется в разных ядерных свойствах тех изотопов, из которых состоит природный уран. 99 % принадлежит изотопу с атомным весом 238 и 0,7 % — изотопу с атомным весом 235.
По химическим свойствам эти изотопы идентичны, но их наличие значительно усложняет физическую картину уран-нейтронного взаимодействия. В феврале 1939 года датский ученый Нильс Бор пришел к заключению, что медленными нейтронами делится только уран-235, а не основной изотоп урана — с атомным весом 238.
Советские ученые Харитон и Зельдович в том же году пришли к выводу, что условия, требуемые для цепной реакции, «не могут осуществиться в уране-238, будь то окись урана или чистый металлический уран». Но выход есть: «Достаточно повысить в уране концентрацию изотопа 235, чтобы реакция оказалась возможной».
Однако задача разделения изотопов или обогащение урана более легким компонентом казалась в то время трудноразрешимой. Химическим путем это сделать невозможно. Рассортировать же атомы, используя очень незначительную разницу в их массах, казалось почти фантастикой. А между тем, получение чистого урана-235 сразу решало бы проблему.
Американский ученый Поллард писал в 1942 году:
Невозможность получения цепной реакции в природном уране объясняется не только малым относительным содержанием делящегося изотопа — всего 0,7 %. Дело оказалось гораздо сложнее.
Наибольшую вероятность вызвать деление ядра урана-235 имеют медленные нейтроны с тепловыми скоростями. А в самом акте деления рождаются два с половиной быстрых нейтрона, имеющих скорости в сотни и тысячи раз выше.
Уран-238 тоже взаимодействует с нейтронами. Но его ядра не делятся, а, захватывая нейтрон, превращаются в конечном итоге в новый трансурановый элемент № 94, не существующий в природе. Впоследствии он получил название «плутоний».
Именно это радиационное поглощение нейтронов ураном-238, до того момента, когда они успеют замедлиться и вызвать деление ядра урана-235, является основным отрицательным фактором, мешающим осуществлению цепной реакции в природном уране.
В поисках путей, улучшающих условия протекания цепного процесса, Ферми и Сцилард высказали в 1940 году перспективное предложение: ускорять процесс замедления рождающихся быстрых нейтронов с помощью специальной добавки к урану легких химических элементов.
При столкновении с легкими атомами процесс замедления нейтронов будет протекать в десятки раз быстрее, чем это происходит при столкновении с тяжелыми ядрами урана. Добавки могут значительно увеличить вероятность замедления нейтрона, избегая паразитного захвата ураном-238. В качестве подобных замедлителей рассматривались бериллий и вода — обычная или «тяжелая».
Но фактически первая искусственная цепная реакция была достигнута с использованием в качестве замедлителя углерода (графита). Это была так называемая уран-графитовая сборка, запущенная в действие под руководством Ферми в Чикаго, в декабре 1942 года.
Другими факторами, уменьшающими вероятность достижения цепной реакции, являются: поглощение нейтронов различными естественными примесями, содержащимися в уране и графите, а также холостая утечка нейтронов через боковую поверхность сборки в окружающее пространство.
Уменьшить влияние первого фактора можно с помощью тщательной технологической очистки от посторонних примесей исходных материалов: урана и графита. Смягчить второй фактор можно с помощью увеличения объема и массы урановой системы и придания ей наиболее оптимальной формы — близкой к шарообразной.
Все эти трудности были преодолены впервые в США, в 1942 году.
Такая уран-графитовая сборка сверхкритических размеров, в которой была впервые достигнута цепная реакция деления, получила в США название «атомный котел». В СССР прижилось название «реактор».
Цепная реакция деления, достигнутая в уран-графитовой сборке, имела не только демонстрационное значение, подтверждающее теоретические расчеты физиков. Пуск урановых котлов имел сугубо практическую и чисто военную нацеленность.
В процессе работы котла часть ядер урана-238 превращается в новый химический элемент — плутоний-239. А он, по теоретическим прогнозам физиков, должен был обладать способностью к делению еще в большей степени, чем уран-235. Иными словами, атомная бомба могла быть не только урановой, но и плутониевой.
К атомному оружию вели два пути: разделение изотопов и получение плутония в уран-графитовом реакторе. Объект «А» в челябинской зоне предназначался для наработки оружейного плутония.
Как показывали теоретические расчеты, проведенные в секретной лаборатории № 2 под руководством Курчатова, цепная реакция в реакторе «А» при требуемой тепловой мощности 100 мегаватт может быть достигнута при использовании в сборке примерно 100 тонн урана и 1000 тонн идеально чистого графита.
При оптимальной с физической и конструкторской точки зрения форме — приплюснутый цилиндр — критический размер сборки должен равняться примерно 8 метрам (по высоте и диаметру).
Таким образом, центральной конструкцией «Аннушки» являлся гигантский цилиндр, высотой и диаметром с трехэтажный дом, сложенный из специальных графитовых кирпичей.
В проектных документах он назывался графитовой кладкой.
Внутри кладки должны были быть установлены в виде дискретной решетки детали из металлического урана высшей степени очистки общим весом примерно 100 тонн.
Изготовление фрагментов из металлического урана было освоено на подмосковном заводе в г. Электростали в начале 1946 года. Они имели вид цилиндрических блочков диаметром с толстую свечку и длиной около десяти сантиметров. Отгрузка их в зону намечалась на конец 1947 года.
Вся сложность конструкции уран-графитовой сборки заключалась в том, что выделяемая при делении ядер урана энергия должна была неминуемо вызывать саморазогрев урановых блочков. И если не производить охлаждение, то температура их может возрасти настолько, что они расплавятся и спекутся с окружающим графитом. Это принципиально недопустимо, поскольку надо было иметь возможность не только установить урановые блочки внутрь графитовой кладки, но и потом, после нескольких месяцев работы реактора и накопления в них драгоценного плутония, выгрузить их из реактора и направить на переработку. Иными словами, конструкция должна была позволять сравнительно легко загружать блочки в графитовую кладку и по мере необходимости достаточно просто разгружать их в приемный бункер.
Таким образом, с самого начала проектирования реактора «А» было понятно, что выделяемое ураном во время работы тепло необходимо отводить, постоянно охлаждая блочки потоком холодной воды.
В качестве источника воды планировалось использовать озеро Кызыл-Таш.
Необходимость охлаждения урановых блочков и периодической их загрузки-выгрузки налагала определенные, вполне очевидные требования к конфигурации уран-графитовой решетки.
Из отчета американского ученого Г.Д. Смита «Атомная энергия для военных целей», 1946 г.:
«Оба эти затруднения можно устранить, применив вместо точечной решетки стержневую, и концентрировать, следовательно, уран вдоль линий, проходящих через замедлитель, а не распределять его в отдельных точках. Совершенно ясно, что стержневое расположение удовлетворительно с механической и инженерной точек зрения».
Вынужденный — стержневой — характер урановой сборки был очевиден. Он обусловливал «канальную» конструкцию реактора «А». Графитовую кладку должны насквозь, по направлению оси цилиндра, пронизывать около тысячи узких цилиндрических каналов с находящимися в них урановыми стержнями. Только при такой конструкции появлялась возможность охлаждать уран сквозным потоком воды, пропускаемой под давлением через каждый канал.
Поэтому графитовые кирпичи, из которых должна была монтироваться кладка реактора, были не сплошными, а со сквозными отверстиями диаметром в четыре сантиметра. Смонтировать кирпичи надо было идеально точно, чтобы отверстия в каждом из них совпадали по оси, образуя вертикальные каналы.
Из отчета Смита:
«Выбор нужно было сделать между длинными урановыми стержнями, имеющими преимущество с точки зрения физики ядра, и относительно короткими цилиндрическими столбиками, удобными в обращении».
Действительно, десятки небольших цилиндрических блочков, поставленных в канале один на другой, образуют, по сути дела, тот же длинный урановый стержень. Но зато операции загрузки и выгрузки уранового топлива при этом упрощаются. Американцы использовали в своих промышленных котлах длинные стержни. Наши конструкторы во главе с Николаем Антоновичем Доллежалем сделали выбор в пользу блочков, тем более, процесс их изготовления был уже освоен в 1946 году.
Еще одна проблема заключалась в необходимости надежной защиты урана от коррозии. Дело в том, что непосредственное соприкосновение урана с водой категорически недопустимо. Уран активно реагирует с водой. Их контакт привел бы не только к заражению воды радиоактивными осколками деления, но и к разрушению блоков урана и выносу топливного материала из активной зоны реактора потоком охлаждающей воды.
Технология нанесения защитного слоя на урановый блочок была признана одним из самых больших секретов как американского, так и советского проектов, так как от качества покрытия зависело надежное разделение урана и охлаждающей воды.
Однако не только уран, но и графитовые кирпичи надо было предохранить от непосредственного контакта с водой. Замоченный графит теряет свои превосходные качества замедлителя, увеличивая паразитный захват нейтронов и снижая коэффициент их размножения. Вода является дополнительным поглотителем драгоценных нейтронов. Если в каналах охлаждающая вода была вынужденным элементом, то в самой графитовой кладке ее наличие никак недопустимо.
Поэтому урановые блочки, охлаждаемые водой, должны быть отделены от окружающего графита предохраняющей разделительной трубой технологического канала (ТК).
В качестве материала для труб ТК, как и рекомендовал Г. Смит, был выбран алюминиевый сплав, поскольку алюминий слабо поглощает нейтроны и «только алюминий можно считать пригодным с точки зрения коррозии».
Заказ алюминиевых труб — 1200 штук — был осуществлен на одном из авиационных заводов, но к осени 1947 года еще не был выполнен.
Чрезвычайно сложной была спроектирована биологическая защита реактора.
У Смита читаем:
«Весь котел должен быть окружен очень толстыми стенками из бетона, стали… Вместе с тем должна быть предусмотрена возможность загрузки и разгрузки через эти стены и ввода-вывода воды через них. Защитные укрытия должны быть не только непроницаемыми для радиоактивного излучения, но и газонепроницаемы, так как воздух, подвергшийся облучению в котле, становится радиоактивным».
Верхняя (над графитовой кладкой) и нижняя (под кладкой) биологическая защита «Аннушки» предусматривалась в виде двух рядов стальных двутавровых балок высотой в человеческий рост, засыпанных в пазах слоями песка и железной руды с примесью бора.
По периметру графитового цилиндра была запроектирована боковая биологическая защита в виде девяти металлических отсеков (каждый объемом с однокомнатную квартиру), которые должны были заполняться водой.
Все это гигантское сооружение необходимо было окружить дополнительной двухметровой защитой из тяжелого бетона.
Верхняя часть технологических каналов («головки») располагалась на уровне земли, образуя часть пола в Центральном зале над реактором.
Чтобы можно было безопасно ходить по головкам каналов во время эксплуатационных и ремонтных работ, каждый ТК закрывался сверху еще 15-килограммовым кирпичом из свинца. Все эти съемные кирпичи в совокупности образовывали свинцовую крышку атомного котла. Каждый кирпич был обозначен, как и каждый ТК, четырехзначным номером.
Кроме того, дополнительной защитой реактора являлся окружающий его скальный грунт, в вырытом котловане которого и производился весь монтаж реактора.
Проект вертикального аппарата «А» был выполнен специальным отделом НИИХиммаша и утвержден после согласования с Курчатовым в августе 1946 года. Тогда-то ПГУ и начало осуществлять заказы на изготовление специальных конструкций, арматуры, приборов и всего необходимого для монтажа оборудования.
Но осенью 1947 года большая часть еще не была изготовлена. Часть — на подходе. Часть — отгружалась. Что-то уже прибыло и размещалось в складских помещениях. В котловане заканчивались бетонные работы и монтаж каркасных и несущих конструкций. Через два-три месяца планировалось начать сборку графитового цилиндра. О пуске же реактора в конце года не могло быть и речи.
В начале ноября 1947 года обстановка на стройке была крайне нервозной: со дня на день ожидали второго инспекционного приезда Берия.
Перед отъездом Берия в плутониевую зону Сталин демонстративно спокойно (что означало крайнее недовольство и скрытую угрозу) напомнил ему, что «наша бомба» должна была быть испытана в следующем году.
Берия это напоминание испугало. При реально существующем темпе строительства реактора «А» говорить об испытании бомбы в 1948 году — просто утопия. Он знал, что Царевский и Славский прилагают максимум усилий для ежедневного поддержания бешеного темпа строительства.
И все-таки по мере приближения поезда к Кыштыму Берия все более нервничал и раздражался по мелочам. Назревало горячее желание вылить свой гнев на кого угодно, на любого, кто попадется под руку: на Царевского или Славского. Однако то, что Берия увидел на стройке «А», приятно поразило его. Подобного размаха строительных работ он никогда не видел. Только сейчас он оценил по-настоящему грандиозные масштабы строительства и нечеловеческие темпы, помноженные на четкую организацию работ.
Там, где три месяца назад зияла огромная черная дыра, бетонные блоки и перекрытия выделили уже всю подземную архитектуру реакторного сооружения. Рядом возвышалось хоть и не достроенное до конца, но возведенное и частично отделанное трехэтажное здание для управленческого и административного персонала.
Берия сопровождала большая группа объясняющих, отчитывающихся и охраняющих. Царевский и Славский на все сумбурные вопросы Берия давали четкие, ясные и исчерпывающие ответы. Как ни странно, это еще более раздражало его: все идет своим законным ходом; последний график работ, утвержденный Ванниковым, выполняется; никто не жалуется друг на друга. Не жалуются даже, как это бывало почти всегда, на заводы-изготовители, на задержку с поставкой или отгрузкой оборудования. В административном здании женщинам было приказано временно прекратить отделочные работы и вылизать все готовые помещения до стерильного блеска. Правда, Кузнецов, проверявший свой участок, — левое крыло здания — при добросовестном исследовании состояния полов и стен обнаружил кое-где нацарапанный мат в адрес лагерных начальников; но вовремя устранил «опечатки» совместно с Нефедовой.
Почти стопроцентная готовность многих помещений и гулкая тишина в здании тоже почему-то раздражали Берия. В заключительной беседе с руководством комбината он нашел логическое обоснование для своего недовольства:
— На кой черт мне ваши раскрашенные пультовые помещения и кабинеты? Меня интересует прежде всего не здание реактора, а сам реактор. Графит — на складе. Через два месяца реактор должен находиться в монтаже. Надо увеличить число работающих — Царевский и Шутов отвечают за это. Кого надо подключить из специалистов — напишите подробную докладную. Если в январе не начнете складывать графитовый котел, пеняйте на себя. Все!
Берия сказал «все», но, услышав какой-то общий облегченный вздох присутствующих, вдруг вспомнил о строительстве радиохимического завода и приказал доставить его туда немедленно.
Строительная площадка завода «Б» была уже выгорожена. Все предварительные «проволочные» работы выполнены Царевским и Шутовым в полном объеме. Но сам будущий химический гигант предстал перед глазами Берия в виде котлована, роющегося под фундамент. Уяснив, что готовность завода должна быть обеспечена примерно через полгода после пуска реактора, Берия успокоился. Спросил об эксплуатационном персонале. Для реактора предполагалось использовать опытный персонал, работающий на экспериментальном реакторе Ф-1 в физической лаборатории Курчатова.
Для завода «Б» требовалось эксплуатационного персонала раз в пять больше. Две-три тысячи. И набирать его предполагалось из числа молодых специалистов химических факультетов нескольких университетов и техникумов. Берия посоветовал не тянуть с набором персонала, не откладывать это дело до наладочного периода:
— Через полгода завозите. Доучивайте на месте. Пусть сами непосредственно тоже участвуют в монтаже и наладке.
Славский и Царевский поддакивали и мотали на ус все сказанное, особенно те фразы Берия, в которых так или иначе фигурировали конкретные сроки.
Провожали председателя СК узким кругом. Все были удовлетворены результатом инспекции, поскольку никаких угрожающих персональных предостережений Берия не сделал. Это считалось благополучным исходом…
Когда кортеж машин подъехал к железнодорожной станции, платформа пустовала. Поезд почему-то не был подан. Шутов громко и грозно, на слух всем присутствующим, накинулся на начальника станции.
Тот бегал вдоль путей и трясся весь в поту от нервного напряжения.
Что же случилось с составом?
Несколько раз начальник станции подбегал к группе важных людей, в центре которой молчаливо поблескивал стеклами очков великий человек в черной шляпе, с мерзнущими ушами.
— Сейчас-сейчас… Сию минуту будет, товарищ Берия, — подобострастно шептал начальник станции.
Когда подали вагон и Берия уже встал одной ногой на высокую подножку, станционник услужливо попытался придержать тяжелого Берия под локоть.
Удар ботинка пришелся ему прямо в зубы.
Немой удар, без слов и объяснений. И потому тем более обидный.
Паровоз загудел и натужился. Берия улыбнулся и поднял мясистую ладонь в знак прощания с руководителями плутониевой зоны.
Те в ответ срочно приподняли зимние шапки и замахали руками.
Как только короткий состав покинул платформу, все начальники, удовлетворенные окончанием инспекции, пошли к машинам.
На платформе стоял одинокий человек.
Смотрел вслед уходящему поезду. Когда последний вагон скрылся из виду, он приложил платок к кровоточащим деснам и пошел в станцию…
Сытно пообедав и отдохнув на любимом диване с резьбой несколько часов, Берия мысленно принялся за неотложные дела.
Славского с должности надо убрать. Перевести куда-нибудь. Можно в главные инженеры. А директором комбината, наверное, надо назначить более дисциплинированного человека, с военной закалкой. Например, Музрукова. И хозяйственный опыт есть: директор Уралмаша. Борис… как его… Борис Глебович. Да, надо сразу по приезде в Москву оформить это дело. Их всех надо периодически трясти и трясти. Засидятся — успокаиваются. Надо, надо трясти.
И еще. Почему из ПГУ наезжает в зону только Завенягин? А Ванников? А Курчатов? Надо гнать их туда, в зону, немедленно. На постоянное место работы, вплоть до отбоя. Хватить им сидеть в теплых московских кабинетах.
Пожелания Берия, высказанные вслух или зафиксированные в виде кратких резолюций на отчетах или докладных записках, немедленно трансформировались в протокольные пункты решений СК или в приказы Ванникова.
29 ноября 1947 года директором комбината № 817 был назначен Герой Социалистического Труда, директор Уральского машиностроительного завода генерал-майор Борис Глебович Музруков. Славский был переведен на должность главного инженера.
В декабре 1947 года Курчатов провожал с Казанского вокзала спецсостав, состоявший из товарных и пассажирских вагонов. В плутониевую зону отправлялись ближайшие помощники Игоря Васильевича по лаборатории, непосредственно участвовавшие в 1946 году в пуске первого в Европе экспериментального уран-графитового реактора. Они везли с собой электронные приборы и лабораторное оборудование, необходимое для проверки на месте чистоты и качества поступающих урановых блочков и графита. Кроме того, была погружена в специальные ящики и опломбирована пусковая аппаратура, необходимая для контроля нейтронного потока при разгоне реактора с нулевого уровня мощности, т. е. фиксирующая начало цепной реакции.
Курчатов трогательно прощался с друзьями, обещая подъехать к ним для помощи и научных консультаций в ближайшее время. Он думал, что его участие в пуске комбината ограничится научными командировками в зону.
Однако Берия смотрел на этот вопрос по-иному.
Из протокола № 55 заседания Специального комитета от 27 февраля 1948 года:
«1.1. Для обеспечения на месте всех мероприятий по подготовке к пуску и пуска в эксплуатацию комбината № 817 в установленные Правительством сроки командировать начальника Первого главного управления т. Ванникова и акад. Курчатова на комбинат № 817 на период подготовки и пуска комбината.
Поручить т. т. Ванникову и Курчатову решение совместно с т. Чернышевым всех технических, организационных и прочих вопросов, связанных с выполнением указанных задач…».
Отныне рабочим местом Ванникова и Курчатова становилась плутониевая зона.
Борис Львович был слаб после недавно перенесенного инфаркта. Чтобы не утруждать себя ежедневными утомительными поездками от жилого поселка к объекту «А», Ванников с Курчатовым временно устроились на житье в холодном и неуютном вагончике возле станции Кыштым. Но уже через месяц их переселили в удобный трехкомнатный коттедж, хорошо отапливаемый, обставленный мебелью, с душем и туалетом.
С приездом в зону ежедневные утренние оперативки со строителями и монтажниками Ванников начал проводить лично.
Присутствие на них Музрукова, Славского, Курчатова, Царевского и Шутова было обязательным. По своему характеру эти оперативки напоминали штабные заседания перед началом армейского наступления. Все выступавшие обязаны были говорить коротко, четко и только по существу порученного дела.
Дела в зоне быстро продвигались к началу монтажа графитовой кладки.
Берия не забыл и об укомплектовании низового звена комбината рабочими кадрами.
Протоколом № 55 заседания СК от 27 февраля 1948 года планировалось произвести срочное «выделение 2700 человек молодых рабочих из числа специального набора (военнообязанных) и окончивших школы Ф30».
Отдельный пункт протокола касался будущего эксплуатационного персонала радиохимического завода «Б».
«1. в) Поручить т. т. Ванникову, Мешику и Борисову в суточный срок уточнить количество специалистов из числа оканчивающих техникумы по химическим машинам, аппаратам и установкам, подлежащих откомандированию в Первое главное управление от министерств химической промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и Главного управления кислородной промышленности…
Председатель Специального комитета
при Совете Министров СССР Л. Берия».
Поскольку Ванников и Курчатов, а в качестве приглашенных — Музруков, Чернышев и Царевский, обязаны были периодически присутствовать на заседаниях СК, Берия обязал «министра путей сообщения т. Ковалева выделить один специальный пассажирский вагон… с передачей его на баланс Первого главного управления… для обслуживания научных работников».
В связи с планируемым в начале января 1948 года резким увеличением на комбинате количества вольнонаемных рабочих и служащих Мешик инициировал обсуждение в СК вопроса «об организации политуправления в Первом главном управлении и политотделов на его предприятиях и в учреждениях».
Из протокола № 51 заседания СК от 12 января 1948 года:
«IV… Считать необходимым на ближайшем заседании СК более подробно обменяться мнениями по данному вопросу.
Поручить т. т. Первухину, Завенягину, Мешику дополнительно проработать вопрос об обеспечении руководства партийными организациями предприятий и учреждений Первого главного управления через систему парторгов ЦК ВКП(б)».
Март 1948 года…
Метель слепила глаза… А днем было так тепло, что снежные сугробы начали бурно подтаивать. Кое-где появились ручейки. Но для настоящей весны было слишком рано. Николай Михайлович поежился и в первый момент потянулся обратно в свою натопленную комнату. «Дрянная погода, — подумал он, — схожу в другой раз». Но потом взял себя в руки, натянул пониже ушанку. Решил, значит, решил. Надо выполнять. Тем более, доверили.
Настроение у Кузнецова с приближением монтажа графитовой кладки и других конструкций реактора улучшалось день ото дня. Его включили в наладочную бригаду механиков. Монтажный аврал захватил его, как вихрь. Несколько дней назад его «наградили» почетной партийной нагрузкой: поручили шефство над женским общежитием № 2.
В зону начали завозить девушек после окончания химических вузов и ребят-механиков после техникумов. На объекте «Б» начал формироваться коллектив эксплуатационников: аппаратчиц, операторов, ремонтников. К пуску завода их ожидалось около двух тысяч.
— Молодежи надо помочь, — наставлял Николая Михайловича партгрупорг Серегин, — осесть на новом месте, обжиться… потом, нельзя же выпускать их из-под контроля, понимаешь? Чем они дышат, их настроение, досуг — надо знать все. Мы же за них в ответе.
Кузнецов и сам прекрасно понимал: за неуравновешенной современной молодежью нужен глаз да глаз. Вот и вышел в воскресный вечер на первый обход, произвести разведку.
Общежитие находилось в том же квартале, в одноэтажном бараке. Кузнецов распахнул входную дверь в торце, ввалился в общий коридор, оттопал снег с ботинок, энергично помахал ушанкой над полом. Огляделся. Обстановка просматривалась с трудом через тусклое свечение одинокой сорокаваттной лампочки.
В дальнем углу — печка, рукомойник и узенькая дверь в туалет. По правую руку, у стены — напиленные дрова, ведра, тряпки. У печки на трех веревках — женское белье.
Слева — четыре одинаковые двери. За каждой из них устроились по две-три девушки из Воронежа или Горького. Первые две комнаты Кузнецов посетил мимолетно, несколько смущаясь своей роли. Обежал быстрым взглядом общую обстановку и сделал несколько заготовленных замечаний. В третьей Николай Михайлович, осмелев и освоившись, решил задержаться. Разведать все поосновательнее.
— Здравствуйте, девоньки! — Кузнецов неуклюже ввалился сразу же после решительного стука и ответа «можно, можно». — Не ждали?
Две девушки дружно взвизгнули от неожиданного появления недобритого мужчины подозрительной наружности. Одна из них привстала с кровати, торопливо застегивая блузку под шерстяной кофтой. Другая, схватив косынку с прикроватной тумбочки, прикрыла самодельные бигуди. Третья, постарше, сидевшая за столом перед толстым открытым учебником, даже не шевельнулась. Только вопросительно посмотрела в его сторону.
— Я к вам от рабочего коллектива объекта «А», — представился Кузнецов, — направлен для оказания общественной помощи.
— Мы очень рады, — холодно произнесла ученая девушка. — Таня, ты не ойкай, а подай нашему старшему помощнику стул. И помоги раздеться.
Кузнецов уселся поудобнее, положив руки на колени и придирчиво оглядывая санитарное состояние комнаты. Острый глаз бывшего фронтовика не улавливал очевидных изъянов. Вокруг было чисто и прибрано. Кровати аккуратно застелены. Стол не завален мелочами, покрыт чистой клеенкой с бесчисленными серпами и молотами. Окошко занавешено постиранными и выглаженными тряпочками с красными маками. Художественным оформлением стен Кузнецов тоже остался доволен. Цветной портрет товарища Сталина в парадной военной форме разумно выделялся рядом с выцветшим лицом бородатого ученого по фамилии Менделеев. Как и в первых двух комнатах — явное нарушение ТВ в связи с установкой на кирпичах электрического «козла». Это замечание Николай Михайлович решил придержать на потом.
— Вы уж представьтесь нам, пожалуйста, — предложила старшая, чуть отодвинув от себя книгу.
— Обязательно. Николай Михайлович Кузнецов, — он сделал паузу и улыбнулся. — На заводе меня многие зовут просто Михалыч. Можно и так.
— Николай Михайлович, — защебетала округлая девушка с рыжими волосами в бигуди, — а что же вы заранее не предупредили нас о вашем визите? Мы бы приготовились, принарядились.
— Вас как, извините, зовут? — повернулся к ней Кузнецов. — Ах да, Таня. Так вот, Татьяна, разведка всегда производится без предупреждения. Скрытно и внезапно. Ясно?
— Ясно! — улыбнулась Таня. — А теперь, товарищ, Кузнецов, доложите коротко о результатах разведывательной операции. Где передний край обороны? Численность противника?
Кузнецова не обидела девичья насмешка. Но старшая решила вступиться.
— Не ерничай, Танька! — строго произнесла она и протянула руку Кузнецову для дружеского знакомства как фронтовик фронтовику: — Лидия.
Она потеряла родителей в первые же месяцы войны под Смоленском. Своими глазами нагляделась в медсанбате на повседневный кровавый ужас войны. И с тех пор разучилась говорить весело и легко о страшном. Война для Лидии теперь никогда не закончится. Она засела в ней до конца жизни. Наступившая тишина для Лидии была минутой молчания.
— А где же вы воевали, Николай Михайлович? — попыталась разрушить общее неловкое молчание третья девушка, Варвара, с узким лицом и удивительно большими глазами.
— О, это длинная история. Начинал еще под Москвой. А закончил у немцев. Там меня немножко задели. За плечо. Ну это долго рассказывать… Как-нибудь в следующий раз. А вы-то сами откуда будете? — Кузнецов переключился мыслями на сегодняшний день.
Он спрашивал обо всех, но обращался почему-то к Лидии.
Та коротко объяснила, что все они окончили Воронежский университет. По специальности — химики. Распределяли их по путевкам комсомола. Отбирали сюда, на базу № 10, только лучших, почти отличников. Очень спешили. Даже собраться как следует не дали.
— А вот теперь сидим, баклуши бьем. Зарплату получаем, а практически не работаем. Техучеба да техучеба. Читаем «Синюю книгу». Практических занятий нет. Обещают послать некоторых в Москву для освоения технологии работы на лабораторных установках. Но пока только обещают. Вот такие наши никудышные дела. Когда еще начнем работать по-настоящему…
— Ничего, девоньки, не грустите шибко, — успокоительно заверил их Кузнецов авторитетным тоном, — работа еще будет. Невпроворот будет. Это я вам лично обещаю.
Варя поставила перед Кузнецовым стакан горячего чаю, разогретого моментально на противозаконной плитке, несколько кусочков сахара и аппетитные сухарики. Николай Михайлович не отказался. Неторопливо, с удовольствием выпил.
После этого решил приступить непосредственно к выполнению партийного задания Серегина.
— Какие еще жалобы имеются? Может быть, по быту? Девушки пожаловались, что очень холодно в бараке. Обещали
ведь теплые деревянные дома, с отоплением, со всеми удобствами. Когда же будут переселять?
Кузнецов ответа не знал, но обещал выяснить и доложить во всех подробностях.
— А как у вас, девоньки, обстоят дела… с досугом? Что имеем в наличии по данному вопросу?
— А с «досугом» у нас, товарищ Кузнецов, еще хуже, чем с работой, — включилась Таня. — В наличии только танцы по субботним вечерам в клубе «Родина».
— И все? — удивился Николай Михайлович вслух, хотя в душе считал, что и этого вполне достаточно для начала жизни на новом месте.
— Да. И все, — подтвердила Таня. — Да и то, что за танцы? Шум и гам сплошной. Патефона совсем не слышно. А баянист один на два вальса. «На сопках» и «Волны». А западные танцы, говорит, мне не разрешают.
— Что ж уж так строго? — заинтересовался Кузнецов. — Почему не разрешают? Я, например, пробовал… Танго и слоу-фокс. В Германии, например.
— Говорят, вредное влияние, — обиженно надула толстые губки Таня.
— И обстановка там, — поддержала ее Варвара, — знаете ли… Ребята подвыпившие. Курят тут же. В прошлый раз драку затеяли. Настроение на весь вечер испортили.
— Причина? — продолжал выяснять обстановку с досугом Николай Михайлович. — Из-за чего подрались?
— Из-за нашей Тани подрались, — пояснила Варвара.
— Да брось ты, Варя.
— Чего бросать? Так и было. Андрей-то в первый раз пришел. Вот они и размялись на нем. Избили нос в кровь… Забрали всех в милицию. А Таня теперь переживает за него. И скучает.
— Ну, уж ты скажешь, Варя. Прямо вот и скучаю.
— Да-да. Докладываю вам как шефу: Таня по Андрею скучает. Между прочим, Андрей где-то у вас на «А» работает. Строитель или механик… Он после техникума.
— Вот вам, Николай Михайлович, и вторая просьба от подшефного коллектива, — вступила в разговор молчаливая Лидия, — найти нашего «жениха» по имени Андрей. Как, справитесь с задачей?
— Найдем обязательно, — пообещал Кузнецов, — не соринка же.
Он деловито извлек из внутреннего кармана обтрепанный блокнот с заложенным огрызком карандаша. Записал: «Найти Андрея», приговаривая при этом:
— Тем более есть примета — нос разбитый… Найдем.
— Вот, вот, — поддержала Лидия, — скажите ему, что ждем в гости. Общежитие № 2, комната три. Входить без стука. В любое время дня и ночи.
Кузнецов начал собираться. Для первого знакомства и этого было вполне достаточно…
Ровно через неделю, тоже воскресным вечером, в дверь осторожно постучали.
«Опять, наверное, наш шеф», — подумала Лидия, открывая гостю.
Но это был не Кузнецов. На пороге стоял высокий черноволосый парень с букетом из еловых веток и небольшим затухшим синяком под левым глазом.
— Татьяна! Это, кажется, к тебе! — произнесла Лидия с удивлением и сделала шаг назад. — Проходите, пожалуйста, Андрей.
К началу марта 1948 года все бетонные работы и монтаж несущих каркасных конструкций внутри котлована были завершены. 6 марта планировалось начать сборку тысячетонной графитовой кладки. За несколько недель необходимо было смонтировать гигантский цилиндр из графитовых кирпичей высотой в трехэтажный дом.
Директор комбината Борис Глебович Музруков прибыл вместе с Курчатовым и главным инженером Славским на объект «А» для проведения небольшого, но торжественного рабочего митинга. Курчатова по фамилии рабочие не знали, но по его осанке, поведению и тону отдаваемых распоряжений или высказываемого мнения все чувствовали, что этот бородач — один из главных. «Какая-то московская ученая птица», — говорили о нем.
Игорь Васильевич привык уже к своей законспирированности и вышел на импровизированную трибуну без представления. Ему очень хотелось сказать собравшимся монтажникам и рабочим объекта что-то по-человечески теплое, задушевное. Он знал, в каких тяжелых барачных условиях они проживают в зоне.
И предстоит им еще такая тяжелая, опасная для здоровья работа, о которой они не подозревают. Что Курчатов мог произнести, кроме пафосных обещаний?
«Здесь, дорогие мои друзья, наша сила, наша мирная жизнь на долгие-долгие годы. Мы с вами закладываем промышленность не на год, не на два… на века. «Здесь будет город заложен назло надменному соседу». Надменных соседей еще хватает, к сожалению. Вот им назло и будет заложен! Со временем в нашем с вами городе будет все — детские сады, прекрасные магазины, свой театр, свой, если хотите, симфонический оркестр! А лет через тридцать дети ваши, рожденные здесь, возьмут в свои руки все то, что мы сделали. И наши успехи померкнут перед их успехами. Наш размах померкнет перед их размахом. И если за это время над головами людей не взорвется ни одна урановая бомба, мы с вами можем быть счастливы! И город наш тогда станет памятником миру. Разве не стоит для этого жить?».
Раздались дружные аплодисменты.
«Про урановую бомбу — это он лишнее. Болтлив несколько», — подумал Шутов.
Вечером Ванников доложил по ВЧ в Специальный комитет лично Берия о начале монтажа графитового цилиндра.
Аврал на пусковом объекте «А» напоминал боевую операцию, в которой мелкие неудачи, срывы и потери — не в счет. Звонки в Москву напоминали оперативные сводки с поля боя.
К концу мая в установленные технологические трубы началась загрузка свежих урановых блочков. После загрузки 32 тонн урана котел достиг критического состояния, но при обезвоженных каналах. Наличие охлаждающей воды требовало дозагрузки топлива.
Наконец, 10 июня в восемь часов вечера котел был запущен в рабочем режиме. Мощность поднята до одного мегаватта. Хотя этот уровень составлял всего около одного процента от проектной мощности реактора, это была почти победа. Утром Ванников улетел в Москву для доклада о пуске первого в Европе промышленного уран-графитового реактора. С собой он увозил докладную, написанную Курчатовым от руки в одном экземпляре и предназначенную для передачи лично в руки председателю Спецкомитета.
«Сов. секретно Только лично Экз. единств. Тов. Берия Л. П.
Докладываем Вам, что 10 июня с. г. в 19 часов после закладки в реактор 72 600 кг урана началась цепная реакция при наличии воды в технологических каналах. Таким образом, окончательно проверены главные исходные данные, лежащие в основе проекта, и впервые в Советском Союзе осуществлена ядерная реакция при наличии охладителя в системе.
С15 июня предполагаем начать набор мощности котла…
В дальнейших сообщениях шифрованными телеграммами набор мощности будет сообщаться условно, как достигнутый уровень воды в отстойном бассейне…
И. В. Курчатов, Б. Г. Музруков, Е.П. Славский».
Курчатов все дни подъема мощности почти не покидал здания «А». Более всего он опасался неполадок в системе охлаждения, что могло бы привести к расплавлению от саморазогрева урана отдельных каналов.
17 июня в оперативном журнале начальников смен он сделал строгую предупреждающую запись:
«Начальникам смен! Предупреждаю, что в случае остановки подачи воды будет взрыв, поэтому ни при каких обстоятельствах не должна быть прекращена подача воды… Необходимо следить за уровнем воды в аварийных баках и за работой насосных станций».
19 июня в 12 часов 45 минут реактор впервые был выведен на проектную мощность 100 мегаватт. В тот же день была подготовлена торжественная реляция на имя Сталина.
В реакторе бушевало невидимое и невиданное ядерное пламя. Многие миллиарды триллионов делений ядер урана происходили каждую секунду в небольших цилиндрических блочках, разогревающихся от разлетающихся внутри них осколков до 500°. Вода, охлаждавшая каналы, едва не вскипала на выходе, нагреваясь до 90°. Нейтроны, возникающие при каждом делении, выстреливались во все стороны и замедлялись после десяти-двенадцати соударений с атомами графита до тепловых скоростей, чтобы в соседнем канале вызвать новые и новые деления.
Неприкосновенные и неделимые атомы, считавшиеся неприступным бастионом природы, мириадами раскалывались под напором собственных же нейтронов. В своих дерзновенных исканиях человек без спроса Создателя вторгался в тайные кладовые мира Природы. Запасенной внутри атомов энергии, сохраненной с начала сотворения мира, казалось, не будет конца. В этот миг восторженной гордости Курчатову хотелось воочию, своими глазами увидеть эту неисчерпаемую энергию. Через несколько часов после выхода на мощность кавалькада машин, утрамбованных первыми руководителями объекта «А», двинулась на берег озера Кызыл-Таш, к месту сбросного канала. Они увидели то, что хотели увидеть, и это ошеломило их.
Из воспоминаний главного инженера объекта «А» В.И. Меркина, 1996 г.:
«В сущности, целая река горячей парящей воды безостановочно сливалась из аппарата «А» в водную массу озера. Стаями взлетали и садились на потеплевшую водную гладь озера радостно раскричавшиеся птицы. И тут мне особенно ярко высветилось, что мы в самом деле реально владеем небывалым, огромным источником атомной энергии, который до этого времени нам являлся только в мечтах.
Побежали мысли: бери и используй».
Однако некоторых из присутствовавших тогда на берегу озера Кызыл-Таш эта атомная энергия — в виде тепла — особенно не интересовала. Они знали истинное назначение объекта «А» — наработка оружейного плутония. Все остальное сейчас — эпизодические эмоции во время перекура на берегу озера в теплый солнечный день. Главная цель — там, в реакторном зале, внутри активной зоны, в гуще урановых блочков, где в промежутках атомных делений некоторые ядра урана-238, захватывая нейтроны, превращаются в плутоний. Там, в недоступном радиоактивном огне, уже началось накопление будущего ядерного заряда для первой бомбы. Но только три человека из присутствующих знали точные количественные параметры: сто грамм плутония в день! Три килограмма в месяц. С учетом вынужденных остановок и вероятных аварий через 4–5 месяцев плутония накопится вполне достаточно для первой советской бомбы РДС-1 — «ракетного двигателя Сталина».
Шутов был крайне разочарован первым годом работы в зоне. Все было совсем не так, как он представлял в мечтах и прогнозах. Павел Анатольевич знал, как хорошо была поставлена наша атомная разведка. Из Англии и США постоянно поступала от резидентов ценнейшая информация о всех практических и теоретических достижениях американского проекта. Она поступала не только из научного центра в Лос-Аламосе, но и из закрытых промышленных объектов Хэнфорда и Клинтона. Шутов непроизвольно выстраивал внешне очень логичную аналогию. Он допускал наличие диверсантов и американских шпионов внутри плутониевой зоны. И надеялся, что его богатый опыт работы в НКВД позволит вовремя вскрыть любой квалифицированно законспирированный источник утечки информации.
Шутов знал, что за рубежом, в США и Англии, работали не только наши великие и опытные разведчики. Всю информацию нам добровольно и бескорыстно, по собственной инициативе, из уважения к мировому социалистическому эксперименту передавали квалифицированные специалисты. Они искренне считали американскую монополию в области атомной энергии опасной для судеб всего мира.
Шутов, привыкший проводить параллели, считал вполне вероятным появление сочувствующих американскому образу жизни среди наших ученых и конструкторов.
Надежными осведомителями, в том числе и штатными, Шутов располагал в достаточном количестве.
Однако ничего обнадеживающего от них пока не поступало. Многие донесения носили характер мелкой уголовщины, смеси личных обид, преувеличений и просто туфты.
Подумаешь — «в жилпоселке по вечерам раздаются револьверные выстрелы». Стреляют-то вверх. Да Шутов и так знал, кто стреляет — свои! В основном мужики из управленческого персонала реактора. В свободное от нервной и рискованной работы время среди них царили скука и пьянство. Их пытались отвлечь дополнительной техучебой или поочередным чтением лекций. Однако главным их увлечением оставался ночной преферанс пополам с умеренной пьянкой. Пистолеты многим из них в 1948 году были положены для самообороны. У некоторых имелись охотничьи ружья. Стреляли иногда вечером прямо с жилых балконов: созывали желающих и свободных от работы расписать пульку. Ну и что? Ничего страшного.
Никакого криминала, а тем более шпионской ниточки из подобных фактов не вытянешь. Никаких заговоров и в помине!
Приходилось заниматься хлопотливыми, рутинными мелкими делами. Они съедали весь рабочий день без остатка.
Утром Шутов участвовал в оперативках, которые проводили Ванников и Музруков.
Павел Анатольевич любил посидеть среди начальства, поддакнуть или высказать к слову полезное, рациональное предложение общего характера. Например, о целесообразности кому-нибудь обратить пристальное внимание на что-нибудь. Пару раз он порывался проявить свою техническую смекалку, сунувшись в разговор о порядке организации очередных аварийных работ на реакторе. Славский поморщился, как от зубной боли, а Музруков резко сказал ему: «Занимайтесь лучше своими делами, Шутов». И этим очень обидел Павла Анатольевича, промолчавшего тогда, но затаившего горькую обиду на публичное несправедливое замечание.
День съедали скучные хлопоты.
Более всего досаждали вопросы с охраняемой зоной, периметр которой постоянно увеличивался.
Еще в середине 1947 года СК на своем заседании подробно обсуждал вопрос о режимной зоне завода № 817.
«Принять предложение о создании охраняемой зоны завода № 817 с периметром ориентировочно в 35 км и об отселении поселков, расположенных внутри указанной зоны или на расстоянии 5–6 км от основных объектов.
Поручить комиссии в составе т. т. Мешика (председатель)… с выездом на место уточнить границы охраняемой зоны, а также мероприятия, связанные с созданием зоны (отчуждение земель, переселение из зоны населения), и свои предложения представить в Специальный комитет не позднее 1 июля 1947 г.».
С тех пор периметр зоны несколько раз расширялся. И каждый раз это было связано с переселением или выселением вообще из зоны населения стареньких деревень, состоящих из десятка покосившихся домишек.
Выселение подчас проходило трудно.
Некоторые старики не хотели ничего слушать об отапливаемых туалетах в новых квартирах, о размере выделяемых средств на возмещение убытков и даже о патриотическом долге. Они не хотели выезжать из мест, где знали с детства каждую тропинку в лесу, все грибные и ягодные места, все красивые полянки, где летом ветерком относит комаров и можно посидеть мирно в высокой траве. В конце концов, плюнули на самых упорных и отчаянных стариков, которым было за восемьдесят. Шутов пошел на нарушение режима, решив, что этим мужикам все равно недоступны атомные секреты в связи с абсолютной темнотой и неграмотностью.
Много хлопот доставляла и сама военизированная охрана. Солдаты на караульных вышках подчас недопонимали важность государственного задания. Несанкционированные случаи выхода и входа в зону не через контрольно-пропускной пункт, а через глухие участки периметра наблюдались неоднократно.
Несмотря на профилактические меры, постоянную замену постов и ротацию солдат, сержантов и офицеров войск МВД, охраняющих зону, нарушения продолжались.
Они доводили Шутова до умопомрачения. После нескольких его докладных наверх СК принял по этому вопросу кардинальное решение.
В марте 1948 года СК поручил «комиссии в составе т. т. Абакумова (созыв), Первухина и Круглова в 5-дневный срок рассмотреть вопросы охраны предприятий, лабораторий, конструкторских и проектных организаций, ведущих специальные работы», и представить проект решения для СК, а затем, уже окончательно отшлифованный, — в качестве Постановления Совета Министров СССР.
г. Москва, Кремль
6 апреля 1948 г.
Сов. секретно
(Особая папка)
Совет Министров Союза СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить с 25 апреля 1948 года войсковую охрану специальных объектов… на Министерство государственной безопасности СССР.
2. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) передать…
а) полки 199, 355, 364, 356 и 365, а также отдельные батальоны 39, 530 и 535… (передаче из МВД СССР в МТБ СССР подлежит — по списочной численности — 7301 чел., в том числе генералов — 1, офицеров — 730, сержантов — 1800, солдат— 4700).
При передаче войск… заменить 240 чел., не соответствующих по условиям режима для несения службы на принимаемых объектах.
б) Краснознаменную школу усовершенствования войск МВД СССР им. К.Е. Ворошилова… а также казарменные, жилые и складские помещения, вооружение, автотранспорт и другое имущество, принадлежащее школе…
г) Оперативный состав контрразведки центрального аппарата частей и подразделений, обслуживающих передаваемые войска, в количестве 25 чел…
7. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова): а) передать Министерству государственной безопасности СССР в 1948 г. из очередного выпуска школы служебного собаководства Управления войск МВД… 60 инструкторов с обученными собаками..
Председатель Совета Министров СССР И. Сталин
Управляющий делами Совета Министров СССР Я. Чадаев».
Шутов ожидал этого постановления как манны небесной, поскольку теперь охрана зоны приподнималась на новую качественную высоту и приобретала более весомое значение в глазах руководства комбината.
По вопросам режима директивные указания шли в основном от Мешика. Они касались в первую очередь правил составления научных отчетов и ведения переписки. Тексты кодировались с помощью специальных терминологических словарей, которые были обязаны знать все, от инженера до директора комбината.
«Высококачественные электроды» — таково было условное обозначение графитовых кирпичей для реактора «А».
«А-9» — природный уран.
«Продукт 180», «гидроксилин», «продукт ВТ» — условные наименования тяжелой воды (без разъяснения, когда какое необходимо использовать).
«Z», «аметил» — плутоний.
«Н-9» — радий.
«Кремнил-1» — уран-235.
«Кремнил-6» — шестифтористый уран.
«Б-8» — полоний.
«Увлажненный кремнил» — уран, обогащенный по изотопу ура-на-235.
«БР-10» — урановая руда.
«База-10» — комбинат № 817.
«Объект 501» — условное наименование атомной бомбы РДС-1 (плутониевой).
«Вещество «130»» — тритий.
«Агрегат № 1» — производственный объект «А».
За правильным использованием условных обозначений работникам службы Шутова — инспекторам 1-го отдела — приходилось тщательно следить, обучать инженеров и руководящий состав, принимать у них зачеты по данному вопросу.
Обеспечение порядка при работе с секретной документацией, контроль ведения телефонных переговоров с Москвой, правильного оформления допусков тех лиц, которые принимались на работу, — все это лежало на плечах Шутова.
Перевозка стратегически важных грузов на базу-10, урановых блочков или графитовых кирпичей, тоже требовала повышенного внимания.
Сама перевозка производилась литерными поездами, обычно в составе двух эшелонов разными маршрутами, с тройной переадресовкой в пути следования.
Отвечали за перевозку МВД, МГБ и МПС.
А вот принять груз по прибытии, проверить наличие, проконтролировать складирование и доложить в ПГУ — в этом Шутов принимал участие.
С пуском реактора и развертыванием строительства завода «Б» участились командировки в зону важных научных персон, профессоров и академиков.
Кроме привычной работы, — подслушивания их переговоров и работы с осведомителями — неожиданно появилась дополнительная задача. Оказывается, эти научные светила были чрезвычайно полезны и необходимы стране на данном этапе. А потому их необходимо было тщательно оберегать от различных случайностей, как малых, несознательных детей.
В сентябре 1948 года на комбинат пришел протокол № 69 заседания СК.
«Пункт XV. Об автомобильных авариях…
За последнее время в результате нарушения научными работниками лаборатории № 2… т. т. Панасюком и Арцимовичем правил езды на автомашинах произошли две автомобильные аварии.
Научный сотрудник… Панасюк взял у шофера служебной машины управление автомашиной, не имея на то права. В результате произошла авария, при которой сам т. Панасюк получил тяжелое ранение.
Зам. директора лаборатории № 2 т. Арцимович также взялся управлять автомашиной, что привело к аварии, в результате которой сам т. Арцимович не пострадал лишь случайно.
В целях предотвращения впредь подобных фактов:
1. Обязать руководителей организаций… категорически запретить сотрудникам… управление служебными машинами и принять меры, исключающие возможность передачи шоферами управления автомашиной сотрудникам вне зависимости от их положения и наличия у них прав на вождение машин».
Музруков адресовал документ Ткаченко, уполномоченному Совета Министров на комбинате, и заместителю по охране и режиму Шутову с предложением принять профилактические меры.
Шутову пришлось строго побеседовать с начальником гаража, поскольку Курчатов, Панасюк или этот… главный теоретик в очках, приезжающий то и дело в командировку по вызову Курчатова, тоже могли из прихоти или баловства попроситься за руль.
Порой задания Музрукова носили полубытовой, полусемейный характер:
— Павел Анатольевич, подбери двух достойных женщин из «твоих», которые могли бы квалифицированно и с художественным вкусом оформить в яркие цвета коттеджи наших научных друзей. Как, найдешь?
— Найдем, Борис Глебович. У нас есть выбор. Есть в запасе любые специальности, вплоть до филателистов и жонглеров цирка. Завтра пошлю. С какого коттеджа начинать прикажете?
— Да можно с любого. Давай, начинай с главного, где живет бородатый.
Шутову понадобилось полчаса для селекции.
Елена Васильевна Дементьева — бывший член художественного объединения «Бубновый валет», участница ряда заграничных выставок.
Ольга Константиновна Ширяева — член Союза архитекторов с 1940 года, проектировала ряд монументальных зданий в Москве и Крыму.
Обе сидят по статье 58-1, антисоветская пропаганда. Обе расконвоированы, работают в местном КБ.
«Подходящие», — решил Павел Анатольевич и распорядился за две недели превратить научный городок в яркий цветущий рай: «Чтобы глаза рябило от жизнерадостных красок!».
Музруков воспринял свое новое назначение и переезд в плутониевую зону с философским спокойствием человека, привыкшего за долгие годы единолично руководить промышленным гигантом с десятком тысяч работающих. Объемы производства его нисколько не пугали. Не волновало, а только возвышало в собственных глазах то обстоятельство, что здесь, в зоне, он становился не просто директором комбината, состоящего из трех промышленных гигантов, а истинным хозяином всего города, окруженного охраняемым периметром. На Музрукова возлагалась задача построить не только плутониевый комбинат, но и новый город.
Функции расширялись. Полномочия — тоже. Здесь, в зоне, не было такого жестокого партийного контроля и опеки со стороны горкома или обкома, как в обычных городах. Значение партийного руководства было сведено до минимума, низведено до уровня партгрупоргов низовых ячеек и производственных цехов, которые вытягивались в струнку при одном произнесении его имени.
Эта свобода в решении производственных задач и социально-культурного строительства импонировала Музрукову. За своей спиной он не чувствовал прокисшего, тухлого дыхания партийных бонз.
Он быстро почувствовал себя единоличным администратором зоны, слово которого было законом для всех: строителей, монтажников, эксплуатационников и даже лагерного начальства.
Огромные финансовые средства, выделяемые на строительство, позволяли решать в мгновение ока любые вопросы. Он мог через посредство ПГУ привлекать для выполнения срочных заказов любые предприятия, НИИ и КБ, функционирующие на территории СССР.
Он мог заказать и немедленно получить в любом количестве специалистов любых профессий. Единственным ограничением в его действиях являлась служба режима. Всепроникающая служба контроля, руководимая Мешиком и Завенягиным, которая призвана была жесткими всевластными мерами и методами охранять государственную тайну создания советского атомного оружия.
Музруков в первые месяцы недооценил этот факт. И очень скоро пожалел об этом…
Борис Глебович по специальности и доплутониевому опыту работы являлся металлургом высшей квалификации. Ядерная физика и химия редких элементов, с которыми он столкнулся, были для него чистой страницей.
Ему очень хотелось как можно быстрее самостоятельно освоить эти научные дисциплины, хотя бы в рамках имеющихся учебников для вузов. Но беда в том что этих разделов в советских учебниках физики и химии не существовало вовсе. Специальную литературу по этому вопросу требовалось подбирать, и это мог сделать только специалист.
Кроме того, как это постоянно бывало при переводе «большого человека» на новое место работы, за Музруковым потянулся с прежнего места работы кадровый шлейф из нескольких особенно доверенных и нужных специалистов. Борис Глебович торопился иметь под рукой такого специалиста по химии в лице замначальника заводской лаборатории Уральского машиностроительного завода. Однако существующий режим оформления кадров требовал довольно длительного времени. Два-три месяца неминуемо ушло бы на проверку биографии этого сотрудника и всех его родственников у нас в стране и за рубежом. Оформление специальной формы допуска к работе на комбинате требовало долгого времени.
Музруков торопился. Он знал, что его бывший сотрудник был допущен к секретной работе на машиностроительном заводе. Но не предполагал, сколько разных градаций допусков имеется в практике МВД. Для научной работы в плутониевой зоне необходима была высшая форма допуска, которой сотрудник, конечно, не имел. Музруков, не дожидаясь окончания процедуры режимной проверки, повел с ним личные переговоры, предложив ему лестные условия перехода.
Один из телефонных разговоров Музрукова по обычному телефону и одно из перлюстрированных писем на выходе из зоны были запротоколированы работниками Шутова. Он, конечно, мог бы все прикрыть, поговорив с Музруковым по душам.
Однако Павел Анатольевич надолго запомнил резкий тон Музрукова при произнесении фразы: «Занимайтесь лучше своими делами, Шутов».
«Протокол № 59 заседания Специального комитета при Совете Министров СССР
г. Москва, Кремль
29 марта 1948 г.
Строго секретно
(Особая папка)
…IV. О т. Музрукове (т. т. Берия, Абакумов, Маленков, Вознесенский).
1. Поручить т. Абакумову в 5 — 7-дневный срок произвести тщательную проверку имеющихся сведений о нарушении секретности директором комбината № 817 т. Музруковым и о результатах доложить Специальному комитету.
Вызвать т. Музрукова в Москву для дачи объяснения по имеющимся данным о нарушении им секретности и установленного порядка подбора кадров для специальных объектов.
Вопрос об ответственности т. Музрукова рассмотреть в зависимости от результатов проверки.
2. Обязать т. Музрукова немедленно прекратить пользование частными услугами непроверенных и не допущенных к специальной работе лиц для подбора научных и технических данных по проблеме № 1 и прекратить вербовку на работу разных «знакомых» и прочих лиц без предварительной проверки их в установленном порядке».
Музруков получил копию этого решения и приглашение в Москву одновременно.
Генерал-майор, Герой Социалистического Труда, бывший директор Кировского и Уральского заводов-гигантов, рекомендованный Берия на свой нынешний пост, как прохулиганившийся мальчишка, вызывался для московской порки под очи того же Берия.
На реакторе «А» начиналась ответственная фаза строительства — монтаж уран-графитовой сборки. А он обязан ехать и плаксиво извиняться ни за что ни про что. Борис Глебович переживал, по дороге копил в душе раздраженное оправдание и слова несправедливой обиды. Хорошо, что в процессе заседания СК он спохватился и, испугавшись не на шутку, стал по-детски плаксиво извиняться перед Берия.
Обошлось. Но урок был на всю оставшуюся жизнь: с режимом шутки плохи.
«Протокол № 60 заседания
Специального комитета…
г. Москва, Кремль
5 апреля 1948 г.
О т. Музрукове (т. т. Берия, Музруков, Абакумов, Маленков, Вознесенский, Первухин)
1. Считать установленным, что т. Музруков, будучи назначенным начальником комбината № 817… перед своим отъездом на комбинат допустил легкомысленное, безответственное отношение к соблюдению секретности, выразившееся в том, что:
а) т. Музруков, в нарушение установленного порядка, требующего предварительной проверки кадров при подборе их… на спецобъекты Первого главного управления, вступил в переговоры с заместителем начальника центральной заводской лаборатории Уралмаша Д[…] о переводе его на работу на комбинат № 817 без предварительной проверки возможности допуска Д[…] к работе на комбинате;
б) кроме того, т. Музруков обратился к упомянутому Д[…] и через него к непроверенному лицу некоему профессору С[..], с просьбой подобрать для него литературу по химии редких элементов, в том числе по урану.
Тем самым т. Музруков перед случайными непроверенными лицами Д[…] и С[…] рассекретил характер своей будущей работы и характер работы завода, куда назначен был т. Музруков.
По данным Министерства государственной безопасности СССР, Д[…] характеризуется как человек, не внушающий доверия, и [который] не может быть допущен на работу в системе Первого главного управления, а С […], связанный с Д[…], — как человек, имеющий подозрительные связи.
2. Принять к сведению заявление т. Музрукова о том, что:
а) Д[…] он знал по работе на Уралмаше как инженера-химика, допущенного к секретной работе, и, вступая в переговоры с Д[…] о переходе на работу, он руководствовался только мотивом подбора на комбинат № 817 квалифицированных работников.
С[…] он лично не знаком и с ним непосредственно никаких переговоров не вел;
б) в представленном им письменном объяснении и в объяснении, устно изложенном на заседании Специального комитета, он сообщил все факты и обстоятельства по данному вопросу и признает свою ошибку и вину.
3. Объявить начальнику комбината № 817 т. Музрукову Б.Г. за безответственное, легкомысленное отношение к соблюдению секретности строгий выговор и предупредить т. Музрукова о том, что он будет привлечен к уголовной ответственности в случае нарушения им правил секретности в дальнейшем.
Внести настоящее решение в виде проекта Постановления Совета Министров СССР на утверждение Председателю Совета Министров СССР товарищу Сталину И. В.
Председатель Специального комитета при Совете Министров СССР Л. Берия».
Рукой секретаря СК В. Махнева слово «квалифицированного» зачеркнуто с подстрочным примечанием: «Исключено по предложению т. Вознесенского».
Музруков возвращался в плутониевую зону с одной и той же крутящейся в голове фразой: «Сука ты, Шутов». Но при въезде в зону через КПП примирительно подумал: «У каждого своя работа…».
14
Андрей Пташников зачастил в гости к девушкам. Приходил каждый воскресный вечер. И не с пустыми руками, а всегда с каким-нибудь общекомнатным хозяйственно-полезным предметом. Во второе посещение он принес деревянные настенные часы с резьбой по бокам, кукушкой наверху и длинной цепью, заканчивающейся тяжелой коричневой гирей в виде еловой шишки.
— Это чтобы видеть наяву, когда мне уходить пора, — пояснил он девушкам.
И тут же принялся прибивать часы к стене, между Сталиным и Менделеевым.
Прослышав в этот день краем уха о тайном желании Варвары «оживить» освещение в комнате, исходившее от одинокой лампочки, болтающейся на скрученных проводах, Андрей через неделю притащил огромный абажур ярко-красного цвета.
После девичьих вздохов, реплик удивления и некоторого разочарования ядовитым цветом ему пришлось долго оправдываться из-за неудачной «в семейном отношении» окраски тончайшего шелкового купола и мохнатых кисточек, изготовленных на областной челябинской фабрике имени Парижской Коммуны.
— Ну не было оранжевых, понимаете? Не было, — объяснял он, несколько даже горячась. — Не покупать же зеленый, когда кругом из без того сплошная зеленая тайга.
Андрей немножко хитрил. Он не стал выдавать приветливую продавщицу из нового магазина «Хозбыттовары». А ведь это именно она настойчиво советовала ему: если уж брать, то непременно именно этот «оживляющий» цвет. У нее хорошо разбирали абажуры всех цветов, кроме красного — «оживляющего». Но Андрею теперь показалось неудобным валить всю вину на работника прилавка. Вешать абажур немедленно ему отсоветовали девчата. И на следующий день, после небольшого скандала с продавщицей и угроз дойти до начальства, Лидия обменяла красный подарок на желтый…
Андрей окончил механический техникум в Кинешме. В группе он не был шумным заводилой, но пользовался исключительным уважением из-за огромной физической силы, доставшейся ему от природы.
Среднетехническое образование Андрей считал вполне достаточным для уверенного самочувствия в будущей жизни и для посильной материальной помощи своим «старикам».
Но сейчас, столкнувшись в зоне с тремя университетскими девушками, он ощущал свою однобокость и ограниченность, их научное и гуманитарное превосходство.
Старшую из них, Лидию, Андрей уважал больше других за периодические советы и строгие назидания и даже немного побаивался. Литературными познаниями Вари беспредельно восхищался — не подозревал раньше, что о Пушкине или Тургеневе можно говорить такими мудреными словами и оборотами. Сам он читал мало и почти ничего не осмысливал и не запоминал. В его памяти жестко осели только сюжеты «Муму» и «Белого пуделя», которых мать читала ему в детстве при керосиновой лампе десятки раз за неимением других подручных рассказов.
Отношение свое к Тане, такой пухленькой и мягкой, Пташников определить затруднялся. При взгляде в ее сторону почему-то вспыхивал, как будто обжигаясь об ее рыжие волосы, смущался. Отворачивался и замолкал. Андрей с детства не отличался разговорчивостью. С возрастом эта привычка стала осмысленной. Он уверился, что молчание — это самая лучшая форма общения и углубленного знакомства, особенно с девушками. Поэтому в эти замечательные воскресные часы он по большей части молчал, как бы со стороны наблюдая мало знакомую, но такую волнующую, пахнущую какими-то особыми запахами «женскую жизнь».
В начале знакомства девушек смущало непривычное поведение юноши, который не балагурил, не приносил с собой воскресных бутылок, не строгал анекдоты и даже не вспоминал «жутко смешные» истории из студенческой жизни. На правах хозяек они наперебой пытались его чем-то занять, втянуть в дискуссии на исторические темы о Наполеоне или Петре Первом, выяснить его отношение к будущим Социалистическим Штатам Европы. Но через несколько посещений поняли, что ему совершенно не скучно и в том случае, когда к нему никто не обращался и даже вовсе не замечал. Андрею доставляло удовольствие просто посидеть по-домашнему в их «семейном кругу», послушать разговоры об их работе, о бытовых мелочах.
Время от времени он рассматривал с любопытством волнующие рыжие локоны. Почему же они так красочно и огненно переливаются?
Просидев часа полтора, он поднимался, глядя на кукушку.
— Спасибо большое за вечер. Я пойду, наверное.
Но если кто-то из девушек говорил: «Посиди еще, Андрюша», — он без дополнительных уговоров присаживался еще на часок.
В первый же вечер Лидия расставила актеров по своим местам на сцене жизни:
— Таня, проводи мальчика. И к нему:
— Заходите к нам, Андрей. Мы всегда будем вам очень рады.
Таня не возражала против дополнительной общественной нагрузки. Накидывала что-нибудь на плечи и покорно шла на выход. С каждым разом прощания на улице затягивались. Татьяна возвращалась в комнату ежась и вздрагивая:
— Ох и холодно же на улице! Так и метет, так и метет.
Между тем на улице давно уже не мело. Установилась тихая пахучая весна. На душе у Тани сладостно ныло в ожидании воскресного вечера…
Но сначала появился не Андрей, а шеф.
Николай Михайлович сразу попытался обрадовать: в конце лета намечается переселение из бараков в первые каменные дома.
— В первую очередь беременных и замужних, — добавил он.
— Ну-у, — разочарованно протянула Таня, — это нам еще не грозит.
— Как сказать? — произнесла Лидия одновременно со стуком в дверь. — Вот и наш жених.
Андрей держал в руках шестилитровый металлический чайник, начищенный до полировочного шика. Выражение его лица как будто говорило: «Прошу прощения, если что не так». Шумное чаепитие сопровождалось незлобными шутками над «нашими мужчинами». Андрей привычно помалкивал. Зато Николай Михайлович парировал реплики бойко и политически грамотно, заканчивая свои туманные рассуждения о жизни и любви логически неопровержимыми фразами типа: «Вот в чем дело-то!». Или: «Вот такие дела!».
В паузах между женскими наскоками Кузнецов постукивал толстыми пальцами по столу с философским спокойствием человека, готового к отражению с партийных позиций любого вопроса.
— А вы стихи любите, Николай Михайлович? — неожиданно поинтересовалась Таня.
Это была область знания, мало привлекательная для Кузнецова по причине своей мелочной неактуальности.
— Стихи? — переспросил он. — Не очень как-то. Я больше частушки уважаю.
Все дружно заулыбались его непосредственности.
— Замечательно! — зааплодировала Таня. — Сейчас будем петь частушки. Кто первый: Андрей или Николай Михайлович? Запевайте. Только громко, с выражением и азартом. А мы все подпоем.
— Сейчас? — смутился Кузнецов. — Как-то неловко. Может, в следующий раз?
Все шумно поддержали Татьяну.
— А чего неловко? Здесь все свои.
— Зачем же откладывать?
— Слушаем, с глубоким вниманием.
— Ну… начинайте.
— Я лучше вслух прочту, без музыки, — решился наконец Кузнецов, — для песни я сегодня не готов.
— Ну, хорошо, прочитайте, — смилостивилась Татьяна, — только с выражением.
Кузнецов собрался с духом, напрягся и выдавил:
Аэроплан летит — крыло зеленое… Простите, девушки, ведь я влюбленная.
И замолк, поперхнувшись.
— Браво, браво! — захлопали девушки своего домашнего шефа.
— Николай Михайлович, — игриво спросила Таня, — а почему крыло покрасили зеленой краской?
— Какая ты непонятливая, Танька, — вступилась за него Варя, — это же поэтическое видение мира и окружающих предметов. Правда, Николай Михайлович?
— Вот именно, — согласился Кузнецов.
— Например, у Симонова тоже «идут желтые дожди». А у Гарсиа Лорки «разлетаются по свету синие телеграммы». И конь — красный, а весна — сиреневая. Это же не значит, например, что телеграммы покрашены. Верно я говорю, Николай Михайлович? Это же литературный образ. Так ведь?
Кузнецову Симонов был лично не знаком. Да и с Гарсиа Лоркой он вблизи никогда не сталкивался. Тем не менее он был тронут Вариной поддержкой и, вдохновленный, добавил:
— Есть еще у меня в запасе несколько куплетов. Тоже про аэроплан. Но это уж как-нибудь в другой раз. Если случится. Может, на свадьбе какой…
И вдруг загорелся.
— А что? Давай, Танюха, выскакивай побыстрее. Я уж тебя не подведу: спою все, что знаю, на свадьбе.
Таня засмущалась, но успела отпарировать:
— Женихов нет. Ждем…
— Ой-ой! — заметила Лидия, глядя на молчащего Андрея.
— А теперь, — умышленно меняя тему разговора, торжественно произнесла Таня, — очередь выступить Андрею. Объявляю: Андрей Пташников… Басня Крылова «Лиса и Журавль». Просим.
Андрей улыбался, но упорно молчал.
— Ну, — подталкивала она его локтем, — «Ягненок в жаркий день пришел к ручью напиться…»
— Это не оттуда, — произнес Андрей. И снова замолк. Наступила пауза. Лидия закрыла свои учебники.
— Хватит хихикать над мужчинами. Лучше почитали бы в ответ настоящие, хорошие стихи.
— Правда, Варя, почитай, — сразу поддержала Таня, — давно ведь обещала.
Варвара вяло отнекивалась, лежа поперек кровати и опираясь затылком о стену.
К горячим просьбам подруг примкнул и Кузнецов.
— Почитай, Варя. Лично прошу тебя. И от имени нашего парторга. Андрей устроился поудобнее: теперь мы вас послушаем.
Варя колебалась. Посмотрела на морщинистое лицо шефа и сияющее любовью — Андрея.
В комнате установилась выжидательная тишина.
— Ну хорошо, — тихим равнодушным голосом произнесла она, — «Фиалка».
Собралась с дыханием и рассыпалась звуками.
Снежит дружно, снежит нежно.
Над ручейками хрусталит хрупь.
Куда ни взглянешь — повсюду снежно.
И сердце хочет в лесную глубь.
Она произносила строки с каменным лицом. Без выражения. Не растягивала, не придыхала. Просто и безучастно выпускала на волю слова, которые выбрала для своей души и запомнила без усилий на всю жизнь. Монотонные звуки. Ровный ритм. Колокольчики в ночи. Лицо ее оставалось неподвижным. Только губы шевелились и глаза расширились, углубились, вбирая в себя весь окружающий мир.
Мне больно-больно… Мне жалко-жалко…
Зачем мне больно? Чего мне жаль?
Ах, я не знаю. Ах, я — фиалка.
Так тихо-тихо ушла я в шаль.
Николай Михайлович плохо улавливал связь между нежными ладонями, печалью снежных долин и «фиолью». Но ему нравился завораживающий ритм звуков. Он примирял его со всеми в этом мире, успокаивал.
Андрей смотрел на мягкие черты Татьяны. Ему казалось, что поэтические звуки сжигаются и гаснут в огне ее волос.
Варя читала еще, почти без пауз. «Стансы», «Все они говорят об одном».
И вдруг замолчала, как будто надорвалась. Встала с кровати, подошла к окну и тихо произнесла, повернувшись спиной:
— Сегодня я больше не могу. Не буду. Кузнецов тут же поддержал ее:
— Правильно. Хватит на сегодня. Она же устала. И сразу засобирался:
— Ну, что, мне пора и честь знать. А Андрюша еще посидит. И за себя, и за меня… Спасибо за гостеприимство. Варя, а кто сочинитель?
Девушка повернулась к нему мокрыми глазами. Он переспросил:
— А может, ты их сама составила — эти строчки?
— Нет, Николай Михайлович, не сама. Их написал известный поэт Лотарев. Был такой. Северянин. Умер несколько лет назад. В Эстонии. Тихо и безвестно.
— Неплохо писал, я думаю. Известный, говоришь? А я об нем ничего не слышал. Странно.
— Его, Николай Михайлович, давно уже не печатают вовсе. Это у меня от мамы. Старый сборник.
— Это почему же не печатают?
— Кто его знает, почему. Несвоевременный. Путаный. Сложный. Одним словом — не наш.
— Вот так, да? Странное дело. Какой-то непорядок здесь, мне кажется.
И Кузнецов снова засобирался на выход.
— Ну, ладно, я пошел. Всем солдатское «пока». Лидия отозвалась за всех:
— До свидания, Николай Михайлович. Заходите к нам почаще. Будем очень рады вам.
— Да уж как получится.
Ольга Константиновна Ширяева была репрессирована 14 июля 1944 года на 5 лет по статье «антисоветская пропаганда».
Далее стандартные перемещения: Лубянка, Бутырка, Краснопресненская пересылка, этап, Нижнетагильский лагерь. В январе 1946 года — Кыштым, женская зона на базе № 10. Определена — уважительно полученной специальности — в лагерное проектно-конструкторское бюро. Использована — на отделочных работах объекта «А», а также для раскраски кабинетов в лабораторном корпусе. Поведение примерное, замечаний лагерного начальства не было. Здоровье нормальное, без жалоб. С января 1948 года Ширяева начала работать бесконвойно. 11 мая получила ответственное задание: «освежить» краской коттедж главного академика. Инструмент — две кисти, клеевая краска четырех тонов, разные тряпки. Остальное всегда при ней: художественная фантазия, декоративный опыт, трудовой энтузиазм, обостренный за четыре года обещаний снизить срок при хорошем поведении…
От предбарачной площади Ольгу отправляли на газике без конвоя. Зачем ей конвой? Куда убегать из этой зоны одинокой женщине?
— Коттеджей там много. Начинать надо с главного, — пояснил ей молоденький лейтенант, упивающийся важностью своей роли.
— Как фамилия хозяина? Или приметы какие-то?
— Не знаю фамилии. Сказали, с бородой. Шофер знает дом. Подвезет. Коля, гони быстрей. Определишь ее и сразу назад. Понял?
Коля нажал на газ, не дожидаясь последних слов. Коттеджи для научных руководителей — деревянные сборные домики — выглядели среди живописных сосен уныло, одноцветно, как расставленные спичечные коробки с одинаковой этикеткой. И этот такой же, только чуть побольше габаритами. Ольга снесла из машины на веранду свой инструмент, огляделась, небрежным взлетным движением руки забросила в угол брезентовую робу. Постучала аккуратно в дверь, в окошко. Ранняя тишина.
«Тем лучше, — подумала Ольга, — нет нужды советоваться с хозяином. А фасад действительно не мешает расцветить. Краски маловато. Ну ладно, на сегодня-то хватит».
Решила начать с торцевой стены на террасе. «Рейки можно через ряд, для контраста. Остальное соображу по ходу дела».
Ласковое солнце бесплатно прогревало побаливающий позвоночник. Сосны вокруг розовели стволами и чуть шелестели верхушками. Никого вокруг! Что еще нужно человеку?
Через полчаса Ольга втянулась в механическую работу. В глаза перестали бросаться расщелины, дырки от вылетевших сучков, небольшие трещинки. Мысли бежали параллельно работе, где-то совсем рядом…
Еще около года, даже если и не сократят. Теперь уж она выдержит, все перенесет, дождется. Беспокоило другое. Ее соседку справа по барачному спальному месту, на втором ярусе, бывшего рентгенолога, после окончания срока заставили подписать трудовой контракт на три года для работы в здешней медсанчасти. Из городской зоны так и не выпустили. А если и с ней так же? Не хочется об этом думать. Но ходили среди заключенных упорные слухи, что из этого таинственного закрытого города вообще никого не выпускают. Попавшие сюда обречены на жизнь или смерть здесь, хоть и в качестве вольнонаемных. Из барачной лагерной зоны выходят, а в городской — остаются. Неужели и такое может быть? Тогда прощай, Москва! А она так мечтала вернуться на знакомые улицы. Вернуться к прежней работе — проектированию больших красивых зданий, кинотеатров, спортзалов. Или белоснежных южных здравниц.
— Значит, одна рейка будет светлая, а вторая — потемнее? — раздался за ее спиной неожиданный, испугавший ее игривый голос. — Получается, как зебра. Или клетка?
Ольга охнула от испуга и оборачиваясь, оторвала кисть от рейки. Мужчина был без бороды. В добрых, интеллигентных очках.
«Это не хозяин, — догадалась она, — сосед, наверное, или командированный гость».
«Хозяин, — по дороге объяснил ей шофер Коля, — большой, решительный, с запущенной бородой. Русский богатырь. Красавец мужчина».
А этот был плюгавый и нерешительный. Через очки просвечивали мягкость и доброта. Еще — терпение.
— Вы кто? — спросила Ширяева, опустив кисть над ведром. — Испугали до смерти.
— Я — физик. Яков Борисович. Командирован из Москвы. А вы? «Подумаешь, распустил перья… Я — физик!»
— А я архитектор, — ответила она его же тоном. — Ольга Константиновна. Заключенная Тагильского лагеря. В настоящее время проживаю в зоне особого назначения, барак № 8. В данный момент выполняю спецзадание: придаю цветную свежесть однообразному деревянному зодчеству середины двадцатого века.
Физик выглядел, даже со своей начинающей лысеть головой, значительно моложе ее. Как оказалось позже, Ольга была старше всего на три года.
— Понятно, — произнес авторитетно Яков Борисович. — Какова же ваша задумка?
Он показал рукой на стены.
Вожжа попала под хвост Ширяевой. Ответила, как с кафедры:
— Проект таков… Разноцветная гуашевая гамма в наружной отделке. Скромно, но со вкусом, без вычурности. Только на террасе дополняющее декоративное панно.
Добавила, переходя на шутку:
— Розы, фламинго, гирлянды звезд или горное озеро под луной — на ваш выбор.
— Понятно, — заверил Яков Борисович. — Значит, фламинго под луной. Очень занятно. Главное, оригинально.
Ольга почувствовала демонстрацию превосходства и некоторую снисходительность. В словах она не нашлась. Поэтому просто отвернулась и продолжила прерванную работу.
Яков Борисович обежал глазами ее плечи, спину, талию, обнаженные ноги. Ему показалось, что у нее совершенная, девичья фигура.
«Что же она натворила на воле? Такой женщине не место в лагере», — думал он.
— За что же вас? — вырвалось непроизвольно.
— Не надо об этом, — ответила Ольга тихо, не прекращая работу.
Замолчали оба. Ольга старательно красила. Яков сидел на замызганной табуретке, оглядывал ее всю, наслаждался мягким движением кисти.
— А могу ли я чем-нибудь посодействовать в вашей работе? У меня, — он посмотрел на часы, — еще почти двадцать минут бесполезного, очищенного времени.
Ольга приподняла плечи: не знаю уж. Толку-то от вас.
— Я могу, например, увеличить вашу производительность труда… с помощью создания… э-э… благоприятной звуковой атмосферы…
— Споете, что ли?
— Нет, петь я не умею. Могу прочесть какие-нибудь лирические стихи. А могу что-нибудь из прозы.
— Начните с прозы, — предложила Ширяева, — проза как-то привычнее, ближе.
— Значит, прозу? Ну хорошо. — Яков Борисович сел поудобнее, положил ногу на ногу. — Сейчас я настроюсь.
И, глядя на крепкие мышцы ее ног, напрягающиеся при высоких мазках, задумчиво и немного нараспев завел прозу:
— И снова, как когда-то в детстве, я сижу на террасе старенького деревенского дома… Всюду немота, молчание, свежесть ночного воздуха. Неподвижное, в белой звездной россыпи небо. Всюду предрассветное ничто.
Кисть остановила свое движение, упала бессильно вниз вместе с рукой женщины. Голова ее на миг закружилась от очарования далеких, почти забытых слов из той, прежней, московской жизни.
— И все кругом, — продолжал Яков Борисович более монотонно, почти без всякого пафосного выражения, — что-то затаенное, обещающее, светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую высь.
Ольга повернулась к нему с мгновенно вспыхнувшей жгучей благодарностью, как будто именно этих слов она ожидала четыре потерянных года, убитая дикой обстановкой, среди хамства, мата, вшей. Ей хотелось посмотреть Якову Борисовичу в глаза и сказать «спасибо». Но он смотрел не на нее, а куда-то поверх головы, в потолок. И продолжал, ничего не замечая, мучить и душить ее светлыми словами.
— Ни единого признака жизни… Ни единого… Ольга замерла, боясь нарушить волшебную сказку.
— Только сонная, холодная туманность…
Он замялся, как будто споткнулся о порог памяти, и добавил совсем грустным голосом:
— А я растворяюсь в неге, в звездах, в собственных мыслях. И думаю: как хорошо мне сейчас, Ольга, от вашего молчаливого внимания.
Ширяева очнулась разом и надулась:
— Ну, зачем же вы… подправляете классика? Разом испортили все впечатление от волшебных слов.
— Ольга Константиновна, простите. У меня получилось случайно, без умысла. Я просто забыл дальше. У меня, знаете, странная память. Длинные формулы мне легче запоминать, чем литературную вязь. Это от ущербности развития.
— Надо исправляться, — назидательно произнесла Ольга, глядя в блестящие на солнце точки его очков, — работать над собой. Вы еще молоды. Время впереди у вас есть.
Ей очень хотелось, чтоб он не замолчал надолго. Пусть бы говорил и говорил. Когда она следующий раз услышит подобные слова?
— Ну, если на классиков память у вас слаба, Яков Борисович, тогда уж попрошу что-нибудь свое. Попроще. Но только без формул, если можно.
— Свое? — переспросил он, загораясь азартом литературной фантазии. — Хорошо, попробую свое.
Он снова закатил глаза в потолок, внутренне напрягся, подбирая первую фразу (а там понесет по инерции), и заговорил театрально-трагическим голосом чтеца на сцене в рабочем клубе:
— Огромный равнодушный город устал от дневных хлопот и засыпал в безнадежной тоске о счастье.
Он хотел сначала произнести «о любви», но в последний миг передумал.
— Лунный свет никак не мог пробиться сквозь черноту ночных туч. Одинокий кривой столб электрического фонаря был уродливо нем. Лишь два запоздавших окна светили желтыми глазами на гулкие камни мостовой. Ночная дама, выйдя из-за угла, опустила вуаль, наклонила вниз передние поля фиолетовой шляпы и устало замедлила шаги. Подумала: «Где же он?».
— И где же? — хихикнула Ольга.
— Не мешайте, — оборвал Яков. — Подумала: «Где же он?». И тут же увидела. Он сидел под разбитым фонарем, у входной арки. Прислушивался к ее шагам. Вздрагивал от нетерпения грязной лохматой шерстью. Огромный уличный пес ожидал ее каждую ночь в одном и том же месте. Перед домом. Каждую ночь. И сегодня — тоже.
Здесь Яков Борисович сделал вынужденную паузу, совершенно запутавшись в ситуации и не зная, как дальше развернуть трагические события той жуткой ночи. Где-то… в какой-то момент… должен был прозвучать выстрел. И не успел. Помешала Ширяева:
— Глупо, затасканно и приторно! — произнесла она. — А дама ваша в фиолетовой шляпе — пошлый манекен. И пес неживой, а резиновый. Игрушечный. Из магазина.
— Неужели? — искренне удивился физик. — Какая жалость! А я так старался.
И добавил уже без сожаления:
— Вот потому-то, наверное, я не писатель, а физик. Фантазия у меня не того сорта.
Ширяева от души рассмеялась:
— Хорошо, что я в физике ничего не понимаю. А то бы вы мне сейчас такую фантазию из формул предложили. Похлеще лунной ночи.
— О! — Яков Борисович вскочил вдруг как ошпаренный. — Бежать надо.
И бросился прочь, к дороге, куда, вероятно, должна была подъехать за ним машина, чтоб отвезти на совещание к Музрукову. Постоял на дороге минуты три, поглядывая на часы и по сторонам. Вернулся неуклюжим полубегущим шагом.
— Я надеюсь, вы завтра еще не закончите работу здесь?
— Здесь работы на три дня, — вежливо ответила Ольга, усмехаясь его неловкости. И добавила: — А может быть, на неделю, Как получится.
— Получится. Обязательно получится, — бросил он скороговоркой и побежал к подъезжающей машине.
Ольга смотрела на облачко легкой пыли на дороге: «Можно бы и десять дней мазать. Только к чему это все?».
Она разрисовывала этот коттедж две недели, вплоть до окончания его командировки. И каждый день Яков Борисович находил в своем жестком графике минуты для встречи. В первые дни его слова казались ей напыщенным, искусственным остроумием мужчины, желающего во что бы то ни стало понравиться. И как можно быстрее. Но чем меньше оставалось дней до окончания командировки, тем встречи их становились грустнее, а слова его — проще, корявее, трогательнее. Последний день был очень тяжелым для обоих. Оставалось полчаса до отъезда. Десять минут. Минута. Что-то он должен был сказать ей важное. И когда шофер уже в третий раз нетерпеливо нажимал на сигнал, признался:
— Мне было хорошо с вами, Оля. Это не случайное увлечение командированного. Вы мне близки.
— Вы мне — тоже. И спохватилась:
— Но оценивать сейчас свои чувства к вам не могу.
— Почему же?
— Я не смогу объяснить вам, что испытывает благодарная женщина, оторванная от столичной жизни и законсервированная в грязном холодном бараке на четыре года. Мои чувства к вам могут быть случайными, сиюминутными. Понимаете?
— Я приеду сюда снова через два-три месяца. Обещайте, что не будете избегать встречи со мной.
— Обещаю.
— Спасибо. Я вас найду, когда приеду.
Шофер гудел непрерывно. Яков Борисович хотел сказать что-то еще. Но не смог. Понесся к машине. Помахал рукой, открывая дверцу.
Ни он, ни она не представляли, в какое чувство отольется их случайное знакомство в дальнейшем. Когда Ольгу раньше срока освобождали из лагерной зоны, Яков встречал ее с букетом цветов, как самого близкого человека, забыв о семье в Москве. А она выходила к нему с мокрыми глазами, как к отцу будущего ребенка, который шевелился в ней и просился на свет.
Как главный инженер комбината, Славский отвечал прежде всего за поддержание в регламентном режиме технологического процесса. Пока шло строительство радиохимического завода «Б», Ефим Павлович почти все время пропадал на «Аннушке».
Пуск реактора в июне 1948 года еще не решал главной поставленной задачи — получения десяти килограммов плутония для первой бомбы.
Накопление плутония в урановых блочках определяется временем и поддерживаемым уровнем мощности реактора.
По теоретическим расчетам физиков, такое количество плутония можно было накопить при проектной мощности 100 мегаватт примерно за четыре с половиной месяца. После этого происходило ухудшение изотопного состава плутония и потеря им боевых качеств как ядерной взрывчатки. Поэтому перед Славским была поставлена задача: поддерживать мощность реактора как можно ближе к проектной, а в ноябре — произвести его полную перегрузку, отправив первую партию облученных блочков на перерабатывающий завод «Б».
Эта задача была отражена в одной-единственной цифре Государственного плана, определяющей среднемесячный уровень мощности и, следовательно, среднемесячное накопление плутония.
Эта цифра — 2,5 килограмма плутония — была сверхсекретной. О ней знали на комбинате всего несколько человек. Но эта цифра определяла весь ритм работы на объекте «А» в следующие месяцы. Она диктовала жесткие условия всему эксплуатационному персоналу: минимум остановок! Минимум незапланированных простоев!
Между тем, Славский и Курчатов прекрасно понимали непредсказуемость поведения реактора на высоких уровнях мощности. Никто не мог гарантировать безаварийность работы. Выдержит ли высокую температуру в агрессивной атмосфере мощного нейтронного потока страховочная оболочка урановых блочков? Выдержат ли сами алюминиевые трубы технологических каналов? А если начнут корродировать и трескаться, к чему это приведет?
Учитывая, что любые аварии придется устранять в условиях повышенного радиационного фона, и Славский, и Курчатов молчаливо примирились с мыслями о возможных будущих жертвах. Наивно было бы рассчитывать, что все обойдется без сильного облучения персонала, без лучевой болезни и смертей. Жертвы планировались, хотя эти цифры и не фигурировали в плановых показателях. Жертвы обязаны были быть случайными, непредсказуемыми, происходящими по вине самого эксплуатационного персонала.
Личную ответственность за соблюдение технологического регламента, за быстрейшее устранение последствий возможных и вполне вероятных аварий, за соблюдение эксплуатационным персоналом техники безопасности и осуществление радиационного контроля нес на своих могучих плечах Ефим Павлович Славский. Работая до революции котельщиком на угольной шахте и обрубщиком на труболитейном заводе, он прошел тяжкий путь «наверх». В его биографию вошли: кавалерийские рейды вместе с Буденным, учеба в Московском институте цветных металлов, инженерная работа на электроцинковом заводе в городе Орджоникидзе, директорский пост на алюминиевом заводе и наконец, почетное место заместителя наркома цветной металлургии СССР. В 1946 году Славский был переведен в ПГУ одним из заместителей Ванникова. В 1947 году по желанию Берия оказался в плутониевой зоне на едва ли не самом ответственном служебном месте.
После пуска реактора Славский был готов к любым, самым жестоким случайностям. Но и он не ожидал, что первая тяжелейшая авария случится на следующий же день после выхода на проектную мощность.
Эта специфическая авария потом повторялась много раз, превратившись постепенно в памятный знак первого оружейного реактора…
В канале № 17–20 из-за недостаточного охлаждения разогревающихся урановых блочков произошло локальное оплавление урана и сваривание его с направляющей технологической трубой и окружающим графитом. Из-за выхода газообразных осколков деления наружу из-под защитного экрана блочков радиоактивный фон в реакторном зале повысился в десятки раз. Содержимое канала невозможно было пробить вниз в разгрузочный бункер и извлечь наверх вместе с трубой. Ни вниз, ни вверх! «Козел»!
Продолжать работу реактора с «закозлившимся» каналом опасно: можно поджечь соседний графит. Авария требовала остановки котла и расчистки канала путем ручной рассверловки его сверху донизу на высоту около десяти метров. Ликвидацией аварии руководил Славский. Рассверловка протекала девять суток, без перерыва. Облучились и весь мужской персонал реактора, и привлеченные на помощь солдаты. Допустимая доза облучения для ликвидаторов аварии была установлена специальным приказом Музрукова в 25 рентген (почти половина годовой нормы при обычной работе).
Но так как людей все равно, даже при такой норме, не хватало, некоторых наиболее сознательных рабочих привлекали для работ в реакторном зале дважды и трижды. В этом случае сменный руководитель работ обычно «по-дружески» просил рабочего не брать с собой в машзал свой личный дозиметр, а оставить его на эти минуты где-нибудь в чистом месте. По-человечески руководителей можно было понять. За переоблучение подчиненного персонала несли ответственность в первую очередь начальники смен. За нарушение техники безопасности могли объявить выговор. А могли понизить в должности или даже уволить. С солдатами было проще, их не пугали никакими дозиметрами. Они работали без «карандашей».
Кузнецов привлекался для работ в зале дважды. Оба раза с дозиметрической кассетой. Николай Михайлович принципиально отказался от ее снятия: «Я хочу знать, что мне "отвалилось"». Он так никогда и не узнал этого. Данные по каждому работнику, официально зарегистрированные дозиметрической службой, являлись совершенно секретной информацией. Они были недоступны не только самим работникам, но даже и медперсоналу. Только для самого высшего руководства!
Андрей появлялся в машзале три раза за эти дни, последние два раза — без кассеты.
25 июля 1948 года был зарегистрирован аналогичный «козел» в канале № 28–18.
В этот раз аварийные работы протекали в более тяжелых условиях с точки зрения радиации. На доклад Музрукова в Москву об очередной остановке реактора последовал жесткий приказ Спецкомитета: «Осуществить подъем мощности. Ликвидацию аварии произвести на действующем оборудовании». Такое решение можно было с полным правом назвать варварским. Атомный аврал требовал выполнения государственного плана по накоплению «аметила» (условное наименование плутония) любой ценой.
Зарегистрированные дозы, полученные участниками ремонтных работ, — от 26 до 108 рентген.
После этой аварии допустимые нормы облучения эксплуатационного персонала были снижены приказом начальника ПГУ вдвое: 0,1 рентгена — в смену, 30 рентген — в год.
В ноябре 1948 года предполагалась первая массовая выгрузка из реактора облученных урановых блочков.
При проведении операции разгрузки в подземной шахте заклинило кюбель (транспортную емкость) с несколькими тоннами урана. Пришлось разгружать готовую продукцию прямо в шахту, под защитный слой воды. Для того, чтобы удалить застрявший кюбель, пришлось разрезать его сваркой. Потом установили новый кюбель, а в него вручную переложили из-под воды около тысячи облученных блоков.
Радиоактивный фон в месте проведения работ контролировался дозиметристами с помощью переносных приборов, фиксирующих интенсивность гамма-фона. Они-то, дозиметристы, и облучались более всех остальных. Для ремонтных работ был мобилизован весь мужской персонал смен и дневных служб. Работами руководил специальный штаб во главе с Ефимом Павловичем Славским.
«Творцы ядерного Щита», 1998 г.:
«Работой руководил главный механик. Работали по одному человеку. К рабочему месту приходилось добираться по металлической лестнице, длина участка от входа сверху до места работы внизу — около сорока метров. Из-за неплотности задвижек на водоводах на рабочее место лилась вода с температурой 5-10 °C. В этой работе принимал участие и сам Е.П. Славский. Поскольку работающему приходилось несколько минут находиться в потоке холодной воды, на выходе каждый получал по 75 граммов разведенного спирта».
Спирт считался тогда самым эффективным и легкодоступным защитным средством против воздействия радиации, хотя никаких достоверных данных на этот счет в те времена не существовало.
«Когда Е.П. Славский поднялся наверх после первого захода, разливающий подал ему стаканчик с общей дозой, но тот отбросил стаканчик и поинтересовался, нет ли посуды побольше. Выпив быстро принесенный и наполненный граненый стакан, он пошел на второй заход. Инженер-дозиметрист, перегородив ему вход, сказал:
— Ефим Павлович, вам туда больше нельзя. Вы уже получили разрешенную дозу облучения, а она и так приличная.
— Вам запрещаю, а себе даю разрешение на второй заход, — ответил Славский и стал спускаться по лестнице к месту сбора блочков. Шестнадцать дней в чрезвычайно тяжелых и сложных условиях шла работа по удалению кюбеля и очистке приямка от облученных блочков. Реактор все это время работал не останавливаясь».
Пример Славского, демонстративно пренебрегавшего опасностью и фактически поощрявшего прием спирта как лучшего лекарства против радиации во время аварийных работ, был заразителен среди ремонтного персонала. После этого случая рабочие начали сами требовать сто грамм накануне или перед самым выполнением аварийных работ «для воодушевления и спокойствия».
Кузнецов свои 75 грамм принял тогда с узаконенным удовольствием. А дрожащий от холода Андрей отказался: он увидел в этом что-то унизительное.
Никто из ремонтников после этой аварии с жалобами к врачам не обращался. Профилактические медосмотры еще не наладились. Андрей впервые тогда почувствовал себя как-то не в своей тарелке, но проявлять слабость стеснялся. В дружеском разговоре с Кузнецовым упомянул о тошноте и слабости. Николай Михайлович сразу взял быка за рога:
— Андрюха, скажи мне главное: у тебя член по утрам стоит? Андрей сильно смутился, но ответил утвердительно, хотя и не очень уверенно.
— Ну и все, это главное. Значит, все в порядке. Но подумав пару минут, добавил:
— Все ж таки надо тебе поскорее жениться. А чего откладывать-то?
Сварщик Пронин умер через шесть дней.
Первый смертельный случай изменил отношение руководства к вопросам техники безопасности. Начали срочно строить лечебный корпус со стационаром.
В октябре 1948 года Лидию в числе двух десятков инженеров-технологов объекта «Б» командировали в Москву, в НИИ-9, для углубленного изучения на опытной установке «У-5» технологии извлечения плутония из облученного урана.
В конце декабря планировался пуск радиохимического завода в плутониевой зоне. И командированные должны были через два месяца вернуться в зону в качестве квалифицированных специалистов, способных возглавить участки, цеха и лаборатории нового атомного завода.
Варвара с Татьяной остались вдвоем в комнате. Работы на заводе прибавлялось с каждым днем. Начался монтаж технологического оборудования. Иногда приходилось по просьбе руководства задерживаться до глубокой ночи, а то и до утра. Изучение химических процессов и регламентной технологии проходило теперь уже по заводским, рабочим чертежам. Параллельно на будущих технологов возлагался дополнительный контроль над монтажными бригадами.
Андрей после отъезда Лидии заходил к девушкам в гости чаще прежнего. Настойчивый совет Кузнецова не тянуть со свадьбой не выходил у него из головы, особенно после тяжелой аварии в начале ноября. Но обстановка в уютной комнатке общежития с каждым днем теряла легкость и непринужденность. Варвара постоянно чувствовала себя лишней и старалась не мешать влюбленным. То уходила на вечерний сеанс в кино, то просто на прогулку в соседний нетронутый лес. В предпраздничный вечер 5 ноября она гуляла долго и упорно. Замерзла, терла рукавицей нос и щеки, но не хотела возвращаться рано. И все равно еще застала Андрея в общежитии. Он сидел рядом с Таней, на ее примятой кровати. Немного смущенный, но с приподнятой головой и каменным лицом. Танина рыжая копна, подправленная наспех, сбилась набок.
Варя, тихо и безучастно поздоровавшись, занялась, не глядя на счастливую пару, своими будничными делами. Поставила чайник. Поковырялась в своем чемодане, что-то разыскивая. Переставила на полочке несколько книг. Какую-то из них открыла, летая по строчкам. Решительно не знала, что ей делать под шепот сидящих на кровати.
— Варя! — торжественным тоном обратился к ней Андрей.
— Да, — повернулась она.
— Мы с Таней хотели тебе сегодня объявить…
— Пригласить, — поправила его Таня.
— Вот именно. Объявить и пригласить тебя, — Андрей снова сбился, — одним словом, мы с Таней решили пожениться. Ты как, не возражаешь?
— Не только не возражаю, но и громко приветствую, — в ее голосе, однако, не было ни бурной радости, ни скрытой зависти. — Я поздравляю вас от всей души и желаю счастья. И когда же свадьба? Как вы решили?
— Да вот ничего еще не решили окончательно, — Андрей развел руки в стороны, — сидим, соображаем, как лучше.
— Андрей предлагает, — уточнила Таня, — объединить нашу свадьбу со свадьбой его друга по общежитию, Петра Васильевича. Он работает механиком у нас на «Б», в седьмом цехе…
— Не механиком, а сварщиком! — поправил ее Андрей, не терпящий неточностей.
— Господи, ну пусть сварщиком, — вспыхнула Татьяна, — не в этом же сейчас дело!
И продолжила, сразу успокоившись:
— Я предлагаю ему не торопиться, дождаться Лидиного возвращения, по крайней мере. А он долдонит одно: «Петр Васильевич торопится. Петр Васильевич не может ждать».
— У него невеста на пятом месяце, — пояснил Андрей, — всем уже со стороны видно…
Петр Васильевич являлся для Андрея не только удобной зацепкой в его торопливой решимости. Он действительно в последние месяцы сдружился с Петром Клементьевым, которого искренне считал неординарной личностью, поскольку тот совершенно не пил и мог — по собственным словам — приварить что угодно к чему угодно.
Огромные, грубые, неуклюжие на вид руки Петра были в действительности золотыми, способными на любую, самую тонкую работу.
В зону он попал по срочному оргнабору с Челябинского тракторного как газосварщик высшей квалификации. Желанием его в парткоме особенно не интересовались. Чуть поднажали, пообещав двойную зарплату, бесплатное питание в рабочие дни, а в ближайшем будущем и отдельную квартиру в зоне особого назначения под названием «База № 10».
Петр, поразмыслив десять минут, дал согласие. Ему предстояла неминуемая регистрация брака с молодой продавщицей из хлебного магазина, Ларисой Ермолаевой, объявившей ему недавно о своей беременности. А жить было негде. Предложение парткома вроде бы решало жизненную проблему, и он уже через день подписал трудовое соглашение на три года. Отправили его в зону настолько спешно, что он не успел зарегистрировать свой брак.
— Ничего страшного, — успокаивал он Ларису, — приедешь ко мне, оформим все на новом месте.
Однако в режимном отделе плутониевой зоны Петру твердо отказали в законной просьбе «разрешить приезд к нему Ларисы Клементьевой как будущей законной супруги». Во-первых, в зоне совершенно не было «женских» рабочих мест. Во-вторых, ее специальность не числилась в особом перечне необходимых. В-третьих, она все еще была Ермолаева, а отнюдь не Клементьева. Было еще что-то «в-четвертых», касающееся ее далеких родственников — то ли двоюродного дедушки, то ли троюродного дяди. Все это ему сказали только через полтора месяца после подачи заявления, когда Лариса ходила уже на четвертом месяце.
Разгорячившись, Петр подал заявление о ликвидации трудового договора, чтобы разрешили выезд из зоны. И опять получил категорический отказ.
Промаявшись еще полмесяца в походах по разным инстанциям, Петр натолкнулся на вполне приемлемый вариант, подсказанный ему подручным рабочим, считавшимся в бригаде докой по всевозможным жизненным проблемам.
— Охота была тебе ходить по этим сраным начальникам, — посоветовал он, — выдели Валентину Ильичу пару сотен в общак, и он твою Ларису проведет через любую колючую проволоку. Вместе с сережками, чайным сервизом и валенками.
Валентин Ильич, заключенный из барака № 3, работавший на строительстве главного корпуса радиохимического завода, считался легендарной личностью. Бывший военный летчик когда-то имел в своем активе боевые медали и ордена. Однако допустил промашку: не успел вовремя застрелиться и «добровольно сдался в плен врагу» в контуженном состоянии, лежа без памяти у разбитого самолета. Потом сумел бежать из плена, но уже наши отмерили ему пятнадцать лет за измену Родине.
Валентин Ильич пользовался уважением не только среди зэков, но и среди охраны. В некоторых случаях он брался за урегулирование конфликтов в бараках и другие «справедливые» дела…
Через неделю солдаты из охранной роты сторожевого поста № 17 в безлюдном лесном участке границы зоны пропустили под проволокой внутрь зоны беременную женщину с небольшим чемоданом в руке.
Петр тайно поселил Ларису в вагончике, рядом со складской площадкой отдела оборудования, где до начала монтажа хранились на открытом воздухе прибывающие материалы и крупногабаритное оборудование.
Для сторожей, которые ютились в этом вагончике, недавно отстроили каменную будку с окошком, перегородив въезд на площадку проволокой на двух столбиках.
Петр с согласия сторожей откатил вагончик подальше от входа и посторонних глаз, обустроил в нем широкую лежанку и столик для приема пищи.
Лариса была вполне довольна приемом в зоне и новым местожительством. Однако после первых горячих ночей и взаимной радости к Петру пришло отрезвление: что делать дальше? Нельзя жену постоянно прятать в подполье: рожать-то все равно придется. Поход по инстанциям с глубоким покаянием назревал. Помог советом тот же подручный: «Иди, Петр Васильевич, со своей полузаконной женой прямо к главному начальнику по режимным делам. Ее выпусти вперед — пусть сразу увидит живот. Можно даже подложить чего-нибудь для убедительного впечатления. Пусть начинает говорить она. Потом сразу собьется и начнет рыдать в голос. Попроси воды. И тут включайся сам. Вопрос сразу поставь ребром. Так, мол, и так. Или выселяйте нас вместе, или оформляйте наличие».
Дело действительно дошло до Шутова, которого интересовал более всего вопрос: как Ермолаева оказалась в огражденной зоне? Несмотря на прямые угрозы «засадить», Лариса не подвела. Все сбивчивые объяснения заканчивала всхлипыванием и хваталась обеими руками за живот, симулируя начало преждевременных родов, но солдатиков не выдала.
После некоторого размышления Павел Анатольевич скандал раздувать не стал: могло обернуться против него же самого. Усилил своим приказом контроль за сторожевыми постами, написал очередное предложение наверх, рекомендуя увеличить списочный состав охранных войск и улучшить качество их подготовки. Но разрешение на проживание Ларисы в зоне дал в качестве исключения, как «беременной невесте рабочего Клементьева».
— Только не ходи ко мне или в отдел кадров с просьбой о ее трудоустройстве, — сказал Шутов Петру как можно строже. — Понял меня?
— Понял. Не буду ходить.
— Все тогда. Исчезни с моих глаз. Чтоб я тебя больше не видел и не слышал.
После всех мытарств Петр решил сыграть законную свадьбу.
— Не тяни, не тяни, — настойчиво советовал подручный, — закрепляй немедленно.
Вечером того же дня Клементьев сделал предложение Андрею о совместной свадьбе. Праздник решили отгулять через неделю.
Со стороны Андрея и Татьяны приглашенными были Варвара и Кузнецов. А Петр Васильевич широким жестом пригласил всю ремонтную бригаду из шести мужиков, не считая подручного. Марту Васильевну из ЗАГСа бригада взяла штурмом за два дня. Первый ушел на сдачу документов и заявлений в порядке очереди, после чего подручный жестко предупредил хозяйку барака: ежели завтра (здесь была пауза и подозрительный взгляд на ее длинные лакированные ногти) в паспортах не будет соответствующих штампов, то он… лично… разнесет ее недостроенное заведение к некоторой матери.
Второй день оказался более мирным. Женихи, и невесты улыбались. Бригада терпеливо слушала длинное поздравление Марты Васильевны, которая поминутно сбивалась, поскольку ее взгляд на счастливые лица молодоженов постоянно выхватывал из толпы вызывающий взгляд низкорослого подручного.
Третий день, суббота, был объявлен подготовительным. Комсомольское общежитие № 2 загудело после полудня. Мужики из петровой бригады таскали в авоськах бутылки и закуски. Последние были весьма узкого ассортимента, но в достаточном количестве. Татьяна, Варвара и примкнувшая к ним Лариса готовили в огромном тазу салат из вареной картошки и соленых огурцов. Потом пришла очередь сибирских пельменей. Штамповали их из мяса неизвестного зверя, убитого по случаю свадьбы в неосвоенной лесной части зоны друзьями подручного. Лариса раскатывала тесто почти до прозрачной толщины. Между очередными блинами подправляла снизу свой живот, как будто прислушиваясь руками к шорохам изнутри.
К десяти часам вечера первая тысяча миниатюрных изделий уже морозилась на фанерных дощечках рядом с входной дверью, на свежем воздухе.
К этому времени девушки, проживающие в других комнатах, с радостной очевидностью уяснили, что на сдвоенной свадьбе намечается явный дефицит женского участия. С этого момента все общежитие из четырех комнат имени Надежды Крупской пришло в непредсказуемое суетливое движение. Ребята хлопотали по нескончаемым мелким заданиям, периодически прикладываясь к заготовленной выпивке («по чуть-чуть») и усердно расхваливая недосоленный салат.
Четыре стола, сдвинутые в праздничный ряд, никак не размещались в одной комнате. Выход нашел тот же подручный. По его разумному предложению и с обоюдного согласия жильцов соседних комнат № 2 и № 3 часть стены временно разобрали «для расширения свадебного пространства». Глядя на образовавшийся зубчатый проем, подручный торжественно пообещал завтра же вернуть все кирпичи на свои законные места.
От стульев и табуреток в связи с их дефицитом отказались сразу же, заменив их длинными лавками из неструганых досок.
Для веселого подготовительного настроения подручный несколько раз брался за баян. Но вовремя сжимал меха, опасаясь того, что свадьба не дождется своего запланированного утра и разразится немедленно.
Девушки из всех комнат наперебой предлагали невестам свои лучшие украшения к свадебным нарядам.
Перед отходом ко сну, в два часа ночи, подручный обошел с инспекционной целью все комнаты, немного пошатываясь и рассказывая всем с усиленным кавказским акцентом свой любимый анекдот про «большой желтый мух», иными словами, «про ос и шмел». Остался доволен подготовкой и, вежливо попрощавшись со всеми — спящими и бодрствующими, — отправился в морозную тьму на отдых, напевая хрипло про наших казаков, которые едут, едут по Берлину…
Когда шумная компания в 11 часов утра сидела за накрытым столом перед наполненными стаканами, вполне готовая кричать: «Горько!», восемь девушек еще причесывали невест в соседней комнате. Мужики явно заждались и немного нервничали. Один подручный выявлял покорное терпение.
— Придут сейчас, — успокаивал он всех, — куда они денутся? Последним, сразу после невест, ввалился с десятиградусного
мороза в распахнутую дверь Кузнецов. Он нес в нагрудном кармане две овальные броши голубого цвета в подарок невестам и короткий письменный привет молодоженам от парторга Серегина.
— Дорогие товарищи! — начал по старшинству Николай Михайлович, сделав в этом месте торжественную паузу и подняв левую руку для снижения шума. — Мы все собрались здесь сегодня… в связи с тем, что наши боевые товарищи, Татьяна и Андрей… — тут он заметил и вторую нарядную пару, — а также…
— Петр и Лариса, — подсказали ему тотчас несколько голосов.
— А также Петр и Лариса… изъявили о своем обоюдном согласии на это бракосочетание.
Кузнецов сделал вторую паузу, чтобы окончательно разбежаться для красочной речи.
— О чем нам всем говорит этот факт? — продолжил он, сделав легкое ударение на слове «факт». — Прежде всего об их обоюдном согласии… жить в мире и радости на благо нашей социалистической Родины.
— Покороче, Николай Михайлович, — тихо посоветовала Варвара, сидящая рядом с ним.
— Не мешай! — мягко огрызнулся Кузнецов, приняв, однако, дельное замечание к сведению. — Вот сбила с курса… Вот я и говорю… мы все, сидящие здесь, — он обвел широким жестом всех сидящих и только в этот момент оценил длину стола, — от всей души поздравляем Андрея и Татьяну, а также Петра и…
— Ларису, — подсказала Варя.
— Ларису… и желаем им обоюдного счастья. На всю жизнь! До полной победы! Горько, товарищи.
— Горько! Г-о-о-о-рько! — дружно поддержали все разом, поднимая стаканы.
Андрей и Таня встали первыми. Андрей смущался. Татьяна обняла его правой рукой за затылок, притянула к себе, обдав рыжим огнем. Потом чинно привстал Петр. Лариса тоже сделала усталую попытку подняться.
— Сиди уж, — остановил ее Петр.
Нагнулся к ее подставленным губам и долго наслаждался, забыв о присутствующих.
Веселье разворачивалось в быстром темпе. Тосты следовали один за другим. Желали счастья, любви, многочисленных детей. Пьянели быстро и с удовольствием. Через два часа сделали перерыв для подготовки пельменей, перекура и посещения туалета. Имевшийся в барачном коридоре оставили в распоряжение девушек. Ребята, разогревшиеся и раздетые, выходили «для этого дела» на мороз.
— Вот именно: шмел! А ос — это вокруг которой земля вертится, — рассказывал в очередной раз подручный, упорно застегивая ширинку на все пуговицы.
Женщины варили пельмени разом на всех противозаконных электрических плитках. После тающих во рту пельменей дошла очередь до застольных песен. В паузе между ними по личной просьбе одной из невест Кузнецов спел любимую частушку:
Аэроплан летит — крыло побелено. Простите, девушки, ведь я беременна.
Вторая невеста была несколько смущена, но промолчала.
Наконец все столы за ненадобностью отодвинули к оконной стене, освободив пол для танцующих ног. Патефон со своими задрипанными фокстротами не смог составить конкуренцию подвыпившему подручному, вооруженному баяном. Барак затрясся от напряжения. Периодически раскачиваемый из баловства желтый абажур создавал трогательные колебания света и тени на занавесках с красными маками. Плясали, не особенно прислушиваясь к мелодии. Пили походя, не закусывая. Курили тут же, гася окурки в блюдцах и на скатерти. К вечеру азарт стал несколько стихать. Утомившихся невест под руки увели в угловую комнату и уложили спать, чтоб не мешались под ногами в своих длинных платьях.
Андрей и Петр тоже рванулись было туда, но их мигом угомонили: «Успеете еще!».
Снова начали заводить пластинки, но уже при вывернутой лампочке.
В окно светила луна, и кое-что можно было при желании разглядеть.
— В этот час, волшебный час любви, — пела пластинка.
— В первый раз меня любимой назови, — подпевали девушки, разомлев от случайного счастья.
— А ведь завтра, ребятки, рабочий день, — вдруг произнес Кузнецов, нарушив разом хмельную идиллию.
Сильные духом начали прощаться и расходиться по общежитиям. Двух сильно раскисших оставили ночевать на одной свободной кровати.
Подручный устроился на полу, под столами, положив под голову два кирпича. Уютно подогнул ноги и тут же засопел.
Телеграмма от Лидии пришла из Москвы на следующий день: «Поздравляю Танюшу и Андрея. Желаю большого счастья. Крепко обнимаю и целую. Ваша Лидия».
Через месяц в связи с резким увеличением семейных пар, «незаконно проживающих в общежитиях», приказом Музрукова всем молодоженам были выделены отдельные комнаты в новых двухэтажных домах с центральным отоплением и горячей водой.
В ноябре 1948 года первая ядерная кампания на реакторе «А» была завершена. После пятимесячного облучения в мощном нейтронном потоке все 75 тысяч урановых блочков общим весом сто тонн были выгружены из технологических каналов в приемный бункер. С помощью дистанционно управляемой гидравлической системы все блочки транспортировались из бункера в водяное хранилище, где им полагалось отстаиваться в огромных разгрузочных кюбелях. И только после спада первичной высокой радиоактивности блочки подлежали транспортировке на радиохимический завод «Б» для выделения из них накопленного за эти месяцы драгоценного плутония.
Победное завершение первой реакторной кампании воодушевило всех руководителей атомного проекта, оптимистично настраивало на успешное завершение задания Сталина по созданию атомного оружия. Всем, в том числе и научным руководителям и консультантам, казалось теперь, что уж с химическим разделением урана и плутония на заводе «Б» особых проблем и непредвиденных аварий, как на «Аннушке», не будет.
Химия считалась классической наукой, методика которой была вполне освоена еще в 19 веке. Однако на практике именно радиохимический завод «Б» по выделению плутония принес наибольшее число аварийных ситуаций и человеческих жертв. Главная сложность процесса заключалась в его многоцельности и противоречивости требований. В облученном уране плутония содержится едва ли сотая доля процента от общей массы. В тонне урана — около ста грамм плутония. Поэтому с самого начала было ясно, что при общих гигантских масштабах производства и использовании крупногабаритного оборудования в конечном итоге надо получить какие-то крупицы, не потеряв по возможности ни грамма драгоценного плутония. Но и это еще не все. Помимо плутония, в уране содержатся осколки деления ядер урана-235. Эти ядра делятся на произвольные неравные куски, совершенно асимметрично. Поэтому урановый блочок после многомесячного облучения в реакторе нейтронным потоком «нашпигован» десятками осколков разной химической природы. Едва ли не всеми химическими элементами периодической системы. И все они с точки зрения требуемой чистоты конечного продукта являются паразитными примесями. Наличие сотых или даже тысячных долей процента некоторых из них может привести к снижению качества плутония настолько, что он окажется непригодным для взрывной цепной реакции в бомбе. Эти осколочные примеси называют радионуклидами. Они подлежат безоговорочному удалению.
Задача усугубляется тем, что все эти радионуклиды, перенасыщенные нейтронами, являются искусственными и крайне неустойчивыми изотопами природных химических элементов. Каждый из них, испуская невидимые радиоактивные лучи, является источником смертоносной опасности.
Поэтому-то урановый блочок, выгруженный из реактора, представляет собой средоточие ада. Ни один природный радиоактивный элемент даже радий, не может идти ни в какое сравнение с ним по уровню активности.
Это трудно вообразить. Не поддается обычному человеческому осмысливанию. Небольшой цилиндрик длиной около десяти сантиметров и диаметром с толстую свечку за одну минуту может убить все живое, биологически активное, что случайно окажется рядом с ним. За эту минуту может произойти изменение структуры всех клеток человеческого тела. Это означает неминуемую смерть. Кратковременное прикосновение к такому невзрачному блочку означает вынужденную ампутацию сожженного органа, руки или ноги.
Поэтому перед запуском в радиохимическое производство выгруженные блочки необходимо — по человеческой логике — хранить в течение одного-двух лет под защитным слоем воды для спада этой чудовищной сверхактивности до более или менее безопасного уровня. Но кто же позволит? Откуда взять этот год в атомном забеге на первенство мира? Месяц! Хватит и месяца…
Освобождение облученного урана от радионуклидов на первой стадии радиохимического процесса приобретает, таким образом, характер не только конечного результата, но и обеспечения хоть какой-то безопасности для эксплуатационного персонала на последующих стадиях процесса. Только после освобождения от радионуклидов можно переходить к конечной стадии — выделению плутония.
В отчете об изготовлении и испытании американской атомной бомбы Г. Смит записал о радиохимическом производстве:
«…Все технологические операции необходимо производить на значительном расстоянии от густонаселенных районов и строить специальные, достаточно большие хранилища для радиоактивных отходов…
Громадная активность радиации от продуктов деления, сравнимая с радиоактивностью многих килограммов радия, требовала применения дистанционных методов во всех химических операциях…».
Проектную разработку технологического процесса на объекте «Б» в плутониевой зоне поручили в начале 1946 года ленинградскому Радиевому институту (РИАНу) во главе с академиком Хлопиным.
В выполнении секретного задания Спецкомитета приняли участие несколько отделов института, руководимых профессорами Ратнером, Гринбергом и Никитиным.
Через полгода разработанная технология была изложена в одном рукописном экземпляре, переплетенном толстым синим дерматином («Синей книге»), и одобрена на заседании Научно-технического совета ПГУ.
Вскоре доклад был размножен и под грифом «для служебного пользования» рекомендован как теоретическое пособие для подготовки эксплуатационного персонала объекта «Б».
Суть радиохимического процесса заключалась в том, что плутоний, как и многие другие химические элементы, проявляет в соединениях разную валентность. Он может быть трехвалентным (восстановленное состояние) и шестивалентным (окисленное состояние). В зависимости от этого изменяются растворимость плутония в некоторых средах и ряд других свойств.
Все химические операции практически можно производить только с растворами. В связи с этим начало технологической цепочки было предопределено: облученные урановые блочки подлежали растворению в концентрированной азотной кислоте.
Следующий процесс на языке химии назывался окислительным осаждением. Он заключался в том, что к полученному раствору добавлялись соли уксусной кислоты (ацетаты), которые, вступая в химическое соединение с ураном, образовывали твердый осадок в виде кристаллов смешанного состава. Окисленный плутоний также захватывался этими кристаллами.
В растворенном состоянии оставались все радионуклиды. После этого предполагалось сам раствор (декантат) вместе с вредными примесями куда-нибудь слить как побочный продукт основного производства.
Еще на стадии лабораторных экспериментов выявился главный недостаток проекта: образование большого количества жидких высокоактивных отходов (ВАО). На каждую тонну перерабатываемого урана — пятьдесят тонн жидких отходов. Для временного хранения решено было построить вдали от объекта «Б», в укромном месте, огражденном проволокой и плакатами с черепом и перекрещенными костями, безлюдные долговременные хранилища: комплекс «С». Специальные бетонные баки-каньоны огромной емкости, замурованные в земле.
Оставшийся осадок после многократной промывки снова необходимо было растворить в азотной кислоте. Теперь речь шла уже о непосредственном разделении урана и плутония. Специальными химическими добавками плутоний восстанавливался до трехвалентного состояния. При этом он терял свою изоморфность (одинаковость кристаллических свойств) с ураном. Поэтому при новом впрыскивании ацетатного осадителя в осадок выпадали только кристаллы урана, а плутоний оставался в растворенном состоянии. И снова — декантация.
Концентрированный азотнокислый раствор плутония после до-очистки являлся целевым, плановым продуктом завода «Б». В канистрах по 20 литров он должен был из рук в руки, под роспись передаваться приемщику химико-металлургического завода «В».
Осадочная урановая пульпа подлежала фильтровке, сушке, фасовке и возвращению в новый производственный цикл, поскольку урановой руды в СССР не хватало.
Таким образом, завод «Б» проектировался как гигантский раствороперерабатывающий химический комплекс, равного которому по своим масштабам в СССР никогда прежде не существовало.
Руководители пусковой бригады, профессора Ратнер и Никитин, прекрасно понимали все: и проектные недостатки, и невозможность осуществления всего процесса адекватно удачным лабораторным экспериментам. Неминуемы протечки в многокилометровых трубопроводных трассах. Непредсказуемо явление адсорбции плутония на металлических поверхностях. Неизвестна стойкость материалов в условиях повышенной радиации. Никому не известна точно критическая масса плутония в растворенном состоянии. А это могло при некоторых избыточных концентрациях привести к возникновению самопроизвольной цепной реакции и неминуемому взрыву основного оборудования. Ратнер и Никитин ехали в плутониевую зону, отдавая себе отчет в той опасности, которая подстерегала их лично, ждала своих создателей, приготовив радиоактивные объятия-щупальца. Конечно, надеялись выжить, но не случилось. Оба вскоре скончались от лучевой болезни.
Ученые были первыми заложниками своей собственной технологии. Но они знали, на что шли. А вот две тысячи операторов, аппаратчиц, пробоотборщиков, выпускниц Воронежского и Горьковского университетов, — ничего не знали о своей судьбе. Они не знали, зачем их везли на «базу № 10», зачем завозили на автобусах в зону и селили в барачные общежития. Они не имели понятия о радиоактивности, делении атомов урана, разлагающем отравлении плутонием. Они ехали по призыву комсомола и партии для выполнения важного государственного дела. И гордились оказанным доверием.
Для достижения ядерного взрыва необходимо создание в бомбе мгновенной сверхкритичности ядерного топлива и удержания ее на миллионные доли секунды, чтобы успела разделиться хотя бы небольшая доля «горючего» материала. Цепная реакция деления в бомбе протекает на быстрых нейтронах и носит характер мгновенного мощного взрыва.
В производственных условиях завода «Б» возможен был и другой вариант цепной реакции с локальным взрывом. Она могла произойти в какой-либо емкости с раствором плутония, что являлось бы, по существу, производственной радиационной аварией. На языке эксплуатационников подобные самопроизвольные цепные реакции в растворах получили сокращенное наименование — СЦР.
Если критическая масса сердечника из плутония для атомной бомбы в 1948 году была определена достаточно точно, то критическая масса того же плутония, растворенного в какой-либо емкости, в тот момент, накануне пуска радиохимического завода «Б», была никому в СССР не известна. А между тем, Курчатов как научный руководитель плутониевой зоны обязан был выдать регламентные ограничения для безопасного ведения технологического процесса. Сложность физических экспериментов для определения критических концентраций плутония в растворах заключалась не в методике постановки опытов, а в их многочисленности и многозначности.
Искомая величина зависела от очень многих факторов: от химического состава растворителя, от формы сосуда, от наличия экрана вокруг сосуда. Наименьшая критическая концентрация получалась для сосудов, по форме близких к шарообразной. Чем более вытянутой и сплющенной была форма, тем менее вероятна была СЦР в сосуде.
Экран вокруг сосуда, особенно из органических материалов, увеличивал потенциальную возможность возникновения цепной реакции, поскольку экономил часть нейтронов, вылетавших из сосуда, отбрасывая некоторые обратно. В частности, таким экраном могли служить тело, голова или руки оператора, работавшего с данным сосудом, бутылкой или канистрой. Критическая масса зависела также от наличия рядом других емкостей с плутонием. Система сосудов опаснее одинокой емкости.
По этим причинам поставленная задача не имела однозначного решения в принципе. А для нахождения многих табличных данных в зависимости от концентрации, типа растворителя, формы сосудов и т. д. — необходимы были тысячи экспериментов.
В условиях бешеной атомной гонки и приближающегося пуска завода «Б» у Курчатова совершенно не было времени для организации многочисленных опытов. Но ответ на насущный вопрос о критической концентрации плутония — в виде регламентных требований — Курчатов обязан был дать.
Персонально обязан!
Для этой цели перед пуском объекта Курчатов организовал в уединенном лесном массивчике сверхсекретный научный барак для проведения базисных, основополагающих опытов.
Курчатов работал практически в одиночку, поскольку не мог подвергать в этой безумной спешке кого-то другого, кроме себя самого, смертельной опасности. Единственным человеком, которого он привлек для теоретической экстраполяции опытов, был Яков Борисович Зельдович. В конечном итоге Курчатов решил перестраховаться. Он выдал эксплуатационникам одну регламентную цифру, одно-единственное условие вполне безопасной работы: «Не более 100–150 граммов плутония в любом растворе! Ни при каких обстоятельствах!».
Зельдович, которого Курчатов вызывал из Москвы несколько раз, поселяя в своем коттедже, поддержал Курчатова: лучше перестраховаться. Не дай Бог — взрыв в какой-нибудь большой емкости. Это не только человеческие жертвы. Это еще и остановка всей технологической цепочки. Лучше перестраховаться в пять раз, тем более что вряд ли сами аппаратчики будут так уж точно придерживаться утвержденного Курчатовым регламента…
В декабре 1948 года завод «Б» готовился к принятию первой партии облученных урановых блочков с реактора «А». Срок, утвержденный Сталиным для испытания атомной бомбы, — 1-й квартал 1949 года — висел на волоске.
Снижение допустимой концентрации плутония в растворах до 150 граммов, безусловно, должно было ограничить скорость технологического процесса, накладывая определенные ограничения на разовые объемы принимаемого и обрабатываемого продукта. Игорь Васильевич понимал это лучше, чем кто-либо другой. И все-таки перестраховывался. Не хотел нести ответственности ни за возможные СЦР по его вине, ни за человеческие жизни.
Как показал начальный этап работы, руководители цехов и смен относились к регламенту Курчатова с некоторой беспечностью, постоянно нарушая его.
«Не может быть, чтобы Борода не перестраховался», — думали они. И нарушали регламентную цифру и в два, и в три раза.
Из книги А.К. Круглова «Как создавалась атомная промышленность в СССР», 1995 г.:
«Проблема безопасности для этого завода связана в первую очередь с контролем количества плутония в каждом аппарате, контейнере и трубопроводе, в каждой емкости…
Значение критических масс делящихся материалов на различных стадиях технологического процесса различается…
Только в 1951 году определили, что при концентрации плутония 20–40 г/л в определенных условиях критическая масса была немного больше 500 г…
Неточность лабораторных анализов, ошибки в показаниях приборов или просто невнимательность персонала могли привести к превышению установленных тогда безопасных норм 100–150 г…
Поэтому и нередки были аварии — самопроизвольные цепные реакции.»
СЦР ожидала в засаде первых эксплуатационников.
Пока на заводе «Б» шла наладка технологического оборудования под научным контролем пусковой бригады из Радиевого института, Курчатов решил сосредоточиться на организации радиометрической лаборатории. Игорь Васильевич считал, что на первом этапе работы завода оперативный анализ на активность проб из аппаратов и трубопроводов будет являться во многих аварийных ситуациях единственным средством, страхующим от грубых ошибок персонала и вероятного возникновения цепных реакций при сверхвысоких концентрациях в растворах делящегося плутония.
«За химию несут ответственность в первую очередь риановцы, — думал Курчатов, — а вот за самопроизвольную цепную реакцию в растворе, да еще со взрывом (не дай Бог!) придется отвечать мне».
Успешное практическое решение этой задачи — организации радиометрической лаборатории на заводе «Б» — Курчатов связывал с именем ученого, которого знал лично и которому всемерно доверял…
Дмитрий Евлампиевич Стельмахович после окончания Ленинградского политехнического института долгое время работал у Хлопина в РИАНе. Здесь же защитил кандидатскую диссертацию.
В 1947 году его направили в Москву на секретную установку «У-5» в НИИ-9 для разработки и опробования на практике радиометрической методики определения концентрации плутония в растворах. Техническое оснащение установки было слабым, по мнению Стельмаховича, а ионизационная камера «МК», с помощью которой производилась регистрация альфа-активности растворов, — весьма несовершенной. Тем не менее, методика была разработана и опробована лично Курчатовым, который при посещении института сам сделал несколько пробных измерений. Игорь Васильевич в ходе заключительной беседы высказал соображение о необходимости дальнейшего усовершенствования методики. Впрочем, модернизации требовали и многие другие узлы, и приборное оснащение установки в целом.
С глубокой отеческой горечью и болью в сердце наблюдал Дмитрий Евлампиевич невообразимую спешку, царящую на установке. Вчерашние студенты — молодые специалисты — голыми руками бесконтрольно таскали и выбрасывали на свалку во дворе института лишние и устаревшие детали: арматуру, шланги, запорные вентили. Весь этот хлам был загажен радиоактивностью, все детали установки безбожно «фонили». Но отношение к ядерной технике безопасности у этих молодых ребят было пренебрежительным. Детское шапкозакидательство! Никакого индивидуального контроля облучения не существовало и в помине. За переоблучением ребят никто не следил. Сами они не имели понятия о «лучистой вредности». И это было самое страшное. Радиоопасность — притаившаяся смерть — невидима, неощутима на первой стадии. Действует медленно, накопительно, неотвратимо губительно. Стельмахович никак не мог понять, во имя чего жертвуют этими молодыми жизнями.
На секретную «базу № 10» Стельмахович ехать не хотел по нравственным соображениям. Он догадывался, что речь идет о каком-то промышленном комплексе, предназначенном для создания атомного оружия.
Пугала его не столько вредность предстоящей работы на Урале (хотя и это — тоже), сколько засекреченность самого места работы. «Секретная душегубка», как выражался он шепотом в кухонных разговорах с женой Диной. Стельмахович был очень хорошим и нужным специалистом, и на него поднажимали. Тянул с ответом, сколько можно было, чтоб не вызвать подозрений в отсутствии патриотизма. И все-таки, памятуя о некоторых фактах своей биографии и родственниках за рубежом, категорически не отказывался. Боялся обратить повышенное внимание к своей персоне, «вызвать огонь на себя». Ехать все-таки пришлось. Единственное условие, которое поставил Дмитрий Евлампиевич, — это переезд вместе с женой и девятилетним племянником…
Все оказалось значительно «светлее», чем Стельмахович предполагал в своих мрачных размышлениях. Лабораторное оснащение на объекте «Б» являлось, пожалуй, лучшим из того, на что можно было претендовать в СССР в тяжелые послевоенные годы. Курчатов часто забегал в лабораторию на десять-пятнадцать минут. Поддерживал все начинания. Содействовал получению модернизированной камеры «МК-ЗМ». Одобрил контрольную проверку всех стандартных альфа-источников (эталонов) и сравнение эталонов с результатами радиометрических замеров, чтобы вскрыть возможную систематическую ошибку. Постоянное завышение или занижение концентрации плутония-239 в продукте № 62 (исходном азотнокислом растворе облученных урановых блоков) было вполне вероятно. Стельмахович прекрасно справился с задачей вместе со своим главным помощником Докучаевым.
Энтузиазм в работе окружающей молодежи как-то успокаивал Стельмаховича, отвлекая от навязчивых сомнений относительно «мудрой» цели всего происходящего вокруг.
Недавние выпускники вузов ловили на лету каждое его замечание. Вежливая обходительность Стельмаховича очень импонировала девушкам, хотя его любимое обращение «уважаемый коллега» вызывало у них на первых порах непроизвольную улыбку.
Варвара, попавшая в штат радиометрической лаборатории, обожала «своего старика», как она говорила Татьяне, «за его доисторическую порядочность».
Одним словом, постепенно Дмитрий Евлампиевич прижился. Жилищные условия — вполне сносные. Материальное вознаграждение — щедрое. Собственно, жаловаться было не на что.
Окружение? Конечно, эксплуатационный персонал, начальники смен и цехов — это не его среда обитания. Их обильные застолья и пьянки, увлеченность охотой и преферансом его не привлекали. Но малый дружеский круг постепенно сложился. И потом, самое главное, самое умиротворяющее: сказочная природа вокруг. Она порой приводила Стельмаховича в божественный восторг. Особенно в зимнее время. Покрывало голубого снега, пушистые холмики на ветках, непонятные шорохи…
Из воспоминаний Б.Н. Швилкина, 1998 г.:
«Новый год семья Стельмаховича обычно встречала в лесу, вблизи поселка ИТР. Там заранее наскоро сколачивали столик и скамеечки из не очень толстых стволов деревьев. Вместе с этой семьей Новый год встречали и немногочисленные близкие друзья. На место встречи приезжали на лыжах. Разводили костер, пили шампанское из стаканов и возвращались домой».
Ездили в лес всегда в очень узком кругу: две-три семейные пары и одинокая миловидная женщина из медсанотдела, коллега жены.
На этих лесных «гулянках» Дмитрий Евлампиевич чувствовал себя вольготно и раскованно. Разбрасывал шутливые комплименты всем окружающим женщинам, баловался с ребятишками, катался по снегу с племянником Эдиком. Но и в эти веселые, бесшабашные минуты он порой переключался на свое, затаенное. Сколько же сотен и тысяч талантливых ученых и инженеров обречены на участие в какой-то бессмысленной гонке по созданию военного «изделия»!
— Для чего? Для защиты какой великой идеи? — вырывалось у него непроизвольно, без предисловия.
Дина привыкла к его незаконченным мыслям.
— Ну ладно, ладно, — успокаивала она его, — опять двадцать пять. Лучше посмотри вокруг, на эту красоту.
Он тут же соглашался с женой, стряхивал оцепенение и бросался в шутливые схватки с детьми…
— Значит, сомнение налицо? — спросил Шутов у собеседника, закуривая любимый «Казбек».
— Да. Можно так сказать.
— Высказывает какие-то конкретные предложения? Агитирует?
— Пожалуй, что нет. Скорее, сам мучается.
— Ну ладно. Огромное спасибо вам. Заходите. Всегда рад нашим встречам.
«Серьезного ничего, — подумал Шутов, оставшись наедине, — но запросить ориентировку тоже не помешает».
Ответ был скорый. Брат жены Стельмаховича убит три месяца назад в Тагильском лагере при попытке сопротивления конвою. Бросился на солдата с овчаркой со словами «изверги» и «убийцы». Отец Стельмаховича — в Париже. До войны поддерживал постоянную связь с умеренными белоэмигрантскими кругами. В настоящее время проживает в доме для престарелых и инвалидов в пригороде Тулузы. Дед жены, Вальковский Семен Яковлевич, эмигрировал в США еще до революции. Основал небольшую торговую компанию по сбыту спортивного снаряжения. Компания расширилась. Существует и поныне, преуспевает.
Во всех автобиографиях Стельмаховича этих данных не обнаружено. По работе характеризуется положительно, как ценный специалист.
«Кое-что скрывает, — подвел итоги Шутов, — уклоняется от полной правды».
Павел Анатольевич после некоторого размышления решил пригласить к себе Стельмаховича для ознакомительной беседы. Конечно, ничего особо предосудительного, за что можно было бы сразу ухватиться двумя руками, в материале не было. Но чем черт не шутит? Иногда тонкая ниточка может превратиться в морской канат. Шутов научился за долгую практику внимательно всматриваться в душу человека при поверхностно-любезной беседе. Он чувствовал малейшие отклонения от искренности, шорох лицемерия. В интонациях, величине паузы, по глазам…
Первая беседа прошла в высшей степени гладко. Стельмахович даже понравился Шутову. Павел Анатольевич рассыпался высшими оценками не только радиометрической лаборатории, но и всему трудовому коллективу объекта «Б». Стельмахович благодарил за высокую оценку. Шутов интересовался, как Дмитрий Евлампиевич представляет себе перспективы своей научной работы? Готовится ли к защите докторской диссертации?
Назначение подобной беседы Стельмахович сам себе не мог объяснить однозначно. Но она оказала на него удушающее воздействие. Присматриваются, вероятно. В чем-то подозревают. Может быть, раскопали, что скрыл свое нерабочее происхождение при поступлении в вуз? Что еще? Больше ничего антисоветского за своей спиной Стельмахович вспомнить не мог. Но это не успокаивало.
И Шутов не мог оценить однозначно результат беседы. Вроде бы все без шероховатостей. Однако какое-то зерно произросло. Наконец, он осмыслил свое ощущение. В памяти Шутова возникла фамилия научного руководителя, Курчатова. Стельмахович не имел права знать эту фамилию. Во всяком случае — произносить ее вслух. Но он и не произносил. Только несколько раз упомянул о систематическом нацеленном внимании научного руководителя к работе его лаборатории. Значит, постоянно встречаются. Это надо поощрить, как-то использовать. Стельмаховича есть за что прихватить. Чувствует за собой некоторые грешки. И трусоват, чтобы ответить категорическим отказом. Шутов решил через две недели еще раз поговорить со Стельмаховичем, направив беседу в профессиональное русло.
Павел Анатольевич имел огромный опыт вербовки осведомителей. Контакты с ними всегда были непременной частью его работы. Что касается Дмитрия Евлампиевича, то внимание службы режима к его неприметной особе испугало. Все эти дни он не мог отвязаться от периодически вспыхивающих мыслей, что его засасывает в какую-то вонючую трясину. Спать хотелось все меньше и меньше.
Да и сны были какие-то рваные и утомительные: черные океанские валы, зеленые осьминоги, молнии над тонущим парусником.
На вторую встречу Стельмахович шел в угнетенном состоянии. Не оставляют в покое. Теперь ему казалось, что когти какого-то не существующего в природе страшного зверя сжимаются на горле.
Грубый, откровенный нажим Шутова привел Стельмаховича в гнетущее состояние безысходного унижения и мучительного страха.
Обратно шел совершенно обреченно. Домой зашел на пять минут. Никого нет. Дина на работе, Эдик — в школе. Надел лыжи, взял свое подарочное охотничье ружье и медленно направился к любимому праздничному месту в лесу. Не доходя десяти шагов до знакомой полянки, остановился. Приставил ствол к подбородку и с трудом нажал на тугой курок.
Из воспоминаний Б.Н. Швилкина, 1998 год:
«На объекте поговаривали, что он был американским шпионом. Думаю, что это не так, просто в атмосфере шпиономании режимные органы объекта очень хотели показать свое профессиональное мастерство в «разоблачении врагов». Истинные причины самоубийства Стельмаховича остались неизвестными…
После гибели Стельмаховича его жена и племянник Эдик были незаметно удалены с объекта».
Смерть Стельмаховича расстроила Шутова: сорвался!
Что ж, бывают и осечки.
Пережал немного. Недоучел внутреннюю гнилость старика.
Тем не менее, выход на ученых зоны надо найти непременно, считал Павел Анатольевич. Если среди столичных ученых-биологов оказалось столько откровенных врагов — генетиков, то почему то же самое не может иметь место среди плутониевых физиков?
И дело ведь не только в их неверии в наши идеалы. Ученые могут быть источниками и непроизвольной утечки секретной информации.
Они ведь как малые дети, думал Шутов. Самомнения и тщеславия — хоть отбавляй. Доверчивые — сверх всякой меры. Да еще весьма насмешливо и скептически относятся к многочисленным защитно-профилактическим мероприятиям. Недооценивают значение его, Шутова, службы.
А ведь перед ним поставлена задача: не только обеспечить физическую защиту плутониевой зоны, но и надежно сохранить все государственные секреты, связанные с ней. Поэтому свои люди среди ученых всегда нужны. Не Стельмахович, так кто-то другой.
В памяти мелькнула фамилия: Ширяева…
Ширяева Ольга Константиновна. Член Союза архитекторов СССР. Проектировала санаторий имени Ломоносова в Геленджике. Институт стоматологии в Москве. Статья 58-1, антисоветская пропаганда. Да, да, он хорошо помнит.
Работала на отделке помещений объектов «А» и «Б», раскрашивала коттеджи в научном поселке.
Внешне привлекательная. Интеллигентная. Коммуникабельная. Пользуется расположением научного руководства. Особенно близка к главному теоретику. Дважды приглашалась во время работы и участвовала (0,2 часа и 0,5 часа) в неофициальных дружеских беседах с учеными в коттедже Главного научного руководителя. Подозрительных инициатив с ее стороны не зафиксировано. Беседы на общие темы.
До освобождения — полгода.
Павел Анатольевич встал из-за стола и прошелся вдоль кабинета, от окна до портретов Дзержинского и Берия. Его богатый опыт работы с осведомителями среди украинских националистов и творческой интеллигенции в 20-х годах подсказывал ему, что Ширяева могла бы стать прекрасным внештатным работником. Весьма ценным.
Содержание ее в лагере малоэффективно. Практически бесполезно. А на свободе она могла бы быть очень даже полезной. Надо взяться за ее разработку.
И Шутов тут же сел писать рапорт-ходатайство о досрочном освобождении заключенной Ширяевой O.K.
Первый разговор с намеченным «объектом» всегда вызывал в душе Павла Анатольевича предчувствие раскованной душевности и теплоты. Он весь преображался и подтягивался. Забывал о своей тяжелой и ответственной работе. Превращался в обыкновенного, чуткого и доброго человека.
Ширяеву Шутов видел только на фотографии в деле. Там у нее была растрепанная прическа, испуганные глаза. Качество фотографии неважное. Нос полуразмыт. Однако по справке из личного дела, Ширяева в свои тридцать семь лет имела довольно привлекательную внешность. Что же, посмотрим. В действительности она оказалась почти красавицей.
— Здравствуйте, Ольга Константиновна, — Шутов привстал на уровень знаменитых лиц позади себя, — я очень рад видеть вас… В здравии и… прекрасной форме.
— Здравствуйте, — осторожно, боязливо ответила Ширяева.
— Садитесь, прошу вас. Прежде всего, хочу от души поздравить вас с досрочным освобождением. Это показатель полного доверия с нашей стороны. Мы не сомневаемся, что прежнюю ошибку вы полностью искупили своим примерным поведением и исключительно добросовестной работой в зоне.
— Спасибо за доверие. Я его оправдаю, — ответила Ольга заученной фразой по подсказке опытных подруг по бараку.
— Я не сомневаюсь в этом ни одной минуты. Кстати, как вы устроились с жильем?
— Меня временно поселили в молодежном общежитии.
— Это не совсем то, что вы заслужили. Я, наверное, смогу помочь вам. Правда, не сразу. Но через месяц-другой будут сдаваться два дома в жилом районе. Дайте-ка я запишу для памяти.
Павел Анатольевич обмакнул перо и аккуратно, неспешно записал что-то в своем настольном перекидном календаре. Оторвался от писания с видом человека, уже решившего для себя эту мелкую проблему. Повторил несколько раз:
— Поможем… Поможем.
Далее, после короткой паузы, Шутов начал «подкоп под цитадель». Начал разбег. Разговорился о перспективах расширения и благоустройства города. Зону, окруженную двумя рядами колючей проволоки, он назвал городом сияющего социалистического будущего.
— Через год-два вытянутся асфальтовые магистрали. Скоро торжественно откроется Дом культуры со своим драматическим театром. На очереди парк культуры и отдыха и там же стадион имени Берия. Плавательный бассейн. Вы знаете, Ольга Константиновна, когда я думаю о перспективах нашего с вами города, меня охватывает чувство большой гордости за нашу партию и наш народ. За всех наших тружеников.
В этот момент Павел Анатольевич чуть споткнулся, почувствовав некоторую излишнюю бравурность в своей речи. Надо было перейти снова в русло домашней доверительности.
— Знаете, как сказал об этом один из больших ученых, иногда посещающих наш город? Между прочим, вы его, кажется, видели. Ну да, вы же как раз расцвечивали его коттедж. Такой осанистый, с большой седеющей бородой…
— Да, я его видела несколько раз, — подтвердила Ширяева.
— Хотите, я вам прочту выдержку из его речи на открытии одного из наших заводов?
И, не дожидаясь ее одобрения и согласия, быстро приоткрыл левый верхний ящик стола и извлек заранее приготовленный исписанный лист бумаги.
— Вот, послушайте.
И начал читать с выражением, постепенно повышая голос, как будто выступал с трибуны:
— Здесь, дорогие мои друзья, наша сила, наша мирная жизнь на долгие-долгие годы…
— Хорошо, не правда ли? — Шутову хотелось получить поддержку у Ширяевой. Но она молчала, расслабленно скрестив руки на коленях.
Павел Анатольевич продолжил, еще более возвысив голос:
— …Со временем в нашем с вами городе будет все — детские сады, прекрасные магазины, свой театр, свой, если хотите, симфонический оркестр!.. Разве не стоит для этого жить?
— Каково, а? — с гордостью произнес Шутов, возвращая листок на свое место. — И ведь не преувеличивает, знаете. Я твердо верю: так и будет!
Далее Павел Анатольевич решил мягко и плавно перейти к личной судьбе Ширяевой. Поинтересовался ее планами по трудоустройству.
— Я, простите, еще ничегошеньки не решила. Ничего. Пока просто отдыхаю. Гуляю, хожу в лес. Привыкаю к новой жизни. Радуюсь ей.
Шутов соглашался, поддакивал, одобрял. Но и предлагал. Работу для Ширяевой он видел в трех формах. Первую он назвал «уличной». Украшение улиц: скверы, фонтаны, памятники.
Вторая, «парковая», охватывала зону отдыха: парковые ансамбли и стадион.
— Здесь широкое поле деятельности для вашего таланта, — уверял Шутов. — Гипсовые девушки с веслом и дискоболы Мирона, вероятно, изжили себя. Устарели несколько. Пожалуйста, дерзайте, открывайте, пробуйте.
Третье направление Павел Анатольевич назвал «камерным». В драмтеатре, руководимом приглашенным из Москвы режиссером Ордынянским, когда-то связанным с театром Пролеткульта, уже заканчивалась подготовка спектаклей «Роковое наследство» и «Особняк в переулке». На подходе была пьеса Островского «Без вины виноватые».
— Нужен художник! — торжественно закончил Шутов. — По декорациям и костюмам. Художник хороший, профессиональный, с настоящим утонченным вкусом. Понимаете?
Ширяева прекрасно понимала, что все три предложения имеют одну цель: оставить ее внутри зоны. А она рвалась домой, в столицу. Подала уже заявление для оформления документов на выезд из зоны. И вот теперь такие лестные предложения. На лице ее было написано раздумье.
— Оставайтесь, Ольга Константиновна, — мягко нажимал Шутов, — мы вам гарантируем квартиру, денежное пособие и хорошую зарплату. Между прочим, вдвое выше столичной. А публика у нас в городе собралась благодарная и достойная. Много интеллигенции. Большие ученые. Научная элита: Игорь Васильевич… фамилии по известным соображениям не называю… Юлий Борисович… Яков Борисович. И откровенно вам скажу, все они к вам относятся прекрасно, по-дружески…
«Знают ведь», — мелькнуло в голове Ширяевой.
При упоминании имени Якова Борисовича у нее защемило сердце. Как он там в Москве? Когда приедет в следующий раз? Обещал скоро.
— Предложения ваши, Павел Анатольевич, — заверила Ольга, — заманчивы и прекрасны. Вероятно, я даже недостойна их. Я благодарна за ваше личное участие в моей судьбе. И все-таки разрешите мне некоторое время подумать. Трудно сразу решиться на что-то определенное именно здесь. Все-таки город наш закрытый…
— Ну, это ведь временно, — перебил возражением Шутов, — неужели вы думаете, что колючая проволока на долгие годы? Ну что вы в самом деле…
И он опять принялся с увлечением рассказывать о перспективах расширения и украшения города.
А Ширяева в эти минуты думала о Якове: «Надо с ним посоветоваться. Отношения наши крайне неопределенные. На что я могу рассчитывать? Ведь у него в Москве семья, жена и дети. А кто я для него?».
— Павел Анатольевич, не нажимайте. Прошу вас. Я не могу решить этот вопрос прямо сейчас, сию минуту.
— Конечно, конечно, — согласился Шутов, — подумайте в спокойной обстановке. А через дней двадцать встретимся. Идет? Обещаете? Ну и прекрасно.
Такой исход беседы вполне устраивал Ольгу. Через две недели должен был появиться Яков. Надо посоветоваться с ним…
Встреча их была незабываемо чудной, какой она может быть у двух влюбленных и свободных людей. Яков советовал Ольге выбираться из зоны. Тем более что его командировки сюда вскоре должны были прекратиться. Скорее всего, ей не разрешат сразу поселиться в Москве. Пусть будут Вологда, Владимир или Киржач. Они будут периодически встречаться.
— Нет, надо уезжать, — считал Яков Борисович. — Как только документы на выезд будут готовы, надо зайти к Шутову, поблагодарить и вежливо отказаться от предложенной работы. А можно и вообще не заходить к нему.
Они не знали, что Шутов сразу после выхода Ширяевой из кабинета поднял трубку и дал команду задержать рассмотрение ее документов:
— Да-да. Задержите. Вплоть до моего дополнительного звонка.
В начале декабря 1948 года на объекте «Б» начался невообразимый аврал. Через несколько недель предстояло принимать первую продукцию с завода «А» — первую партию облученных урановых блочков.
Основная технологическая линия — емкости, трубопроводы, запорная арматура — была смонтирована наспех. Емкости спешно промывались очищающими растворами и сушились сжатым воздухом. Трубопроводы прокачивались и проверялись на проходимость. Тысячи задвижек и запорных вентилей, уровнемеры и сотни показывающих приборов испытывались наладочными бригадами с составлением актов. На этой стадии для контроля были подключены и сотни будущих эксплуатационников: аппаратчицы, операторы, технологи, лаборанты.
Вот уж когда Варвара и Татьяна вспоминали Николая Михайловича: «Работы будет невпроворот». Порой начальству приходилось принимать жесткие меры.
Из воспоминаний Ф.Д. Кузнецовой, аппаратчицы завода «Б», 1999 г. (В. Ларин. «Комбинат «Маяк» — проблема на века»):
«Несмотря на спешку, к назначенному сроку производственная схема не была готова… Спецслужбы давили — делайте быстрее. Нашему начальнику 8-го отделения было сказано: пока не закончишь подготовку оборудования — с рабочего места не уйдешь. Пришел часовой и отобрал у него пропуск, без которого нельзя было выйти с территории предприятия. Что он мог сделать один? Ясно, что мы все остались с ним. Мы провели на заводе двенадцать суток, пока технологическая схема не заработала…»,
20 декабря, после месячной выдержки в водяном хранилище на объекте «А», первая партия блочков была загружена в специальный вагон-контейнер. Морозной уральской ночью под прикрытием взвода охраны радиоактивный бронепоезд двинулся из пункта «А» в пункт «Б».
Утром 22 декабря лидирующая тонна урановых блочков, испускающих смертельные ионизирующие лучи, была загружена в первый по ходу технологической цепочки аппарат-растворитель А-210 емкостью в 6 кубических метров. Блочки автоматически ссыпались из железнодорожного контейнера в приемный бункер, откуда под собственным весом должны были скатываться по широкой приемной трубе непосредственно в аппарат. Труба имела по длине (около десяти метров) два плавных изгиба, сразу же доказавших на практике свою опасность. Тяжелая масса блочков застряла на первом же повороте. В ударной спешке не придумали ничего лучше, как подтолкнуть непослушные блочки длинными железными прутьями. Из горловины бункера вылетал в окружающее пространство такой мощный поток радиоактивного излучения, что все имеющиеся в наличии переносные дозиметрические приборы зашкаливали.
Среди немногочисленных мужчин-ремонтников, имевшихся в смене, бросили клич о помощи. По очереди они подбегали к смертельному конусу и в спешке шуровали прутами, пытаясь протолкнуть блочки по трубе в приемный бак.
Справились с задачей за пятнадцать минут. «Шуровки» аккуратно прислонили к стене здания: пригодятся на будущее. Трудящимся была объявлена благодарность после того, как в аппарате пошел начальный процесс растворения блочков в концентрированной азотной кислоте. Процесс пошел! Но все технологические этапы требовали корректировки.
Отделение растворенного плутония от уранового осадка тоже протекало с осложнениями.
После того, как раствор с плутонием сливался, в емкостях оставался урановый осадок в виде пульпы. Для утилизации урана и получения его в твердой фазе пульпу необходимо было отфильтровать. Для этого непосредственно перед фильтрованием проводилась операция равномерного перемешивания пульпы путем продувки ее сжатым воздухом (барботаж), а затем полученная взвесь сразу сливалась по трубопроводам на ткань специальных фильтров. Первая же подобная операция привела в состояние шока руководителей пусковой бригады: никакого уранового осадка на фильтрах вообще не обнаружили. Добрая сотня килограммов урана испарилась неизвестно куда. Исчезла совершенно.
Оказалось, что давление воздуха при барботаже было слишком высоким. Осадок вместе с продуваемыми пузырьками воздуха образовал шипучую пену, которую выбросило в вентиляционный короб на крыше здания. Там и нашли осадок урана, запекшийся и замерзший на тридцатиградусном морозе. Поскольку уранового сырья в стране не хватало, каждый килограмм урана, возвращаемый затем в ядерный цикл, был на строгом учете.
Пришлось срочно организовывать бригаду из молодых рабочих. Они, по очереди орудуя подручными скребками, счистили весь уран с крыши, погрузили в специальные мешки и сдали по весу в отдел учета.
После этого горького опыта срочно стали подбирать необходимые пеногасители. Сам процесс перемешивания воздухом отрегулировали, снизив давление.
Однако все равно участок фильтрования урановой пульпы и расфасовка уранового осадка в мешки оставался одним из самых опасных для здоровья. На этих операциях аппаратчики не только подвергались внешнему гамма-облучению, но и принимали огромные дозы внутрь, в легкие, поскольку воздух в фильтрационном каньоне был насыщен активной пылью. От этих аэрозолей можно было защититься даже простой марлево-ватной повязкой на рот и нос. Но никаких защитных средств, кроме дефицитных резиновых или брезентовых перчаток, не использовали.
Из воспоминаний аппаратчицы И.А. Размаховой, начавшей работать на заводе «Б» в 1948 году:
«… На одном из этапов нужно было фильтровать радиоактивный раствор для извлечения урана, чтобы при этом плутоний оставался в растворе. Фильтровался раствор плохо, и для более равномерной фильтрации мы помешивали его специально сделанными из дерева лопаточками. Разумеется, вручную. Потом эти фильтры с осевшим на них ураном нужно было снимать и увозить. Снимали их люди, называвшиеся «спецаппаратчиками», которым платили сдельно. Кажется, триста рублей за каждый снятый фильтр. Для сравнения: месячная зарплата оператора составляла примерно полторы тысячи рублей. Эти фильтры задерживали основную часть наиболее опасных, бета-активных осколков деления, и те, кто их снимали, — прожили недолго. На этой работе больше 2–3 месяцев никто не задерживался. Бывали случаи, когда у спецаппаратчиков прямо во время работы начинала горлом идти кровь, но они заканчивали свое дело. Однажды я попросила сотрудника проверить, почему не фильтруется раствор. Он пошел открывать вентиль, а из-под вентиля ему на ногу вылился высокоактивный раствор. Он долго лежал в больнице, но все-таки умер…»
Еще более опасные условия работы существовали в первые месяцы в экстракционном отделении (здание 102), где проводилась подготовка и передача конечной готовой продукции на завод «В».
Из воспоминаний оператора Ф.Д. Кузнецовой:
«… На последнем этапе готовый продукт нужно было разлить в стеклянные бутыли перед отправкой на завод для получения там металлического плутония…
Для этого к трубе подставляли бутыль, подтыкали ветошь для уплотнения и с помощью вакуума переливали. Потом бутыль бралась на пузо и вручную переносилась в каньон готовой продукции».
Чтобы снизить собственное облучение, пробоотборщицы по коридорам почти бежали, выбирая наиболее короткий путь. Выдача готовой продукции производилась инженерами. Первые месяцы эту ответственную операцию осуществлял сам начальник экстракционного отделения. За день он получал полугодовую дозу облучения, предусмотренную нормами безопасности.
Но главной «хронической болезнью» всех отделений завода являлась коррозия оборудования, трубопроводов и запорной арматуры. Учитывая агрессивность растворов, этого можно было ожидать. Но интенсивность и масштабы ее невозможно было ни угадать, ни предположить, ни проверить в лабораторных условиях. Агрессивность химических реагентов умножалась сильными радиоактивными полями. Ремонтные службы и группа коррозионистов с момента пуска работали в непрерывно-аварийном режиме. Металл, из которого были изготовлены емкости и трубы, не мог выстоять, особенно прокладки разного типа на фланцевых соединениях. Протечки радиоактивного раствора были ужасающим бичом. Казалось, им не будет конца.
Из воспоминаний оператора Ф.Д. Кузнецовой:
«…Не успели в конце декабря пустить производство, а в январе на трубопроводе основного продукта (так назывался раствор плутония) образовался свищ, и продукт № 76 полился прямо на стоящего в отделении часового. Таких случаев впоследствии было множество, и боролись с разлитым радиоактивным раствором с помощью тряпки и ведра. Уборщиц в цехах не было по причине секретности, поэтому всю уборку мы делали сами.
Чаще всего разливы происходили в каньонах, где было установлено технологическое оборудование. Эти каньоны были закрыты бетонными плитами, которые никогда не должны были подниматься.
Их назначение — защищать персонал от радиоактивного излучения, идущего из технологических аппаратов. Спускаться туда, согласно технике безопасности, было нельзя. Но другого способа собрать разлитый раствор не было. Поэтому после первого же разлива радиоактивного продукта эти плиты были подняты, и их на место больше не ставили. Спускались в этот каньон все сотрудники помногу раз. Как только сработает сигнализация, показывающая, что произошла очередная утечка радиоактивного раствора — оператор должен лезть туда и смотреть, что случилось. А потом — ликвидировать последствия.
Я работала оператором, и мне часто приходилось собирать разлившийся раствор. Собирала его тряпкой, поскольку… никаких устройств для его отсоса не создали. Собранный раствор из ведра переливали в бутыль и пускали дальше в производство: ведь он был очень дорогой. Часто это делали голыми руками, поскольку резиновых перчаток на всех не хватало. Один раз прислали перчатки, а они все маленького размера. Мужчины отдали их мне, а сами работали с радиоактивностью голыми руками…
Дно каньонов было бетонное, и отмыть с бетона радиоактивность практически невозможно. Бывали случаи, когда приходилось отбойными молотками ломать бетонный пол, чтобы снять несмываемый слой радиоактивности…
На уровне 7,7 м проходил трубно-вентильный коридор, где были в ряд расположены многочисленные вентили от разных аппаратов. Из-под этих вентилей постоянно случались протечки радиоактивного раствора… Коридор был очень узкий, и, когда случалась протечка, я ложилась на живот и заползала в этот коридор, чтобы тряпкой собрать разлившийся раствор. А спиной стукалась о проходившие выше вентили и трубы…
Разумеется, определить полученные нами дозы было невозможно. И вообще радиационного контроля практически не было. Зачем он был нужен, если начальству и так было ясно: мы работаем при очень высоких уровнях радиации, а заменить нас некому…»
Руководители научной пусковой бригады профессора Никитин, Виноградов и Ратнер предпринимали судорожные меры к уменьшению влияния коррозии. Часть аппаратов и труб небольшого диаметpa были заменены на изготовленные из золота, платины, серебра. По предложению профессора Тананаева часть металлического оборудования была заменена на оборудование из синтетических материалов: плексигласа, винидура и других. Однако в условиях повышенного радиационного фона органические соединения стали разлагаться.
Из воспоминаний Ф.Д. Кузнецовой:
«Однажды пластмассовый аппарат емкостью 200 литров, в котором шло осаждение, сам собой развалился. Пластмасса не выдержала экстремальных условий эксплуатации. Став хрупкой, она треснула, и радиоактивный раствор разлился. Мы всю радиоактивность собрали, отчистили, вымыли полы. Конечно, нахватали большие дозы, а когда закончили, у проходной нас уже ждал черный воронок КГБ.
После смены всю ночь мы писали объяснения в КГБ, как все произошло».
Спешка первых месяцев, желание руководства получить первый плутоний как можно быстрее толкали людей на нарушения простейших правил безопасности. Торопливость под гнетом страха и великого патриотического порыва приводила порой к грубейшим ошибкам и нарушениям технологии. Режим секретности только мешал. Условные буквенные и цифровые обозначения растворов и аппаратов запутывали операторов и технологов.
Из воспоминания Ф.Д. Кузнецовой:
«…На производстве было запрещено делать какие-либо записи. Все работы производились по памяти, чтобы не было утечки совершенно секретной информации. Люди были постоянно в состоянии стресса, боясь забыть что-нибудь важное, относящееся к производству. И нередко забывали. Особенно на первых порах…».
М.В. Гладышев (зам. главного инженера завода «Б»), 1998 г.
«Во время пуска радиохимического завода люди работали с радиоактивностью в своей повседневной одежде, лишь иногда надевая халаты и специальную резиновую обувь. Душевых при выходе с территории объекта не было. Контрольно-пропускной пункт, на котором должен был производиться дозиметрический контроль, практически не использовался, и радиоактивная грязь разносилась по городу и жилым домам».
Но самой тяжелой оказалась проблема отходов.
По проекту, для отстойного хранения жидких отходов были сооружены с помощью метростроевцев специальные тоннели-хранилища, состоявшие из нескольких громадных баков, — так называемый «Комплекс "С"».
Мощные бетонные стены этого хранилища были обмурованы графитовыми блоками двухметровой толщины. Вес верхней защитной плиты из бетона достигал 160 тонн.
В конце декабря 1948 года в эти баки потекли первые радиоактивные струи: жидкая смесь десятков радионуклидов, а также попутно захваченных урана и оружейного плутония.
Грязно-серый пенный поток вливался в баки непрерывно, повышая изо дня в день тщательно контролируемый уровень.
Когда он достиг аварийной отметки, для руководителей атомного проекта вопрос встал ребром: или остановить завод «Б», или сбрасывать радиоактивные отходы в открытую гидросеть.
Решение было неизбежным в тех условиях. Мутный поток с общей радиоактивностью несколько тысяч кюри в сутки пошел самотеком через искусственный водоем № 10 в реку Течу.
Тихая, мирная речка, приток Исети, молчаливо приняла в свои воды жидкую радиоактивную смерть.
По берегам реки за пределами плутониевой зоны жили люди.
Бригада Клементьева считалась на заводе «Б» аварийной. Обычно она работала в дневную смену, выполняя самые ответственные и сложные задания по ремонту оборудования. Эти задания формулировались главным механиком с раннего утра по результатам анализа сменных технологических карт и записей в оперативных журналах.
Но в неотложных случаях бригаду вызывали и вечером, и ночью, собирая на автобусе в местах проживания.
Адреса всех членов бригады были записаны на листке с пометкой вверху «Аварийная бригада», который постоянно лежал под стеклом на столе дежурного диспетчера.
Обычно аварийный вызов начинался со стандартной жалобы сменного технолога: «Петр Иванович, не знаем, что делать. Качаем раствор (номер) из аппарата (номер) в емкость (номер), а он не поступает. Забился, наверное, трубопровод. Проверьте, пожалуйста. Только побыстрее».
Многокилометровые трассы труб забивались постоянно. Чаще всего кусками резины, которая разъедалась радиоактивными химикатами во фланцевых соединениях и вентилях. Но, бывало, попадались и мелкие камешки, и тряпки, и старые брезентовые рукавицы. Немудрено — ведь на трубопроводах, подающих химические реагенты в технологические емкости, никаких фильтров по проекту не было предусмотрено.
Чаще всего бригадники резали забитую трубу в нескольких местах, прочищали подручным инструментом и тут же сваривали заново. Сварочные стыки проверяли на скорую руку. Если жидкость не бежала через них, тем дело и кончалось.
Работа была «грязной», трубы и растворы в них фонили безбожно. Облучались больше других служб.
Но Петра и его бравых молодых ребят это обстоятельство нисколько не пугало.
Платили хорошо. К основному отпуску полагалось еще шесть дней дополнительных. Кормили в рабочей столовой бесплатно, по спецталонам. Что еще нужно?
В бригаде царила атмосфера приподнятости. Наверное, от осознания важности своей работы, незаменимости в каких-то срочных, аварийных делах.
— Медаль тебе, Клементьев, обеспечена, — заверял его главный механик. — Подожди только чуток. Вот выдадим первый продукт…
26 февраля 1949 года в 12 часов ночи первая двадцатилитровая канистра с концентратом плутония была передана в торжественной обстановке начальнику цеха № 9 химико-металлургического завода «В».
Сам завод к этому времени построить не успели. Тем не менее, основные цеха — № 4 и № 9 — временно разместились в складском бараке и были готовы к приему первой порции.
Музруков не удержался и выразил наплывшие чувства в пламенной короткой речи с ограниченным количеством звонкого мата. Борис Глебович был улыбчив. Пожимая руки окружающим, приговаривал:
— Дело пошло. Осталась концовка. Справимся! Справимся, дорогие товарищи!
Государственный план по производству продукта «Z» начал успешно выполняться. За февраль бригада Клементьева, как и ряд других работников «горячих» цехов, получила первую, вполне приличную премию.
Петр на радости взял два отгула, чтобы спокойно посидеть дома со своей Ларисой.
В последние дни Петр чувствовал себя очень счастливым человеком.
Лариса — толстая, неловкая в движениях, с коричневыми пятнами на щеках и выпавшими зубами — казалась ему самой прекрасной женщиной на свете. Петр прикладывался ухом к боковой поверхности ее живота и, наслаждаясь судорожными шорохами, вел ласковые переговоры с будущим сыном. Почему-то был уверен: обязательно родится сын, Иван. А если, в крайнем случае, появится девочка, то придется согласиться с именем, заготовленным Ларисой. Имя это Петру не нравилось, казалось каким-то вычурным и нерусским: Анжела. Но вслух не возражал. Надеялся на мальчика.
Пеленки были нарезаны, подшиты и прокалены тяжелым утюгом. Чепчики сложены стопочкой. Не хватало только детской кроватки. Хозяйственный талон на нее обещали уже второй месяц, все тянули «ввиду отсутствия наличия». Накануне родов Петр не выдержал. На заводской свалке, рядом с открытой монтажной площадкой приглядел подходящие трубки из нержавейки. Среди кучи хлама, выброшенного безжалостно из заводских недр, можно было обнаружить для домашнего обихода все, что душе угодно. Вечером Петр засел за чертеж. Ему хотелось не просто сляпать кое-как детское спальное место, а сконструировать настоящую (изящную и кружевную) кроватку, чтобы она была удобна для Ларисы и ребенка, а заодно радовала глаз со стороны. Поэтому нужны были художественные завитушки на торцах, полированные шары в верхних углах и подпятники на четырех ножках.
Сделал все «по уму», как задумал. Отправив Ларису в родильное отделение, Петр ходил без дела по комнате. Садился к столу, наслаждаясь своим изделием. Снова вставал, поправлял самодельный матрасик и подушечку. И все курил.
«Надо будет потом проветрить как следует, — подумал он. Теперь вообще придется курить только на улице. Семейная жизнь требует жертв. Лишь бы скорее родился Иван…».
Родилась Анжела. Тут уж ничего не поделаешь Девочка так девочка. Тоже человек. «Вес — 3,5 килограммов, длина 51 сантиметр. Мама и дочка чувствуют себя хорошо!..». Ну и ладно. Конечно, лучше бы мальчик. Все-таки продолжил бы род. Придется попозже начинать все сначала.
В день выписки Петр приготовил несколько вкусных блюд, бутылку водки и три цветочка в зеленой пупырчатой вазочке.
«Сейчас покормит красотку, уложим ее в кровать и… посидим за столом, глядя друг на друга».
Но срочных дел оказалось невпроворот.
Подмывали, перепеленывали, кормили, застирывали, укачивали. Даже пели по очереди снотворные песни. Когда же наконец Анжела мирно заснула к ночи, оба родителя были умотаны до предела. Сохранилось одно острое желание: лечь в постель и немедленно уснуть, чтобы сохранить запас выносливости для завтрашних капризов любимой дочки. Конечно, был бы Иван — давно уж спокойно спал бы. Потянул бы молочка из груди, пописал и уснул бы — чего еще мужику надо? А девочке, видишь ли, все не так.
Следующий день на работе прошел у Петра в разъяснениях членам бригады по очереди и всем вместе, какая красивая дочка у него родилась. Подручный задушевно поддакивал, интересуясь, между прочим, датой «обмывания на счастье».
— Ребята, вот подрастет месячишко, обмоем это дело, как и положено, — уверял Петр, — отпразднуем первый день рождения.
Петр немного стеснялся показывать своим подчиненным уж очень худые ножки и постоянно визжащий беззубый рот. За месяц подрастет, осмыслится маленько.
Лариса умаялась за день. Немножко пожаловалась вечером: «И грудь плохо берет. И спит — не спит. И кричит громко. Неужели у всех так?». Петр успокаивал жену, как мог, обещая, что все в конечном итоге встанет на свои места. Главное, растет дочка. А значит — крепнет. Отоспимся еще, отдохнем.
Но Лариса с каждым днем уставала все больше. Сон почти потеряла. Коротко дремала, уткнувшись лицом в подушку. Бродила мыслями по своему деревенскому детству босиком. Выбегала на пыльную улицу, где ждали подружки с корзинками. Шли в соседний лесок с мокрой травой и игривым мхом на хрустящих, давно поваленных наземь стволах. Голова у Ларисы кружилась, но она не засыпала.
Лариса никак не ожидала, что с девочкой будет так трудно. Однако с каждым днем Анжелочка вела себя все спокойнее, безмятежнее. Наоборот, стала настолько вялой, что перестала брать грудь. Детский лобик покрывался испариной, губки замирали, и голова откидывалась, как в полусонном обмороке. Лариса забеспокоилась. Она и сама чувствовала безмерную усталость от постоянного недосыпания. Временами ее начинало тошнить, как в первые месяцы беременности. К вечернему приходу Петра она собиралась с силами, чтобы не огорчать его своим потухшим видом и слабовольными жалобами.
Но Петр все примечал сам: «Подожду еще пару дней. Если не станет лучше, надо будет свезти их в медсанчасть. Родители оба здоровые, а дочка получилась какая-то хилая».
На следующее утро температура у дочки взлетела до 38° и на лице появились какие-то серо-синие пятна, а Лариса впервые откровенно пожаловалась, что ей самой впору ложиться в больницу. Петр решил не откладывать. Анжелу упаковали потеплее, чтоб не простудились по дороге, и на автобусе отправились на прием к врачу. Коек в стационаре было совсем немного, но Ларису с дочкой оставили. Для тщательного обследования. Петр оформил подмену на два дня и устроился жить здесь же, на стуле в прихожей комнате. Через день его помощь понадобилась. Заведующий отделением, тихий старичок Аркадий Абрамович Лозингер, подошел к нему с пробиркой, наполненной вонючей желтой слизью.
— Мой совет вам, — прошамкал терапевт, — попросите в своей заводской лаборатории, чтобы сделали радиометрический анализ кала. На всякий случай. С результатом — сразу ко мне.
Варвара по знакомству сделала анализ без очереди, немедленно.
Бумажку из лаборатории Лозингер читал внимательно, качал головой. И неожиданно поинтересовался у Петра, как он сам себя чувствует. Нет ли головных болей? Тошноты?
Петр начисто отверг подобные предложения.
— И все-таки я вынужден по заключению вашей лаборатории направить к вам домой дозиметриста. Для снятия картограммы, — заключил Лозингер.
И оказался прав. Обследование показало повышенный гамма-фон. Источником излучения была детская кроватка. Уровень был чрезвычайно высоким: примерно десять рентген в час.
Полученные дозы облучения Ларисы и Анжелы пришлось реконструировать с учетом времени и местонахождения больных все эти дни. Общая интегральная доза оказалась запредельной. Лозингер откровенно сказал Петру:
— Я не буду от вас скрывать вероятность трагического исхода. Анжела умерла через три дня. Лариса прожила на четыре дня дольше. Диагноз — «облучение на бытовой почве».
Петр обошелся без лечения. Да и некогда было обследоваться. На заводе партком помог оформить документы на вывоз тел из зоны «для захоронения по прежнему месту жительства в г. Челябинске».
С гробами, грузовиком помогли бригадники. Петр разобрал кроватку своими руками, как и собирал. Трубки отнес на ту же свалку. Изготовил на тяжелой подставке металлическую дощечку: «Не трогать. Опасно для жизни». Поставил ее рядом, перед радиоактивной кучей из обрезков труб, старых фланцев, прутьев, стружки. Через несколько дней руководство завода приняло меры. Свалка мигом исчезла. Площадку подмели и промыли дезактивационным раствором.
Петр запил. Никак не мог восстановить нормальное мироощущение. Плохо понимал, что происходит вокруг. Работал с тупым равнодушием. Напрашивался добровольцем во все «грязные» места, как будто хотел умереть по той же самой причине, что и Лариса с дочкой.
Случай скоро представился…
При растворении урановых блочков в первых — по ходу технологической цепочки — аппаратах наряду с твердыми радионуклидами выделяется много газообразных продуктов деления. Например, ксенон, йод. По проекту вентиляции завода «Б», предусматривалось сбрасывать газы в атмосферу через самую высокую на Урале трубу высотой в 150 метров, с предварительным разбавлением их в трубе чистым воздухом — чтобы обезопасить окружающую среду и население близлежащих регионов. Образование газообразных продуктов при растворении блоков являлось весьма опасной операцией, чреватой вероятным взрывом.
Поэтому по регламенту процесс должен был производиться только дистанционно, после полного окончания загрузки и удаления окружающего персонала. Однако спешка вынуждала повседневно нарушать регламент. Подхлестывало и развернутое партийными пропагандистами соцсоревнование между бригадами за объемы и скорость выполнения производственных заданий. Ударники премировались. Поскольку загрузка продолжалась довольно длительное время, особенно если блоки застревали в подающей трубе, все смены шли на нарушение: растворение начинали до того, как закончится загрузка.
Из воспоминаний оператора Ф.Д. Кузнецовой:
«… В принимающем аппарате взорвался водород, а в это время один из рабочих вручную проталкивал в аппарат-растворитель облученные блоки. Так его далеко отбросило взрывной волной от принимающего отверстия. Он долго лежал в больнице, но это не помогло, и он умер».
Причиной производственной травмы было признано нарушение Петром Клементьевым правил техники безопасности на рабочем месте, происшедшее по вине самого работающего.
В то время как на заводе «Б» торжественно праздновали получение первой порции концентрата плутония, на «Аннушке» в полнейшей секретности творился невообразимый аврал.
Для Славского и Курчатова, практически не покидавших здание реактора, январь и февраль 1949 года были бессонными.
Крупномасштабная авария подкрадывалась исподволь. Назревала и прогнозировалась Курчатовым. Можно сказать, она предусматривалась Специальным комитетом. Вся трагедия заключалась в невозможности ее избежать. Но способ ее ликвидации был поистине варварским.
Славский и Курчатов, непосредственно руководившие всеми работами на «пятачке» реактора в центральном зале, оказались на грани получения предельных доз радиации.
Увлеченный ежедневной кропотливой работой, Ефим Павлович не задумывался в те суровые дни о том, что он поневоле запомнит эту аварию как никакую другую, до мельчайших деталей и хриплых окриков. Запомнит на всю оставшуюся, очень долгую и трудную жизнь. И всегда будет вспоминать одними и теми же словами: «Эта эпопея была чудовищная…».
Уже в первые месяцы работы реактора на номинальной мощности выявилось, что сами технологические трубы, в которые загружались урановые блочки, подвержены коррозии. Хотя они были изготовлены из антикоррозийного алюминиевого сплава, в них появлялись микротрещины, через которые вода попадала в окружающий графит. Это явление было чревато двумя осложнениями. Во-первых, при больших протечках уран в канале охлаждался менее интенсивно, что увеличивало вероятность «закозления». Во-вторых, охлаждающая вода, попадая в графит, замачивала кладку, ухудшая физические свойства графита как замедлителя нейтронов, снижала потенциальный коэффициент размножения нейтронов в реакторе.
Проектом была предусмотрена просушка графитовой кладки подачей сверху через коллектор сухого сжатого воздуха. Но и эта профилактическая мера была небезопасна из-за горючести графита. Конструкторам виделся выход в анодировании с внутренней и внешней стороны технологических труб, а также в улучшении качества охлаждающей воды, в частности, в снижении содержания в ней хлоридов. Да и продувочный воздух следовало бы заменить на азот.
После первой массовой выгрузки содержимого реактора в ноябре 1948 года появилась техническая возможность произвести массовую замену всей тысячи технологических труб на новые. Анодированные трубы были заранее заказаны. Изготовление их планировалось на одном из заводов Министерства авиационной промышленности. Но заказ не был выполнен к моменту перегрузки реактора. Что прикажете делать? Держать остановленным несколько месяцев реактор в ожидании подхода новых анодированных труб или произвести новую массовую загрузку блочков в старые трубы? Спецкомитет не мог ждать. По существу, вторая загрузка урана означала возможность получения плутония для второй — резервной — бомбы. После озлобленного и крикливого совещания в СК было принято решение провести загрузку в старые трубы (авось простоят еще одну кампанию в пять месяцев), а Хруничева, министра авиационной промышленности, Берия несколько раз предупредил толстым указательным пальцем. Это было вынужденное и все-таки ошибочное решение, с которым Курчатову приказали согласиться.
На новую загрузку реактора «А» пошел весь имевшийся в стране накопленный запас металлического урана. Результат был печален.
В конце декабря 1948 года началась массовая протечка труб и замачивание кладки. Физические параметры реактора день ото дня ухудшались Запас реактивности таял на глазах. Резко возрос риск очередных «закозлений». В начале января Музруков запросил в ПГУ разрешение на внеплановый капитальный ремонт реактора для замены труб. Ванников колебался. Берия настаивал на продолжении работы во что бы то ни стало. Курчатов пытался объяснить наверху: рискуем испортить весь графит, вообще вывести из строя котел. Ответ из Москвы был тем же: «Продолжайте работать!».
Хруничев крутился как белка в колесе. Анодированные трубы были на подходе.
18 января 1949 года Курчатов потребовал остановки реактора в ультимативной форме. Ничего другого ему не оставалось. Защитные поглощающие стержни были уже почти полностью извлечены из активной зоны. Коэффициент размножения в сборке в любую минуту мог перейти границу и опуститься ниже единицы. Это означало бы, что цепная реакция в котле прекратится. Заглохнет сама по себе, независимо от приказов Берия и решений Специального комитета.
20 января 1949 года на комбинат была отгружена первая партия анодированных труб. Музрукову разрешили остановить реактор на капитальный ремонт. Вопрос стоял таким образом: как заменить все технологические трубы, сохранив при этом находящиеся в них урановые блочки, еще недооблученные до кондиции. Ведь нового урана в стране не было! Массовую разгрузку каналов в нижний подземный бункер, как это было предусмотрено проектом и выполнено конструктивно, произвести было невозможно. Проблема заключалась в том, что процесс разгрузки технологического канала не ограничивался открытием нижнего подпятника и свободным полетом урановых блочков в приемный бункер. Это технологический тракт: канал — шахта разгрузки — кюбель — бассейн выдержки и т. д. Проходя весь этот путь, урановые блочки соударяются между собой, со стенками бункера и кюбеля. Герметичная защитная оболочка нарушается. Все эти механические дефекты не имеют особого значения, если блочки идут дальше на радиохимическую переработку. Но для новой загрузки в реактор — после замены труб — такие блочки являлись бы абсолютно недопустимым браком. Их повторная загрузка привела бы к массовым «козлам» или даже частичному оплавлению активной зоны. Такой вариант разгрузки был категорически отклонен Курчатовым с самого начала.
Выход из нештатной ситуации подсказали рабочие. Они предложили «индивидуальный подход» к каждому урановому блочку…
В каждый канал загружено в среднем по семьдесят блочков. Каждый из них по очереди можно аккуратно извлечь через верхнюю горловину канала с помощью мощной резиновой присоски, опуская ее с грузиком на тросике. Опустил такое ручное приспособление в канал — захватил один блочок. Извлек осторожно, уложил на поддон или опустил в ведро с водой. Затем следующий. И так далее. Примерно сорок тысяч раз.
Предложение показалось Славскому и Курчатову диким. Ведь каждый блочок, извлеченный из активной зоны, — это смертельно опасный излучатель радиоактивности. Всю операцию надо провести так, чтобы ни один рабочий не прикоснулся случайно рукой или ногой, в перчатке или в ботинке, к такому блочку. Не говоря уже о том, что гамма-облучения избежать будет совершенно невозможно. Облучен будет весь мужской персонал реактора, воинские подразделения и заключенные (если, конечно, их допустит до работы режимная служба).
Однако другого варианта не нашли.
Работа по извлечению блочков и замене труб продолжалась непрерывно день и ночь полтора месяца.
Более всех облучались контролеры при визуальном осмотре извлеченных блочков с целью рассортировки и отбраковки имевших трещинки и вмятины.
Первые два дня почти без перерыва эту работу выполнял сам Курчатов. Разумеется, без дозиметрической кассеты. На третий день его почти насильно удалили из реакторного зала. Полученную им дозу оценили приблизительно в двести рентген.
Из воспоминания Е.П. Славского, «Военно-исторический журнал», 1993 год:
«Эта эпопея была чудовищная… Если бы досидел, пока бы все отсортировал, еще тогда он мог погибнуть…».
Всего было извлечено тридцать девять тысяч блочков. Все трубы заменены на анодированные. В середине марта эти же блочки загрузили сверху в новые трубы для продолжения работы. 26 марта 1949 года обновленный реактор был выведен на мощность.
Кузнецов работал на «пятачке» несколько раз. После того, как его кассета зарегистрировала аварийную норму облучения в 25 рентген, он был выведен в «чистые» условия работы. А многие рабочие и начальники смен из патриотических побуждений неоднократно оставляли свои дозиметры в кабинетах и шкафах перед заходом в «грязную» зону. Сам Курчатов с жалобами на здоровье к врачам не обращался, но именно тогда, после этого варварского капитального ремонта, на комбинате были зарегистрированы первые больные лучевой болезнью, официально обратившиеся за помощью в медсанотдел № 71.
Как раз к этому времени был построен первый лечебный корпус, представлявший собой длинное одноэтажное деревянное здание барачного типа. Стационарное обследование всех больных, подвергшихся облучению в первые месяцы 1949 года, проводилось во 2-м терапевтическом отделении под руководством Мойсейцева. Для врачей наплыв больных в начале этого года являлся совершенно неожиданной «лавиной в горах». Никакого опыта лучевой терапии у них не было, а зарубежная информация ограничивалась сведениями по острой форме, заканчивающейся большей частью смертельным исходом. Отсутствие знаний, необходимых лекарств, приличных стационарных условий затрудняли работу первых врачей, а существовавшие режимные запреты усугубляли трудности. Врачам было запрещено запрашивать официально зарегистрированные дозы облучения своих больных. Им не разрешалось расспрашивать подопечных об условиях их труда и характере облучения. Нельзя было записывать их устные сообщения в медкарты. Шутов в этих вопросах был тверд, как скала.
Из воспоминаний одного из первых врачей МСО-71 Ангелины Константиновны Гуськовой, 1995 год:
«Память медиков нагружалась огромным количеством фактических данных и цифр, которые было запрещено фиксировать письменно. Появлялись соответствующие уловки или шифры: дозу записывали в виде номера медицинской книжки, название лучевой болезни подменяли термином «астеновегетативный синдром», а наименование нуклидов — соответствующим номером. Все это вносило сложности в работу, затрудняло прочтение документов».
Молоденькие выпускницы медицинских вузов, как, впрочем, и пожилые врачи, опытные терапевты и дерматологи, сочувствуя и сострадая, не знали сами, как помочь этим больным и облегчить их муки. На этих первых больных врачи учились специфической науке диагностики и дифференцирования различных видов лучевых заболеваний.
Нянечки же украдкой плакали от жалости к молоденьким паренькам и от общего медицинского бессилия.
Самых тяжелых отправляли на лечение в Москву, в Институт биофизики.
Андрея тоже включили в столичную группу.
Первые, осторожные жалобы Андрея на плохое самочувствие Татьяна восприняла несерьезно: «Сильные мужчины любят жаловаться, если прищемят палец».
Когда же после осмотра и сдачи анализов Андрея оставили в стационаре, ей вдруг стало ужасно страшно за него и за себя. Его отъезд в Москву на неопределенный срок разом превратил жизнерадостную Татьяну в анемичное существо. После работы ей ничего не хотелось делать дома, в пустой квартире. Сидя на стуле или прикладываясь для короткого отдыха к подушке, она застывала в неподвижной позе. Что теперь будет?
Вскоре после эпизодического пускового триумфа на заводе «Б» аварии захлестнули и радиохимическое производство. К сравнительно мелким и постоянным, вроде коррозии оборудования и протечек раствора, добавились более серьезные, которых более всего и опасался Курчатов: самопроизвольные цепные реакции (СЦР).
Хотя утвержденную его регламентом предельную норму концентрации плутония в растворах — не более 150 граммов! — с грехом пополам старались соблюдать, опасность СЦР подкралась незаметно, исподволь. Оттуда, откуда ее совсем не ждали.
Эти аварии казались эксплуатационному персоналу какими-то непонятными и таинственными, и потому воспринимались всеми не как результат обычной оплошности или ошибки, а как наваждение.
Аппаратчицам и технологам стало казаться, что они не застрахованы ничем и никем от любой трагической случайности.
А действительная причина аварии чаще всего крылась в том, что на внутренней поверхности аппаратов невидимо для глаза происходила постепенная адсорбция плутония. На стенках откладывался никак не проявляющий себя до времени твердый налет этого металла. С течением дней, недель и месяцев толщина этого слоя росла, увеличивая массу никем не учитываемого делящегося плутония.
В каких-то аппаратах она приближалась в конце концов к критической отметке. И тогда достаточно было малейшего внешнего толчка — повышения температуры в помещении, уровня в емкости или концентрации, даже в допустимых пределах, — и цепной процесс деления ядер начинал свой непредсказуемый и неконтролируемый разгон.
СЦР могла протекать бурно, со взрывом емкости от теплового расширения содержимого, и более спокойно, даже невидимо для окружающего персонала.
Тогда, в начальный период атомной гонки, никому и в голову не приходило, что технологические емкости необходимо периодически освобождать от растворов и профилактически промывать, очищать стенки от опасного налета плутония.
Первые аварии, связанные с СЦР, воспринимались персоналом угнетающе-трагически как постоянно висящий над головами невидимый дамоклов меч.
Из воспоминаний химика-технолога Лии Сохиной:
«Аппаратчица Р.Е. Секисова находилась возле фильтровальной камеры. В какой-то момент она почувствовала себя плохо. Отошла от камеры и прислонилась к двери. Начальник смены B.C. Петров увидел это и сказал: «Что, пасха подействовала? Иди, работай. Металлурги ждут продукт».
Сам сел рядом с камерой писать рапорт о работе за смену. Аппаратчице опять стало плохо, а Петров, как он сказал позже, почувствовал какой-то жар.
Он отпустил с работы Секисову, а сам подошел к камере, чтобы закончить фильтрование. Тут он увидел, что полотно фильтра как будто дышит: поднимается и опускается само собой.
Гамма-фон на рабочем месте оказался очень высоким. Все, кто работали вблизи камеры, пошли в медпункт. Затем их всех отвезли в больницу. Секисова умерла на тринадцатые сутки. Остальных пострадавших удалось спасти… Когда позже, для выяснения причины аварии, разрезали аппарат, по всей его внутренней поверхности обнаружили слой отложившихся солей плутония толщиной 2–3 сантиметра..
Он и дал критическую массу для начала неконтролируемой цепной реакции».
Из воспоминаний аппаратчика Юрия Татара:
«… Смена была ночная… Под камерами, где происходила вся работа с радиоактивностью, было очень «грязно». В ремзоне — сильная загазованность. Были видны протечки кислоты, в лужах кислоты валялись тряпки.
Я сказал своему сменщику убрать под камерами… В технологических картах, в которых должны быть записаны все проделанные за смену работы, никаких записей не было…
Пошли разбираться к моему начальнику смены, Л. И. Сапожнико-ву. Тот был не совсем трезв и дал команду смену принять. Я отказался. Начальник смены тогда сказал, что меня до работы не допускает. Вообще, я могу идти домой.
Домой я не пошел. Сказал, что смену я отсижу на рабочем месте…
Прошло три часа. Пришел начальник смены и сказал мне взять пробы из аппарата.
Взял пробу, принес в лабораторию. Концентрация плутония в растворе оказалась очень высокой. Пока я шел из лаборатории в цех, то понял, почему ничего не было сделано моим сменщиком. Он знал, что аппараты переполнены, концентрация продукта очень высокая, а разгрузить продукт некуда. Вот он и оставил все это нашей смене.
Перегруз аппаратов произошел потому, что днем там проводили опытную операцию специалисты из Москвы: что-то связанное с органикой. Мы с ней никогда не работали. Не знали, как обращаться… Я это заметил, когда отбирал пробу. Обычно плутониевый раствор чистый, как слеза. А в этой пробе было какое-то жирное пятно…
Лабораторный анализ показал, что содержание радиоактивности было многократно выше нормы. Тогда начальник участка дал команду вскрыть аппарат… Промедление могло вызвать переполнение аппарата и его взрыв…
Начальник следующего участка сперва согласился принять литров двести раствора, но, когда узнал, какова его концентрация, отказался. Надо было что-то предпринимать. Решение было принято следующее: отсосать вакуумом часть раствора из аппарата. Куда отсасывать? Мы нашли только одну двадцатилитровую бутыль и два нержавеющих бачка…
Делали это вдвоем, я и еще один аппаратчик, А. Дербуш. После того, как первую бутыль наполнили и перелили в бачок, его не унесли, а оставили рядом.
После этого Дербуш почувствовал себя плохо и ушел… Я повернулся, чтобы посмотреть, сколько органики еще осталось в аппарате, и оказался между бачком с раствором и бутылью.
Очевидно, мое тело превратилось в экран-замедлитель.
Вспыхнуло голубое свечение, и пошла цепная реакция. Раздался хлопок, и бутыль разлетелась на части. Меня отбросило на расположенные неподалеку вентили управления аппаратом.
Дверь в комнате № 47 вышибло взрывом. Мне ничего не оставалось, как спрыгнуть вниз с аппарата и бежать по туннелю к выходу.
Всего я находился в зоне цепной реакции примерно 15 секунд. Меня остановил часовой на выходе и спросил, куда я иду, ведь смена еще не закончилась. Я ответил, что иду в душ, но охранник меня не выпустил. Пришлось возвращаться на рабочее место. Навстречу из производственного помещения бежали люди. Работала сигнализация. Внутри помещения шла цепная реакция…
Немного позже прибежал начальник смены Сапожников и стал расспрашивать, что где находится. Я ему сказал, что туда заходить нельзя. Бутыль взорвалась, и раствор с органикой разлился. Эта органика, как кисель. Я пока бежал, скользил по ней.
Дальше я сам не видел. Мне рассказывали.
Сапожников побежал в цех. Ребята-аппаратчики его не пускали, но он их растолкал и вбежал к аппаратам. Схватил нержавеющий бачок с той частью органики, которую мы отсосали в первый раз, прижал его к себе и стал спускаться по лестнице, чтобы вылить бачок в канализационный люк, находящийся внизу. Этот люк вел в отстойник, куда мы сливали всю грязь. По дороге он поскользнулся на лестнице, съехал по ней на спине, но бачок не выронил, а вылил в канализацию. После этого СЦР остановилась… К этому времени прошло минут двадцать. Я уже помылся. Привели под руки Сапожникова. Он не мылся. Его обтерли, и все.
Нас отвезли в здравпункт, потом в ФИБ-1. Нас уже начало рвать…».
Потом их самолетом отправили в Москву, в клинику № 6.
Сапожников умер через десять дней. За жизнь Татара врачи боролись 11 месяцев. Сперва ампутировали правую ногу и правую руку. Затем — левую ногу. Ампутации проводились не сразу, а по частям: врачи старались сохранить побольше от конечностей. Боли были такие, что Татар все время просил, чтобы его умертвили. Пытался выброситься из окна. Остался жив…
Медики, которые по долгу службы первыми принимали всех пострадавших и поэтому лучше других были информированы о масштабах облучения, склонялись к мысли о необходимости организации постоянных профилактических осмотров. Они понимали, что к ним поступают чаще всего больные со средней или тяжелой формами лучевой болезни, когда многие биологические процессы в человеческом организме уже необратимы.
В этих случаях и помочь иногда ничем невозможно.
Но вот избежать роста числа хронических заболеваний, связанных с большими дозами радиации, накапливающимися постепенно в течение месяцев, по мнению врачей, можно было. Они считали, что переоблученных надо, хотя бы временно, переводить на работу в «чистые» условия труда.
В период резкого увеличения потока больных с объекта «Б» лечащий врач Еманова рискнула написать докладную лично Славскому, в которой категорически предложила ему освободить от работы 10 из 12 начальников отделений.
Славский был в бешенстве, прочитав записку врача. Он и без напоминаний знал, что уже 25 % работающих в радиохимии в той или иной форме больны лучевой болезнью. Но что он мог сделать? Сменяемость персонала в некоторых отделениях достигла чрезвычайных, почти критических размеров. Выхода из этой ситуации он не видел. Кто-то в этот первый период атомного бума должен был жертвовать своим здоровьем и жизнью. Славский сам был уже прилично переоблучен.
Получив записку от Емановой, Ефим Павлович не удержался и разразился кавалерийским матом времен гражданской войны в присутствии молоденькой секретарши. Заметив некоторое удивление в ее глазах, успокоился и написал жирно, прямо по тексту докладной: «А кто будет работать, если всех выведем из рабочих зон?».
Славский, лично отвечавший по должностной инструкции за соблюдение правил ТБ на вверенном ему производстве, лучше других понимал трагичность ситуации.
Он первым подписывал все акты расследований несчастных случаев. Он же докладывал Ванникову в ПГУ о происходящих авариях. Его таскали на внеплановые оперативки к Музрукову и изматывали комиссионными разборками случаев со смертельным исходом.
Только богатырское, по наследству доставшееся здоровье позволяло Славскому выдерживать ежедневные стрессы плутониевой зоны. А усилия службы Шутова в это нелегкое время были направлены на «пресечение и локализацию всяческих вредных слухов об авариях», которые, несмотря на строгие режимные запреты, мгновенно распространялись среди работников объекта. Обсуждали аварии и инженеры, и рабочие. Обычно в очень узком кругу. Лучше всего один на один, в туалете или на свежем воздухе. Выводы делали разные.
Татьяна, например, считала, что причиной всех аварий является безудержная производственная гонка, заставлявшая сменных технологов идти на нарушения технологических эксплуатационных инструкций.
Из-за этого ее отношения с начальником отделения складывались не просто плохо, а конфликтно. Тот был крайне недоволен тем, что из-за ее пунктуально точного выполнения технологических операций, замедляющего «общий темп движения вперед», их смена постоянно числилась в отстающих в развернувшемся социалистическом соревновании между бригадами. Второй месяц без переходящего красного вымпела! Это — не дело!
После нескольких разъяснительных бесед с Татьяной начальник временно перевел ее на рабочее место более низкой квалификации. На месяц — в проботборщицы («для промывки молодых упрямых мозгов!»).
По-человечески это было бестактно, тем более что Татьяна ходила уже на шестом месяце…
Радиохимическая технология, отработанная в лабораторных условиях на небольших объемах облученного урана, в колбах и пробирках, в реальных условиях масштабного производства требовала постоянной ежедневной корректировки. Этим занималась пусковая бригада ученых под руководством Бориса Александровича Никитина. Его заместителями являлись директор ГЕОХИ Александр Павлович Виноградов и профессор из РИАНа Александр Петрович Ратнер, автор «Синей книги». Их помощь на первом этапе была неоценимой для производственников. «Академиков» уважали за их реальную, практическую помощь. Эта пусковая бригада постоянно нуждалась в отборах проб и оперативных результатах их анализа.
Отдела технологического контроля (ОТК) в первые месяцы не существовало вообще. И в этих условиях важное значение приобретала процедура отбора проб из аппаратов и их оперативный анализ в химической и радиометрической лабораториях. Концентрация химреагентов в растворах и, в первую очередь, концентрация плутония требовали постоянного контроля.
Из воспоминаний М.В. Гладышева, зам. главного инженера завода «Б»:
«В проекте не были предусмотрены ни дистанционный отбор проб, ни расфасовка под защитой, ни транспортировка, ни безопасное хранение. Поэтому отбор делался самым примитивным образом — прямым забором продуктов из аппаратов. В местах, где брали пробы, влияние радиации просто не учитывалось…».
Между тем, это была весьма опасная операция, так как концентрация плутония в некоторых аппаратах и трубах была очень высока, и при проливах растворов на незащищенные части тела можно было сжечь их. Труд пробоотборщиц неплохо оплачивался и на словах всегда превозносился как крайне необходимый для выполнения Государственного задания.
Взять пробу в бутыль или колбу, подоткнув горло ветошью во избежание пролива, — это полдела. Эту емкость с радиоактивным раствором еще надо было донести до лаборатории «на собственном пузе». Хотя дозиметрического контроля в первые месяцы не существовало, девчонки вскоре осознали, что от безобидного на вид прозрачного раствора исходят таинственные, вредные для здоровья лучи, наподобие рентгеновских. Но все равно никто не бежал в лабораторию. Торопились, конечно, но шли шагом. Иногда — полубегом.
Из воспоминаний М.В. Гладышева:
«Работой по отбору проб, их расфасовкой для анализа руководил Э.З. Рагимов. Он всеми силами старался снизить облучение своих подчиненных. Всегда рассказывал, как лучше отобрать пробу, где можно сократить путь, чтобы быстрее доставить колбы с пробами. Несмотря на это, за шестичасовой рабочий день пробоотбор-щицы всегда переоблучались.
Пришлось перевести их на график работы через день: день работают — день отдыхают…».
Из воспоминаний А.Е. Беленовской, пробоотборщицы завода «Б».
«Работали мы через день, шесть часов отработаем, а на следующий день — выходной. Нам это очень нравилось. Мы были довольны: много времени оставалось на танцы, кино. Это потом мы осознали, в каком пекле работали. Конечно, мы научились работать осторожно, сильно не переоблучаться. За это не только ругали, но и лишали премии. Поэтому кассеты часто с собой не брали, оставляли их в чистом месте. В то время мы не задумывались, что с нами будет».
Хотя Татьяна на танцульки не бегала, новый режим работы ей тоже нравился.
Дома она бессмысленно переставляла немые вещи с места на место. Терпеливо ждала декретного отпуска и писем от Андрея. «Скоро, наверное, приеду, — писал он в последнем письме. — Любящий тебя Андрей». Неужели придется и рожать без него?
Лидия, возвратившаяся из Москвы, и Варвара заходили постоянно, тормошили, успокаивали. Они и отвезли Татьяну в только что открытое, новое белоснежное родильное отделение.
Через день она родила мальчика, которого решила назвать так же, как и отца, — Андреем.
После родов Татьяне показалось, что жизнь еще не потеряна. И старший Андрей выживет. Она теперь верила, что его обязательно вылечат в Москве. Но мальчика ей почему-то на кормление не принесли: «Покормим смесью». Утром нянечки мялись. Сына не показывали. Врач сказал, что ребенок больной, проживет недолго, наверное, несколько дней.
Лидию и Варвару пустили в палату к концу следующего дня. Они понуро сидели рядом с койкой Татьяны: не улыбались, не успокаивали. Она сидела на кровати, свесив босые ноги. Тихо повторяла, как стонала:
— Не хотят показать сына, не имеют права.
Лидия поддержала врача: не надо видеть его, он все равно умрет. Она не произносила вслух, что мальчик родился не таким, как все, с «печатью» плутониевой зоны. Знала, что мальчика уже нет. Он умер несколько часов назад.
Татьяна вдруг смолкла, затихла. Потом поднялась с усилием, небрежно откинув волосы.
Собрала постельное белье: простыню, пододеяльник.
— Я сейчас, — сказала почти шепотом, — пойду поменяю.
Лидия и Варвара переглянулись, после ее выхода: «Что с ней? Куда она?».
Молчали. И две посторонние женщины в палате — тоже молчали. И вдруг Лидия вскочила со стула, как ошпаренная, и с криком: «Где туалет?» бросилась по коридору. За дверью закрытой кабинки послышался хрип. Лидия успела. И тут же начала прямой массаж сердца, уложив с помощью Варвары женское тело на ту же простыню.
Татьяна выжила, но почти перестала разговаривать с окружающими. Через месяц вернулся Андрей. Его выписали, назначив годовой перерыв в лечении. При встрече в дверях сказал:
— Вот он я, Танюха. Живой и здоровый. Здравствуй.
Сидели за столом, не зная, с чего начать. И вдруг разом улыбнулись друг другу.
15 июня 1949 года во время ночного дежурства, перед самой сдачей смены, когда глаза начинают слипаться, а папиросы гасятся недокуренными от общей физической расслабленности, — среди сменных механиков объекта «А» разгорелся бессмысленный диспут.
Спор начался с выяснения того, сколько в натуре за раз можно выпить водки? С хорошей закуской и совсем без закуски? Пришли к общему выводу, что примерно одинаково. Потом по очереди прошлись по политической обстановке в Южной Америке, по бабам и предстоящим грибам.
В заключение бурному обсуждению подвергся вопрос о том, куда сливается вода после охлаждения каналов. Каждый из рабочих, демонстрируя техническую подготовленность, высказывал свою — абсолютно правильную — точку зрения. К другому мнению никто не прислушивался; перебивали друг друга, повышая голос до матерного крика.
Один утверждал, что вода после реактора уходит в огромное подземное озеро. Другой доказывал, что она фильтруется и снова загоняется в верхний коллектор для очередного охлаждения. Третий уверял, что вся вода из реактора с русской широтой выплескивается на соседние луга и там постепенно испаряется в атмосферу.
Кузнецов внимательно прислушивался, но в споре активного участия не принимал, потому как был не в курсе. Но этот вопрос задел его.
При случае он поинтересовался у сменного инженера-физика, как обстоят дело: куда сливают столько воды?
— Откуда забирают — туда и сливают обратно, — ответил физик, — в озеро Кызыл-Таш.
— Как же так? — удивился Николай Михайлович. — Ведь она «грязная» после реактора!
— А что делать? — развел руками инженер. — Хуже другое: из озера речка вытекает… Теча.
— А куда же та речка течет? — не унимался Кузнецов, желая разобраться до конца в данном вопросе.
— В другую речку, Исеть.
— Ну а Исеть?
— А Исеть, дорогой Николай Михайлович, впадает в Тобол. Тобол — в Иртыш. Иртыш — в Обь. Запомнил?
— Ну а дальше-то?
— Ну и все. Дальше — Северный Ледовитый.
— Вот так, значит? — Кузнецов почесал затылок. — Ладно. Спасибо за разъяснение. А то мы тут на днях судили-рядили с мужиками.
Казалось бы, все разъяснилось. Однако по дороге домой у Кузнецова возникали все новые и новые вопросы, которые опять заводили его в тупик.
Прежде всего ему вспомнился из далеких школьных лет закон сохранения материи имени Ломоносова: «Ничего никуда в этой жизни не исчезает, а только перемещается с одного места на другое».
Так же и с ядовитыми осколками урана. Куда им деться? Из озера — в речку, а дальше по течению. Известно, что все осколки излучают вредные лучи, но ведь их совершенно не видно! А там, на берегах, люди живут. И коровы, и другая живность. И все они пьют воду из речки. Что же здесь хорошего?
Как ни обдумывал Кузнецов эту думу с разных сторон, ничего хорошего в окружающей обстановке не находил. Решил обнаружить где-нибудь подробную географическую карту (лучше всего штабную), чтоб самому досконально разобраться на местности.
В красном уголке клуба «Родина» на полках стояло несколько потрепанных толстых романов и аккуратные томики сочинений Ленина и Сталина. Но географической карты или, на худой конец, большого глобуса не было и в помине.
Тогда Николай Михайлович решил идти по пути, проверенному веками на Руси.
Деревня Старая Теча оказалась внутри зоны комбината. Немногочисленных жителей переселили в новые бараки. Деревня давно опустела. Однако два стареньких дома на окраине зоны, по слухам, еще были заселены старожилами, поклонниками старины, не нуждающимися в комфортабельных теплых туалетах.
В одном из домов жил одинокий дед Авдей, с белой бородой, большой собакой и хорошей памятью на лица и даты. Кузнецов рассчитывал на то, что дед помнит названия ближайших деревень по берегам Течи, находящихся вне зоны. Оказалось, что Авдей хорошо помнил не только географию, но и многие исторические события. Например, японскую войну и трехсотлетние празднества. Вообще оказался смышленым.
Дед Авдей согнул спину и веткой чертил на песке подробную географическую карту Кыштымского района.
— Вота — озеро, а вота — Теча, — шепелявил он, вычерчивая на мягкой земле что-то вроде эллипса, но с прямыми углами. — Она течет сюды, а потом поворачивает… и уже сюды… Здесь, значица, идут разные деревни… Новая Теча, Броды, Метлино, Назарово… и еще много их…
— Какая же первая деревня от озера? — перебил деда Кузнецов.
Авдей, обидевшись, что его перебили, не дав развернуться, начал степенно снова:
— Я же говорю. Вота — озеро, а вота — Теча… А здесь пошли уже деревни…
— Ну, какая первая деревня по течению? Первая! Понимаешь, дед?
— Тьфу ты! — совсем расстроился старик. — Третий раз повторяю тебе: Метлино! Да! Метлино и есть. Вот смотри-ка сюды… Вота — озеро, а вота — Теча…
Кузнецов набрался терпения. Через полчаса уяснил, что первая, ближайшая деревня за зоной — Метлино. Всего в трех километрах от периметра. Но напрямую теперь не пройдешь через патрули и проволоку. Нужно бы посоветоваться с кем-нибудь повыше.
Кузнецов через день нанес визит партгрупоргу Серегину, имевшему законченное среднее образование. Выложил ему начистоту свои сомнения и соображения.
— Виталий Николаевич, выслушай, пожалуйста.
— Валяй, только покороче. Самую суть. Дела, понимаешь, — ответил Серегин, откладывая в сторону бумаги с резолюциями.
— Хорошо, короче так короче… Вот, смотри… Мы с тобой работаем здесь, на этой вредной для здоровья работе. Наш труд здесь нужен. Мы получаем доплату и делаем необходимое государственное дело. И ты, и я, и все мы здесь на заводе. И поэтому наше здоровье — не в счет. Мы сами знаем, на что идем. Так ведь?
— Так, так, — подтвердил Серегин, не вмешиваясь в ход рассуждений и не понимая, куда клонит бывший фронтовик.
— Теперь давай повернем дело по-другому, — продолжал Кузнецов. — Вся вредная грязь после нас идет с водой в озеро, а оттуда — в Течу. Так? Там живут по берегам люди. Мало того, там живут рыбы. А на берегу — коровы и иной домашний скот. Они пьют эту воду из реки и, наверное, заражаются нашими осколками. Какое же молоко и яйца они после этого отдают людям? Тоже «грязные»… Теперь возьми огороды. Их тоже с реки поливают. В результате могут вырасти больные овощи. Конечно, дело не в этом. Раз стране нужно — то надо потерпеть. Это нам с тобой понятно. Но ведь они должны знать об этом. А знают ли? Как ты считаешь, Виталий Николаевич?
— О чем знают?
— Ну что они из реки осколки ядовитые пьют.
Серегин глубоко задумался и тут же разрешил в голове этот незначительный вопрос. И обратился к Кузнецову назидательно, как и положено партийному руководителю:
— Николай Михайлович, я всегда считал тебя разумным мужиком. А вот сейчас я смотрю на тебя и думаю: не дурак ли ты?
— Не знаю, — честно признался Кузнецов.
— А я знаю — дурак! Это дело не просто государственное и важное. Оно еще и секретное. Ты думаешь, что эту колючую проволоку натянули на сто километров, чтобы нас с тобой от волков уберечь? Подумай своей головой на досуге. Конечно, если смотреть на это дело поверхностно и близоруко, как ты, то ничего хорошего в «осколках», как ты говоришь, нет. Но…
Здесь Серегин сделал многозначительную паузу.
— Но… наверное, об этом знают и думают люди повыше нас с тобой. Те, кому и положено по должности решать подобные вопросы. Поэтому мой тебе совет — выбрось все это из головы. Не твоего ума это дело!
Кузнецов с неохотой согласился и пожал на прощанье руку Серегину. Серегин тоже пожал ему руку. И даже похлопал по плечу. Тепло и дружески. Но потом, после ухода посетителя, Серегин задумался о сомнениях и колебаниях Кузнецова: «А не надо ли доложить об этой неустойчивости передового рабочего по инстанции? Бдительность не помешает…».
Временами Кузнецов соглашался с Серегиным. А потом — снова недопонимал и мысленно категорически возражал своему парторгу: «Вот, например, под Москвой. Нас, ополченцев, необученных и безоружных, бросали на развилки дорог для придержания врага. Мы шли тогда сознательно почти на верную смерть. За социалистическую Родину, за Сталина! Мы верили в победу и потому рисковали жизнью. Но в данном случае — совсем не такое дело».
Кузнецов оптимистически смотрел на жизнь, потому что знал, что все равно умрет когда-нибудь. Себя ему было не жалко. А метлинских он жалел, так как они не ведали, за что шли к смерти.
«И хуже того, — думал Кузнецов, — они вообще не знают, что идут. Говорят, не твое это дело. А чье же тогда? Непорядок какой-то…»
Кузнецов, наконец, решился на действие. Написал заявление в отдел пропусков на выдачу разового пропуска «для временного выезда из зоны на два дня. Для посещения заболевшего двоюродного брата, проживающего в Челябинске по адресу: ул. Комсомольская, б».
Разумеется, никакого брата у него в Челябинске не было. Но улица Комсомольская, по расчетам Кузнецова, должна была стоять на своем месте, как и в любом большом городе. А значит, должен быть воздвигнут и дом № б. Конечно, Кузнецов не подозревал, что под этим адресом давно действовала районная баня с мужскими и женскими днями. Через три дня пришел узнать, дали ли ему разрешение на выезд. Оказывается, дали. Без всяких проволочек…
Проехав 90 километров по хорошей дороге до Челябинска, Кузнецов сразу пошел искать местную автостанцию. Через четыре часа с пересадкой добрался до деревни Метлино.
Пошел вдоль речки. Кругом располагалась тихая мирная природа. Зеленый лес и серебристая речка. На тридцать метров от реки рядками стояли деревянные домишки. На берегу сидел на корточках одинокий небритый мужик в порванных резиновых сапогах. В одной руке он держал удочку, в другой — самокрутку. Кузнецов неслышно опустился рядом на травку. Закурил сам и угостил мужика настоящим «Беломором». Мужик выбросил свой окурок и снова закурил, гостевую. Познакомились, протянув руки: Николай, Иван. Поглядели в глаза друг дружке. Мужик вернулся взглядом к поплавку.
— А жизнь-то течет, — философски произнес Кузнецов, задумчиво глядя на воду.
— Течет, — подтвердил Иван, — а че ей делать?
— А как дела-то в деревне? — начал осторожно подъезжать Николай к интересующей теме.
— Да ниче, — спокойно ответил Иван, — идут своим ходом.
— Больных много в деревне?
— Больных-то? — удивился мужик. — А откуда они у нас? Мы сразу мрем, без болезней. Как дойдем до ручки, так и мрем.
— И многие мрут?
— Да как когда. Иной раз — никого. А когда сразу двое.
— А не бывает так у людей, что голова болит утром или тошнит по вечерам? — других лучевых симптомов Николай не припомнил сразу.
Иван посмотрел после этого вопроса на Кузнецова внимательно, с зародившимся подозрением: свихнулся парень. Потом сам спросил, не отвечая на дурацкий вопрос:
— Ты чей будешь?
— Да я так, из соседней. Прогуливался здесь. Увидел вот тебя, захотелось поговорить по душам.
— А-а-а, — сказал мужик, — тогда ладно. Гуляй. И снова уткнулся в поплавок.
Кузнецов понял, что у рыболова толком не вытянешь ничего путного.
— Ну, прощай. Лови себе.
— Прощай.
Кузнецов пошел к автобусной остановке крюком, захватив окраинные дома, надеясь поговорить еще с кем-нибудь из случайных встречных. Поближе к дороге нагнал пожилую бабку с гусем в корзине за плечами. Поздоровавшись, пошли вместе, рядом.
Сначала беседа не клеилась. Кузнецов отвлеченно рассуждал о разных явлениях: о частых землетрясениях в Китае, о поголовном голоде в Антарктиде и ночных призраках в пустых амбарах.
Бабка особого усердия в разговоре не проявляла, только кряхтела. Кузнецов не знал, как к ней подъехать для проверки общей обстановки. Ему, конечно, хотелось поговорить с толковым человеком о радиоактивности и лучевой болезни. Но не решился, справедливо полагая, что бабка ничего не поймет.
Вместо этого спросил привычное:
— Ну, как жизнь в деревне? На данном этапе?
— Жизнь, милок, так сама по себе терпима, — сразу оживились и бабка, и гусь за спиной, — но все хужее и хужее. И коровы дохнут чаще, чем раньше. И собаки. А уж о людях и говорить нечего.
Кузнецова это сообщение крайне заинтересовало.
— А если поглубже? С примерами, — поощрил он.
— Вон, на той неделе, — продолжила она, — тетка Лукерья, что около фермы дом, была жива-здорова. А три дня назад — на тебе. Отдала Богу душу ни с того ни с сего.
Бабка помолчала десяток шагов. Сама вернулась к теме:
— Сейчас, говорят, везде мрут чаще. По всей стране. Иные шепчут, знамение такое было. Не слышал?
— Нет, я не слышал, — разочарованно протянул Кузнецов, — может, не было?
— Было, было. Это точно. Еще рассказывают про ночных ангелов…
Николай Михайлович далее слушал молча. Понял, что бабка совершенно не была просветлена за длительные годы большевистской цивилизации, и толковать с ней о зловредности осколков урана бесполезно…
Подводя итоги своему дознанию и охватывая взором размеренную жизнь деревни Метлино, Кузнецов как-то обмяк и успокоился. «Зря, наверное, я себя будоражил. Наверху ведь тоже иногда соображают, что к чему. А я тут расфуфыкался…».
На остановке ожидали прибытия автобуса две краснощекие молодухи в косынках и молодой мужчина в серой парусиновой кепке с многочисленными дырочками для воздуха.
«Надо же, — подумал Николай Михайлович, — и сюда ехал со мной, и обратно. Тоже, наверное, по короткому делу».
Маленький желтый автобус из 30-х годов, с глубокими порезами и шрамами на боках, изрыгающий на подъемах клубы вонючего черного дыма, тарахтя металлическими внутренностями, медленно полз по пыльной дороге.
Женщины сидели на передних сиденьях, закрепленных железными обручами — чтобы не обломались совсем. За ними — на двух местах сразу — Кузнецов, задремавший от усталости и перенапряжения мыслей. Где-то в конце устроился мужчина в серой кепке.
По мере приближения к городу автобус наполнялся людьми, гомоном, охами на крутых поворотах. Но Николай Михайлович ничего не слышал, видел спокойные сны.
— Приехали, мужик, — подтолкнули его в спину.
Выбравшись из автобуса, Кузнецов пару раз присел, чтобы размять затекшие ноги. За ним сошел человек в серой кепке и показал глазами на Кузнецова двум крепким молодым ребятам, дежурившим на конечной остановке почти целый день. Кузнецов с удовольствием закуривал после долгого перерыва, когда они подошли к нему с двух сторон.
— У нас к вам большая просьба, — тихо произнес один из них, показывая удостоверение, — пройдемте с нами. Только без шума, пожалуйста…
Поговорив с Кузнецовым «начистоту», Шутов понял, что «разжечь факел» из этого события не получится ввиду откровенной глупости подследственного. На ярого врага народа Николай Михайлович явно не тянул. И Шутов плюнул на это дело, более не вмешиваясь.
Учитывая боевые заслуги Кузнецова и непорочную службу в течение всей жизни, приговор смягчили. Осудили только на пять лет «за неумышленную попытку разглашения сведений, составляющих государственную тайну».
Отсиживать срок оставили по месту временного проживания, в той же плутониевой зоне. Музруков узнал об этом случае из оперативной сводки. Подумал тогда: «Надо бы разобраться с этим поглубже».
Музруков, ознакомившись с делом Кузнецова, принял свои меры. По его инициативе в район Метлина была направлена секретная группа в составе двух офицеров-гэбистов и двух дозиметристов. Им поручалось снятие радиационной картограммы в районе поселка, взятие проб грунта и ила.
Отчет дозиметристов, состоявший из сухих цифр и таблиц, оказался обескураживающим.
Музруков направил отчет спецсвязью Ванникову: с жителями поселка надо что-то срочно предпринимать, пока не начался мор.
С теми, кто жил дальше по течению реки, еще можно было потерпеть, но с Метлиным надо было решать.
«Протокол № 77 заседания Специального комитета…
г. Москва, Кремль
23 мая 1949 года
Строго секретно
(Особая папка)
VII. О включении в режимную зону № 817 с. Метлино (колхоз «Красный луч»)
1. Согласиться с предложением т. Ванникова о включении в отчуждаемую зону комбината № 817 с. Метлино и его земельных угодий.
2. Поручить т. т. Ванникову (созыв), Абакумову, Круглову, Черноусову и Борисову в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о мерах использования трудящихся с. Метлино (которые могут быть оставлены по условиям режима в этой зоне) на работах для нужд комбината (на строительстве, в подсобных хозяйствах и на эксплуатации) с тем, чтобы избежать нецелесообразного отселения их, и в соответствии с этим доработать проект.
Председатель Специального комитета
при Совете Министров СССР Л. Берия».
Однако это постановление не решало саму проблему сброса жидких радиоактивных отходов в реку Течу.
А.К. Круглое. «Как создавалась атомная промышленность в СССР», 1995 г.:
«Из-за загрязнения реки и прибрежной территории радиационному воздействию подверглись 124 тыс. чел., проживающих в пойме реки на территории Челябинской и Курганской областей. Большие дозы облучения (до 170 бэр) получили 28 тыс. чел. Было зарегистрировано 935 случаев заболеваний хронической лучевой болезнью. Около 8 тыс. чел. были отселены из 21 населенного пункта».
Лидия стажировалась в Москве почти два месяца, с октября 1948 года до самых новогодних праздников.
Опытно-производственная установка «У-5» была создана в секретном институте НИИ-9 для экспериментальной проверки всей технологической цепочки извлечения плутония из облученного урана. Именно на этой установке в конце 1947 года были получены первые 73 микрограмма плутония. Облученные урановые блочки подвозили сюда в контейнерах из расположенной рядом лаборатории № 2 (руководимой Курчатовым), где 25 декабря 1946 года был запущен первый в СССР и Европе экспериментальный реактор Ф-1.
Здесь же на «У-5» были впервые тщательно изучены и физические свойства никому не известного «неземного» металла — плутония.
В течение всего 1948 года установка использовалась также для практической подготовки технологов и руководящего персонала заводов «Б» и «В» в плутониевой зоне.
Лидия приехала в Москву с самой последней группой командированных. Ее определили на участок химического выделения твердой двуокиси плутония из концентрированного раствора.
Эта часть технологии по проекту должна была осуществляться в химическом цехе третьего завода плутониевой зоны, на объекте «В». Это означало, что после окончания стажировки и возвращения в зону Лидию ожидал приказ о переводе в качестве технолога на новый объект, который только еще начинал строиться.
Судьба снова отодвигала Лидию на некоторое время от долгожданной практической работы в заводском цехе.
Однако вся обстановка на «У-5» была максимально приближена к заводским условиям: та же технология, то же оборудование.
Работая по заданиям и под непосредственным руководством придирчивого профессора Невольского, Лидия постепенно втянулась в стремительный темп, царивший в этих суровых стенах.
В качестве идеального примера для подражания Невольский постоянно рекомендовал Лидии директора установки «У-5», профессора Зинаиду Васильевну Ершову, «русскую мадам Кюри», когда-то проходившую радиологическую стажировку в знаменитой парижской лаборатории.
Творческая обстановка увлекала Лидию. Постепенно, с каждым днем, она все больше влюблялась в фантастический атомный мир. Одновременно приходило ощущение своей полезности и нужности, приятное чувство уверенности от четкого определения характера будущей работы в зоне.
Это удваивало ее энергию и природное трудолюбие. Пропадала в институте с утра до ночи, в том числе и в выходные дни. Не нужно ей было никакого воскресного отдыха. Разве есть что-нибудь прекраснее любимой творческой работы? Невольский всячески поощрял энтузиазм Лидии, потому что разглядел в ней настоящий исследовательский талант. А может быть, еще что-то, чего не доставало ему самому.
Невольский все больше привязывался к своей лучшей практикантке. Перед Новым Годом после долгого стеснительного раздумья решил, что может позволить себе на правах учителя проводить Лидию. Пришел на вокзал за целый час до отхода поезда. Провожал смущаясь, трогательно. Неловко и торжественно вручил Лидии какие-то помятые оранжерейные цветы.
— До свидания, Лидия, — произнес тихо, — я скоро приеду к вам.
А Лидия всю дорогу думала о том, что Невольский имел в виду, когда сказал «к вам». Ей почему-то очень хотелось, чтобы эти слова относились не только к плутониевой зоне, но и лично к ней…
Завод «В» проектировался как образцово-показательный, с учетом последних научно-технических достижений и новейших требований к радиационной безопасности. В проекте были предусмотрены специальные помещения для дозиметрической службы и здравпункта, санпропускники с душевыми кабинками на выходе из грязной зоны.
Но к моменту выхода первой продукции с радиохимического производства строительство завода «В» было не завершено. А времени на ожидание не было.
Ванников предчувствовал эту ситуацию. Еще в декабре 1948 года по его инициативе часть старых бараков около станции Татыш, использовавшихся под артиллерийские склады, были освобождены, «перекроены» и подкрашены. Одним словом, на скорую руку приспособлены для временного химико-металлургического производства.
Именно здесь, в этих одноэтажных, внешне ничем не примечательных бараках и предстояло изготовить конечное изделие комбината: деталь № 1-233-1 — две плутониевые полусферы для первой советской атомной бомбы РДС-1. В начале февраля 1949 года были произведены ответственные назначения руководителей цехов. Начальником химического цеха № 9 стал Филипцев, металлургического цеха № 4 — Зуев. А первым директором завода «В» был назначен Лысенко, которому судьба уготовила уже через полгода радиоактивный смертный приговор.
26 февраля в 12 часов ночи первая двадцатилитровая канистра концентрата плутония с завода «Б» была торжественно передана Филипцеву под роспись. В ту же ночь, после краткого поздравления Музрукова и теплых рукопожатий всех присутствующих, плутониевый концентрат был разлит для оперативной работы в обычные лабораторные стаканы.
Из-за высокой концентрации плутония и опасности возникновения СЦР обработка исходного раствора производилась небольшими порциями девушками, обреченными в будущей жизни на хронические заболевания.
Этот начальный период работы академик Черняев позже назвал «стаканным периодом».
Работа лаборантов производилась в обычных негерметичных вытяжных шкафах, под контролем технологов, прошедших стажировку на установке «У-5». 8 марта 1949 года, с некоторым опозданием, на комбинат прибыла группа научных руководителей из Москвы и Ленинграда.
Их подвезли от проходной непосредственно к месту, предназначенному для проживания, — к уютным финским домикам в 150 метрах от производственных бараков. Коттеджи утопали в роскоши великолепных уральских берез, у которых вскоре засохнут ветки и скрючатся листочки, напоенные непривычным воздухом. Главным научным руководителям, Бочвару, Виноградову и Черняеву, сразу показали протоптанную тропинку до цеха № 9.
Профессор Невольскии входил в металлургическую группу Бочвара. Он ехал в зону с чувством юношеской радости от встречи со своей любимой ученицей и ощущением непредвиденного, но все-таки вероятного счастья.
Коттеджи ученых работники завода «В» называли «Пиквикским клубом академиков». Им предстояло безвыездно проживать в этом «клубе» несколько месяцев, вплоть до получения готового изделия. Отлучаться и отвлекаться на прогулки не рекомендовалось в довольно жесткой формулировке. Дорога одна, в соседние рабочие бараки. Утром — туда, вечером — в обратном направлении.
Поскольку работа в цехе № 9 протекала безостановочно и круглосуточно, технологам, ведущим процесс, разрешалось заходить в коттеджи для консультаций в любое время дня и ночи.
Лидия чаще заходила к Невольскому ночью. Иногда, конечно, по делу. Но и просто к нему. И оставалась до утра. Невольскии после смерти жены, пятнадцать лет назад, «утопил» себя в работе, вычеркнув, как ему казалось, навсегда женщин из своей личной жизни. Да и Лидия долгие годы была отлучена от обычных женских радостей. Оба чувствовали себя неумелыми и неловкими, но проявляли столько нежности и такта, что незаметно для самих себя превратили эти ночные встречи в полубредовые полеты в сказочную страну, неведомую и недоступную свежей юности. Запоздалому счастью не было границ.
Их сближение укреплялось общим делом. Они прекрасно, с полуслова, понимали друг друга. И техническая беседа или консультация никогда не являлась искусственной прелюдией к обычному человеческому чувству. Это чувство принадлежало только им двоим. Лидия не хотела делиться им со своими юными подругами Татьяной или Варварой, а Аркадию Николаевичу и не с кем было делиться.
Он видел в Лидии не только прекрасную умную женщину. Все чаще и чаще находил в ней признаки настоящего ученого, аналитика-исследователя. Считал, что ее место совсем не в производственном цехе, а в научном институте. Например, в его родной «девятке».
Но Невольскии восхищался не только Лидией, но и жертвенно-героической работой всех юных девушек. Его поражало все в этой зоне. Как девушки-лаборантки старались соблюдать в бараке стерильную чистоту, чтобы не «загадить продукт» случайными примесями.
Как они старательно орошали рыхлый грунт вокруг барака водой из леек и шлангов, чтобы предотвратить попадание в цех уличной пыли. Постоянно мыли мокрыми тряпками стены комнат, которые по требованию академика Бочвара отделали при ремонте гладкими, легко моющимися материалами.
В помещение, где проводился последний этап очистки, входили, как в реанимационное отделение: меняли обувь, халаты. Страшно боялись любой грязи, которая могла бы случайно повлиять на качество плутония.
При этом почему-то не защищали ничем свои дыхательные органы, не боялись полной грудью вдыхать воздух, насыщенный мелкой, невидимой плутониевой пылью. О последствиях не знал никто — ни лаборантки, ни академики…
В конце июля 1949 года в зону прибыла новая группа ученых, из КБ-11 (или объекта № 550): Харитон, Флеров, Зельдович и другие, менее известные.
Приезд конструкторов и теоретиков изделия № 1 означал, что первый этап близок к завершению. Они должны были не только принять здесь плутониевый заряд, но и предварительно определить качество полученного плутония (его пригодность по изотопному составу для использования в бомбе), а также провести опыты по определению критической массы сердечников.
В цехе № 9, где работала Лидия, конечным продуктом являлись небольшие кусочки диоксида плутония («корольки») весом по 7–8 граммов. Восстановление двуокиси до чистого металлического плутония и спрессовывание всех «корольков» в две требуемые полусферы производились в другом бараке — металлургическом отделении № 4. Вход туда был крайне ограничен. Лидия так никогда и не увидела конечного изделия плутониевой зоны.
После легирования сердечников галлием для перевода плутония в пластическую фазу дельта, тончайшей обработки на токарном станке и никелирования поверхностей обе полусферы поступили в распоряжение Курчатова, Харитона, Флерова и Зельдовича. Ученые в специальном удаленном (на всякий случай!) бараке провели серию опасных экспериментов по определению критмассы готового изделия и толщины экранной оболочки из урана вокруг него, которая обеспечивала бы сверхкритичность сердечника в бомбе. Это было бы почти стопроцентной гарантией ядерного взрыва при сферическом обжатии сердечника в бомбе.
В тот же вечер, 5 августа 1949 года, состоялось официальное подписание акта о приемке-сдаче изделия № 1. Формуляр и Технический паспорт подписали от сдатчиков Курчатов, Бочвар, Займовский, Музруков и Славский. От приемщиков — Харитон и Кузнецов. В ночь с 5 на 6 августа руководители плутониевой зоны после телефонного сообщения Берия об успехе, объединившись с учеными, профессорами и академиками, пили шампанское, коньяк и водку. А ранним туманным утром 8 августа 1949 года все жители в домах, прилегавших к основной дороге на выезд из зоны, были разбужены ужасным грохотом и рычанием бронетранспортеров. Никто не знал, что из зоны вывозили с боевым эскортом конечный продукт трехлетнего труда всей плутониевой зоны: две никелированные полусферы размером с теннисный мяч, диаметром всего в восемь сантиметров. Их путь лежал теперь в другую секретную зону — на объект № 550, для контрольной сборки первой советской атомной бомбы РДС-1 («Россия дает Сталину», «Россия делает сама», «Реактивный двигатель Сталина» — расшифровка на выбор).
Курчатов и Харитон выехали в своем «научном» железнодорожном вагоне в тот же день. Несмотря на крайнюю спешку и специальный запрос у Берия, лететь самолетом им запретили (во избежание случайной авиационной катастрофы).
Через день стали потихоньку разъезжаться и другие ученые, члены пусковых бригад. Перед отъездом Невольский сделал Лидии официальное предложение о работе в НИИ-9, пообещав добиться разрешения на перевод на самом высшем уровне — в ПГУ.
К этому он добавил свое личное пожелание разделить с ней свою судьбу, если она сочтет это возможным при существующей разнице в возрасте.
— Не возражайте, Лида! — сказал он строго, приложив ладонь к ее благодарно раскрывшимся устам. — Шестнадцать лет — это большая и трудная разница. Подумайте спокойно в мое отсутствие. А я с надеждой буду каждый день ждать вашего ответа.
Из всех ученых только Зельдович решил задержаться на пару дней… У него были для этого личные мотивы.
На вторую встречу с Шутовым Ширяева шла в подавленном настроении. Но ее тяготил не предстоящий разговор. Она не могла избавиться от собственных сомнений. Перед отъездом Яков был как-то стеснен в чувствах, нерешителен, часто вспоминал о семье. Надежда на личное счастье оборачивалась дополнительной нервотрепкой.
Может быть, действительно остаться в зоне, как предлагает Шутов? Вычеркнуть из памяти арбатские переулки, Крутицкое подворье, Ленинские горы. Начать жизнь заново, с чистого листа. Судьба уж и так надломила хребет. Надо ли выпрямляться? Документы на выезд все еще не готовы. Но теперь Ольга засомневалась: стоит ли жаловаться Шутову на задержку и просить ускорить бюрократическую процедуру? Или молча принять все как неизбежное?
У Шутова, наоборот, было почти праздничное настроение. Вспоминая о наметившейся в Москве всеобщей борьбе с физиками-космополитами, Павел Анатольевич испытывал профессиональное удовлетворение, которое возникает у музыканта, вступающего в общую мелодию точно в такт, одновременно с едва заметным взмахом дирижерской палочки.
— Здравствуйте, Ольга Константиновна! — Шутов двинулся ей навстречу. — Очень, очень рад видеть вас снова. Должен сказать, что вы прекрасно выглядите. Честное слово, прекрасно.
— Спасибо, Павел Анатольевич. Я действительно немного отдохнула за эти дни.
— Очень приятно это слышать, — лицо Шутова светилось сразу всем спектром добрых чувств. — Ну а мы не сидели сложа руки: ордер на вашу однокомнатную квартиру готов. Как говорится — лежит в ожидании печати.
Шутов хлопнул в ладони и в радостном порыве потер их друг о друга: большое дело сделали. Но его отрепетированная за долгие годы улыбка не нашла должного отражения на лице собеседницы. Что-то не так. Жди сюрприза.
— Я вам искренне благодарна, Павел Анатольевич, — довольно сухо отреагировала Ширяева, — я никогда не забуду, что в вашем лице я нашла не просто человека, сочувствующего по долгу службы, но и настоящего, бескорыстного друга.
Павел Анатольевич скромно, по-актерски наклонил голову в ожидании окончания длинного благодарственного предложения, чтобы тут же сказать приготовленное: «Ну что вы, что вы!» — и тепло пожать руку Ширяевой.
— Но я — увы! — вынуждена отказаться. И от квартиры, и от трудового договора.
— Что ж так? — мгновенно вспыхнул Шутов.
— Я, к сожалению, вынуждена покинуть этот… гостеприимный город.
— В чем же причина, позвольте спросить? Ширяева глубоко, искусственно вздохнула:
— Павел Анатольевич, у меня в Москве остался в живых единственный родственник. Моя двоюродная тетя. Она ужасно болеет. И никто, кроме меня, ей не поможет.
— Как это — никто?! — активно завозражал Шутов. — А мы? Мы поможем. Какая болезнь? Адрес? Напишите заявление на мое имя. Мы все устроим.
Павел Анатольевич немного горячился и сбивался с запланированного тона.
— Нет, нет. Не уговаривайте меня, Павел Анатольевич. Тут необходимо мое личное присутствие. Внимание, уход и все такое… Вы же понимаете?
Вежливое лицемерие с обеих сторон продолжалось еще несколько минут. Собеседники топтались на месте. Первым шаг в сторону пришлось сделать Шутову.
— Ольга Константиновна, милая вы моя, — расстроенно поведал он, — вы же знаете, что выезд из нашей засекреченной зоны крайне ограничен. Практически — запрещен.
— Но ведь я освобожденная? — удивилась Ширяева.
— Да, да. Конечно… Но… Это между нами, конфиденциально. У нас есть строгое указание: предоставлять таким, как вы, работу по специальности здесь. На месте. С заключением добровольного трудового договора на несколько лет.
— Я не совсем вас понимаю, Павел Анатольевич, — Ширяева теперь упорно пыталась перейти на сухой официальный тон. — Я свободна в своем выборе или нет?
— Как бы это сказать точнее, чтобы не исказить истинный смысл, — Шутов, прогуливаясь, зашел за спину сидящей перед ним женщины. — И да, и нет. Вы уже не заключенная. Вы освобождены из лагерной зоны. Вы теперь перешли в статус вольнонаемной. Но с проживанием на территории общей зоны.
Шутов сделал рукой круговой жест, олицетворяющий невидимую зону.
Ширяева молчала с мрачным и решительным видом, готовая к взрыву.
— К тому же… буду с вами откровенен до конца… Мы имеем на вас определенные виды…
— Какие виды? — Ольга не могла уже сдерживать накипающего раздражения, и оттого вопрос получился резким, как выпад.
Павел Анатольевич не стал отвечать сразу. Он прошелся несколько раз по кабинету, глядя себе под ноги, как будто собираясь с мыслями перед решением важной задачи.
— Ольга Константиновна, я буду с вами предельно откровенен. Хотя, честно говоря, мне это нелегко дается. В данный момент.
— Будьте уж так любезны. Сделайте одолжение.
— Мы прекрасно знаем, — продолжал Шутов спокойным, ровным голосом, не обращая внимания на ее вспышку, — в каком нелегком положении вы сейчас находитесь
— Да? В каком же?
— Ну, вы и сами прекрасно знаете. Конечно, четыре месяца — срок еще невелик. Но ведь что-то надо предпринимать уже сейчас.
Ольга мгновенно остыла от своего нарастающего гнева: «Всё знают! Всё».
— А мы хотим вам помочь, — продолжал скрипеть шагами Шутов. — И поможем, поверьте мне. Поможем обрести здесь, в нашем прекрасном городе, законную порядочную семью. У нас есть уже на примете несколько вполне подходящих людей. И по возрасту… и-и… по образованию… и…
— Что вы говорите? Какая предусмотрительность!
— Но мы надеемся, — Шутов не обращал никакого внимания на ее язвительность, — что и вы нам поможете кое в чем.
— И в чем же, Павел Анатольевич?
— О, это совсем не тягостное бремя. Можно сказать, сущие пустяки.
Шутов сделал паузу. Собрался.
— Нам известно, что в последнее время вы часто встречались с нашими ведущими учеными. И командированными в том числе. Ну, на их литературных посиделках, диспутах об искусстве, архитектуре… И тэ дэ и тэ пэ…
«Вот сволочи! — мелькнуло у Ольги в голове. — Ну-ну, пусть расскажет все, что знает».
— Вы поддерживаете с ними дружеские отношения. И это прекрасно. Да, прекрасно, заверяю вас. Им нужны иногда для равновесия в жизни непроизводственные контакты. И с женщинами особенно. Тем более с такими… тонкими и изысканными, как вы… Это их, как бы это сказать… смягчает, снимает нервное напряжение. Скрадывает вынужденное длительное одиночество. Мы ведь, в конце концов, отвечаем головой за их жизнь, необходимую в данный момент нашей Родине. И нам небезынтересен их досуг, мысли, настроение. Понимаете? Мы их обязаны оберегать от всяких случайностей, а значит, должны знать о них все. Для их же безопасности. Поэтому было бы неплохо, чтобы вы, продолжая с ними встречаться, теперь уже как совершенно свободный человек, делились и с нами своими впечатлениями об этих встречах. Ну и так далее…
Как большие артисты перед театральной публикой, Шутов постепенно в процессе монолога входил в роль. И оттого слова его приобретали выстраданную убедительность.
— Как же вы все это представляете в действительности? — поинтересовалась Ширяева.
— А очень просто. Никаких специальных заданий мы вам давать не собираемся. Боже упаси! Просто вы сами периодически, когда у вас выдается свободная минутка, заходите по-дружески ко мне в кабинет… Нет, лучше кто-нибудь заходит к вам домой, в новую квартиру… И вы беседуете с ним полчасика, за чашечкой чая. Вот, собственно, и все.
— Как же вы, Павел Анатольевич, можете доверять мне, если я была осуждена за антисоветскую агитацию? Вам же известна моя статья?
— Вот и хорошо! — подхватил Шутов. — Очень хорошо. Они — это самое главное — будут больше доверять вам как пострадавшей. С вами они будут более искренни и откровенны. И это очень важно. Партия учит нас судить о людях не только по их делам. Но и по словам, мыслям, общему настрою.
Ширяеву тяготил этот разговор. К тому же с каждой минутой ее все сильнее поташнивало.
— Хорошо, Павел Анатольевич. Я все тщательно обдумаю.
Ей хотелось поскорее прекратить беседу и выйти на свежий воздух.
— Подумайте, — согласился Шутов, — конечно, подумайте. Хотя времени у вас в запасе не так уж много.
Он подозвал ее к столу и попросил подписать расписку о неразглашении предмета разговора. Попрощался вежливо, как и встретил:
— До свидания, Ольга Константиновна. Заходите. Я всегда буду рад вас видеть.
Ольга зашла за угол здания, и ее обильно вырвало чем-то белесым и кислым.
Шутов вызвал ее снова через две недели. Потом еще раз. Тон беседы становился все жестче. Ольга категорически отказалась от сотрудничества.
— Как знаете, — произнес Шутов в последний раз с некоторой угрозой. И проводил до самой двери.
Из воспоминаний O.K. Ширяевой, опубликованных в 1998 году («История советского атомного проекта». Выпуск 1):
«Приехал Зельдович. Решили пройтись по лесу. Неожиданно увидели ярко светящийся гнилой пень. Зрелище потрясающее, маленькое северное сияние. Я брала щепки в руки, и сквозь пальцы сыпались искры. Несколько светящихся кусочков я положила в карман плаща…
Через два дня меня арестовали. Когда, сидя в тюрьме, я вытащила из кармана кусочки гнилого пня, они уже не светились…
Далее наступила более страшная страница моей жизни. Но это было потом. Позже я узнала, что через некоторое время после моего этапирования на Колыму любимую дочь Шутова, красавицу-девушку с длинной золотой косой, убило молнией…».
25 сентября 1949 года в газете «Правда» было опубликовано «Сообщение ТАСС в связи с заявлением президента США Трумэна о проведении в СССР атомного взрыва».
«…В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов, — строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог — которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В.М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно уже не существует». Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своем распоряжении это оружие…».
Текст сообщения был уклончивым и путаным. Из него так и не следовало, например, что 29 августа в СССР было испытано атомное оружие.
Однако в плутониевой зоне заговорили об этом задолго до сообщения ТАСС, почти сразу после испытания. Более того, назывались те работники комбината, которые якобы уже представлены или вот-вот будут представлены к самым высоким наградам: званию Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Это был: Царевский, Славский и Музруков (повторно).
В цехах и лабораториях заводов начали готовить списки кандидатов на награждение и премирование.
Ждали приезда для поздравительных целей самого Берия.
Он приехал 20 октября 1949 года для раздачи улыбок, рукопожатий и поздравлений.
Музруков, Славский, сопровождавшие Берия, знакомили его с лучшими производственниками, представленными к награждению орденами и присвоению званий лауреатов Сталинской премии. Берия тепло здоровался с лаборантами и рабочими, дружески беседовал, благодарил от имени правительства за добросовестный и почетный труд.
Шутов тоже не избежал предполагаемых наград. В последний момент он успел вскочить на подножку уходящего наградного поезда. В июне 1949 года, чувствуя близкий конец первого этапа атомной эпохи, он затеял срочную инвентаризацию архива секретных документов. В результате было обнаружено грубейшее нарушение режима: подозрительная пропажа нескольких секретных документов. Два офицера из службы Шутова были арестованы по подозрению «в расхлябанности и содействии». Это пошло в положительный зачет Шутову. К тому же за три прошедших года не было зарегистрировано ни одного случая утечки секретной информации из плутониевой зоны. Советская режимная служба оказалась на голову выше американской. Шутов гордился этим. И его включили в список награждаемых орденом Трудового Красного Знамени.
Берия выступал на заводах с краткими речами, радужно рисуя перспективы улучшения условий труда и быта. Во время этих бесед некоторые отчаянные головы пробовали жаловаться Берия на неустроенность быта, плохое снабжение продуктами питания и промтоварами.
Берия даже поощрял их. Сам громко возмущался равнодушием руководства комбината к насущным нуждам трудящихся. Свой демократически-либеральный нрав «чуткого» человека и дальновидность «мудрого» руководителя Берия решил закрепить на глазах у всей плутониевой зоны, демонстративно проведя — здесь же и немедленно — выездное заседание Специального комитета по затронутому вопросу.
На заседание были приглашены все потенциально виновные «в упущениях и преступном равнодушии». Помимо Музрукова и Славского, присутствовали: секретарь обкома ВКП(б) Белобородое, начальник политотдела комбината Морковин, заместитель директора по рабочему снабжению зоны Смирнов, начальник конторы торгпита Розенталь, помощник Музрукова по быту Овчинников, начальник медсанчасти Мойсейцев и другие руководящие работники.
С вступительным словом «О жалобах на недостатки в торговле, медицинском и культурно-бытовом обслуживании рабочих и служащих комбината № 817» к собравшимся обратился Берия. Он метал громы и молнии, гневно возмущался, кипел благородным негодованием. Конечно, ни слова — о действительных причинах. Не мог же Лаврентий Павлович говорить о том, что обнищание и разруха, вызванные войной, усугубляются фантастическими затратами всех свободных средств на создание ядерного щита?
«Протокол № 86 заседания
Специального комитета
Комбинат № 817
Строго секретно
(Особая папка)
22 октября 1949 г.
…1. Поручить т. т. Костыгову, Музрукову, Царевскому, Честных и Паничкину в 5-дневный срок проверить имеющиеся сигналы о фактах неудовлетворительного состояния торговли, медицинского и культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих комбината № 817 и строительства, принять в оперативном порядке меры по устранению недостатков и привлечению виновных в этих недостатках к ответственности.
Предложения о мерах по решительному улучшению торговли и культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих комбината и мерах укрепления руководства этими участками представить в Совет Министров Союза ССР в 7-дневный срок.
2. Обязать Первое главное управление… в месячный срок вновь проверить состояние торговли и культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих комбината и о результатах доложить.
Председатель Специального комитета
при Совете Министров СССР Л. Берия».
Сдвиг произошел. По статье «соцкультбыт» финансирование резко возросло.
Так или иначе, благодаря «чуткому» вниманию Берия к нуждам трудящихся плутониевая зона начала прихорашиваться, превратившись через десять лет в образцово-показательный город сияющего социализма. Недаром первое время (до 1953 года) главный проспект города носил почетное имя Берия. Люди, живущие в плутониевой зоне, и сейчас гордятся красотой своего закрытого города Озерска (Челябинска-40), называя его жемчужиной Южного Урала, а некоторые — даже Городом Солнца.
Во время пышного празднования 40-летия комбината в 1988 году мужской хор в одинаковых голубых костюмах на сцене Дома Культуры торжественно исполнил на слова местного поэта Померанцева оду любимому городу:
Где раньше ветвистые сосны шумели, Да ветер гулял над просторами вод, И горы Уральские в далях синели — Прекрасный соцгород построил народ.
Проспекты и парки, сады и аллеи, Встают силуэты высотных домов. Он стал нам дороже, он стал нам милее, Родней и прекрасней других городов.
И ни слова в песне о многотысячных жертвах.
Никто из воронежской троицы в число награжденных не попал. Впрочем, в наградных списках вообще было очень мало простых рабочих и инженеров. Сталин держал свое слово, данное Курчатову в конце 1945 года: отблагодарить передовых ученых и конструкторов. Их действительно отблагодарили щедро. Денежные премии были огромными по тем временам, на всю оставшуюся жизнь.
Лидия в ноябре 1949 года написала Невольскому короткую записку со словами в самом конце: «Да! Да! Да!».
Через два месяца она получила официальный документ о переводе ее в НИИ-9 на должность младшего научного сотрудника.
Отъезд отмечали в том же комсомольском общежитии скромно и почему-то грустно. Варвара была рада за старшую подругу и несколько раз подряд желала ей большого семейного счастья. Татьяна и Андрей больше молчали.
Решили до отъезда сходить на свидание к Кузнецову, который отбывал срок здесь же в зоне…
Николай Михайлович выглядел осунувшимся, но вел себя при встрече бодро. Даже спел, хотя и без особого выражения, новую частушку про аэроплан. Прощался шумно, долго, со смешочками. Но в самый последний момент как-то по-стариковски всплакнул. Обняв Лидию, прошептал на прощанье: «Благослови тебя Господь!».
Лидия торопилась за счастьем. Когда же совсем уж собралась выезжать и подала заявление в отдел кадров, вдруг почувствовала себя неважно. Сходила в медсанчасть на всякий случай. Гуськова, ознакомившись с фиксированными дозами облучения Лидии, которые оказались весьма незначительными и не могли представлять серьезную опасность для здоровья, высказала неофициальное гипотетическое предположение о влиянии на самочувствие Лидии внутреннего облучения плутонием. Об этом влиянии тогда не было ничего толком известно. Да никто этот фактор и не учитывал, и официально никак не регистрировал. Диагноз Гуськова так и не поставила, но рекомендовала обследоваться в Москве в Институте биофизики и при необходимости встать на постоянный учет.
Лидия не успела увидеть плутониевую зону в разукрашенном виде: уехала в 1950 году. Жизнь со старомодным профессором можно было бы считать вполне счастливой, если б не постоянное недомогание Лидии, название которого врачи никак не могли определить при ее отъезде. Через три года она успешно защитила в НИИ-9 кандидатскую диссертацию.
В Институте биофизики состояла на учете, периодически обследовалась.
За эти годы радиационная медицина добилась некоторых успехов, особенно в оценке внутреннего облучения.
Были разработаны методики определения радионуклидов в биосубстратах. Получили подтверждение предположения врачей из медсанотдела № 71 о высокой агрессивности трития и ужасной токсичности плутония. Первым врачом, заподозрившим внутреннее облучение плутонием у работников объекта «В», был врач-рентгенолог А.А. Мишачев.
Позже стали известны сравнительные данные о содержании плутония в организмах у людей, проживающих в европейских странах и в плутониевой зоне. Превышение оказалось разительным: в 50 раз!
Еще страшнее была картина внутреннего поражения у тех, кто в 1949-51 годах работал непосредственно на объектах «Б» и «В».
Дозиметрические обследования рабочих мест, проведенные на этих объектах, показали, что концентрация плутония в воздухе превышала предельно допустимые официальные нормы в сотни тысяч раз.
Плутоний, попав в легкие, остается там навсегда. Его невозможно вывести из организма. Он облучает человека изнутри постоянно, из года в год, накапливая интегральную дозу облучения. В конце концов человеческие легкие не выдерживают.
Медицинский термин для такого занесенного внутрь плутония — инкорпорированный плутоний. Определились и с названием болезни: плутониевый пневмосклероз. Бытовое название — радиоактивный рак легких.
Медики МСО-71 первыми увидели крупным планом последствия плутониевого аврала.
Для женщин-врачей, лаборантов, нянечек, для всего обслуживающего персонала медсанчасти все больные ХЛБ (хронической лучевой болезнью) были родными братьями и сестрами, которым они практически ничем не могли помочь. Разве что профилактическими осмотрами и настойчивыми рекомендациями руководству объектов о выводе больных из опасных условий работы в более чистые. Первой, в 1953 году, в возрасте 30 лет умерла от плутониевого пневмосклероза инженер объекта «В» Громова. Лидия умерла в 1956 году.
Татьяна с Андреем избежали катастрофической участи. Уехали из Озерска уже после ухода на пенсию в конце 70-х годов. Уехали доживать в деревню, в Смоленскую область.
Варвара оказалась долгожителем зоны. Она продолжала работать лаборантом на объекте «Б» и после оформления пенсии, почти до самой перестройки.
Вернулась в Москву, в маленькую однокомнатную квартирку, доставшуюся ей после смерти тетки, в одном из Крутицких переулков. Ходит сейчас с палочкой. Отваживается раз в неделю ездить на рынок за дешевыми овощами. В метро и автобусе пожилые люди уступают ей место, видя ее трясущиеся руки. Читать уже не позволяют глаза. Но любимого Лотарева иногда вспоминает на память.
С Кузнецовым Варвара давно потеряла связь. Пока он был в заключении, встречались, хоть и не очень часто. Николай Михайлович трудился и вел себя добросовестно, даже примерно, надеясь на досрочное освобождение. В душе мечтал о возвращении в свою забитую когда-то давно маленькую комнатушку в московской коммунальной квартире. Предполагал, конечно, что ее давно освоили многодетные соседи, но все-таки надеялся. Николай Михайлович не знал, что выселение из плутониевой зоны бывших заключенных невозможно. Зэков оберегали в зоне от малейших контактов с государственными атомными секретами. Их никогда не использовали, например, на аварийных работах внутри производственных зданий, даже когда сложная радиационная обстановка насущно требовала поочередного использования большого количества людей.
Солдат привлекали — они иногда переоблучались. Но заболевание секретной лучевой болезнью какого-нибудь зэка считалось крайне нежелательным.
Впрочем, режим секретности уравнял судьбу многих солдат-репатриантов (т. е. подлежащих увольнению) и освобождаемых заключенных. И тех, и других нежелательно было отпускать на вольную волю во избежание безалаберного и бесконтрольного разглашения ими государственных атомных секретов.
Выход из этого щекотливого положения был найден Специальным комитетом как раз накануне ареста Кузнецова.
«Протокол № 77 заседания Специального комитета
при Совете Министров СССР
г. Москва, Кремль
23 мая 1949 года
Строго секретно
(Особая папка)
…V. О мероприятиях по усилению режима на объектах № 817, 813, 814 и 550
Поручить Абакумову [глава МГБ — MS.] (созыв), Круглову [глава МВД — М.Г.]… в 5-ти дневный срок переработать представленный по данному вопросу проект в следующем направлении:
1. Для обеспечения сохранения секретности основных строек Первого главного управления считать целесообразным вывезти бывших заключенных, солдат-репатриантов и спецпоселенцев… со строительства комбината № 817, КБ-11 и заводов № 813 и № 814 [заводы по разделению изотопов урана. — М.Г.] в Дальстрой МВД СССР для работы в Дальстрое в качестве вольнонаемных, заключив с ними договора (трудовые соглашения) сроком на два-три года.
2. Обязать МВД СССР обеспечить в Дальстрое для указанных категорий заключенных, репатриантов и спецпоселенцев нормальные условия работы и бытового обслуживания, существующие для других вольнонаемных работников Дальстроя, но поселить их компактно, исключив возможность общения с другими контингентами людей, работающих на предприятиях Дальстроя.
3. От каждого бывшего заключенного-репатрианта и спецпоселенца, переводимого в Дальстрой, взять подписку об ответственности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1947 г. «Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, составляющих государственную тайну»…
Председатель Специального комитета
при Совете Министров СССР Л. Берия».
В соответствии с этим решением освобожденные заключенные, солдаты-репатрианты и спецпоселенцы начиная с 1949 года вывозились из плутониевой зоны на свободное поселение в Магаданскую область. Сначала на 2–3 года. Потом — по продлении трудового соглашения. А еще позже — на всю жизнь.
Варвара изредка переписывалась с Кузнецовым. Но в 1979 году он перестал отвечать на ее письма: наверное, умер.
Легендарный врач плутониевой зоны Ангелина Гуськова — ныне академик, работает в Москве в Институте биофизики. Изредка ее можно видеть — седую и гордую — на семинарах по истории советского атомного проекта, которые ежемесячно проводятся в Институте истории техники и естествознания РАН.
Через сердце и руки этой женщины за минувшие 50 лет прошли смертельно облученные жертвы нашей атомной индустрии.
Что касается реки Течи, то в нее уже давно не сбрасываются растворы, содержащие радионуклиды. Однако в илистом дне и сейчас содержится много сравнительно долгоживущих нуклидов, стронция и цезия. Содержание их за счет распада уменьшилось всего в два раза.
К 1960 году жители 19 наиболее загрязненных пунктов были отселены в отдаленные от реки местности.
В качестве еще одной защитной меры часть поймы была огорожена колючей проволокой, чтобы оставшиеся жители не могли использовать воду из реки для хозяйственных целей. Драма обитателей реки продолжается долгие десятилетия. К 2000 году остались еще не переселенными четыре населенных пункта (8 тыс. чел.) в Челябинской области и пятнадцать (14 тыс. чел.) — в Курганской области.
Денег у правительства совсем нет. Да и у миллиардеров-олигархов, владеющих газом и нефтью, скупающих утопающие в зелени виллы на берегах теплых морей, тоже не хватает спонсорских средств для помощи неизвестным жителям Урала. Глядя на демократический профиль нынешнего российского государства, в котором имена Сохиной и Гуськовой менее рельефны, чем Алсу или Земфиры, Ванников, наверное, произнес бы свою любимую фразу: «И-иех, ребята!».
Забыл про Ширяеву. Ольга Константиновна жива. Проживает в Москве. В последние годы увлеклась сочинением басен, где действующими лицами являются наши общеизвестные политические лидеры. Очень хочет, чтобы кто-то помог издать эти басни, хотя бы очень маленьким тиражом.
29 сентября 1957 года. В одном из баков комплекса «С» отказала система охлаждения. Контрольная инженерная бригада при обходе обнаружила, что стенки бака очень теплые, но не придала этому факту аварийного значения. А эта емкость на самом деле давно «созрела» для атомного взрыва. Нужен был только небольшой толчок, чтобы началась СЦР.
Из-за отсутствия охлаждения началось усыхание раствора и увеличение концентрации плутония. Через несколько часов после контрольного обхода 160-тонная бетонная крышка над баками взлетела в воздух, как бумажный самолетик, и отлетела на 40 метров в сторону.
Столб темного дыма быстро рос, достигнув километровой высоты. 20 миллионов кюри выплеснулось в основном на территорию плутониевой зоны. Но и то, что поднялось высоко в облака и было унесено ветром на Челябинскую, Свердловскую и Тюменскую области, по своей радиоактивной мощности было вполне сопоставимо с бомбой, сброшенной на Хиросиму.
Через 10 часов ядерный «язык» с помощью сильного юго-западного ветра достиг длины в 300 километров. На зараженной территории в 15 тысяч квадратных километров проживали 270 тысяч человек. Удачное направление ветра спасло 700-тысячный областной центр — Челябинск, который подлежал бы в противном случае полной эвакуации.
В первую очередь были выселены три деревни: Бердяниш, Салтыково, Галикево. В следующие полтора года в общей сложности было эвакуировано более 10 тысяч человек.
Из книги А.К. Круглова «Как создавалась атомная промышленность в СССР»:
«Проведенными после аварии исследованиями было установлено, что на загрязненных территориях получили облучение свыше допустимых годовых уровней около 260 тыс. чел. …
На всей промышленной площадке комбината в первые часы после взрыва до эвакуации работающих и находящихся на территории… подверглось разовому облучению до 100 бэр более пяти тысяч человек…».
Кыштымская авария оказалась не последней. Впереди был Чернобыль…