Матвей Гейзер
Фаина Раневская
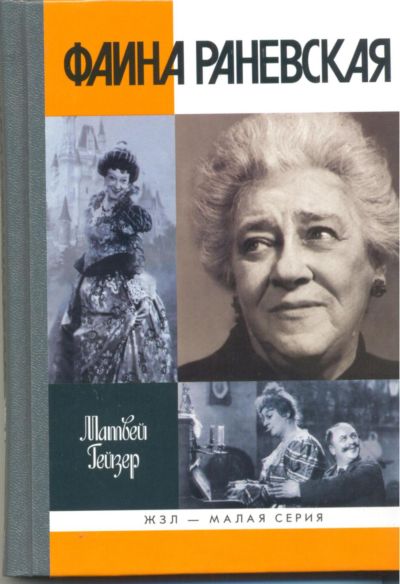
Посвящаю эту книгу моей дочери Марине Гейзер
О многострадальная Фаина,
Дорогой захлопнутый рояль,
Грустных нот в нем ровно половина,
Столько же несыгранных. А жаль!
«Найди, где твои корни, и не суетись насчет других миров» — слова эти принадлежат американскому философу Торо. «В жизни каждая минута таит в себе чудо» — это Камю. «Ни река, ни быстротечное время остановиться не могут» — а это Овидий. Этими высказываниями очень разных мудрецов, живших в очень разные времена, в очень разных странах, я хочу начать повествование о Фаине Георгиевне Раневской. Произошло так, что о Раневской, одной из величайших русских актрис XX века, при ее жизни была написана всего одна книга — «Фаина Георгиевна Раневская» (автор Софья Дунина, издательство «Искусство», Москва, 1953 год). Зато посмертно вышли десятки книг; подобные издания стали настоящей модой, а для кого-то и промыслом. В газете «Культура» в заметке, посвященной выставке «Фаина Раневская. Взгляд», я прочел справедливые слова: «Стоит заметить, что с некоторых пор не слишком-то интересуются профессиональной деятельностью Фаины Георгиевны, анализу ее творчества предпочитая очередной, зачастую грубо вырванный из контекста пересказ афоризмов актрисы».
Впрочем, есть и книги, достойные памяти замечательной актрисы, — например, «Раневская (Фрагменты жизни)» Алексея Щеглова и другие сочинения этого автора, которого сама Раневская называла своим «эрзац-внуком». Еще одна замечательная, на мой взгляд, книга — «Воспоминания о Раневской» (Москва, 1988 год). В ней соединили свои мемуарные свидетельства весьма разные, но одинаково замечательные авторы, по-настоящему знавшие и любившие Фаину Георгиевну, — Нина Сухоцкая и Сергей Юрский, Анатолий Адоскин и Марина Неелова, Ия Саввина и Ростислав Плятт, Анатолий Эфрос и Глеб Лосев…
Одна из ближайших подруг Фаины Георгиевны, Нина Сухоцкая, выразила в этом сборнике воспоминаний надежду, что настоящая книга о Раневской впереди. Моя книга не претендует на звание «настоящей», но не написать ее я не мог. Уж коли судьба подарила мне встречи с самой Раневской и с людьми, близко знавшими ее (Анастасией Потоцкой, Всеволодом Абдуловым, Елизаветой Абдуловой-Метельской, Ростиславом Пляттом), коли мне выпало счастье видеть ее на сцене — спектакль «Дальше — тишина» я смотрел двенадцать раз, — я не мог не взяться за перо.
Здесь я позволю себе небольшое лирическое отступление. После многих спектаклей я был среди тех, кто собирался на «проводы» Раневской — чтобы хотя бы еще на одно мгновение увидеть ее. Появление Фаины Георгиевны у служебного входа спустя примерно полчаса после окончания спектакля вызывало восторженные овации. Не помню, в каком пальто она появлялась — наверное, в зависимости от погоды, — но неизменно в какой-нибудь оригинальной шляпке. Было видно, что ей нелегко преодолевать ступеньки, ведущие от выхода из театра к машине, но каждый раз, садясь в машину, она громко говорила: «Я очень вам благодарна, мои дорогие». Когда дверца машины закрывалась, Фаина Георгиевна продолжала махать нам рукой, и, несомненно, каждый из провожающих думал, что она прощается только с ним. После отъезда машины обсуждение спектакля продолжалось, а она, изможденная и уставшая, уезжала в свою одинокую квартиру.
О Раневской сказано и написано очень много. Но, наверное, точнее всего ее можно охарактеризовать ее же высказыванием: «Актер — не профессия, а диагноз… Учиться быть артистом нельзя. Можно развить свое дарование, говорить, изъясняться, но потрясать — нет. Для этого надо родиться с природой актера». Это одно из многих высказываний Раневской о профессии актера. А вот еще одно: «Я не признаю слова „играть“. Пусть играют дети. Пусть музыканты играют. Актер на сцене должен жить!» Из высказываний Фаины Раневской об актерской сущности можно составить целый сборник афоризмов. Но были и чужие суждения, часто цитируемые Раневской. Одно из них принадлежит английскому актеру Ральфу Ричардсону: «Актерское мастерство — это прежде всего способность удерживать от кашля полный зал людей».
Самое парадоксальное в актерской судьбе Раневской — то, что она сыграла в театре и кино десятки таких ролей, о которых писатель-юморист Эмиль Кроткий заметил: «Имя его не сходило с афиши, где он неизменно фигурировал в числе „и др.“». Между тем эти ее малые роли становились не только заметными, но и большими. Здесь на память приходят слова Соломона Михоэлса о леди Черчилль, сказанные им во время репетиции спектакля «Принц Реубейни» в январе 1948 года: «Жена Черчилля на приеме произнесла ровно пять слов, но она принесла с собой атмосферу, дала образ» (Клементину Черчилль режиссер увидел во время приема в Кентерберийском соборе членов Еврейского антифашистского комитета в 1943 году).
Заведомо понимая, какую ответственность беру на себя, решив написать о жизненном и актерском пути Фаины Раневской, я все же отважился на это. Справедливости ради отмечу, что мне уже доводилось писать о ней в своей книге «Семь свечей» (Москва, 1999 год). В очерке, посвященном судьбе моего талантливого, безвременно ушедшего друга Всеволода Абдулова, я описал свою встречу с Раневской в доме его матери — вдовы актера Осипа Абдулова Елизаветы Метельской. Вот отрывок из этого очерка: «Вечер, о котором я хочу рассказать подробно, состоялся 14 июня 1978 года. В тот день я был в доме Абдуловых впервые. В небольшой комнате справа от прихожей было много людей, выделялся среди всех Ростислав Янович Плятт. Он был еще статен, хотя уже полноват, выпивал и курил. Плятт бурно приветствовал появление вдовы Михоэлса и тут же произнес тост в честь графини Потоцкой — Анастасия Павловна и в самом деле происходила из знатного польского рода.
Затем поднялась сама Потоцкая:
— Как старшая за этим столом, я прошу разрешения на второй тост.
— Вы ошибаетесь, Анастасия Павловна, уж я точно постарше вас, — с иронией произнес Плятт.
— Извините, Ростислав Янович, но старшей меня назначил Соломон Михайлович: „Мы с тобой оба старшие и в ответе за всех“.
Застолье было в разгаре, когда раздался длинный, требовательный звонок. „Это наверняка Фаина Георгиевна“, — уверенно сказал Ростислав Янович Плятт. И она вошла быстро, шумно, заполнив собой всю комнату, и сразу произнесла:
— Я поднимаю тост за Елизавету Моисеевну, сумевшую сохранить неповторимую абдуловскую ауру в этом доме. Никто, как я, не любил и не мог любить Осипа Наумовича. Тоскую и скучаю по нему… А сейчас знаете, что мне вспомнилось? Наши встречи в Ташкенте, и как мы все жили там во время войны, и какую веру, надежду в нас поддерживали и Осип Наумович, и Соломон Михайлович. Всех нас, собравшихся здесь, объединяет память о прошлом, о людях, которых нет сегодня с нами; я предлагаю тост за память — единственную возможность победить время…»
И она вспомнила о том, как в Ташкенте, в Театре оперы и балета, 4 и 5 апреля 1942 года были организованы благотворительные акции «Работники искусств — эвакуированным детям», в них принимали участие такие известные актеры, как Б. Бабочкин, Н. Черкасов, Т. Макарова, В. Зускин, О. Абдулов… На вечере 5 апреля выступили А. Толстой, С. Михоэлс, Ф. Раневская. Об этом Анастасия Павловна написала в своих воспоминаниях о Михоэлсе:
«Последним номером поистине великолепной программы вечера была небольшая пьеса, написанная Алексеем Толстым и поставленная Протазановым и Михоэлсом.
Перед самым началом мы с Людмилой Ильиничной Толстой пробрались за кулисы, запасшись буханкой черного хлеба, так как знали, что наши актеры с утра ничего не ели.
Хлеб очень пригодился. Нашелся какой-то немыслимый нож из тех, которые бывают только у мясников!.. С его помощью огромные ломти буханки быстро исчезли, несколько подкрепив силы актеров.
И вот занавес открыт.
На сцене шумно, беспокойно, волнительно. „Костюмерша“, Ф. Г. Раневская, судорожно прижав левой рукой авоську с драгоценными новыми галошами, мылом и зеленым луком („реквизит“, взятый на время из самых главных, самых соблазнительных выигрышей лотереи, которая была организована в большом фойе театра), наспех что-то исправляет в костюмах уже одетых, загримированных актеров.
Звучит ее низкий необыкновенный голос, и зрители смеются при каждом ее движении, от каждого ее слова…
И тут появляются два плотника.
Впереди Михоэлс, за ним Толстой.
Михоэлс в сплющенной кепке, Толстой в рваном берете. Оба в рубахах, в передниках, из карманов торчат поллитровки. Молчаливый проход по авансцене (почти марш). Движения, абсолютно совпадающие и повторяющие друг друга…
К великому счастью, сохранился изумительный фотоснимок „плотников“. Копию этого снимка, подаренного Л. И. Толстой, Михоэлс свято хранил».
Когда я первый раз пришел в дом к Анастасии Павловне (она жила в «Доме ткани» на Ленинском проспекте), меня встретили фотографии. Не только та, о которой вспоминает Анастасия Павловна, но и многие другие: Раневская и Михоэлс, Раневская и Абдулов… Тогда я подумал, что эти фото, фиксирующие настоящее, на самом деле закрепляют прошлое, придавая вес недолговечным и изменчивым людским воспоминаниям.
Эти фотографии, вместе с документами эпохи и рассказами людей, знавших Фаину Георгиевну, — со многими из них мне удалось встретиться, — дополнят мою книгу о Раневской.
Не мной сказано: «Чудеса случаются только в детстве». Это в полной мере относится к Фаине Раневской, к тем далеким годам, когда она была маленькой девочкой и жила в большом двухэтажном доме по улице Николаевской в Таганроге. В этом необыкновенном городе, некогда входившем в область войска Донского, прошло детство актрисы. Город оказался значимым и в жизни ее родителей: здесь они поженились (в 1889 году), вырастили детей, прожили более четверти века — до того дня, как им пришлось покинуть Таганрог на собственном пароходе «Святой Николай». Они уже больше никогда не возвращались в свой любимый город на Азовском море, о котором хочется рассказать подробнее.
На том месте, где находится нынешний Таганрог, в VI веке до н. э. было небольшое греческое поселение Кремны, разрушенное набегами соседей-кочевников. Позже, в XIII веке, итальянцы построили здесь город-порт Пизано, но и ему не суждена была долгая жизнь. 12 сентября 1696 года по указу Петра Великого на этом месте был основан город-крепость, а при нем гавань для военных судов. Вскоре город этот назвали Троицком на Таганьем Рогу, а потом название сократили до Таганрога, забыв о благочестивом Троицке. Благочестия жителям города — солдатам, морякам, оборотистым купцам — явно недоставало, зато было в избытке смелости и авантюрного духа, необходимых для того, чтобы обживать дальнюю окраину тогдашней России.
Петр возлагал на этот город особые надежды, пригласил для строительства его опытных мастеров из Европы. Однако царю не повезло — по Прутскому мирному договору с Турцией ему пришлось разрушить и гавань, и крепость (случилось это в феврале 1712 года). Казалось, Таганрог постигнет судьба селения Кремны или порта Пизано. К счастью, этого не произошло. После победы русских над турками во времена Екатерины II началось восстановление города. Правда, вскоре был основан Севастополь, и Таганрог потерял свое военное значение — но торговое сохранил надолго. В 1869 году железная дорога соединила город с Ростовом-на-Дону и Харьковом. В ту пору в городе было немало коммерсантов, в особенности греков и евреев, среди них — братья Поляковы, прибывшие из Витебской губернии. В этой связи я хочу рассказать о моей недавней поездке в Белоруссию, имеющей прямое отношение к предкам Фаины Раневской.
Летом 2008 года мне довелось побывать в Витебске. На обратном пути в Минск я увидел указатель «Смиловичи», вспомнил, что оттуда родом был отец Раневской, и конечно же заехал посмотреть на город. От бывшего местечка Смиловичи почти ничего не осталось, и все же, случайно встретив пожилого человека (из беседы я узнал, что ему идет уже девяносто шестой год), решился заговорить с ним на идише.
— Что я могу рассказать вам? — ответил он мне на том же языке. — Я не только ничего не помню, но даже забыл, как меня зовут.
Такому юмору не обрадоваться я не мог.
— Но если уж свою фамилию не помните, то, может быть, фамилия Фельдман вам о чем-нибудь говорит?
— О чем-то? Вы думаете, что первый спрашиваете об этой фамилии? Говорят, когда-то в Москве была известная артистка, которая родом якобы отсюда. Но ни одной артистки на моем веку в этом городе не было. Помню, в детстве мне рассказывали о каком-то Йойлыке, которого прозвали Мушигинер, чокнутый, но и его я не помню. Слышал я и еще об одном «чокнутом» из Смиловичей. Это был художник Хаим Сутин. Говорят, что его признал весь мир, кроме собственных родителей. Отец часто избивал его, чтобы отвадить от занятий рисованием. Но мальчик настоял на своем. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он убежал в Париж и там его признали, так что теперь Париж знает о наших Смиловичах…
А Фельдманы? Полместечка были Фельдманы. Даже один мой дядька, мамин брат, старше меня лет на пятьдесят, носил такую фамилию. Помню, он рассказывал, что кто-то из его братьев еще во времена Александра II — вы человек грамотный и, наверное, знаете, что был такой очень хороший царь, — уехал в Россию, то ли в Ростов, то ли в Бердянск, то ли еще куда-то, на заработки. А у этого дядьки, шли слухи, была невеста в Лепеле — это местечко недалеко отсюда. Когда-то это был известный уездный городок, о котором знал сам царь Александр — нет, не второй, а первый. Вы спросите: почему? Так я вам сейчас расскажу. Когда была война 1812 года, русские проходили через это местечко и оставили много раненых солдат. Тогда евреи Лепеля на свои деньги открыли больницу и лечили там всех раненых. Вот почему Лепель был известнее, чем Смиловичи и даже сам Витебск! Я вам не сказал главное: эта невеста моего родственника Фельдмана — кажется, его звали Гершко — была в родстве с каким-то знатным богачом родом из Дубровки, который держал в тех местах, на юге России, все железные дороги.
По рассказу моего случайного собеседника похоже, что речь идет об одном из братьев Поляковых, железнодорожных магнатов второй половины XIX века. Пригород Таганрога до сих пор носит имя Поляковка. Когда-то один из Поляковых, Яков, организовал здесь образцовый сельскохозяйственный кооператив. В самом городе его стараниями были открыты два банка, получившие известность во всей России и за ее рубежами. А в самом Таганроге Поляков строил медицинские и образовательные учреждения, дома для престарелых, одним из которых ведал Гирш Хаимович Фельдман. В архивных документах Таганрога сохранилось свидетельство того, что двадцатидевятилетний мещанин Гирш Фельдман из Смиловичей Игуменского уезда женился на девушке из Лепеля (ей было тогда чуть больше восемнадцати лет), которую звали Милка (Малка) Рафаиловна Заговайлова. Таганрогский раввин Зельцер зарегистрировал их брак 26 декабря 1889 года.
Уже позже из разных свидетельств я узнал, как неотразимо хороша была собой Милка (Малка) Рафаиловна, — недаром имя ее по-древнееврейски означает «царица». А вот фамилия Заговайлова (или, по другим источникам, Валова) явно нееврейская. Откуда она взялась у девушки из местечка Лепель? Я спросил об этом в Минске у людей, знающих историю евреев Белоруссии. Они объяснили: возможно, после патриотического поступка лепельских евреев царь позволил им взять фамилии спасенных ими солдат. Есть и другой вариант — предки Милки были кантонистами, многие из которых при зачислении в царскую армию получали русские фамилии. Стоит напомнить, что у евреев Восточной Европы фамилии появились не раньше конца XVIII века. В любом случае, если бы Фаине Георгиевне досталась одна из фамилий матери, то едва ли она приняла бы псевдоним, по поводу которого столько толков и по сей день. Впрочем, это не так уж важно: в истории русского театра и кинематографа она навсегда останется Фаиной Раневской.
В семье Фельдманов было четверо детей — старшая сестра Белла, братья Яков и Лазарь (последний умер ребенком), а между ними — Фаина. Судя по высказываниям взрослой Фаины Георгиевны, она не была счастлива в родительском доме: «Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве».
Трудно понять, почему, живя без всяких материальных проблем, в обеспеченной, уважаемой в городе семье, где ее все любили, девочка чувствовала себя несчастливой и одинокой. Возможно, причина в ее повышенной ранимости, часто встречающейся у творческих натур. В книге Алексея Щеглова приведены ее воспоминания: «Несчастной я стала в 6 лет. Гувернантка повела в приезжий „Зверинец“. В маленькой комнате в клетке сидела худая лисица с человечьими глазами, рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина, вошли пьяные шумные оборванцы и стали тыкать палкой в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь…»
Еще цитата из книги Щеглова: «Как-то старший брат, гимназист, сказал ей, очевидно, под влиянием демократических настроений: „Наш отец — вор, и в дому у нас все ворованное“. Удрученная Фаина воскликнула: „И куколки мои тоже ворованные?!“ „Да“, — безжалостно ответил брат. Фаина представила, как ее любимая мама стоит на „полундре“, а папа с большим мешком грабит магазин детских игрушек. Вероятно, для брата понятия „вор“ и „эксплуататор“ не различались по смыслу. Младшая сестра ему безгранично верила, и они решили бежать из дома. Подготовились основательно: купили один подсолнух. По дороге на вокзал поделили его пополам и с наслаждением лузгали семечки. Тут их нагнал городовой, отвез в участок, где ждали родители. Дома была порка».
Еще одной причиной детских несчастий Фаины было заикание, возникшее в раннем возрасте. Боясь насмешек, она избегала сверстников, не имела подруг, не любила учиться. С трудом проучившись в младших классах Мариинской женской гимназии, девочка со слезами умоляла родителей забрать ее оттуда. Есть, впрочем, мнение, что она ушла не сама, а была исключена за плохую успеваемость. Возможно и такое — ни тогда, ни сейчас школа не поощряла индивидуализм и независимость мышления, а того и другого у юной Фаины Фельдман было в избытке.
После ухода из гимназии Фаина получила обычное для девочки из обеспеченной семьи домашнее воспитание: обучалась музыке, пению, иностранным языкам, любила читать. Однако к учителям своим, да и к бонне, продолжала относиться с неприязнью: «Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну-немку. Ночью молила Бога, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем. Над книгой, где кого-то обижали, плакала навзрыд, — тогда отнимали книгу и меня ставили в угол…»
По этим словам можно предположить, что воспитание девочки было довольно строгим, патриархальным, как в большинстве тогдашних семей. Ее образование должно было свестись к набору навыков, необходимых для удачного замужества — хорошие манеры, шитье, игра на фортепиано. И уж конечно, отец совершенно не разделял ее увлечения актерством. Белла, старшая сестра Фаины, рассказывала Елизавете Моисеевне, что отец, узнав о рождении еще одной девочки, огорчился — к тому времени в семье еще не было сына, желанного наследника. Но когда он впервые увидел новорожденную, у него вырвалось: «Майн фейгеле! Их глейб, аз ди вест флиен ойх» («Птичка моя! Я верю, что ты взлетишь высоко»). Фаина — это модификация, вариант еврейского имени Фейга, что значит «птица». В быту девочек с этим именем чаще всего называли Фаня. Однако в течение всей жизни Раневскую так никто и никогда не называл.
Гирш Хаимович Фельдман в Таганроге был человеком заметным и уважаемым. Владелец химической фабрики, где изготавливались краски, он вскоре стал нефтепромышленником, что позволило ему сделаться человеком весьма почитаемым в финансовых кругах Таганрога да и всей области войска Донского. В самом же Таганроге ему принадлежали несколько домов, магазинов и пароход «Святой Николай», тот самый, на котором в 1902 году путешествовал по Черному морю Лев Толстой.
Для своей семьи Гирш Хаимович соорудил двухэтажный дом из красного кирпича, жилище удобное для всех его обитателей. Дом этот сохранился до наших дней, рядом с ним не так давно установлен памятник Раневской, а сама Фаина Георгиевна покинула его еще до революции и больше там ни разу не была — еще одно свидетельство того, что с детством у нее были связаны не самые приятные воспоминания…
Я встречался с таганрожцами, знавшими Фаину Георгиевну. Среди них была и Марианна Елизаровна Таврог — режиссер-документалист, родившаяся в Таганроге в 1921 году. Она поведала мне: «Мои родители, приехавшие в этот город из Прибалтики в начале XX века, так влюбились в него, что изменили свою прежнюю фамилию на Таврог, от слова „Таганрог“. А влюбились они в этот город больше всего из-за аромата акаций, наполнявших воздух каждое лето. Запах этот буквально пьянил людей, делал их счастливыми. Мне кажется, что именно поэтому здесь родилось так много талантливых людей».
Марианна Елизаровна много и увлеченно рассказывала мне о старом Таганроге, об особой музыкальной атмосфере, царившей в этом городе: «Вы, наверное, знаете, что в нашем городе родился и вырос основатель советского джаза Валентин Парнах. Может быть, я не совсем права, но он основал джаз в Москве еще до Утесова. А в Таганроге остался его „наследник“ Александр Гуревич, создавший в городе музыкальный коллектив, а главное, собравший замечательную библиотеку нот популярной джазовой музыки конца XIX — начала XX века. Я о нем рассказывала, помнится, Фаине Георгиевне, но она, как всегда, была безучастна к новостям Таганрога». В этот момент мне на память пришли слова Раневской: «В городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира из цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услыхала и увидела перед собой гения. Наверное, его концерт втянул, втолкнул мою душу в музыку. И стала она страстью моей долгой жизни».
Одно из первых воспоминаний детства Раневской — смерть Чехова: рыдающая над его портретом мама, тогда же прочитанная «Скучная история». «В этот день кончилось мое детство», — не раз повторяла Раневская. И добавляла: «Существует понятие „с молоком матери“. У меня — „со слезами матери“. Мне четко видится мать, обычно тихая, сдержанная, — она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет, она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери — газета: „…вчера в Баденвейлере скончался А. П. Чехов“…».
Героине чеховского рассказа Кате в пору, когда она почувствовала неотвратимую любовь к театру, было четырнадцать лет: «Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах… Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:
— Николай Степанович, позвольте мне поговорить с вами о театре!
Я показывал ей на часы и говорил:
— Даю тебе полчаса. Начинай».
А когда впервые захотелось быть актрисой маленькой Фаине Фельдман? Ей еще не было и трех лет, когда она, играя со своими куклами на балконе, всем им определяла роли и исполняла их вместе с игрушками. Случилось так, что первой «режиссерской работой» Фаины оказался «Петрушка», знакомое многим в России кукольное представление: «„Петрушка“ — потрясение № 1… Я переиграла все роли, говорила, меняя голос… Была и ширма, и лесенка, на которую становилась. Сладость славы переживала за ширмой. С достоинством выходила раскланиваться…»
Юдифь Яковлевна Файнберг-Маршак, сестра С. Я. Маршака, оказалась свидетельницей такого разговора Самуила Яковлевича с Фаиной Георгиевной:
«— А знаете, Самуил Яковлевич, с чего и как началась моя жизнь на сцене? Мне не было еще и девяти лет, когда я с моими артистами-куклами сыграла весь спектакль „Петрушка“. При этом я была и режиссером-постановщиком.
Самуил Яковлевич расхохотался:
— А я ведь тоже начинал с „Петрушки“! Это было в нашем с Черубиной де Габриак (Дмитриева) театре, в Краснодаре, в начале двадцатых годов. Мы с Дмитриевой тоже с достоинством выходили раскланиваться, и актерами у нас были не куклы, а обездоленные дети Краснодара времен Гражданской войны».
Дружба Раневской и Маршака прошла через всю их жизнь. Они познакомились в Ленинграде в конце 1920-х годов, а в 1964 году Раневская была среди тех, кто провожал Маршака в последний путь. На одном из вечеров, посвященных памяти Самуила Яковлевича, Фаина Георгиевна прочитала свои любимые стихи, написанные Маршаком:
И поступь, и голос у времени тише
Всех шорохов, всех голосов.
Шуршат и работают тайно, как мыши,
Колесики наших часов.
Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь — на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет.
Секундная стрелка бежит, что есть мочи,
Путем неуклонным своим.
Так поезд несется просторами ночи,
Пока мы за шторами спим…
Однажды Самуил Яковлевич, беседуя с Фаиной Георгиевной, спросил ее: «Какое первое стихотворение вы запомнили в детстве?» Раневская сказала, что связано оно с материнской любовью. Тогда она не запомнила его наизусть, но в воспоминаниях своих пишет: «Приходил в гости к старшей сестре гимназист — читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергло меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались „Белое покрывало“. Кончалось чтение словами: „…Так могла солгать лишь мать“. Гимназист зарыдал, я была в экстазе».
Стихотворение немецкого поэта Морица Гартмана (в переводе Михаила Михайлова) повествовало о том, как мать молодого венгерского графа, осужденного на смерть угнетателями-австрийцами, пыталась «утешить» его:
…Мать говорила, утешая:
«Не бойся, не дрожи, родной!
Я во дворец пойду рыдая;
Слезами, воплем и мольбой
Я сердце разбужу на троне…
А поутру, как поведут
Тебя на площадь, стану тут,
У места казни, на балконе.
Коль в черном платье буду я.
Знай — неизбежна смерть твоя…
Не правда ль, сын мой, шагом смелым
Пойдешь навстречу ты судьбе?
Ведь кровь венгерская в тебе!
Но если в покрывале белом
Меня увидишь над толпой,
Знай — вымолила я слезами
Пощаду жизни молодой…»
Позже Раневская выучила эти стихи наизусть. Елизавета Моисеевна рассказывала мне, что умирающая в Москве Белла вдруг спросила Фаину, помнит ли та Сергея — так звали влюбленного в нее гимназиста — и стихотворение «Белое покрывало». Раневская сказала, что какие-то строки помнит до сих пор, в особенности те, в которых описан поступок матери:
…Граф ничего не замечает:
Вперед, на площадь он глядит.
Там на балконе мать стоит —
Спокойна, в покрывале белом.
И заиграло сердце в нем!
И к месту казни шагом смелым
Пошел он… с радостным лицом
Вступил на помост с палачом…
И ясен к петле поднимался…
И в самой петле — улыбался!
Зачем же в белом мать была?
О, ложь святая!.. Так могла
Солгать лишь мать, полна боязнью,
Чтоб сын не дрогнул перед казнью!
Белла умерла весной 1963 года, и тогда же состоялась последняя встреча Раневской с Маршаком в подмосковном санатории. Она вспоминала, что Самуил Яковлевич плакал о своем горе — незадолго до этого скончалась Тамара Григорьевна Габбе, — а Раневская о своем — о смерти Павлы Леонтьевны Вульф. Тогда Маршак сказал Фаине Георгиевне, что для него оказался незабываемым ее рассказ об умершем братике: «Когда-то после смерти брата я повернулась к зеркалу, чтобы увидеть, какая я в слезах. И почувствовала себя актрисой».
Но говоря о том, что сделало Раневскую актрисой, нужно помнить о том, с чьей смерти мы начали эту главу, — о Чехове. Он стал одним из немногих людей, глубоко повлиявших на нее, определивших течение всей ее жизни — это отразилось уже в самом ее псевдониме, взятом, как утверждают многие, в честь героини чеховского «Вишневого сада». Помимо театра их сближало еще одно — Таганрог, хотя родившийся здесь в 1868 году Чехов не любил этот город, испытывая к нему ту же неприязнь, соединенную с особым, странным притяжением, — подобное чувство испытывала и Раневская.
О родном городе Чехов писал так: «Таганрог — совершенно мертвый город. Тихие, пустынные, совершенно безлюдные улицы, засаженные по обеим сторонам деревьями в два ряда — акациями, тополями, липой, из-за которых летом не видно домов… отсутствие движения на улицах, торгового оживления, мелкий порт, не позволявший большим судам подходить близко к Таганрогу… пустынные сонные бульвары у моря и над морем — и всюду тишина, мертвая, тупая, подавляющая тишина, от которой… хочется выбежать на улицу и закричать „караул“. Тихим очарованием печали и одиночества, заброшенности, медленного умирания веет от безлюдных широких улиц, заросших деревьями, погруженных в дремотное безмолвие; кажется, пройдет еще несколько лет — и буйно разросшиеся акации и бразильские тополя погребут под собой город, и на его месте зашумит густой, непроходимый, дремучий лес». В статье «Чехов в Таганроге» Владимир Ленский замечает: «Чехов не мог не родиться в этом городе грустной тишины, тоскливой безнадежности; он не был бы Чеховым, может быть, если бы не родился в Таганроге».
Как известно, Чехов уехал из Таганрога в 1879 году, приезжал туда почти ежегодно, но неизменно отзывался о городе резко критически. Фаина Фельдман, покинув Таганрог в 1915 году, больше туда не возвращалась. Ее с писателем объединяет и еще одно. До нас, к сожалению, не дошла первая, написанная Чеховым-семиклассником драма (ее безжалостно уничтожил автор), но сохранилось заглавие «Безотцовщина», что о многом говорит. В одном из писем Чехов писал: «В детстве у меня не было детства». В другом: «Разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная». Фаину дома не били, но, как мы видели, ее впечатление от семейной жизни было почти таким же безрадостным; может быть, это стало одной из причин того, что она так и не создала семью. С любимым писателем ее роднил острый, беспощадный, может быть, чересчур пессимистический взгляд на жизнь и людей — взгляд, породивший многие из ее знаменитых афоризмов.
В пору детства Раневской Чехов оставался для нее далеким и непонятным. На нее, как и на всех детей, сильнее влияли те люди, которых она видела лично, — например, соседское семейство Парнок (Парнах). Семьи Парнок и Фельдман дружили. Марианна Елизаровна Таврог в своих воспоминаниях о Раневской не раз упоминала Софию Яковлевну Парнок, оригинальную поэтессу Серебряного века. Она была на десять лет старше Фаины. В Мариинской гимназии Таганрога они едва ли встречались, но в судьбах их было мистически много общего. Случилось так, что София Парнок рано осталась без матери, которая умерла при родах близнецов — сына и дочери. Одиночество стало чуть ли не главным впечатлением ее детства и юности. Из Таганрога София уехала в 1904 году, а с Фаиной Фельдман они познакомились уже в Москве, после революции.
Марианна Елизаровна вспоминала, что Раневская при встречах не раз просила ее продекламировать стихотворение Софии Парнок «Я не знаю моих предков — кто они?». Она тут же по памяти, сбиваясь, прочла мне это дивное стихотворение. Позже я узнал, что написано оно в 1915 году, еще в ту пору, когда Фаина жила в Таганроге:
Я не знаю моих предков — кто они?
Где прошли, из пустыни выйдя?
Только сердце бьется взволнованней,
Чуть беседа зайдет о Мадриде.
К этим далям овсяным и клеверным,
Прадед мой, из каких пришел ты?
Всех цветов глазам моим северным
Опьянительней черный и желтый.
Правнук мой, с нашей кровью старою,
Покраснеешь ли, бледноликий,
Как завидишь певца с гитарою
Или женщину с красной гвоздикой?
Марианна Елизаровна продолжала: «Она мечтала если не написать, то хотя бы кому-нибудь из „доверенных“ слушателей рассказать о Софии Парнок — ведь знакомство с ней привело Раневскую и к Марине Цветаевой, и, возможно, к А. Ахматовой… Думаю, что в личной ее жизни знакомство с Парнок сыграло немаловажную роль. Парнок София Яковлевна в каком-то из писем (М. Ф. Гнесину. — М. Г.) писала: „Я никогда, к сожалению, не была влюблена в мужчину“. София Яковлевна так влюблена была в Марину Цветаеву, что они обе даже не находили нужным это скрывать. Разумеется, Фаина мне никогда не рассказывала об этом, но разговоры о Парнок, и не только о ней, витали всю жизнь…»
Впрочем, свидетельством тому и стихи самой Цветаевой из цикла «Подруга», посвященного Софии Парнок:
Могу ли не вспомнить я
Тот запах White-Rose и чая,
И севрские фигурки
Над пышащим камельком…
Мы были: я — в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы — в вязаной черной куртке
С крылатым воротником…
И хотя отношения Цветаевой и Парнок вызывали нескрываемое осуждение знавших их людей (Е. О. Кириенко-Волошина, мать поэта, даже обращалась к Парнок по этому поводу лично), долгое время это ни к чему не приводило. В одном из писем Цветаевой А. Эфрон написано: «Соня меня очень любит, и я ее люблю — и это вечно».
Зная о знакомстве Раневской и с Цветаевой, и с Парнок, можно не сомневаться в том, что подробности этого романа не были для Фаины тайной, хотя ко времени их знакомства (середина 1910-х годов) он уже ушел в прошлое. О ее отношении к личной жизни «русской Сафо», как нередко называли Софию Парнок, мы ничего не знаем — Фаина Георгиевна никогда не распространялась публично о подобных вещах. Ее тесное, хотя и недолгое общение с Парнок, как и многолетняя нежная дружба с Е. В. Гельцер и П. Л. Вульф могут вызвать (и уже вызывают) у публики определенного рода подозрения относительно приверженности самой Раневской к однополой любви, к которой, как известно, склонны многие творческие натуры. На этот счет можно сказать только одно: если сама Фаина Георгиевна считала необходимым не предавать гласности обстоятельства своей личной жизни, то докапываться до них — тем более при полном отсутствии фактов — явно неэтично.
Вспомнив о Софии Парнок, хочу дополнить рассказ о ее талантливом брате Валентине Яковлевиче Парнахе — тем более что о нем я тоже немало слышал от Елизаветы Моисеевны. Валентин Парнах в 1909 году с отличием окончил Таганрогскую гимназию, а в 1912 году, несмотря на всевозможные процентные нормы, был принят на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Всесторонняя одаренность этого юноши вызывала восхищение многих: его музыкальными занятиями руководил сам Михаил Фабианович Гнесин, артистический его талант не просто заметил, но и высоко оценил Мейерхольд, он в своем журнале «Любовь к трем апельсинам» по рекомендации самого Александра Блока напечатал подборку стихов Валентина Парнаха.
Елизавета Моисеевна говорила мне, что многие стихи В. Парнаха Раневская цитировала по памяти. А вот ее рассказ о последнем свидании двух земляков: «Никогда не забуду холодную зиму 1951 года. Мы вместе с ней были на похоронах Валентина Парнаха на Новодевичьем кладбище. Там присутствовали Эренбург, Гнесин, Утесов, кажется, Шостакович. По пути домой Фаина вдруг произнесла: „Дай Бог, чтобы мы не завидовали Валентину!“ Почему она это сказала? Дело врачей еще не началось, а сама Фаина недавно получила очередную Сталинскую премию». Раневская помогала Парнаху в трудные для него годы, пристраивая в разные издательства его блестящие, но «идейно сомнительные» переводы испанских и португальских поэтов.
К сожалению, Е. М. Таврог ничего не могла рассказать о годах учебы Раневской в гимназии. Отчасти этот пробел восполняет письмо актрисы своей таганрогской приятельнице Л. Н. Прозоровской, написанное в сентябре 1974 года: «Училась в Мариинской женской гимназии Таганрога… Очень плохо… оставалась на второй год (кстати, Чехов тоже был второгодником. — М. Г.)… Гимназию ненавидела… не давались четыре правила арифметики, задачи решала, рыдая, ничего в них не понимая. В задачнике… купцы продавали сукно дороже, чем приобретали! Это было неинтересно. Возможно, что отсутствие интереса к наживе сделало меня на вечные времена очень нерасчетливой и патологически непрактичной. Помню, что я вопила: „Пожалейте человека, возьмите меня из гимназии“. Ко мне стали ходить усатые гимназисты старших классов, — это были репетиторы, вслед за ними явились учительницы из покинутой мною гимназии. Впоследствии я училась сама наукам, увлекавшим меня, и, возможно, я была в какой-то мере грамотна, если бы не плохая память… Пишу Вам как хорошей знакомой. Очень горжусь моим великим земляком Чеховым. Была в добрых отношениях с его вдовой. Ольга Леонардовна с волнением расспрашивала меня о Таганроге…»
Это письмо снова возвращает нас к теме связи «Раневская и Чехов». Довольно неожиданный аспект этой связи касается не самой Фаины Георгиевны, а ее отца. Юность Чехова прошла в построенном его отцом каменном доме на углу Елисаветинской улицы и Донского переулка. Перед отъездом Антона на учебу в Москву Павел Егорович Чехов, нуждаясь в деньгах, заложил этот дом местному богачу Селиванову за 600 рублей. Но судьба сложилась так, что отец Чехова, обанкротившись, уехал в Москву, так и не выкупив дом. Вскоре его купило за пять тысяч рублей еврейское благотворительное общество, председателем которого был Гирш Хаимович Фельдман. В доме разместили еврейскую богадельню. Вот что пишет об этом известный революционер, поэт и ученый Владимир Тан-Богораз, товарищ Чехова по гимназии: «Я посетил этот чеховский дом в один унылый осенний вечер. В доме было темно и грязно. Везде попадались узкие кровати, старые, неопрятные люди с седыми бородами, но комнаты остались без всяких изменений. Тот же старый полуподвальный вход и рядом деревянное крылечко без перил, похожее на приставную лестницу, те же неожиданные окна под самым потолком».
Дружба Чехова и Тан-Богораза прошла через всю их жизнь — Чехов не раз упоминал о нем в своих письмах. Богораз бывал и в доме Гирша Фельдмана. Фаина Георгиевна однажды в шутку сказала Маршаку: «Вы еще совсем молодой, а я в детстве видела самого Богораза, беседующего с отцом на библейские темы на иврите. Я, разумеется, ничего на эту тему тогда не понимала. Уже когда жила в Москве, читала его замечательные стихи».
Чехов, Богораз, Парнок — эти имена органически связаны с Раневской и ее родным городом. И хотя Фаина Георгиевна не часто говорила о своей любви к Таганрогу, все-таки она иногда с гордостью вспоминала о том, что в ее городе никогда не было представителей Союза русского народа. Об этом писал и Богораз: «У нас не было ни разу еврейского погрома». Такое случалось не во многих городах, но в городе Чехова, создавшего шедевр «Скрипка Ротшильда», иначе быть просто не могло. Помните этот рассказ? После похорон жены к гробовщику Якову Матвеевичу Иванову пришел Моисей по прозвищу Ротшильд и передал приглашение руководителя ансамбля, в котором Яков часто играл, прийти на свадьбу: «Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую деликатную фигуру.
— Что ты лезешь ко мне, чеснок?! — крикнул Яков. — Не приставай!..
— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!
Ротшильд, помертвев от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: „Жид! Жид!“, собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее… затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик».
Вскоре Яков тяжело заболел. Уже исповедуясь перед священником, вспомнил «отчаянный крик жида, которого укусила собака» и, задумываясь над несправедливостями, совершенными им в этой жизни, пожалел и о том, что обидел музыканта.
Чехов, подписавший письмо в защиту несправедливо обвиненного Менделя Бейлиса, конечно же никогда не мог бы обидеть Ротшильда.
Случайности в жизни встречаются крайне редко, и все же бывают. Почему именно в тот день, когда восьмилетняя Фаина услышала рыдания матери, узнавшей о смерти Чехова, она прочла чеховскую «Скучную историю»? Что это — судьба или мистика? В любом случае, именно тогда, в июле 1904 года, она впервые задумалась об одиночестве, ставшем впоследствии ее судьбой и особенно ощутимом на фоне громадной популярности актрисы.
Чеховская Катя увлеклась театром в возрасте, который принято считать юношеским: «Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой».
С Фаиной все произошло намного раньше: «Мне семь лет, я не знаю слов „пошлость“, „мещанство“, но мне очень не нравится все, что я вижу в окне дома на втором этаже напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать». Может быть, «Скучная история» так ускорила взросление Фаины, что ей навсегда запомнились слова чеховской Кати: «Театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена». Но театр оказался суров к Кате. Уйдя в провинциальные актрисы, она вскоре разочаровалась в театральном деле, коллегах по сцене, пережила несчастную любовь, даже покушалась на самоубийство. Пережив такие злоключения, Катя утратила интерес не только к театру, но и к самой жизни. Рассказ заканчивается грустно, даже безысходно. Катя обращается к своему приемному отцу: «Ведь вы мой отец, мой единственный друг. Вы были учителем! Говорите мне, что мне делать». Растерянный Николай Степанович отвечает: «По совести, Катя, не знаю… Прощай, мое сокровище!»
Почему же эта печальная повесть Чехова на всю жизнь определила судьбу Раневской? Напомним, что Катя — приемная дочь профессора Николая Степановича, ученого, многого достигшего в науке. Он искренне любил Катю, а вот совета, как жить дальше, дать ей не мог. Многие критики сочли рассказ слабым; были и такие, кто усматривал в «Скучной истории» влияние «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого. Но если между этими произведениями и есть что-то общее, то это жизненная правда. Известный в ту пору литератор Плещеев писал Чехову: «Со всех сторон слышу восторженные похвалы вашей повести — от людей разных мнений, кружков и лагерей…» Плещеев назвал «Скучную историю» не только выдающейся повестью, но и лучшей вещью из всего до сих пор написанного Чеховым. Но так воспринял повесть Чехова профессиональный литератор, а Фаине Фельдман было всего восемь лет, когда она ощутила то, о чем десятилетия спустя написала в письме Людмиле Николаевне Прозоровской: «В тот день кончилось мое детство».
В том же письме, таком же печальном, как чеховская повесть, Раневская неожиданно пишет: «Щепкина была чудесной, очень доброжелательной. Я перехоронила всех друзей. Очень грустно. Шлю вам сердечный привет.
P. S. Кажется, написала неудачное письмо. Вчера играла тяжелую драму, продолжаю в ней жить и печалюсь» (из письма от 25.09.1974 г.).
…Хочу закончить эту главу стихотворением Александра Межирова, написанным им в конце 1950-х годов под влиянием поездки в Таганрог. Он прочел его искусствоведу Майе Туровской, она с восторгом восприняла эти стихи и предложила Межирову передать их Фаине Георгиевне (Туровская и Раневская были очень дружны). Когда Раневская увидела это стихотворение, слезы навернулись на ее глаза. Она несколько раз вслух прочла:
В объятьях Таганрога,
В гостинице чужой,
Вид из окна немного
Знакомый и чудной.
И на душу угрюмо,
Безрадостно легло
Предпраздничного шума
Тяжелое крыло.
К знакомым переехав,
Услышал в час ночной:
Покашливает Чехов
За тоненькой стеной.
Роняет в одеяло
Разлапое пенсне,
И крови сгусток ало
Чернеет в простыне.
«Передайте Александру Петровичу, — сказала она Майе Иосифовне, — что только истинные таганрожцы так могут почувствовать этот город. Я уже больше сорока пяти лет не была в родном городе, но привязанность к нему, к Чехову все та же».
Таганрог. Чехов. Раневская…
Итак, Таганрог стал тесен юной Фаине Фельдман. В 1913 году, выпросив у родителей немного денег, она впервые поехала в Москву. Там она сразу же отправилась по театрам Москвы в поисках работы. Но таких, как она, было немало, и к тому же из-за нервного напряжения и неустроенности Фаина вновь стала заикаться, волновалась до обмороков. От этого ее положение в чужом и незнакомом городе усложнялось еще больше: на показах в театрах ее просто не воспринимали. Нередко даже вслух говорили: «Театр не для вас, у вас к нему профессиональная непригодность. Не морочьте голову ни себе, ни другим».
Деньги, данные родителями, таяли. Узнав об этом, отец сказал жене: «Нечего ей делать в Москве, пусть немедленно возвращается домой!» Для этого непутевой дочери был послан перевод. Когда Фаина вышла из почтового отделения (деньги она еще не убрала, просто держала в руках), порыв ветра подхватил банкноты и закружил их в воздухе, как осенние листья, — такое с ней случилось впервые, но, увы, не в последний раз.
И вот Фаина опять в Таганроге. Она поняла, что отсутствие образования может стать помехой для театральной карьеры, и решила экстерном сдать экзамены за курс гимназии. Параллельно посещала театральную студию А. Н. Говберга (Ягелло). Там она научилась двигаться на сцене и растягивать слова, чтобы хоть немного скрыть заикание. Тогда же участвовала в любительских спектаклях, ставившихся студийцами. Но о том, чтобы стать профессиональной актрисой, не могло быть и речи — отец активно возражал против этого: «Посмотри на себя в зеркало — и увидишь, что ты за актриса!»
Но никто и ничто не могло остановить юную Фаину в ее стремлении к театру — в 1915 году она снова уезжает в Москву. Где она взяла деньги в этот раз, осталось неизвестным — отец никак не мог выдать ей нужную сумму, да и дела его шли неважно из-за начавшейся мировой войны. Надо сказать, что денег у Раневской не было как тогда, так и потом — даже если у нее появлялась откуда-нибудь приличная сумма, деньги все равно куда-то улетучивались, она тратила их, не задумываясь и не сожалея. Так было и в 1940 году, когда в Москву из эмиграции вернулась Марина Цветаева. Многие пытались ей помочь, но чаще всего словами. А ей было невероятно тяжело — ни жилья, ни работы. Когда Фаина Георгиевна пришла к ней, она ужаснулась. Это была совсем не та Марина, с которой она встречалась в Москве в 1913 году.
Читаю в записях Раневской: «В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье — я познакомилась с Мариной Цветаевой… Марина звала меня своим парикмахером — я ее подстригала». Раневская приносила Марине по ее просьбе пустые бутылочки от духов, Цветаева сцарапывала с них этикетки и торжественно объявляла: «А теперь бутылочка ушла в вечность». Теперь челка Цветаевой стала совсем седой, да и все остальное неузнаваемо изменилось. Конечно, Фаина скрыла свою растерянность. Вдруг обратилась к давней подруге на «вы»: «Я хочу вам помочь, Марина Ивановна», — и вытащила пачку денег, гонорар, недавно полученный за какой-то фильм. Цветаева буквально выхватила у нее всю сумму. Раневская же рассчитывала из этих денег отдать долги, накопившиеся за последнее время. Выйдя на улицу, Фаина Георгиевна пешком добралась до дома, взяла какие-то вещи и отнесла их в ломбард. Пройдут годы, и уже пожилая Раневская вспомнит: «Я до сих пор счастлива, что в тот день все имевшиеся деньги отдала Марине». А в архивах Раневской я нашел запись: «Великая Марина: я люблю, чтобы меня хвалили до-о-олго».
И еще об одной встрече вспоминала Раневская. Она часто повторяла слова Цветаевой: «Талант сейчас ни при чем» — и вспоминала при этом: «Сдружились мы еще в юности. Однажды произошла такая встреча: в пору Гражданской войны, прогуливаясь по набережной Феодосии, я столкнулась с какой-то странной, нелепой девицей, которая предлагала прохожим свои сочинения. Я взяла тетрадку, пролистала стихи. Они показались мне несуразными, не очень понятными, и сама девица косая. Я, расхохотавшись, вернула хозяйке ее творение. И пройдя далее, вдруг заметила Цветаеву, побледневшую от гнева, услышала ее негодующий голос: „Как вы смеете, Фаина, как вы смеете так разговаривать с поэтом!“».
Потом, уже после войны, она много размышляла о Цветаевой, о ее трагической судьбе. В своих записках Фаина Георгиевна вспомнила и о том, как любила Цветаеву Любовь Михайловна Эренбург. Цитировала ее слова о Цветаевой: «У нее большое человеческое сердце, но взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. Она героиня, но героиня впустую… Мне ее глубоко, нежно, восхищенно бесплодно жаль». Дальше шли слова самой Раневской: «Я помню ее в годы Первой мировой войны и по приезде из Парижа. Все мы виноваты в ее гибели. Кто ей помог? Никто».
Такова уж была судьба Раневской: она то раздавала деньги, то просто теряла. В этой связи возник еще один вариант происхождения ее псевдонима: «Раневской я стала прежде всего потому, что все роняла. У меня все валилось из рук. Так было всегда».
Позже Раневская напишет: «Неудачи не сломили моего решения быть на сцене: с трудом устроилась в частную театральную школу, которую вынуждена была оставить из-за невозможности оплачивать уроки». И все же в Москве ей повезло: о чудо! — у колонн Большого театра на плачущую девочку (близилась ночь, а ночевать негде) обратила внимание сама Екатерина Васильевна Гельцер, прима-балерина этого театра. Она пригласила расстроенную Фаину к себе домой, заметив: «Фанни, вы меня психологически интересуете».
Они довольно быстро подружились. От Екатерины Васильевны Фаина узнала немало о жизни и нравах театральной Москвы. Театральное общество Гельцер именовала не иначе как «бандой». Екатерина Васильевна восхищалась молодостью и целеустремленностью Фаины: «…Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»
Великая балерина была искренне рада столь теплой дружбе с юной Фаиной, тем более что в личной жизни у Гельцер была «фэномэнальная неудача». Екатерина Васильевна гордилась, что они не только соратницы по профессии, но и подруги: «Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга». Гельцер была настолько откровенна с Фаиной, что доверяла ей, казалось бы, недоверяемые тайны. Однажды Екатерина Васильевна рассказала: «Я одному господину хочу поставить точки над i». Фаина спросила, что это значит, а Екатерина Васильевна ответила: «Ударить по лицу Москвина за Тарасову». Как раз тогда знаменитый артист Москвин бросил свою жену, сестру Гельцер, ради молодой, но в будущем еще более знаменитой артистки Аллы Тарасовой.
Отношение Фаины к новой подруге также было глубоко искренним, дружеским: «Я обожала Гельцер. Иногда — в 2 или 3 часа ночи, во время бессонницы, я пугалась ее ночных звонков. Вопросы всегда были неожиданные — вообще и особенно в ночное время: „Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?“ или „Объясните, что такое формализм?“ И при этом она была умна необыкновенно, а все эти вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, очевидно присуще гению».
Театральная жизнь Москвы полностью поглотила Фаину, Гельцер ввела ее в круг своих друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда по окончании спектаклей было принято ездить к Валиеву в «Летучую мышь». С годами Раневская вспоминала об этих днях: «Она (Гельцер. — М. Г.) возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. Не забыть мне старуху-цыганку; пели и молодые. Чудо — цыгане. Гельцер показала мне всю Москву тех лет. Это были „Мои университеты“».
Дружба Раневской с Екатериной Гельцер, выступавшей в Большом, а позже в Мариинском театре почти сорок лет, продолжалась до конца жизни знаменитой балерины. Через много лет Фаина Георгиевна, беседуя с В. Катаняном, вспомнила о Гельцер: «Я с ней виделась последний раз, по-моему, при царе Горохе, мы когда-то очень дружили. И вдруг на днях, ночью, из тьмы веков — как будто не было ни революции, ни войны, — телефонный звонок, и, как ни в чем не бывало: Лиля, сколько лет было Онегину?» Впрочем, к Гельцер она возвращалась не однажды. Видимо, темпераменты Екатерины Васильевны и Фаины Георгиевны во многом совпадали, обе нуждались в собеседнике, которому могли бы откровенно поверить свои сердечные тайны. Тому же Катаняну Раневская рассказала о новом своем увлечении: «Я тоже недавно влюбилась, решила устроить ужин, пошла к Елисееву, купить рябчиков к салату… взгромоздила новую шляпу, стою в очереди в кассу, мурлычу что-то под нос, чувствую себя такой девочкой-девочкой, и вдруг слышу сзади: „Ну, бабушка, поворачивайся, заснула, что ли?!“».
Тогда, в середине 1910-х годов, юная Фаина быстро привыкла к Москве. При всех сложностях жизни на новом месте она была полна надежд, тем более что благодаря Гельцер не только бывала в театрах, но и общалась с людьми очень интересными — например, с Владимиром Маяковским, с ним познакомилась она в доме Гельцер.
Стихи Маяковского «Послушайте!» Раневская запомнила сразу, как только услышала их в авторском исполнении, и не раз повторяла их в последние годы жизни:
Послушайте!
Ведь если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
Чтобы каждый вечер
Над крышами
Загоралась хоть одна звезда?!
А уж о знакомстве Раневской со стихами Марины Цветаевой говорить излишне — казалось, она знала их все наизусть.
Каждый вечер Фаина «любым путем» проникала в какой-либо из театров (ей посчастливилось услышать самого Шаляпина в театре Зимина). Подходила к окошечку администратора и наивно-печальным голосом произносила: «Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре». Правда, лицо ее оказалось таким запоминающимся, что во второй раз ее в этот театр не пустили. И все же жизнь в Москве была по душе и по темпераменту Раневской.
Однажды Гельцер сказала ей: «Кажется, я нашла для вас хорошую работу». В те годы в Малаховке, дачном поселке к востоку от Москвы, открылся Летний театр, куда в сезон съезжались лучшие театральные силы Москвы и Петрограда. Так как театр в Малаховке сыграл особую роль в биографии Раневской, хочется вкратце познакомить читателей с этим поселком. Врачи нередко рекомендовали москвичам Малаховку для лечения вместо Крыма и Кавказа: предпосылкой тому был замечательный сосновый лес с песчаной почвой. Но гордостью поселка был Летний театр, принадлежавший землевладельцу Павлу Алексеевичу Соколову — известному не только в Малаховке, но и в Москве любителю театрального искусства. В Малаховке обосновался известный писатель Н. Д. Телешов, основатель знаменитых «Сред», литературных вечеров, где не раз бывали Бунин, Куприн, Гиппиус — едва ли не весь цвет литературной России. И вскоре многие писатели, а за ними и актеры, художники, музыканты начали заселять Малаховку. Среди тех, кто приезжал сюда, были Есенин и Маяковский, именно здесь он познакомился с Лилей Брик. С Владимиром Маяковским Раневская встречалась по меньшей мере два раза: «У меня до сих пор за него душа болит. Его убили пошлостью». Долгие годы она дружила с Норой Полонской — одной из любимых женщин поэта, — а еще с Маяковским ее роднила любовь к животным, к собакам — в особенности.
В газете «Театр и искусство» за 1905 год можно найти сообщение: «8 мая открывается Летний театр в Малаховке драмой „Чужие“ Потапенко. Театр, построенный Г. С. Галицким, вмещает 1000 человек». С того времени в сообщениях о малаховском театре неизменно присутствовала фраза: «Театр был полон зрителей. Аплодисменты не прерывались даже среди действий». Словом, театр в Малаховке стал своеобразным культурным центром, одним из самых посещаемых среди дачных сцен Подмосковья. В 1910 году театр сгорел, но очень скоро на его месте по предложению П. А. Соколова и на его средства строится новый театр. Темпы строительства по тем временам были необыкновенные — театр был выстроен за пятьдесят два дня.
Новый театр во многом был непохож на прежний, и все же это было красивое здание: фасад его украшали шесть ионических колонн. Хотя он был всего на пятьсот мест, но зал его отличался великолепной акустикой. Достаточно сказать, что там пели Шаляпин, Собинов, Нежданова, Вертинский. Среди драматических актеров на сцене театра выступали Яблочкина, Садовская, Коонен, Остужев, Тарханов. «В Малаховке — отличный театр. Красивый, сильный. Его белые колонны так четко и красиво вырисовываются на зеленой лесной декорации… В нем есть что-то строгое, внушительное», — говорилось об этом здании в одной из московских газет. И неудивительно, что видные режиссеры Москвы пытались ставить здесь спектакли настоящие, а не легковесно-дачные.
Раневскую по рекомендации Гельцер приняли в этот театр, предложив ей роли «на выходах». Скромные заработки не смущали Фаину — ведь она могла брать уроки дикции, постановки голоса, сценического движения. Но больше всего ее привлекало, что партнерами по игре станут замечательные русские актеры, ставшие, пусть и «внепланово», ее учителями. Среди них были Радин и Певцов — люди, с истинным уважением относившиеся к «младшим по званию» в театре. Это были учителя, глубоко уважавшие, любившие своих учеников, педагоги, никогда не дававшие почувствовать свое превосходство над начинающими. Можно себе представить, каково было Раневской, еще недавно услышавшей от московских театральных педагогов, что «в артистки она не годится».
Умение малаховских наставников вернуть ученикам веру в свои силы сыграло в театральной судьбе Раневской особую, быть может, решающую роль. Кто-то предположил, что Илларион Николаевич Певцов так искренне, по-доброму отнесся к Раневской, потому что, как и Фаина, заикался. Однако на сцене никто этого не замечал. Его необыкновенная сила воли, умение влиять на учеников очень много значили для Раневской.
Раневская всю жизнь с благодарностью вспоминала об Илларионе Николаевиче, считала его первым своим учителем. Пройдут годы, и к столетнему юбилею Певцова Раневская напишет замечательную статью: «В те далекие годы в подмосковном театре в Малаховке гастролировали параллельно актеры Москвы и Петрограда… Помню Певцова в пьесе „Вера Мирцева“. В этой пьесе героиня застрелила изменившего ей возлюбленного, а подозрение в убийстве пало на друга убитого, которого играл Певцов. И сейчас, по прошествии более шестидесяти лет, я вижу лицо Певцова, залитое слезами, слышу срывающийся голос, каким он умоляет снять с него подозрение в убийстве, потому что убитый был ему добрым и единственным другом. И вот даже сейчас, говоря об этом, я испытываю волнение, потому что Певцов не играл, он не умел играть. Он жил, он терзался муками утраты дорогого ему человека. Гейне сказал, что актер умирает дважды. Нет, это не совсем верно, если прошли десятилетия, а Певцов стоит у меня перед глазами — и живет в моем сердце.
Мне посчастливилось видеть его в пьесе Леонида Андреева „Тот, кто получает пощечины“. И в этой роли я буду видеть его перед собою до конца моих дней. Помню, когда я узнала, что должна буду участвовать в этом его спектакле, я, очень волнуясь и робея, подошла к нему и попросила его дать мне совет, что делать на сцене, если у меня нет ни одного слова в роли. „А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать“. И я любила его так крепко, как он попросил.
И когда спектакль был кончен, я громко плакала, мучаясь его судьбой, и никакие утешения подружек не могли меня успокоить. Тогда побежали к Певцову за советом. Добрый Певцов пришел в нашу гримерную и спросил меня: „Что с тобой?“ — „Я так любила, так крепко любила вас весь вечер“, — выдохнула я, рыдая. „Милые барышни, — сказал он, — вспомните меня потом. Она будет настоящей актрисой“».
Об этом замечательном художнике и большом человеке Фаина Георгиевна вспоминала с благоговением: «Считаю его первым моим учителем. Он очень любил нас, молодежь. После спектакля брал нас с собой гулять. Он учил нас любить природу. Он внушал нам, что настоящий артист обязан быть образованным человеком. Должен знать лучшие книги мировой литературы, живопись, музыку. Я в точности помню его слова, обращенные к молодым актерам: „Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь“. Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял: „Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей“. Ненавидел стяжательство, жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь. И по сей день помню многое из того, что он нам говорил. Милый, дорогой Илларион Николаевич Певцов… Я любила и люблю вас. И приходят на ум чеховские слова: „Какое наслаждение — уважать людей“».
Заметную роль в судьбе Раневской сыграла великая Ольга Осиповна Садовская, которой в ту пору было больше шестидесяти лет. Ее Раневская тоже считала своим учителем. В Малаховке, в отличие от Раневской, она была не на «выходах», а играла ведущие роли. Потерявшая возможность двигаться по сцене, играя сидя в кресле, она оставалась прекрасной актрисой. Зрители Малаховки на бис воспринимали ее Кукушкину в «Доходном месте», Домну Пантелеевну в «Талантах и поклонниках». Ни возраст, ни отсутствие физических сил не мешали тонкости ее игры — выручали богатство интонации, хорошая дикция, знание жизни, любовь к театру Островского. Быть может, встреча с Садовской в Малаховском стала решающей в артистической судьбе Раневской. Садовская, разумеется, не задумывалась, что ее игра на сцене явилась прекрасным уроком для застенчивой и закомплексованной провинциальной актрисы.
Эти уроки Садовской, Певцова, Радина явились лишь преддверием учебы в великом театре — МХАТе. К. С. Станиславский, В. И. Качалов, Л. М. Леонидов, И. М. Москвин, О. Л. Книппер-Чехова уже после Малаховского театра стали ее новыми учителями. Эта школа не только не прошла бесследно, но осталась на всю жизнь.
К сожалению, малаховский сезон, такой счастливый для Раневской, оказался для нее единственным. Первая мировая война все явственнее оборачивалась развалом страны, и москвичам стало не до театральных сезонов в Малаховке. Раневская вернулась в Москву и пошла, как многие актеры, на «театральный базар» в надежде найти работу. Не так это было просто. Антрепренеры, как и во все времена, много наобещав, часто ничего не делали, не выполняли своих обещаний, при этом не чувствуя никаких угрызений совести. После долгих, унизительных хождений в театральное бюро Раневская получила предложение поработать в Керчи в антрепризе Лавровской.
На юге, где многое напоминало Фаине Георгиевне Таганрог, можно было укрыться от московской зимы и уже подкрадывавшегося голода. Но были и трудности: в договоре с актерами гораздо больше обязанностей возлагалось на них, чем на антрепренеров. Раневская, согласно договору, была принята на роли героини-кокет, то есть обольстительницы с умением петь и танцевать, что не очень привлекало ее и едва ли входило в ее планы. Позже она вспоминала свой водевильный опыт с обычным юмором: «Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: „Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…“ После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены».
Но трудности не ограничивались репертуаром: скоро антреприза Лавровской прекратила свое существование, по существу, так и не начав его. Денег актерам не заплатили, так что Раневской даже не на что было вернуться в Москву. Можно было, конечно, добраться до родного Таганрога — до него было рукой подать, — но она скорее умерла бы от голода, чем предстала перед родными униженной, смиренной, отказавшейся от мечты всей жизни. Начались ее долгие скитания по городам Крыма, во время которых она, если повезет, играла в местных недолговечных театриках, но чаще распродавала свой театральный реквизит. Позже, играя спекулянтку в спектакле «Шторм» Билль-Белоцерковского, на вопрос журналистов: «Откуда у вас такое умение торговать?» — Раневская ответила: «У меня был опыт. Начиная с Керчи, Феодосии, в Симферополе».
Осенью 1917 года ей удалось доехать до Феодосии, слывшей в то время чуть ли не театральной столицей юга России. Чудом ее пригласили участвовать в спектакле «Под солнцем юга», на роль мальчика-гимназиста, но здесь ее ожидал очередной удар: антрепренер сбежал, прихватив с собой все собранные деньги, а продавать было уже нечего. Раневская как-то сумела добраться до Ростова-на-Дону — может, потому, что это было ближе к дому. До Ростова и Таганрога новости о большевистском перевороте в столице дошли почти одновременно. А вскоре в конторе Гирша Хаимовича Фельдмана появились незваные гости: один в черной кожанке, другой в матросском бушлате. Вежливо, но непреклонно они предложили хозяину пройти с ними в экипаж, где уже сидел его компаньон по работе и приятель по жизни Иосиф Рецкер.
Его сын, Яков Иосифович Рецкер, позже вспоминал: «Когда мы приехали в Таганрог, папу и его компаньона, Григория Самойловича Фельдмана, отца Раневской, немедленно арестовали большевики. Посадили их в товарный вагон, и представитель ревкома явился к маме и сказал: „Мы их освободим, только нам нужно сто тысяч. Вот вам срок — двадцать четыре часа“. Денег не было, но у мамы были, кажется, какие-то бриллианты. В общем, достали по 50 тысяч мы и семья Фельдмана. Помню, как я и мама приехали на вокзал. На запасных путях стоял этот вагон. Отец и Фельдман сидели, хохотали, стоял один часовой, их никто не трогал. И, в общем, их освободили. Но, поскольку отец знал, что это только первый раз, что это будет повторяться неоднократно — решили уехать в Ростов, где у дядьки был дом. В это время началась эпидемия сыпного тифа, а отец, для того, чтобы привезти в Ростов какие-либо вещички, не смог найти для багажа другой кареты, кроме санитарной. В этой санитарной карете его укусила вошь — он заболел тифом…»
Гирш Фельдман в Ростов не поехал — узнав, какую цену заплатила семья за его освобождение, он изрек: «Здесь больше делать нечего и оставаться тем более нельзя». Чуть ли не на следующий день вся семья Фельдманов — он сам, Милка Рафаиловна и их сын Яков (Изабелла уже вышла замуж и жила за границей) — отправилась в порт, а оттуда на пароходе «Святой Николай» отплыла в румынский порт Констанцу. По утвердившейся версии, они приглашали с собой и Фаину, но она отказалась, не мысля для себя жизни без России и русской культуры. Скорее всего, так бы оно и случилось, но вряд ли Раневская в то время приезжала в Таганрог. Скорее всего, Фельдманы просто не знали, где она находится, и скрепя сердце решили ехать без нее. Из всех членов семьи Фаине Георгиевне с тех пор довелось встретить только сестру Беллу, и случилось это долгих сорок лет спустя, когда их родители давно упокоились в чужой земле — неизвестно даже, где и когда.
Фаина осталась одна — и никогда, судя по рассказам близких ей людей, не пожалела об этом. Как-то я услышал от Елизаветы Моисеевны Метельской: «Я знаю Фаину уже не один десяток лет: однажды она со свойственным ей сарказмом сказала мне: „Лизочка, не думай, что я, как моя тезка Фанни Каплан, хотела участвовать в революции, Февральской или Октябрьской. Но зато я точно знала, что не могу без России, без русского театра.
Эти слова могу повторить вслух, даже на съезде коммунистов, только в партию их никогда не вступлю“. Слова эти я услышала от Фаины в те дни, когда по театру пронеслись слухи о том, что Завадский вступил в ряды партии». Раневскую много раз уговаривали вступить в партию, но она осталась верной своему слову.
Но тогда, в начале 1918 года, ее занимала не политика, а проблема выживания в Ростове-на-Дону, к которому уже подступала Гражданская война со своими непременными спутниками — голодом и террором. Но тут ей, наконец, повезло: в городе гастролировала со своей труппой Павла Леонтьевна Вульф, актриса, которую Фаина Раневская видела еще в юности в Таганроге. Встреча Раневской и Вульф во многом изменила жизнь каждой из них и обеих вместе. Без встречи с Вульф биография Фаины Георгиевны немыслима, вернее, она была бы совсем другой. Между тем и Павла Вульф не раз отмечала, что она без Раневской тоже прожила бы совсем другую жизнь.
Впервые Фаина увидела Павлу Вульф на сцене таганрогского театра (было это в 1911 году) в спектакле по роману Тургенева «Дворянское гнездо». Волею судьбы много лет спустя Раневская снова пришла на тот же спектакль в Ростове-на-Дону. Тургеневская героиня Лиза Калитина в исполнении Павлы Вульф потрясла ростовских зрителей. Пройдут годы, и Вульф напишет: «Хочется снова пережить чудесные минуты работы над образом Лизы… Я вынашивала в себе образ Лизы… я просто жила жизнью Лизы, не думала ни о приеме, ни о публике…»
Вторично увидев Вульф в роли Лизы Калитиной, Раневская испытала неодолимое желание с ней познакомиться. В тот апрельский день 1918 года Павла Леонтьевна едва доиграла спектакль из-за невыносимого приступа мигрени и настрого запретила пускать кого-либо к себе в гримерную. Но желание Фаины встретиться с полюбившейся актрисой было так велико, что удержать ее никто не мог — на следующее утро она все-таки встретилась с Вульф. Она так страстно говорила Павле Леонтьевне о своем желании стать ее ученицей, что уже в тот день между ними завязалась дружба, длившаяся более сорока лет.
Павла Вульф много сделала для театральной карьеры своей подруги. Уже в день знакомства она дала Фаине пьесу с рекомендацией выбрать любую роль и показаться ей. Фаина остановилась на роли итальянской актрисы, хотя конечно же не знала ни нравов Италии, ни языка этой страны. Найдя в Ростове, быть может, единственного итальянца — им оказался булочник из Генуи, — Фаина под его руководством изучала итальянский язык, жестикуляцию, мимику, характерную для итальянцев. Ее заработок в цирке (в то время Фаина была занята в массовке) едва позволял рассчитаться с иностранцем. Позже она вспоминала, что к Павле Леонтьевне она явилась после недельного голодания, истощенная до неузнаваемости, но зато хорошо подготовленная. Она произвела на Вульф сильное впечатление. «Или я ошибаюсь, или я нашла великий талант», — подумала Павла Леонтьевна. А вот как вспоминает об этом Раневская: «Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Прослушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: „Мне думается, вы способная, я буду с вами заниматься“. Она работала со мною над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей».
Вскоре Павла Леонтьевна пригласила Фаину жить к себе. Отказаться было нельзя — театр отправлялся в Крым, и надеяться на новую случайную встречу с Вульф было нереально. «Чутьем большого художника она угадала в скромной молоденькой участнице массовок черты подлинной одаренности…» — вспоминает Н. Сухоцкая. Павла Леонтьевна так полюбила свою новую знакомую, что, казалось, забыла о собственной дочери Ирине. Биограф Раневской Алексей Щеглов пишет: «А дочь отходила в тень, не находила тепла в своем доме… В этом, возможно, природа конфликта Фаины Раневской и Ирины Анисимовой-Вульф. Фаине Раневской надо было быть в этой семье рядом с П. Л. Вульф, впитывать ее лексику, „орфоэпию“ — предмет педагогической гордости Павлы Леонтьевны — ее профессионализм, стиль».
В дальнейшем Фаина Георгиевна и Павла Леонтьевна не представляли свою жизнь друг без друга. Об этом сохранилось немало свидетельств, устных и документальных. Вот одно из писем Раневской Вульф от 25 июня 1950 года (в то время она играла в спектакле «Модная лавка» в Театре имени Моссовета):
«Мамочка, попробую тебе объяснить, почему я в таком раскисшем состоянии и подавленности. Я не выходила на сцену 8 месяцев, и вот, когда я вылезла с сырой, не сделанной, не проверенной и не готовой ролью, да к тому же еще ролью, которая чужда и противна, я растерялась, испугалась, вся тряслась, забыла, путала текст и в итоге испытала что-то вроде нервного шока, потрясения. На премьере, ввиду всего вышесказанного, был полный провал. На втором спектакле я расшиблась и на третьем еле двигалась, потом я уже разыгрывалась, но все же продолжала играть плохо. Пойми — я не бытовая актриса, быт мне не дано играть, не умею. Я перевела роль в план реалистической буффонады, но это неверно, а м. б. роль так незначительна, что не только я, но и Савина из нее ничего бы не сделала. Была пресса на одном из спектаклей, но успеха не было. Я знаю, что им ни спектакль, ни я не понравились. Среди критиков была и Беньяш, которая ко мне зашла за кулисы и сказала, что более бесполезного спектакля в режиссерском плане, более бесталанного и тусклого и неумного она давно не видела. А мне сказала: „А Вы в Москве не играйте“. Я была потрясена, когда она мне звонила. Я к телефону не подошла, тогда она мне написала письмо, которое можешь прочесть. Успех же мой объяснила неизменной для меня любовью зрителя, но у публики в этой роли я успеха не имела как обычно. Письмо Беньяш исчерпывающе. Она очень понимает. Я знаю, что ты ее терпеть не можешь, но это не умаляет ее достоинств. Я в отчаянии. Не знаю, как будет дальше. Они обрадовались, что зарабатывают на мне огромные деньги. Аншлаги делала только „Модная лавка“. Я для них „лакомый кусочек“. А творческой работы в этом страшном „торговом доме“ не могут мне дать…»
Разумеется, Раневская знала цену «Модной лавке» и многим другим спектаклям, шедшим тогда в Театре имени Моссовета. Но что ей было делать в то сложное время, когда во главе угла стояла «борьба с космополитами», к которым легко могли причислить и саму Фаину Георгиевну?
Тогда, как и в другие времена, главным спасением Раневской от удручающей прозы жизни был ее легендарный юмор. Эту мысль подтверждает ее письмо, написанное в середине того же 1950 года десятилетнему Алексею Щеглову — сыну Ирины Вульф и внуку Павлы Леонтьевны:
«Дорогой гражданин Хиздриков-Канапаткин!
Очень грущу, что не могу лично пожать Вашу честную, хотя и не очень чистую руку!
Болезнь приковала меня к постели. Это не особенно приятно — лежать на ложе, из которого винтом выскочили пружинки, которые имеют тенденцию впиваться в мою многострадальную попку! Но этим не ограничиваются мои несчастья: у меня выскочила печенка и торчит кулаком. Я ее впихиваю обратно, но она вскакивает как Ванька-встанька.
Это печальное обстоятельство лишает меня возможности выполнить Ваше поручение в магазине Культорга. Как только удастся вдвинуть печенку в ее обычную позицию, я Вам куплю марки всего земного шара. Куплю глобус и прочие культурные товары.
А пока обнимаю Вас и целую в спинной хребет. Желаю всего наилучшего. С глубоким уважением. Ваша племянница Канарейкина-Клопикова — из города Вырвизуб. Мой адрес: улица Лахудрова, дом 4711.
P. S. Дорогой дядя Афанасий Кондратьевич!
Я посылаю Вам 100 рублей, с тем чтобы Вы попросили Вашу мамашу — Клотильду Трофимовну — купить Вам всего, что Вашей душе угодно!
Еще раз целую Вас в загривок и прочие конечности.
Напишите мне что-нибудь культурное, можно и некультурное. Только напишите, дядюшка».
Может быть, здесь уместно сказать несколько фраз о литературных способностях Фаины Георгиевны. В ее архивах сохранилось немало писем и дневниковых записей, напоминающих литературные пародии. Ей очень легко давались стихи, шутливые и лирические, причем написанные сразу, что называется с ходу. Вот одно из таких стихотворений:
ПРИЗНАНИЕ
Зашумели, загудели бураны,
С ветки падает мерзлый лист,
А летом уйду на баштаны
Слушать птичек веселый свист.
Растянусь на земле родимой,
Долгим взглядом вопьюсь в вышину,
Сердцем чистым отдамся любимой,
Что ушла навсегда в тишину.
И, конечно, Раневская была непревзойденным мастером афоризмов, которые при ее жизни широко расходились в столичной литературно-артистической среде, а позже, уже в наши дни, составили целые сборники. А самый знаменитый свой афоризм она впервые сказала Зиновию Паперному: «Я знаю, вы собираете афоризмы великих людей. Но если уж не великих, то хотя бы сохранивших чувство юмора. Так вот, знайте, молодой человек: я так стара, что помню еще порядочных людей». И тут же добавила: «У меня хватило ума так глупо прожить жизнь, не каждому это дано». Я услышал эти слова от Зиновия Самойловича в квартире у Иммануэля Самуиловича Маршака. В тот день мы отмечали выход книги «Воспоминания о Маршаке», и тогда же он сказал мне: «За Раневской, как за Светловым, надо ходить с записной книжкой. Кроме Эмиля Кроткого, я не знаю таких остроумных хохмачей, как эти два человека».
Правда, большинство острот Раневской не такие уж смешные — в них идет речь о таких невеселых вещах, как старость, болезни, смерть. Стоит отметить, что в этом повинны не только ее личность, но и ее время. Точнее, то время, когда эти остроты говорились и запоминались — душные десятилетия, когда не хватало воздуха многим куда более молодым и здоровым людям. Еще тогда кто-то пересказал мне такой афоризм Раневской: «Похороны — это спектакль для любопытствующих обывателей». А заодно и фразу: «Старость — это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы».
Но вернемся снова к ранним годам жизни Раневской.
Итак, вскоре после знакомства, весной 1918 года, Раневская отправилась вместе с Павлой Вульф в Крым, в Симферопольский городской театр, прежде называвшийся Дворянским. Теперь это имя ушло в прошлое, как и прежняя фамилия Фаины. Отныне и навсегда не только на театральных афишах, но и в документах она стала Раневской. Мы не знаем, что стало главной причиной этого — желание приобрести более благозвучную и театрально звучащую фамилию, любовь к Чехову или стремление спрятать от греха подальше родство с богачом Фельдманом, которого на юге России многие знали. Быть может, это посоветовала Фаине мудрая Павла Леонтьевна, хотя сама она почему-то так и не стала менять свою иностранную фамилию, от которой немало натерпелась.
Не только в судьбах, но и в характерах Вульф и Раневской было немало общего. Театром они были увлечены еще с раннего детства. Из воспоминаний Павлы Вульф: «Мое первое „выступление“ на сцене… мне было около пяти лет… Я изображала капризную, упрямую маленькую девочку… роль моя заключалась в… капризном крике… Помню все свои ощущения на сцене — радостный восторг… Мой крик покрывал смех публики, но я… чувствовала, что это относится ко мне, и это было мне приятно… Этот момент определил мою судьбу. После этого спектакля, когда спрашивали меня, кем ты будешь… всегда отвечала „актрысой“».
Из воспоминаний Раневской: «Я переиграла все роли, говорила, меняя голос… Была и ширма, и лесенка, на которую становилась. Сладость славы переживала за ширмой. С достоинством выходила раскланиваться… В детстве я увидела цветной фильм… возможно, сцену из „Ромео и Джульетты“. Мне 12 лет. По лестнице взбирался на балкон юноша неописуемо красивый, потом появилась девушка неописуемо красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала, это было потрясение № 2. Возвратясь домой, я кинулась к моему богатству — копилке в виде фарфоровой свиньи, набитой мелкими деньгами… В состоянии опьянения от искусства, дрожащими руками схватила свинью и бросила ее на пол, по полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям. В ту ночь я не спала».
Детство Вульф было так же окрашено переживаниями, как детство Раневской. Дочь небогатого юрьевского студента, фламандца по происхождению, и помещицы Псковской губернии, Павла Вульф родилась 19 июля 1878 года. Вскоре ее родители переехали из Порхова в Псков, и здесь на них обрушилось несчастье — тяжелая болезнь отца, обрекшая его на бездействие: «Он страдал неизлечимой болезнью и мог передвигаться только в кресле, на колесах… Он никогда не жаловался, и в те немногие часы, когда ему делалось лучше, шутил. Отец никогда не наказывал нас, не повышал голоса, но только огорчался, и это было страшнее наказания». Отец Павлы Вульф прекрасно играл на скрипке и не расставался с ней до конца дней своих: «Вдруг звуки оборвались, скрипка замолкла, я побежала в комнату отца — он сидел в своем кресле, опустив скрипку, и тихо плакал. Это было незадолго до его смерти».
Свой театр Павла Вульф создала еще в детстве. Вместе с братом и сестрой она инсценировала «Бежин луг» Тургенева. И еще один спектакль на всю жизнь запомнился Павле Вульф: в день маминых именин, отмечавшихся в имении родственников около Порхова, была поставлена пьеса В. Крылова «Сорванец»: «Я играла внучку. Мне очень нравилась роль… С каким трепетом готовилась я к роли… На спектакль съехалась масса знакомых… Мой труд, моя увлеченность ролью не пропали даром и принесли успех. Мое исполнение было неожиданностью для всех… У меня радостно билось сердце и я решила: буду актрисой непременно. Играть на сцене — это несравнимое ни с чем счастье».
Но вернемся снова к тому дню, когда Павла Леонтьевна вынуждена была покинуть Ростов. Сегодня трудно объяснить, чем она руководствовалась, — скорее всего, в ту пору до Москвы добраться было невозможно, а Крым сулил какие-то надежды. И Павла Леонтьевна вместе с дочерью и Раневской отправилась на пароходе в Евпаторию. Там у нее появилась возможность «немного отдохнуть и поправить пошатнувшееся здоровье моей маленькой дочери». И хотя к тому времени у Вульф был подписан договор на зимний сезон 1918/19 года в Ростове вернуться в город оказалось невозможно. Павла Леонтьевна собрала труппу в Евпатории, а потом вся она перекочевала в Симферополь. Заметим, что в обоих этих городах с театром познакомился и поддерживал дружбу тогда еще совсем молодой, но уже известный поэт Илья Сельвинский. Влюбчивый «донжуанистый» по натуре, он уделял внимание всем актрисам театра, не исключая и Вульф с Раневской. В те годы он написал немало стихов о Гражданской войне. Вот отрывки из его стихотворения «В нашей биографии»:
Мы, когда монахи (помните?) бабахали.
Только-только подрастали, среди всяких «но»,
И нервы наши без жиров и без сахара
Лущились сухоткой, обнажаясь, как нож…
И едва успев прослышать марксизм,
Лишенные классового костяка,
Мы рванулись в дым по степям, по сизым.
Стихийной верой своей истекать…
Мы путались в тонких системах партий,
Мы шли за Лениным, Керенским, Махно,
Отчаивались, возвращались за парты,
Чтоб снова кипеть, если знамя взмахнет.
Прошли годы, и в 1947 году Сельвинский подарил Фаине Георгиевне свою книгу «Крым. Кавказ. Кубань» сделав на ней надпись: «Большому художнику. Фаине Георгиевне Раневской — в память нашей евпаторийской юности».
Фаина Раневская вступила в труппу театра после дебюта в роли Маргариты Кавалини в пьесе Э Шелтона «Роман». Павла Вульф вспоминала: «Я готовила ее к дебюту, занималась с ней этой ролью. И потом в течение всей творческой жизни этой замечательной актрисы все ее работы я консультировала и была строгим, но восхищенным ее огромным талантом педагогом. Работая над ролью Кавалини с Раневской, тогда еще совсем молодой, неопытной актрисой, я почувствовала, каким огромным дарованием она наделена. Но роль Маргариты Кавалини, роль „героини“, не смогла полностью раскрыть возможности начинавшей актрисы».
В тот же первый сезон в Крыму Фаина Раневская сыграла роль Шарлотты в «Вишневом саде» Чехова, и сыграла, говоря словами П. Л. Вульф, «так, что это в значительной мере определило ее путь как характерной актрисы и вызвало восхищение ее товарищей по труппе и зрителей». Итак, истинный дебют восходящей звезды Раневской состоялся в роли Шарлотты, английской гувернантки.
Не будем гадать сегодня, что привлекло Раневскую в этой роли. Как пишет М. Розовский: «Шарлотта — вовсе не украшение пьесы, хотя ее всегда играют как украшение… Она призвана в свиту как дьявольское начало. Гувернантка из нее никудышная, можно было бы и выгнать, но она необходима Раневской — без Шарлотты ей скучно… Шарлотта — знак игры, поверхностной развлекательности».
И хотя после Крымского театра она больше к этой роли не возвращалась, именно Шарлотта «привела» ее на большую сцену. Из воспоминаний Павлы Вульф: «Как сейчас вижу Шарлотту — Раневскую. Длинная, нескладная фигура, смешная до невозможности и в то же время трагически одинокая. Какое разнообразие красок было у Раневской и одновременно огромное чувство правды, достоверности, чувства стиля, эпохи, автора! И все это у совсем молоденькой, начинавшей актрисы. А какое огромное актерское обаяние, какая заразительность! Да, я по праву могла тогда гордиться своей ученицей, горжусь и сейчас ее верой в меня как в своего педагога. Эта вера приводит ее ко мне и по сей день со всеми значительными ролями, над которыми Фаина Георгиевна всегда так самозабвенно и с такой требовательностью работает».
Таким образом, настоящей актрисой Раневская стала в 1919 году в Крыму в театре, открытом при советской власти. Впрочем, советская власть тогда продержалась всего пару месяцев — ее сменили белые, и эта чехарда властей длилась до окончательного прихода Красной армии в ноябре 1920-го. Места более страшного, чем Крым, в годы Гражданской войны, пожалуй, не сыскать. Об этом ярко и достоверно рассказывает и сама Раневская в своих воспоминаниях: «18, 19, 20, 21 год — Крым, голод, тиф, холера, власти меняются, террор: играли в Севастополе, зимой театр не отапливался, по дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие… зловоние… Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка (та самая революционерка с настоящей фамилией Залкинд, о которой Раневская в разговоре с Утесовым однажды заметила: „Таких земляков я бы знать не хотела, хотя в двадцатых годах встречалась с ней“. — М. Г.); видела, как бежали белые… женщины кричали, дети кричали, мальчики юнкера пели: „Ой, ой, ой мальчики, ой, ой, ой бедные, погибло все и навсегда!“ Прохожие плакали. Потом опять были красные и опять белые… Бывший Дворянский театр, в котором мы работали, был переименован в „Первый советский театр в Крыму“».
Именно в этом театре Фаина Георгиевна сыграла в течение короткого периода пять ролей в пьесах Чехова: Шарлотту в «Вишневом саде», Машу Заречную в «Чайке», Войницкую в «Дяде Ване», Зюзюшку в «Иванове», Ольгу и Наташу в «Трех сестрах». Позже она сыграла немало ролей и в других чеховских пьесах. Но права была Павла Вульф, написав: «Крымский период был началом творческих успехов Раневской».
Из воспоминаний Фаины Георгиевны: «Я не уверена, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин. Среди худющих, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а у него, видимо, было что-то вроде слоновой болезни. Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа… Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба… Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату; утром он принес нам стихи „Красная Пасха“. Это было в Симферополе 21 апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука. Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком».
Стихи эти, прежде строжайше запрещенные, сегодня широко известны, но хочется привести их еще раз, чтобы показать, в каких условиях жила Раневская в Крыму в те страшные месяцы:
Зимою вдоль дорог валялись трупы
Людей и лошадей. И стаи псов
Въедались им в живот и рвали мясо.
Восточный ветер выл в разбитых окнах.
А по ночам стучали пулеметы.
Свистя, как бич, по мясу обнаженных
Мужских и женских тел.
Весна пришла
Зловещая, голодная, больная.
<…>
Фиалки пахли гнилью.
Ландыш — тленьем.
Стволы дерев, обглоданных конями
Голодными, торчали непристойно,
Как ноги трупов. Листья и трава
Казались красными, а зелень злаков
Была опалена огнем и гноем.
Лицо природы искажалось гневом
И ужасом.
А души вырванных
Насильственно из жизни вились в ветре,
Носились по дорогам в пыльных вихрях,
Безумили живых могильным хмелем
Неизжитых страстей, неутоленной жизни,
Плодили мщение, панику, заразу…
Зима в тот год была Страстной неделей,
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал.
Через несколько дней, 26 апреля, Волошин написал стихотворение, еще более трагическое, чем «Красная Пасха», дав ему название «Террор»:
Собирались на работу ночью. Читали
Донесенья, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече
Выкликали по спискам мужчин, женщин.
Сгоняли на темный двор.
Снимали с них обувь, белье, платье.
Связывали в тюки. Грузили на подводы. Увозили.
Делили кольца, часы…
<…>
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю. Грызлись за кости.
Целовали милую плоть.
Раневская вспоминала: «Эти стихи мне читал Максимилиан Александрович Волошин с глазами, красными от слез и бессонной ночи, в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома. Мы с ним и с Вульф и ее семьей падали от голода, Максимилиан Александрович носил нам хлеб. Забыть такое нельзя, сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. Вот почему я не хочу писать книгу „о времени и о себе“. Ясно вам? А Волошин сделал из этого точные и гениальные вирши».
Разумеется, опубликовать такие стихи при советской власти было крайне сложно. Ведь ясно было, что все эти кошмары имели место тогда, когда красные заняли Крым, пообещав до этого не уничтожать белогвардейцев, оказавшихся на полуострове. Волошин, чтобы напечатать эти стихи в газете «Красный Крым», посвятил их якобы пятидесятилетию гибели Парижской коммуны в мае 1871 года, сопроводив примечанием: «Кровавой неделей коммуны зовут в Париже те дни, когда версальцы вершили расправы над побежденными».
Максимилиан Волошин и Фаина Раневская познакомились задолго до того, как он побывал у нее и Павлы Вульф в Симферополе. В дневниках Волошина читаем: «1918 год. Большевики в Феодосии. Безумная весна. Немецкое завоевание. Дуся. Фаина…» Дуся — это Евдокия Яценко, жительница Феодосии, в эмиграции ставшая киноактрисой. А вот Фаина — это Раневская, с которой Волошин познакомился в то время. Она принимала участие в его выступлениях-концертах. Об одном из таких концертов мне рассказывал писатель Эмилий Львович Миндлин, с которым я встречался в конце 1970-х в Доме писателей в Коктебеле, том самом волошинском доме, где побывали в разное время чуть ли не все советские писатели. Он прочел мне стихотворение бельгийского поэта Эмиля Верхарна «Ужас» в переводе Волошина:
В равнинах Ужаса, на север обращенных,
Седой Пастух дождливых ноябрей
Трубит несчастие у сломанных дверей —
Свой клич к стадам давно похороненных.
Кошара из камней тоски моей былой
В полях моей страны унылой и проклятой,
Где вьется ручеек, поросший бледной мятой,
Усталой, скучною, беззвучною струей.
И овцы черные с пурпурными крестами
Идут послушные, и огненный баран,
Как скучные грехи, тоскливыми рядами
Седой Пастух скликает ураган.
Какие молнии сплела мне нынче пряха?
Мне жизнь глядит в глаза и пятится от страха.
Заметив мою потрясенную реакцию, Эмилий Львович продолжил рассказ: «Если принято считать, что хороший переводчик поэзии — это соперник поэта, то чтение стихов Верхарна в переводе Волошина было истинно русской интерпретацией великого бельгийского поэта-символиста. На этом вечере, о котором я рассказываю, Фаина Георгиевна прочла немало стихов Верхарна, но мне особенно запомнилось стихотворение „Микеланджело“. Французским я не владел, но мне показалось, что язык этот знаю с детства».
Эмилий Львович достал томик Верхарна и прочел это стихотворение на русском языке:
Когда Буонарроти вошел в Сикстинскую капеллу,
Он насторожился,
Как бы прислушиваясь,
Потом измерил взглядом высоту, —
Шагами расстояние до алтаря,
Обдумал свет, сочащийся сквозь окна,
И то, как надо взнуздать и укротить
Крылатых и ретивых коней своей работы…
Затем ушел до вечера в Кампанью…
«Так вот, — продолжил он, — Волошин в начале века перевел много стихов Верхарна — по сути, преподнес его русскому читателю. Почему на этих концертах читать стихи Верхарна он предложил Фаине Георгиевне? Наверное, прежде всего потому, что сам отлично владея французским языком, обратил внимание на дикцию Раневской, когда она говорила и читала по-французски, и, вероятно, подумал, что перевод из Верхарна может донести до читателя лишь человек двуязычный. Так, как эту роль могла сыграть Раневская, не далось бы никому. И, во-вторых, по мнению самого Волошина, Верхарн — поэт весьма неровный. О своих переводах он писал: „Мои переводы отнюдь не документ: это мой Верхарн, переведенный на мой язык. Я давал только того Верхарна, которого люблю… Приняв произведения в свою душу, снова родить его: иным творческий перевод не может быть. Но это не мешает многому в моих переводах быть дословным“».
Эмилий Львович сказал, что он когда-то, много лет тому, звонил Раневской и предложил организовать в Москве вечер, посвященный волошинскому обществу «Киммерика». И было бы замечательно, если бы Фаина Георгиевна прочла на нем Верхарна в оригинале, а он сопроводил бы ее чтение переводами Волошина. На это Раневская ответила, что она не только забыла стихи Верхарна в оригинале, но разучилась вообще говорить по-французски. Этому языку, как и немецкому, ее научили домашние учителя, но в повседневной жизни они советскому человеку не требовались, да и само знание их могло оказаться опасным. Поэтому многие потомки «буржуев» предпочли, подобно Раневской, забыть ненужный навык.
Волошин в 1919 году писал Бунину из своего Коктебеля: «Я живу здесь с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят, как на большевицкие». По словам Э. Л. Миндлина, «белые не были ему любопытны — у них не было ничего загадочного, непонятного. Красные оставались для Максимилиана Волошина загадочными. Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийском народном университете. Университет открыли почти тотчас после освобождения Крыма. Ректором его был Викентий Викентьевич Вересаев, проректором — Д. Д. Благой. Разместился он на втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатового цвета с потемневшими лепными потолками был переполнен слушателями в шинелях и гимнастерках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах — о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они еще дух не успели перевести после последних боев за Крым».
В ноябре 1920 года, после жестоких боев на Перекопе, Красная армия вошла в Крым, и полуостров стал советским. В ночь перед вступлением красных в Симферополь белогвардейцы беспощадно разгромили город, забрав все ценное. Утром он представлял собой печальное зрелище; неузнаваем был и бывший Дворянский театр. Тем не менее вся труппа собралась в ожидании красноармейцев. Долго спорили о том, что будут показывать сегодня вечером; приняли предложение Раневской показать «Грозу» Островского. Она блистательно играла в этом спектакле сумасшедшую барыню, к тому же была уверена, что эта пьеса придется по настроению красноармейцам. «Как памятен мне этот спектакль! Театр переполнен красноармейцами. Они громко разговаривали, обменивались тут же впечатлениями… Мы были рады этому необычному зрителю», — писала в своих мемуарах Павла Леонтьевна Вульф.
Когда актеры выходили на поклон, Раневская со свойственным ей остроумием как бы невзначай сказала:
— Спектакль окончен, но вам, дорогие наши зрители, предстоит еще ответственная работа — проводить каждого из актеров до дома.
Дружба Раневской и Вульф продолжалась до конца жизни Павлы Леонтьевны, да и после кончины ее в 1961 году Раневская ежедневно, едва ли не ежечасно вспоминала о ней. Надо ли говорить, каким ударом ее смерть стала для Фаины Георгиевны? Она долго не выходила на сцену Театра имени Моссовета, где тогда работала. Сорок дней со дня смерти Павлы Леонтьевны предложила отметить у себя Елизавета Моисеевна Абдулова. Среди гостей были дочь Павлы Леонтьевны Ирина, сын Елизаветы Моисеевны Всеволод, Нина Сухоцкая. Всеволод Абдулов попросил разрешения прочесть стихотворение Сельвинского «Мотькэ-Малхамовес», напомнив, что стихи эти любит Фаина Георгиевна и любила покойная Павла Леонтьевна. «Севочка, прочти эти стихи полностью. Если нас сейчас слышит Павла, она будет благодарна», — сказала Раневская. И Всеволод Осипович замечательным своим голосом прочел это стихотворение:
Красные краги. Галифе из бархата.
Где-то за локтями шахматный пиджак.
Мотькэ-Малхамовес считался за монарха
И любил родительного падежа.
Полчаса назад — усики нафабрены,
По горлу рубчик, об глаз пятно —
Он как вроде балабус обошел фабрику,
Он а знаменитэр ин Одэсс блатной.
Там в корпусах ходовые девочки,
У них еще деньжата за ночной «марьяж» —
Сонька, и Любка, и Шурочка Первая,
Которую отбил у всего ворья…
Здесь заметим, что хотя Фаина Георгиевна не была большой поклонницей модернистской поэзии (и уж тем более блатной романтики), но ранние стихи Сельвинского любила, да и встречалась с ним не только в Крыму, но и в Москве. Не раз упоминала его в своих дневниковых записях. Судьба Сельвинского тоже оказалась печальной — после ранней громкой славы он подвергся резкой критике за «формализм» и почти перестал печататься. Пережил горькое разочарование в идеалах юности, умер в 1968 году больным и полузабытым.
Ирина Анисимова-Вульф как бы невзначай упрекнула Фаину Георгиевну: «Вас так любят все, а вы кроме моей мамы, кажется мне, никого, даже Ниночку Сухоцкую». Несмотря на горе, постигшее Ирину, она и теперь не могла отрешиться от всегдашней ревности в отношении Раневской. Надо сказать, у нее были для этого основания — ведь даже письма соболезнования по случаю кончины Павлы Леонтьевны чаще приходили Раневской, чем дочери покойной актрисы. Вот одно из них — письмо художницы Валентины Ходасевич, написанное 5 июля 1961 года:
«Дорогая моя, любимая, хорошая, уважаемая Фаиночка Георгиевна!
Понимаю, чувствую и сочувствую Вашему горю, родная! Я сама испытала этот ужас беспомощности и бессилия, когда смерть отбирает у тебя самое дорогое и любимое.
Как хотелось бы, чтобы все, кто Вас любит, помогли бы Вам пережить случившееся.
Я была несколько дней в городе (живу у Кр-их под Звенигородом), никого не видела и узнала обо всем случайно, развернув старую газету. Не посмела Вам звонить и тем более появиться у Вас, т. к. не считала, что достаточно Вам близка для этого.
Вот поэтому пишу Вам, вернувшись в Звенигород. На природе все как-то легче и проще, и лучше понимаешь вечный круговорот жизни и смерти, и спокойнее как-то на это смотришь…
Вспоминаю Павлу Леонтьевну. Вспоминаю лето в Жуковке, и Ваш „гаражный“ особнячок, и Ваши заботы, и любовь к Павле Леонтьевне. Это было очень красиво!
Все понимаю, но хочу, чтобы скорее Вам стало легче и спокойнее на душе, дорогая!
Я Вас крепко обнимаю и жму Ваши прекрасные руки от всего сердца.
Валентина Ходасевич».
Еще одно письмо пришло от знаменитого физика, академика П. И. Капицы: «Дорогая Фаина Георгиевна! Ваше восхищение моим гением основано только на доверии к общественному мнению, а мое восхищение Вашим талантом основано на прямом восприятии…»
На одном из поминальных вечеров Павлы Леонтьевны Фаина Георгиевна читала монологи Верди из спектакля «Лисички» Лиллиан Хелман. Она не соотносила их с кончиной подруги, но по всему было видно, что думает она о ней. К памяти о Павле Леонтьевне Раневская возвращалась постоянно. Вот отрывки из ее дневниковых записей: «Павла Леонтьевна Вульф — это имя для меня свято. Только ей я обязана тем, что стала актрисой. В трудную минуту я обратилась к ней за помощью, как и многие знавшие ее доброту. Павла Леонтьевна нашла меня способной и стала со мной работать. Она учила меня тому, что ей преподал ее великий учитель Давыдов и очень любившая ее Комиссаржевская.
За мою долгую жизнь в театре я не встречала актрисы, подобной Павле Леонтьевне, не встречала я человека, подобного ей. Требовательная к себе, снисходительная к другим, она была любима своими актерами как никто, она была любима зрителями также как никто из актеров-современниц. Я была свидетельницей ее славы, ее успеха. Скромность ее была удивительна, она старалась быть в тени. Не было в ней ничего от „премьерши“. Мне посчастливилось не только видеть ее изумительное искусство, но даже играть с ней, это были самые радостные дни моей жизни.
П. Л. стремилась помочь даже тем, кто к ней не обращался за помощью. Она отдавала лучшие свои роли молодым актрисам, занимаясь с ними. По моим наблюдениям, обычно стареющие актрисы действовали обратно, крепко держась за свои любимые роли. Ничего подобного не было в благородной натуре Павлы Леонтьевны…»
Несомненно, что если у Раневской был один, главный учитель в театре, то это, пожалуй, только Павла Вульф. Когда-то я запомнил слова Всеволода Абдулова, услышанные от него накануне столетнего юбилея Раневской: «Многие меня сейчас просят написать воспоминания о Фаине Георгиевне. Не только написать, но даже рассказать о ней мне трудно. Говорят, что мой отец был ее учителем, но если что-то такое имело место, то они учились друг у друга. Даже Яншин, так любимый Фаиной Георгиевной — я не раз слышал от него, что он считает Раневскую своим учителем. И очень мечтает еще раз сыграть с ней в каком-нибудь спектакле или хотя бы в фильме».
Михаил Яншин снимался вместе с Раневской и Абдуловым в известном фильме «Свадьба» по рассказу Чехова. Раневская вспоминала, что, читая «Свадьбу», она ни разу не улыбнулась: «„Свадьба“ — личная трагедия Чехова, ибо он страдал, когда встречался с пошлостью и мещанством». Наблюдая Раневскую в этом фильме, невозможно не заметить, с какой брезгливостью и даже с остервенением она играет. Душу Чехова, его творчество, ставшее неотъемлемой частью его души, Раневская чувствовала по-особому — играя Чехова, она постоянно возвращалась в Таганрог, который давным-давно покинула.
Если случается, что ученик становится педагогом своего учителя — это величайшее счастье для учителя. В случае Вульф — Раневская, конечно, это не имело места: но разве иметь достойного ученика не есть величайшее счастье для педагога? Вот что пишет о Павле Вульф Нина Сухоцкая: «Чутьем большого художника она угадала в скромной молоденькой участнице массовок черты подлинной одаренности и привлекла ее к себе… убедившись, что чутье не подвело ее и она действительно имеет дело с большим актерским дарованием. Собственно, эти занятия (с Вульф. — М. Г.) и были единственным „театральным институтом“ для Фаины Георгиевны».
Закончить же эти заметки мне хочется отрывками из писем разных лет, написанных Раневской Павле Леонтьевне.
Четвертое июля 1958 года:
«Дорогая моя мамуля!
У меня было впечатление от сегодняшней репетиции, как от чего-то безнадежно и непоправимо кошмарного. Обычно режиссер будит фантазию, горячит кровь, наталкивает на интересные решения, подсказывает интересные задачи, а тут надо тащить на себе груз режиссерского скудоумия, скуки, уныния, сонной болезни.
10-го — скандал, собрание, оскорбления».
Двадцать пятого июня 1960 года (на открытке с изображением Вана Клиберна):
«Мамочка, золотиночка, нет под рукой бумаги, потому пишу на Ванечке. Все мои мысли, вся душа с тобой, а телом буду к 1 июля. Отпускают делать зубы, 15-го июля опять съемка, пересъемка, т. е. продолжение кошмара, забот накопилось много. Белка переслал письмо брата. Скоро обниму тебя, мою родную, дорогую.
Не унывай, не приходи в отчаяние. Твоя Ф.».
Вскоре после смерти Ирины Вульф Раневская напишет: «9 мая 1972 г. Умерла Ирина Вульф. Не могу опомниться. И так, будто осталась я одна на всей земле… Когда кончится мое смертное одиночество?»
Задолго до этого, вскоре после кончины Ахматовой, в декабре 1966 года, Раневская под впечатлением стихотворения Евтушенко «Памяти Ахматовой» описывает сон: «Вот вошла в черном Ахматова, худая — я не удивилась и не испугалась, — спрашивает меня: „Что было после моей смерти?“ Я подумала, стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко „Памяти Ахматовой“, — решила не говорить».
Фаина Георгиевна, конечно, помнила, что Анна Андреевна недолюбливала Евтушенко за его плакатные просоветские стихи и называла его «фельетонистом». Между тем стихотворение «Памяти Ахматовой» Раневская очень любила и не раз читала строфы из него по памяти:
…Она ушла, как будто бы напев
Уходит вглубь темнеющего сада.
Она ушла, как будто бы навек
Вернулась в Петербург из Ленинграда.
Она связала эти времена
В туманно-теневое средоточье.
И если Пушкин — солнце, то она
В поэзии пребудет белой ночью.
Над смертью и бессмертьем вне всего
Она лежала, как бы между прочим,
Не в настоящем, а поверх него
Лежала между будущим и прошлым.
Не помню кто, но, кажется, Валентин Дмитриевич Берестов говорил мне, что стихи «Памяти Ахматовой» Евтушенко хотел посвятить Фаине Раневской. Почему этого посвящения не оказалось в публикации — не знаю, но Фаина Георгиевна читала отрывок из «Памяти Ахматовой» на вечере, посвященном Анне Андреевне:
Ахматова превыше всех осанн
Покоилась презрительно и сухо,
Осознавая свой духовный сан
Над самозванством и плебейством духа…
Она творила как могла добро,
Но силы временами было мало,
И, легкое для Пушкина, перо
С усмешкой пальцы женские ломало…
И снова вернемся к снам Раневской, на сей раз о Павле Вульф:
«Во сне не было страшно, страх — когда проснулась, — нестерпимая мука, в то же утро я видела во сне Павлу Леонтьевну — маленькая, черная, она жаловалась, что ей холодно, просила прикрыть ей ноги пледом в могиле. Как всегда, я боялась того, что случилось, боялась пережить ее!»
Место Вульф в сердце Раневской так и осталось незанятым, зияющим, как открытая рана. Много лет, оплакивая свою потерю, она не переставала благодарить судьбу за то, что ей была послана такая дружба, творческая и человеческая, какая мало кому выпадает на долю. Может быть, именно это дало Раневской основание признаться в конце жизни: «Мне везло на друзей».
Кроме Павлы Вульф есть еще один актер, сыгравший особую роль в жизни Раневской, — это Василий Иванович Качалов. Увидела она его впервые на сцене МХАТа, когда всеми правдами и неправдами прорывалась на спектакли этого великого театра. «Видела длинные очереди за билетами в Художественный театр. Расхрабрилась и написала письмо (Качалову. — М. Г.): „Пишет Вам та, которая в Столешниковом переулке, услышав Ваш голос, упала в обморок. Я уже начинающая актриса. Приехала в Москву с единственной целью — попасть в театр, когда Вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет и не будет“». Очень скоро пришел ответ от Качалова: «Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору, у которого на ваше имя два билета. Ваш В. Качалов». С этого началась их дружба, длившаяся до смерти великого актера. Дружба была настолько настоящей, что Фаина Георгиевна позволяла себе делать замечания Качалову. Она его обвиняла в том, что он «обомхатил» Маяковского. Разумеется, это не так, но Раневская, слышавшая в разных аудиториях Маяковского, была уверена, что его стихи может читать только он сам.
Однажды Всеволод Абдулов на своем дне рождения, который ежегодно собирались отмечать его друзья, прочел стихотворение Маяковского (до этого ему звонила Фаина Георгиевна и сказала: «Севочка, если меня сегодня не будет, то мое присутствие обозначьте любимым моим стихотворением Маяковского»), добавив при этом: «Это любимые стихи не только мои, но и Фаины Георгиевны»:
А сами, без денег и платья
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам
и мотам.
Мы даже не знаем, куда нам
деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зуб на зуб,
станем голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
чтоб об этом больше никогда
не написать.
«Как, друзья, — спросил он потом, — вам нравится этот гимн взяточникам? Я, кажется, понимаю, почему он так нравится Фаине Георгиевне».
Из воспоминаний Раневской о Качалове: «Бывала у В. И. постоянно, вначале робела, волновалась, не зная, как с ним говорить. Вскоре он приручил меня, и даже просил говорить ему „ты“ и называть его Васей. Но я на это не пошла. Он служил мне примером в своем благородстве. Я присутствовала однажды при том, как В. И., вернувшись из театра домой, на вопрос жены, как прошла репетиция „Трех сестер“, где он должен был играть Вершинина, ответил: „Немирович снял меня с роли и передал ее Болдуману… Болдуман много меня моложе, в него можно влюбиться, а в меня уже нельзя“. Он говорил, что нисколько не обижен, что приветствует это верное решение режиссера…
А я представила себе, сколько злобы, ненависти встретило бы подобное решение у другого актера, даже большого масштаба. Писались бы заявления об уходе из театра, жалобы по инстанциям. Я была свидетельницей подобного». Правда, Раневская рассуждала так в молодости, а в зрелые свои годы нередко писала заявления об уходе.
Когда Фаина Георгиевна в 1946 году оказалась в больнице — предстояла тяжелая операция, подозревали опухоль, — Качалов, узнав об этом, передал ей записку: «Кланяюсь страданию твоему (думаю, он не случайно начал цитатой из „Преступления и наказания“ Достоевского. Наверное, был согласен с Федором Михайловичем — страдания излечивают душу. — М. Г.). Верю, что страдание твое послужит тебе к украшению, и ты вернешься из Кремлевки крепкая, поздоровевшая и еще ярче засверкает твой талант.
Я рад, что наша встреча сблизила нас, и еще крепче ощутил, как нежно я люблю тебя.
Целую тебя, моя дорогая Фаина. Твой Чтец-декламатор».
Раневская как только пришла в себя, еще находясь в больнице, ответила Качалову, и Василий Иванович немедля послал ей большое письмо: «Не падайте духом, Фаина, не теряйте веры в свои большие силы, в свои прекраснейшие качества — берегите свое здоровье… Только о своем здоровье и думайте. Больше не о чем пока! Все остальное приложится — раз будет здоровье, право же, это не пошляческая сентенция… Только нужно, чтобы вы были здоровы и крепки, терпеливы и уверены в себе».
Елизавета Моисеевна рассказывала, что письмо это от Качалова Раневская перечитывала много раз и даже выучила наизусть. «Если я на сей раз выскочу, — говорила она, — то это благодаря Василию Ивановичу». Именно в том году Раневская написала черновик автобиографии. Быть может, решила, что пора уже подвести итоги жизни, пока что начерно. Для нас же важно, что она перечислила имена советских драматургов, в чьих пьесах играла роли: Билль-Белоцерковский, Афиногенов, Корнейчук, Шкваркин, Катаев, Тренев, Луначарский, Лебединский, Лавренев, Штейн, Суров, Погодин, Файко, — как бы подчеркивая тем самым, какую значительную часть ее репертуара составили пьесы современных авторов. Фамилии актеров она в этой автобиографии не назвала — боялась кого-то пропустить. «Не раздумывая, назвала бы только Качалова».
Примерно в то же время (почему вдруг?) она заговорила с Елизаветой Моисеевной, человеком, от которой у нее не было тайн, о том, что боится предложения сотрудничать с «органами». Это были годы, когда громили Зощенко, Ахматову и других. Отказаться от такого предложения — поставить крест на карьере, согласиться — скомпрометировать себя на всю жизнь. И тут на помощь пришел Михаил Светлов. Он рассказал Раневской, как еще в начале 1930-х годов ему предложили такое сотрудничество. Он сказал, что, конечно, готов, но опасается своего алкоголизма — это может привести к провалу. И Светлов действительно запил на всю оставшуюся жизнь.
— Но я же не могу, Мишенька, последовать твоему примеру. Ты ведь видишь, какое у меня здоровье.
— Ты умная, Фаина, и придумаешь что-нибудь другое. Помнишь рассказ Куприна «Штабс-капитан Рыбников»? Скажи, если поступит такое предложение, что ты кричишь во сне. Поверь мне — от тебя отстанут.
Но произошло другое. Вскоре после этого разговора со Светловым Раневской в очередной раз предложили вступить в партию. Подумав, что, может быть, парторг тоже состоит в «органах», она сказала: «Дорогой мой, я очень мечтаю об этом, но не могу — я кричу во сне! Голубчик, вы не задумывались, почему я живу одна? Именно по этой причине». В отличие от других анекдотов о Раневской этот рассказ, повторяю, я услышал от надежной свидетельницы — Елизаветы Моисеевны. Каждый раз, когда Метельская навешала Раневскую в больнице, Фаина говорила: «Лизочка, как только я стану здоровой, обещай мне, что мы пойдем к Василию Ивановичу».
Закончить эту главу хочется рассказом о том, как однажды Качалов не сумел помочь Раневской. Он, зная о мечте Раневской попасть во МХАТ, организовал ее встречу с Немировичем-Данченко, который, по его сведениям, был наслышан о ней. Качалов, разумеется, подготовил ее к этой встрече, но Раневская, по своей рассеянности, назвала Владимира Ивановича Немировича-Данченко Василием Степановичем. После чего была выдворена из кабинета. Качалов еще раз зашел к директору МХАТа, но мэтр ответил: «И не просите: она, извините, ненормальная. Я ее боюсь…»
Раневская оказалась права, полагая, что письмо Качалова способствовало ее выздоровлению. Выйдя после кремлевки «на свободу», Раневская принимает предложение Ленинградской киностудии сыграть Мачеху в фильме «Золушка» по сценарию Евгения Шварца. Ее привлекало многое, но, пожалуй, больше всего возможность пожить в Ленинграде, быть рядом с Анной Андреевной Ахматовой, да и желание «осовременить» Мачеху сыграло не последнюю роль. И это несмотря на то, что в Театре драмы уже начались репетиции спектакля «Лисички», где она играла главную роль, и на разговоры о том, что ее утвердили на роль в фильме Александрова «Весна». Зная, что ей предстоят съемки в Праге на киностудии «Баррандов» и первая (в советское время) в жизни поездка за границу, она все же предпочла Ленинград. Несмотря на недавно перенесенную операцию, Фаина принялась за осуществление многих планов сразу, но «Золушку» поставила вне очереди.
С Симферополем связано еще одно событие в жизни и Раневской, и Павлы Вульф: одним из первых зрителей в созданном Вульф театре был Константин Тренев, в ту пору обыкновенный учитель, ежедневно посещавший спектакли Нового театра. Многие удивлялись его постоянному присутствию на спектаклях. Раневская предположила в шутку:
— Может быть, кого-то присмотрел из нас?
Но вскоре «тайна» была разгадана: однажды Тренев предложил Павле Леонтьевне и Рудину свою пьесу «Грешница»: «Сначала пусть ознакомятся режиссеры и ведущие актеры, а уж потом коллектив». Пьесу Константин Андреевич прочел у себя в квартирке, расположенной где-то в старой части Симферополя. Все присутствовавшие при чтении, а читал он ее превосходно — все же педагог! — не только одобрили пьесу, но и решили принять ее к постановке. Однако, по признанию Павлы Леонтьевны, Грешница, которую предстояло играть ей, «не грела, не увлекала, я только чувствовала трудность своего положения — страдающая женщина среди комедийных персонажей». Видимо, почувствовав такое ее отношение к роли, Вульф решила отказаться от постановки. Позже Константин Андреевич признал ее правоту, сказав, что «Грешница» для него явилась трамплином для следующей пьесы. Ею стала «Любовь Яровая», произведение, принесшее Треневу признанный успех, способствовавшее становлению нового советского театра.
Еще в Симферополе не только Павла Вульф, но и Раневская, да и другие актеры подружились с К. А. Треневым. Но новую пьесу они услышали уже в Москве: «К. А. читал нам и „Любовь Яровую“. Не преувеличу, если назову эту пьесу гениальной. Мне посчастливилось играть в ней роль Дуньки. В Москве мы часто виделись, бывали в его семье, помню прелестных детей — девочку и мальчика — и гостеприимную жену… В моей долгой жизни не помню, чтобы я относилась к кому-либо из драматургов-современников так нежно и благодарно, как к Треневу».
Пьеса «Любовь Яровая» была поставлена во МХАТе, а вскоре и во многих других театрах, в том числе в Смоленском театре, где после закрытия симферопольского Нового театра работала труппа Вульф. На репетиции в Смоленск приезжал сам Константин Андреевич, он же предложил на роль Дуньки Раневскую, а на роль Яровой саму Вульф. Из письма Тренева Павле Вульф: «Глубокоуважаемая Павла Леонтьевна! Вы и Фаина Георгиевна с такой исключительной нежностью откликнулись на мое письмо, что мне очень неловко: слишком в малой мере я этого стою… Все же письма Ваши я перечитывал с глубоким волнением. Спасибо Вам… Перед отъездом в Москву я встретился с арт. Кручининой, которая в восторге от ряда исполнителей в Смоленске и прежде всего от Яровой и Дуньки. Только с большим состраданием говорила о Вашем театре, особенно об условиях сцены…»
Из воспоминаний Фаины Раневской: «Когда после смоленского сезона мы встретились с Константином Андреевичем в Москве, наши беседы были почти исключительно о „Любови Яровой“. О чем бы ни заговорили, — разговор возвращался к „Яровой“. Мы наперебой рассказывали Константину Андреевичу, как решалась та или другая сцена в нашем театре, как раскрывались образы пьесы. Константин Андреевич был тронут нашей увлеченностью — он радовался, что его замысел не только не нарушен, но правильно истолкован нами». Раневская, встречаясь с Треневым в Москве, демонстрировала перед ним отрывки своей роли. Константин Андреевич не мог сдержать своего восторга, иногда громко хохотал, иногда аплодировал. Он не смог сдержать своего изумления, слыша выговор Раневской: «Таким южным говором владеют немногие. А впрочем, вы же из Таганрога!» Уже тогда Раневская позволяла себе вставлять в роль «словечки от себя», что позднее случалось весьма часто и в театре, и в кино. Но на репетициях она кокетливо извинялась перед автором, а Константин Андреевич говорил: «Нет, это чудесно, молодец, я непременно внесу в пьесу, непременно».
Тренев мечтал, чтобы Павла Леонтьевна поставила спектакль по следующей его пьесе, работу над которой он завершает. Он знал, что Раневская уже приглашена в Бакинский театр для участия в спектакле «Пугачевщина». Не представлял себе эту пьесу без Раневской, даже если Вульф не поедет в Баку.
Случилось так, что в Баку Павла Вульф не поехала — продолжала мечтать о МХАТе, но поработать там ей так и не довелось. Раневская отправилась в столицу советского Азербайджана одна. Уже тогда, в 1925 году, это был большой многонациональный город, где соседствовали культурные традиции азербайджанцев (порой их по привычке еще называли татарами), армян, русских, евреев. Раневской предстояло играть в Бакинском рабочем театре, основанном в 1913 году, где режиссером тогда был Майоров. Раневская очень любила по-восточному эмоциональную бакинскую публику, и та ей отвечала взаимностью. «Публика была ко мне добра», — напишет она многим позже. Уже забыты «актуальные» пьесы, которые ставились в период ее работы в Бакинском театре, но до сих пор бакинцы вспоминают с любовью, что когда-то в их театре играла сама Раневская. В частности, ей досталась короткая, но незабываемая роль в пьесе «Наша молодость», созданной по роману Виктора Кина. Григорий Кизель вспоминает: «Она появляется лишь в одной картине, в вагоне-теплушке — характерный осколок старого мира. Неряшливо одетая, в видавшем виды солдатском полушубке, в отжившей свой век, некогда модной шляпке и грязных валенках. Комичный и грустный образ дополняет песня, которую актриса исполняет хриплым голосом, по просьбе пассажиров: „В Одессу морем я плыла на пароходе раз…“ В такт песне — ее жесты заводной куклы. И голос, и весь вид актрисы — резкий контраст той новой жизни, которую олицетворяют другие персонажи пьесы. Актриса заставляет смеяться, но заставляет и задуматься. На примере Ф. Раневской, как нельзя лучше, оправдываются слова, ставшие афоризмом, — нет маленьких ролей, есть маленькие актеры».
В этой связи мне вспоминается рассказ вдовы Кина, писательницы Цецилии Кин, услышанный мной в доме С. Я. Маршака: «Никогда не забуду, как уговаривал Виктор Самуила Яковлевича поехать с ним в Баку посмотреть этот спектакль. Маршак сказал: „Очень хочу в Баку, а еще больше посмотреть актрису Раневскую. Я так наслышан о ней…“ Он даже просил Виктора взять билет и для него. Не помню уж, почему, но поездка эта не состоялась».
В своей книге о Раневской Софья Дунина пишет: «В конце 20-х — начале 30-х годов отчетливо выявился характер творчества Раневской. Горячее желание участвовать в борьбе за новую, советскую жизнь привело Раневскую к выбору оружия в этой борьбе. Ее оружием стало разоблачительное искусство сатиры, ее лучшие роли обличали врага, иногда высмеивая его, иногда обнажая его страшную сущность, иногда показывая морально искалеченную им жертву». Эта цитата несет на себе отпечаток своего времени (напомним, что книга Дуниной издана в 1953 году). На самом деле, конечно, Раневская обращала свою сатиру не против «классового врага», а против презираемого ей мещанства, продолжая тем самым лучшие традиции русской интеллигенции, в том числе своего любимого Чехова.
Вторая половина 1920-х годов была для Раневской разнообразной не только в географическом понятии, хотя в этот период она работала, помимо Бакинского рабочего театра, в театрах Смоленска, Архангельска, Сталинграда. Драматический театр Сталинграда не случаен в биографии Раневской — в то время в городе строился громадный тракторный завод, один из первенцев советской индустрии. Фаине Георгиевне хотелось быть ближе к его строителям — непосредственным созидателям будущего. Она была уверена, что именно там, на грандиозной стройке социализма, находится ее настоящий новый зритель, свободный от мещанских предрассудков прошлого. Она готова была играть в рабочих клубах и прямо на строительных площадках. Может быть, права была Дунина, написав: «Период работы в Сталинградском театре принес Раневской много впечатлений и укрепил ее в сознании, что ей еще много недостает, чтобы ощущать себя полноправным участником социалистического строительства». Эти слова могут показаться пропагандистским штампом, но дочь таганрогского богача в самом деле искренне приняла советскую власть, верила в светлое будущее и на деле хотела приблизить его. Только позже она, вместе со многими романтиками социализма, увидела, что мещанство возрождается снова и снова, что его носителями и защитниками становятся представители той самой власти, которая обещала построить новую жизнь.
И снова обратимся к Дуниной: «Уже наступила пора, когда Раневскую знали и любили зрители, а она все еще считала себя недоучившейся, все еще мечтала овладеть методом актерского искусства, а не только совершенствовать актерскую технику. И еще больше, еще беспокойнее становилось стремление Раневской стать ближе к новым людям, строящим социализм. Она понимала, что советский актер обязан беспрестанно учиться у жизни, быть там, где творится новое, в самой гуще этого нового». Итак, «путешествие» по провинциальным театрам, длившееся десятилетие, завершилось для Раневской, и на сей раз навсегда (исключение составят лишь годы войны). Раневская решила вернуться в Москву с ее необыкновенной, пестрой, замечательной театральной жизнью. Больше ста театров тогда было в столице, и не только МХАТ, Малый театр, Театр имени Вахтангова, Театр имени Мейерхольда — славы в то время достиг и Камерный театр Таирова.
Это был не первый театр, в котором работала Раневская в Москве. До этого, сразу после ее возвращения летом 1931 года, был театр МОНО (Московский отдел народного образования). Раневская сыграла в нем несколько небольших ролей и с облегчением покинула это безликое учреждение. Первым театром в Москве, оставившим неизгладимый след в биографии Фаины Георгиевны, да и в истории советского театра, был Камерный театр. В этом театре она сыграла несколько эпизодических ролей, да и роль Дуньки в пьесе «Патетическая соната» тоже была эпизодической, но столь значимой, что оказалась незабываемой и для Фаины Георгиевны, и для главного режиссера этого великого театра.
Казалось бы, что общего между такими талантливыми, но очень разными актерами? Они родились в конце XIX века, но в разные годы: Таиров — в 1885-м, Коонен — в 1889-м, Раневская — в 1896-м. Александр Яковлевич Таиров (Коренблит) был уроженцем Ромен, тихого украинского городка в черте оседлости, из жителей которого след в истории оставили только сам Таиров и академик Абрам Федорович Иоффе. Родился он в семье учителя физики в еврейской школе, который, разумеется, мечтал, чтобы сын его стал физиком, тем более что у мальчика были блестящие способности — обучаясь в шестом классе, он помогал решать задачи по математике девятиклассникам. Однако не всегда воля родителей воплощается в реальность. Еще в детстве Саша увлекся театром и вскоре стал руководителем школьного театрального коллектива. А потом поступил в Петербургский университет — переход в христианскую веру позволил ему избежать при поступлении тех «прелестей» процентной нормы, какие выпали на долю его сокурсника, а позже близкого друга Соломона Михоэлса.
Алиса Георгиевна Коонен родилась в 1889 году в Москве, на Долгоруковской улице (какое-то время Каляевской, а ныне снова Долгоруковской): «Это была длинная тихая улица с невысокими кирпичными домами. Здесь жили, по преимуществу, небогатая интеллигенция и мелкие чиновники». Уже в конце жизни в своих мемуарах Коонен напишет: «Хорошо помню, как в день коронации Николая Второго оттуда ехали по нашей улице бесконечные телеги, покрытые рогожами. Из-под рогож свисали руки и ноги людей, задавленных во время гуляния на Ходынском поле…» И еще запомнилась Алисе Москва ее детства: «Заснеженные улицы, огромные сугробы, зимние солнечные дни: искрится и переливается снег, блестит серебряная тесьма на белых башлыках… По мостовой мчатся узкие санки, кучера покрикивают на неторопливо переходящих улицу прохожих».
Алиса Коонен, в отличие от Фаины Раневской, не имела в детстве ни красивых кукол, ни книжек с яркими картинками. Семья была бедной: «В день, когда я появилась на свет, не было денег, чтобы купить ваты, которую требовала акушерка. И мама сняла с себя крестильный крест, который отец пошел закладывать в ломбард…» Отец Алисы был поверенным по судебным делам, но, как вспоминает Алиса, его клиентами в основном были жильцы их же дома, платившие за юридический совет по рублю.
У матери Алисы с детства проявились потрясающие музыкальные способности — она была ученицей по классу фортепиано у самого Рубинштейна. Но маэстро, обратив внимание на ее неповторимо красивый голос, перевел ее в класс пения.
Мать Алисы была полькой, а отец ее, хотя и родился в Вильно, вел свое происхождение из Фландрии. Алиса любила слушать рассказы отца о каких-то его фламандских предках и уже в детстве уловила, что он недолюбливал бельгийских французов-валлонов, а восхищался фламандцами. «Помни, ты — фламандка, фамилия Коонен не склоняется», — говорил он, посадив дочь к себе на колени. Отец, в отличие от матери, был фантазер, мечтатель, но маленькая Алиса так любила его, что верила в любые его рассказы — «даже о Христиане Смелом, одном из предков рода отца, мужественном и благородном пирате, который со своей верной дружиной нападал на корабли богатых купцов, отбирал у них драгоценности, меха, золото и, привозя в рыбацкие деревушки, раздавал их беднякам».
Разумеется, после таких рассказов о предках любимым увлечением Алисы в детстве была игра в доморощенного Робин Гуда — Христиана Смелого. Словом, детские игры Алисы Коонен, как и игры в детстве Раневской, во многом предопределили ее будущее. Она, как и Фаина Раневская, создала свой театр дома: «У меня был свой угол около подоконника. В нескольких шагах от него стоял старый венский стул, к которому была прикреплена бумажка с надписью: „Театр. Вход по билетам“ — в этом театре я со своими сверстницами, двоюродными сестрами, разыгрывала пьесы, которые сама тут же сочиняла. Должна сказать, что магическая сила театра завладела мною в самом раннем детстве…»
Итак, Коонен, как и Раневская, да, впрочем, и Таиров, «заболела» театром еще в раннем детстве. К счастью, болезнь эта оказалась неизлечимой, как и их творческая, да и личная дружба. Судьбе было угодно, чтобы три эти выдающиеся личности русского театра встречались в жизни не раз. Творческий союз Таирова и Коонен начался со дня их знакомства в 1913 году и завершился лишь со смертью Таирова в 1950-м. До встречи с Таировым Коонен играла во МХАТе, ее учителями были Станиславский и Немирович-Данченко. Там она сыграла немало ролей и была не только замечена, но и отмечена выдающимися театроведами. Можно ли было мечтать о большем успехе? Но встреча с Таировым изменила все.
С Коонен Раневская познакомилась, когда ей было четырнадцать лет. Нина Сухоцкая вспоминала: «1910 год. Крым. Евпатория. Жаркие летние дни. В большом тенистом саду белый, увитый виноградом одноэтажный домик. Здесь живет с семьей доктор Андреев — главный врач недавно открывшегося туберкулезного санатория. Каждое утро из дома выходят две девочки — дочери Андреева — и с ними сестра его жены — молодая актриса Художественного театра Алиса Коонен, приехавшая в отпуск. Все трое знают, что у калитки в сад, как всегда, их ждет обожающая Алису Коонен Фаина — девочка-подросток с длинной рыжеватой косой, длинными руками и ногами и огромными лучистыми глазами, неловкая от смущения и невозможности с ним справиться… Девочка эта — Фаина Раневская. Актриса, которую она обожает и ради встреч с которой приехала в Евпаторию, — Алиса Коонен. Обняв Фаину, Алиса направляется к морю, за ними — в больших соломенных панамках, как два грибка, — идут девочки. Это я и моя старшая сестра Валя, тоже „обожающая“ свою молодую тетю Алю и ревнующая ее к Фаине. Мне в то время было четыре года, Фаине — пятнадцать лет. Не могла я тогда догадываться, что это знакомство перейдет в большую, пожизненную дружбу. После тех евпаторийских встреч я в течение ряда лет лишь изредка встречала ее у моей тетки Алисы Коонен, но эти дни живо сохранились в памяти».
Раневская могла видеть Коонен в Москве в связи со своим знакомством с Гельцер, но в мемуарах об этом ничего нет. Но когда она переехала в Москву в 1915 году, то ходила в открывшийся тогда же Камерный театр Таирова и Коонен на все спектакли. Пройдут годы, промелькнут театры. Настало время, когда Раневская поняла, что ей от Таирова и Коонен никуда не деться. Собственно, с театром Таирова она не расставалась с того дня, как увидела в нем первый спектакль: «Мне посчастливилось быть на спектакле „Сакунтала“, которым открывался Камерный театр. Это было более полувека назад. Роль Сакунталы исполняла Алиса Коонен. С тех пор, приезжая в Москву (я в это время была актрисой в провинциальных театрах), неизменно бывала в Камерном театре, хранила преданность этому театру, пересмотрев весь его репертуар».
И еще из записей Раневской: «Все это было так празднично, необычно, все восхищало, и мне захотелось работать с таким мастером, в таком особом театре. Я отважилась об этом написать Александру Яковлевичу (Таирову), впрочем, не надеясь на успех моей просьбы. Он ответил мне любезным письмом, сожалея о том, что в предстоящем репертуаре для меня нет работы. А через некоторое время он предложил мне дебют в пьесе „Патетическая соната“. В спектакле должна была играть А. Г. Коонен. Это налагало особую ответственность и очень меня пугало».
К счастью, в архиве Раневской сохранились документы, рассказывающие о том, как она оказалась в театре Таирова. Это было уже после того, как Фаина Георгиевна проработала во многих провинциальных театрах, в различных городах. В начале 1931 года она обратилась к Таирову с письмом, в котором выразила желание перейти к нему в театр. Вскоре мэтр ответил ей:
«Дорогая Фаина Георгиевна!
Я получил Ваше письмо и по-прежнему хотел бы, всячески, пойти навстречу Вашему желанию работать в Камерном театре. Полагаю, что это осуществится. К сожалению, не могу в настоящую минуту написать об этом категорически, так как я должен несколько ориентироваться в дальнейшем нашем репертуаре, с тем чтобы у Вас была работа, и, с другой стороны, немедленному разрешению вопроса мешают осложнения, возникшие в связи с затянувшимся открытием театра.
Во всяком случае, оба эти вопроса к июню, когда Вы собираетесь быть в Москве, отпадут, и я полагаю, что когда Вы будете в Москве, мы сможем уже на месте все окончательно выяснить.
Сезон мы предполагаем открыть в первой половине мая и будем играть все лето без перерыва, так что я буду все время в Москве и мы с Вами увидимся тотчас же по Вашем приезде.
Напишите, когда Вы будете в Москве.
Буду рад, если все наладится к нашему взаимному удовлетворению.
С сердечным приветом А. Таиров
31.03.1931 г.».
Судя по последней фразе письма («Буду рад, если все наладится»), Таиров для себя вопрос решил, но как отнесется к этому Коонен?
И вот письмо, написанное Алисой Коонен в апреле 1931 года. В нем можно уловить ее отношение к возможному переходу Раневской в Камерный театр:
«Ал. Як. сейчас в Берлине — в связи с поездкой — должен вернуться на днях. Когда он приедет, я с ним поговорю и тогда сообщу Вам его соображенье на Ваш счет. Очень, очень жалею, что Вы так смалодушничали весной!!!..
Ну вот, Дорогая, целую Вас крепко и горячо и очень желаю, чтоб все устроилось — хорошо для Вас.
Ваша Алиса К.».
Вот еще одно письмо, написанное вскоре после предыдущего, но уже более конкретно проливающее свет на перспективу перехода Раневской в Камерный театр:
«Дела наши обстоят следующим образом: мы в канун этого месяца уезжаем на гастроли за границу (как предполагается, но в нашем бренном мире конечно могут быть всякие неожиданности).
Едем — в Италию, Прагу, Вену, Будапешт, ряд городов в Германии, Берлин, Париж, Брюссель и возможно — Южная Америка — Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес. Если будет Америка, то поездка продолжится около 6 месяцев, если Америки не будет, то 4 месяца — на то время будет достраиваться здесь театр.
Алиса К.».
Заграничное турне Камерного театра затянулось, как и предполагала Алиса, до сентября 1931 года. Вернувшись в Москву летом, Фаина Георгиевна считала дни до возвращения Таирова и Коонен, и фая пока что в унылом МОНО. Уже в ноябре она впервые вышла на сцену Камерного в спектакле «Патетическая соната» по пьесе советского драматурга Н. Кулиша. Она вспоминала: «Когда входила Алиса Коонен, игравшая в этом спектакле, я теряла дар речи. Мои товарищи-актеры были очень доброжелательны, и все же на репетициях, видя их в зале, я робела, ощущая себя громоздкой, неуклюжей. А когда появились конструкции, и мне пришлось репетировать на большой высоте, почти у колосников, я чуть не потеряла дар речи, так как страдаю боязнью пространства. Я была растеряна, подавлена необходимостью весь спектакль „быть на высоте“. Репетировала плохо, не верила себе, от волнения заикалась. Мне думалось, что партнеры мои недоумевают: к чему было Таирову приглашать из провинции такую беспомощную, бесталанную актрису? Александр Яковлевич, внимательно следивший за мной, увидел мою растерянность, почувствовал мое отчаяние и решил прибегнуть к особому педагогическому приему — стоя у рампы, он кричал мне: „Молодец! Молодец, Раневская! Так! Так… Хорошо! Правильно! Умница!“».
Не раз в жизни, при разных обстоятельствах, она вспоминала добром Таирова. «Я „испорчена“ Таировым», — говорила она. Пожалуй, из режиссеров, кроме Таирова, ей удавалась работа только с Л. В. Варпаховским. В 1966 году в Театре имени Моссовета он поставил «Странную миссис Сэвидж» по пьесе Дж. Патрика. Сама пьеса, как это ни странно, очень понравилась Раневской, она готова была приступить к репетиции хоть сию минуту, даже без собственных правок текста. В Москве о Варпаховском, казалось, уже забыли, многолетний узник сталинских лагерей едва ли мог рассчитывать на свой театр, но Завадский высоко ценил Варпаховского и новый сложный спектакль мог поручить только ему. Раневская писала: «Этот режиссер — единственный, после Таирова, кто не раздражает меня. Но и он работает не по моей системе». После первых репетиций Раневская не раз угрожала уходом из спектакля: «Откуда вы взялись? Ах, да, вы — мейерхольдовец! Ох, эти новаторы погубили русский театр. И с приходом современных режиссеров кончились великие актеры, поэтому режиссуру я ненавижу, кроме Таирова. Они показывают себя, а не актеров».
Между тем, работая после Таирова со многими режиссерами, она умела и понимать их, и слушаться. Этому тоже научил ее Александр Яковлевич: «Обращаясь к моим партнерам на сцене и сидевшим в зале актерам, он сказал: „Смотрите, как она умеет работать! Как нашла в роли то, что нужно. Молодец, Раневская!“ А я тогда еще ничего не нашла, но эти слова Таирова помогли мне преодолеть чувство неуверенности в себе. Вот если бы Таиров закричал мне тогда „не верю“ — я бы повернулась и ушла со сцены навсегда…»
К Таирову Раневская испытывала особое чувство уважения, преклонялась перед ним: «Вспоминая Таирова, мне хотелось сказать о том, что Александр Яковлевич был не только большим художником, но и человеком большого доброго сердца. Чувство благодарности за его желание мне помочь я пронесла через всю жизнь, хотя сыграла у него только в одном спектакле — в „Патетической сонате“».
К спектаклю «Патетическая соната» Таиров привлек лучших своих актеров и конечно же Алису Коонен, которая в то время уже была удостоена звания заслуженной артистки республики. Долго подбирал актрису на роль Зинки. Предложение актрисы Нины Сухоцкой, служившей в то время в Камерном, отдать роль Зинки Раневской было довольно неожиданным. Таиров сказал: «Давайте попробуем». И уже после первой репетиции понял, что попал в точку. «Эта мадемуазель Фанни (так называла ее Гельцер. — М. Г.) уже не была застенчивой девочкой, смущенно жавшейся к забору в ожидании появления Алисы Коонен. Это была обаятельная, прекрасно, иногда несколько эксцентрично одетая молодая девушка, остроумная собеседница… мне она казалась очень красивой. Несмотря на неправильные черты лица, ее огромные лучистые глаза, так легко меняющие выражение, ее чудесные каштановые, с рыжеватым отблеском, пышные, волнистые волосы, ее прекрасный голос, неистощимое чувство юмора и, наконец, талантливость в каждом слове и поступке — все делало ее обворожительной и притягивало людей» — такой увидела Нина Сухоцкая Раневскую в 1931 году, когда Фаина Георгиевна поступила в труппу Камерного театра.
Постановка «Патетической сонаты» в Камерном театре стала своеобразным феноменом. Многие удивлялись, почему после Уайльда, Гофмана, Юджина О’Нила Таирова привлекла актуальная советская пьеса о Гражданской войне. Пьесу «Патетическая соната» Николай Кулиш создал, будучи уже признанным советским драматургом. Незадолго до этого он написал пьесу «97», названную Луначарским «первой могучей пьесой из крестьянской жизни». В новой своей пьесе Кулиш попытался дать широкий план Октябрьской революции на Украине, но, по общему мнению критиков, потерпел неудачу. Пьеса, обвиненная в пропаганде мелкобуржуазной стихии и украинского национализма, была подвергнута резкой критике, и все же Таиров отважился поставить ее в своем театре. Вероятнее всего, его привлек в пьесе революционный романтизм, который Александр Яковлевич хотел передать своим зрителям. Есть и другое объяснение — Таирова не раз критиковали за отсутствие в репертуаре Камерного пьес на современные темы, и он решил исправить эту ошибку.
О чем пьеса «Патетическая соната»? Украинская девушка Марина, романтически воспринявшая идеи Октябрьской революции, несмотря на то, что отец ее яростный националист, руководит революционным подпольем. В нее влюблен поэт Илько. Дальше возникает классический любовный треугольник — в Илько влюблена проститутка Зина, живущая по соседству. Заметен в пьесе образ белого генерала Пироцкого, призывавшего бороться за Россию, а народ, слушавший его речь, восклицал: «Вильну Украину!» Как уже говорилось, Раневская играла роль Зинки. Замечательные воспоминания о Раневской в этой роли нам оставил народный артист СССР Михаил Жаров: «Для Раневской, так же как и для меня, это был первый спектакль в театре Таирова, естественно, она очень волновалась. Особенно усилились ее волнения, когда она увидела декорации (художником спектакля был В. Ф. Рындин, впоследствии друживший с Раневской) и узнала, что мансарда ее Зинки находится на третьем этаже.
— Александр Яковлевич, — всплеснула она руками, — что вы со мной делаете! Я боюсь высоты! И не скажу ни слова, даже если каким-то чудом вы и поднимете меня на эту башню!
— Я все знаю, дорогая вы моя… — ласково сказал Таиров, взял ее под руку и повел…
Что он шептал, мы не слыхали, но наверх она пошла с ним бодро. Мне же он сказал:
— Когда сбежите на мансарду в поисках юнкера, не очень „жмите“ на Фаину. Она боится высоты и еле там стоит.
Началась репетиция, я вбегаю наверх — большой, одноглазый, в шинели, накинутой, как плащ, на одно плечо, вооруженный с ног до головы, — и наступаю на Зинку, которая, пряча мальчишку, должна наброситься на меня, как кошка.
Я тоже волнуюсь и потому делаю все немного излишне темпераментно. Когда вбегал по лестнице, декорация пошатывалась и поскрипывала. Но вот я наверху. Открываю дверь. Раневская действительно, как кошка, набрасывается на меня, хватает за руку и перепуганно говорит:
— Ми-ми-шенька! По-о-жалуйста, не уходите, пока я не отговорю весь текст! A-а потом мы вместе спустимся! А то мне одной с-страшно! Ла-адно?
Это было сказано так трогательно и… так смешно, что все весело захохотали. Она замолчала, посмотрела вниз на Таирова, как-то смешно покрутила головой и смущенно сказала:
— По-о-жалуйста, не смейтесь! Конечно, глупо просить… но не беспокойтесь, я сделаю все одна.
Таиров помахал ей рукой и сказал:
— И сделаете прекрасно, я в этом не сомневаюсь.
Играла эту роль Раневская великолепно…»
После премьеры спектакль выдержал всего несколько представлений, после чего был внезапно снят с репертуара. Время прямых запретов еще не пришло — просто Таирову, вхожему во властные круги, намекнули, что постановка «антисоветской» пьесы может отразиться на отношении правительства к его театру. Но режиссер не хотел расставаться с темой Октябрьской революции — вскоре после пьес Кулиша и Леонида Первомайского он взялся за «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского. И конечно же на главную роль Комиссара назначил Коонен. Видный театровед Александр Яковлевич Шнеер, хорошо знавший ситуацию в Камерном театре той поры, поведал мне, что Раневская с завистью отнеслась к тому, что роль Комиссара досталась Коонен: «Надо было слышать, с каким пафосом повторяла она последние слова Комиссара: „Ленвоенсовету сообщите, что Первый… морской полк сформирован… и разбил противника… Держите марку военного флота…“» Александр Яковлевич, вспомнив это, грустно улыбнулся и сказал: «Знаете, мне тоже жаль, что Фаина Георгиевна так и не сыграла Комиссара, быть может, это была бы лучшая ее роль». Впрочем, история, а искусство тем более, не терпит сослагательного наклонения.
Раневская числилась в штате Камерного театра до весны 1933 года, когда она ушла в Центральный театр Красной армии. За это время она не сыграла больше ни одной роли. До сих пор идут споры о том, почему так случилось и почему в конце концов она ушла от Таирова. Кто-то предполагает даже, что при всей дружбе с Коонен она не ужилась с ней в одном театре. Такое предположение не лишено оснований — Алиса Георгиевна (как, впрочем, и другие ведущие актрисы) весьма ревниво относилась к возможным соперницам, способным — пусть даже чисто теоретически — оттеснить ее с главных ролей, «перетянуть» на себя восторги публики. Что до Раневской, то всем известны ее творческая бескомпромиссность, острый язык и привычка вмешиваться в вопросы режиссуры.
К чести всех троих, эти возможные разногласия, приведшие к уходу Раневской из театра, никак не отразились на их личных отношениях. Фаина Георгиевна до конца дней берегла память о единственной роли, сыгранной в Камерном театре, а дружба между ней, Коонен и Таировым сохранилась до последних дней существования Камерного. Свидетельство тому — поздравление Таирова и Коонен, отправленное 14 ноября 1947 года в связи с присвоением Раневской звания народной артистки (заметим, что Коонен этого звания так и не была удостоена):
«Дорогая Фаина!
Нежно и дружески с большой радостью поздравляем Вас со званием Народной артистки.
Вы, вероятно, знаете, как несусветно мы были заняты выпуском новой премьеры. Этим объясняется некоторое запоздание в нашем поздравлении, которое от этого не потеряло ни своей искренности, ни в самых добрых пожеланиях, которые мы Вам шлем в неизменной надежде снова встретиться с Вами в общей работе.
Сердечно обнимаем Вас!
Ваши Коонен, Таиров».
Когда Раневская перешла в Театр Красной армии, художественным руководителем его был Юрий Александрович Завадский. Вспоминает одна из актрис театра: «В конце 1934 года он (Завадский. — М. Г.) предложил мне, не бросая педагогическую работу, вступить в труппу театра Красной Армии в качестве актрисы. Я подумала и решила испытать свои силы в совершенно новых ролях. Труппа ЦТКА была богата чудесными актерами: А. П. Хованский, А. Е. Хохлов, П. И. Герата, Д. В. Зеркалова, Ф. Г. Раневская, Л. И. Добржанская и другие. А. Е. Хохлова я знала еще раньше, по сезону в Иркутском театре, но тогда он был начинающим актером. Встретившись с ним в театре Красной Армии, я не могла не восторгаться им: какой большой, глубокий актер вырос из него. Ф. Г. Раневскую я тоже знала по нашей общей работе в провинции, где она росла как актриса на моих глазах.
Вступив в труппу Центрального театра Красной Армии, я сыграла в феврале 1935 года престарелую генеральшу Нюрину, роль острокомического плана, в пьесе И. Прута „Я вас люблю“ в постановке Ю. А. Завадского. С большим волнением и радостью вернулась я к своей актерской работе. Я называла себя „юной дебютанткой“ и под этой шуткой скрывала настоящее волнение.
Пробыв на сцене около сорока лет, я со страхом подходила к работе в новом для меня амплуа. Играла я столетнюю старуху в интермедиях — сценах между картинами — пьесы „Я вас люблю“, которые как будто не были связаны с сюжетом пьесы, но должны были подчеркивать современность происходящих событий внутри спектакля, раскрывая отживающее прошлое.
Под звуки старинной мелодии вывозили меня на сцену, перед занавесом, в кресле — живые мощи. На репетициях я пыталась найти образ Нюриной, выразительно произнося текст, пыталась выразить характерность жестами, движениями рук, головы. Ю. А. Завадский остановил меня: „А вы попробуйте иначе — ищите выразительность не в движениях, а в полной неподвижности, делайте эту неподвижность выразительной. Ведь старуха уже почти труп.
Жизнь в ней еле теплится. Не говорит, а бормочет… И главное, ни одного движения руками“».
Итак, Завадский был художественным руководителем, а главным режиссером — Елизавета Сергеевна Телешова, режиссер тонкий, умный, очень чувствующий актеров, к тому же хорошо знавший творчество М. Горького. Она понимала, что одна из самых значимых пьес Горького — «Васса Железнова» — требует не просто нового прочтения, — тогда, в середине 1930-х годов, она была, по мнению Телешовой, современна, как никогда. И хотя в Театре Красной армии было немало талантливых актеров, Телешова настояла, чтобы на роль Вассы Железновой утвердили Раневскую. Возражений было немало, но Телешова настояла на своем: «Если мы собираемся строить современный театр, то без Горького нам не обойтись». Тем более что совсем недавно, в 1935 году, она поставила на сцене этого же театра «Мещан» Горького.
В начале 1930-х годов Горький завершил второй вариант «Вассы Железновой». В предвоенные годы эта пьеса обошла практически все драматические театры СССР. Образы людей властных нередко встречались в произведениях Горького — Фома Гордеев в прозе, Егор Булычов в драматургии, — но властная женщина — это что-то новое. И не просто властная, но жестокая, вынужденная жить по канонам жизни, с которыми внутренне она не согласна. Почему Раневская с таким желанием, даже рвением взялась за роль Вассы? Прежде всего, она уже созрела для большой, главной роли, которые ей и тогда, и позже доводилось исполнять нечасто. Пожалуй, это была первая ведущая роль в театральной карьере Раневской. Очень верно сказал об этом спектакле театральный критик Иосиф Юзовский: «В спектакле получилось так, что бытовая сторона — обстановка, нравы, жизнь купеческой семьи, короче говоря, быт — явно соперничала с идейным началом пьесы, соперничала вместо того, чтобы уступить дорогу и занять свое скромное место». Сама же Фаина Георгиевна писала об этом в статье «Моя работа над пьесой „Васса Железнова“»: «Вспоминая сейчас отдельные этапы работы, я вижу, что много занималась вульгарной социологией и недостаточно проникла в самую пьесу, где, как во всяком высоком произведении искусства, глубоко скрытая тенденция».
Раневская, хорошо знавшая быт купеческого общества (ведь Таганрог — город купеческий, и к тому же ее отец Гирш Хаимович был купцом второй гильдии), сумела создать очень глубокий образ горьковской героини. Хотя она была одной из первых, игравших роль Вассы, ее Железнова не только не осталась незамеченной, но и оказалась наиболее правдивой. В героине Раневской было все — и азарт, и жестокость, и проницательность. В жизни Вассы было так много непосильных дел и забот (включая семейные), что это было не под силу не только женщине, но и мужчине. Конечно же Васса — Раневская надорвалась под тяжестью противоречий жизни.
К тому же времени относится любопытное «творческое соревнование» Раневской с другой выдающейся актрисой — Серафимой Бирман. Тогда же, когда Раневская исполняла роль Вассы Желез-новой в Театре Красной армии, в Театре имени МОСПС ее играла Серафима Бирман. Судя по высказыванию самой Бирман, она создала совсем другую Вассу: «Иногда я целую эту весеннюю ветку, как самое драгоценное, как то, чему из-за денег изменила Васса, как символ того, перед чем ей страстно хочется испросить сейчас „разрешения вины“».
Хотя театральная жизнь Раневской сложилась так, что в других театрах, в другие времена она больше не исполняла роль Вассы Железновой, но в творческой судьбе актрисы она имела особое значение. К тому же Васса, по моему мнению, была своего рода подготовкой, а может, и репетицией к роли Розы Скороход в фильме Ромма «Мечта». Эпиграфом к этому фильму можно справедливо поставить слова Рашели из пьесы «Васса Железнова»: «Живете вы автоматически, в плену хозяйств, подчиняясь силе вещей, не вами созданных». Разумеется, Роза Скороход — не Васса Железнова: и времена были другие, и обстоятельства не похожи, но что-то объединяло этих героинь. Помните слова Вассы в сцене, когда она отказывается отдать Рашели ее сына, несмотря на мольбы: «Не думай о том, что уничтожает сразу две жизни. Пустяки говоришь. Все это лишнее — твои слова. Я сделаю, как решила». Что-то, напоминающее Вассу Железнову, было и в Розе Скороход из «Мечты». Но об этом ниже.
После «Вассы Железновой» Раневскую пригласили в Малый театр. Готовы были ставить пьесы для нее, под нее, но из Театра Красной армии уйти было не так-то просто — ее не отпускали. 22 декабря 1938 года в газете «Советское искусство» была опубликована статья начальника Центрального театра Красной армии батальонного комиссара М. И. Угрюмова под грозным названием «Решительно бороться с летунами и дезорганизаторами театрального производства». В статье отмечалось, что в ЦТКА есть «много честных, добросовестных работников» (были названы актеры Хохлов, Хованский, Барышев, машинист сцены Ахметулин, мебельщик Борисов, осветитель Сухарев). Далее комиссар Угрюмов пишет: «Но есть у нас и такие артисты, как Герата и Раневская. Где бы они ни выступали, они говорят о своей любви и преданности театру. Однако стоит им получить приглашение из других театров, как они тут же забывают о своей любви и преданности к ЦТКА».
Разумеется, после такой статьи Угрюмова Раневской была заказана дорога в Малый театр да и в другие театры Москвы, и на несколько лет она целиком ушла в кино, где ее талант оказался широко востребован.
Вспоминая об этом конфликте, нельзя забывать, что в ЦТКА Раневская сыграла не только Вассу Железнову, но и еще несколько запомнившихся ролей. Среди них — роль Оксаны в пьесе Александра Корнейчука «Гибель эскадры». А. П. Потоцкая, оказавшаяся в Киеве свидетельницей разговора Корнейчука с Раневской, передала мне слова драматурга: «Я видел свою пьесу в десятках театров, никто так не сыграл мою Оксану, как вы. Пожалуй, лишь в вашем исполнении она вызывает не только сочувствие, но и восхищение».
Сюжет «Гибели эскадры» таков: в 1918 году черноморские моряки по приказу партии большевиков потопили свои корабли, чтобы они не попали в руки врага. Радистка Оксана, чем-то напоминающая Комиссара из «Оптимистической трагедии», член комитета партии большевиков, заменив погибшего комиссара, сыграла решающую роль в осуществлении замысла черноморских большевиков. Как удалось Раневской так блистательно сыграть романтический и революционный образ Оксаны? Сегодня ответить на этот вопрос невозможно. Но, думается мне, не последнюю роль здесь сыграло знание Раневской истории Гражданской войны. Именно это дало ей возможность не только оправдать поступок молодой коммунистки, но и показать его историческую закономерность.
В течение оставшейся жизни Фаина Георгиевна после ухода из ЦТКА не раз вспоминала роли, сыгранные в этом театре, в особенности Вассу Железнову и Мать из спектакля «Слава» по пьесе в стихах В. М. Гусева. В 1939 году заслуги Раневской были оценены по достоинству — ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, что в ту пору было явлением нечастым. Правда, она отдавала себе отчет, что заслужила эту награду прежде всего не театральной работой, а ролями в кино, которое играло все большую роль как в жизни советских людей, так и в идейно-пропагандистской политике власти.
В 1934 году Раневскую открыл для кино да и для себя Михаил Ромм. Однажды, побывав на репетиции в Камерном театре, он обратил внимание на актрису, «ни на кого не похожую». В ту пору он мечтал снять фильм по новелле Ги де Мопассана «Пышка». Увидев Раневскую, он с первого взгляда оценил ее талант и тут же решил пригласить ее на роль госпожи Луазо. В тот же вечер он подождал Фаину Георгиевну после спектакля и сделал ей предложение: «Об отказе не может быть и речи!» Уже через несколько дней они встретились на «Мосфильме». Условия работы были жесточайшие: во-первых, сниматься у Ромма можно было только в свободное от театра время; во-вторых, шум и суета, царившие на киностудии, испугали Раневскую. Она хотела было сразу отказаться, но поняла, что это ей не по силам. Пройдут годы, и она напишет о Михаиле Ильиче: «Ромм… до чего же он талантлив, он всех талантливей!»
Фильм «Пышка» был немым, и характер своей героини актриса передавала через выразительную мимику и пластику, а также французскую артикуляцию. И еще на лице мадам Луазо выразительно отражались переживания всей компании, находившейся в дилижансе, — пошлых и блудливых буржуа, ханжей и сплетников. Апогеем лицемерия стали кадры фильма, показавшие ночь в гостинице, где остановились путники: все те, кто еще недавно демонстративно презирал «девицу Руссо» по прозвищу Пышка за ее ремесло проститутки, стали дружно уговаривать ее уступить требованию прусского офицера и переспать с ним — от этого зависело продолжение их путешествия. Больше всех старалась мадам Луазо. После этой ночи пассажиры дилижанса, спасенные Пышкой, снова дружно запрезирали ее. Она чувствовала себя оскорбленной и оплеванной.
Главную героиню играла молодая актриса Галина Сергеева, наделенная выразительной «французской» фигурой. Вспоминают, что, увидев ее впервые в платье с глубоким декольте, Раневская выдала остроту: «Да, не имей сто рублей, а имей двух грудей!» И оказалась права: в следующем году секретарь ЦИКа Авель Енукидзе, известный любитель прекрасного пола, лично включил Сергееву в список актеров, удостоенных почетных званий и наград. Свое решение он объяснил так: «У этой артистки очень выразительные большие… глаза». И Сергеева в двадцать лет стала заслуженной артисткой республики — Раневская, как мы помним, удостоилась этого звания на несколько лет позже.
О работе Фаины Георгиевны в «Пышке» вспоминает актриса Екатерина Юдина: «Роль имела успех и стала прологом ко многим незабываемым образам, созданным актрисой на экране. Она обладала способностью характерным жестом или поворотом лица прожить целую судьбу. Раневская — соавтор своих ролей. Да и в кино актриса становилась не только соавтором, но и единственным автором отдельных эпизодов. Выразительную внешность и пластику Раневской в кино зачастую использовали просто как яркую, необходимую для режиссера краску. В своих ролях актриса использовала в основном „грим души“, подчеркивая остроту характера, владея искусством интонации. В кино у нее преобладали комические роли, в которых ее творческая фантазия, наблюдательность, умение видеть и запечатлевать смешное не знали равных».
У меня сохранилась запись беседы с Иваном Семеновичем Козловским, сделанная в ту пору, когда я работал над книгой о Михоэлсе. Он показывал мне фотографии Галины Сергеевой (одно время актриса была его женой). Вот фрагменты этой беседы: «Ваша книга о Михоэлсе не будет полной, если вы не расскажете о Раневской, о ее дружбе с Михоэлсом. Соломон Михайлович в разные годы говорил мне о Фаине Георгиевне: „Вот уж Раневская, всем актрисам — актриса! Ее роль в ‘Пышке’ оказалась едва ли не самой удачной в фильме. Именно ей удалось показать буржуа такими, какими они были воистину в то время“». Тогда же от Ивана Семеновича я узнал, что, если бы Михаил Ромм не стал режиссером, он был бы замечательным скульптором, ведь он учился у Голубкиной и Коненкова, а в кино пришел под влиянием Эйзенштейна и Бориса Волчека, отца режиссера Галины Волчек. Ромм был известен как выдающийся мастер режиссуры, как художественной, так и документальной — достаточно вспомнить его фильм «Обыкновенный фашизм». Он умел оставаться (или, по крайней мере, выглядеть) правдивым даже тогда, когда, казалось, это невозможно — например, в фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году».
В сентябре 1939 года произошел очередной раздел Польши — на сей раз ее поделили между собой СССР и Германия. Восточные польские области отошли к Советскому Союзу, и тогда судьба вновь свела Раневскую и Ромма в фильме «Мечта», посвященном «историческому воссоединению». Сценарий фильма написал Евгений Габрилович, который в то время не был знаком с Раневской. Михаил Ильич, прочитав сценарий, восторженно произнес: «У меня есть исполнительница на роль мадам Скороход! Она родилась, создана именно для этой роли!» Из воспоминаний Евгения Габриловича: «Вскоре Михаил Ильич представил мне Фаину Георгиевну. Я в первый момент не одобрил его выбор, но чуть поговорив с ней, понял, что Ромм не ошибся в выборе. Я редко встречал человека столь интересного в личном общении. Чего только актерски не воспроизводила она, вот так, ненароком, вскользь, по пути! И мимоходные встречи на улице, в магазине, в автобусе, на собрании и вдруг, нечаянно, сразу что-то совсем другое, давно прошедшее, из жизни актерской провинции, в миг — из юности, какой-то каток, и снег, и бегущие санки, и тут же о прачке, которая вчера стирала белье…
Это была игра, десятки быстро сверкавших, быстро мелькавших миниатюр, где Фаина Георгиевна была то кондуктором, то продавщицей, то старухой на передней скамье автобуса, то младенцем рядом, на той же скамье, была прогоревшим антрепренером, восторженной гимназисткой, пьяным суфлером, милиционером, продавцом пирожков, адвокатом и каким-то юнкером или подпоручиком, в которого она была в юности влюблена и для которого зажарила как-то индейку, украсила ее серпантином и бумажным венком. Игра переполняла ее, актерское естество бушевало в ней, билось наружу, не утихая ни на мгновение. Такой она была тогда, в те довоенные годы, такая она и сейчас…»
Фаина буквально «влюбилась» в свою будущую героиню Розу Скороход. Наверное, она предчувствовала судьбу, которая ожидает вскоре ее народ, поэтому ей удалось создать один из самых запоминающихся еврейских характеров, еврейских трагедий. Едва ли это могло понравиться идеологам того времени, но отказываться от фильма на этом основании они не стали — он вышел на экран в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны.
Пожалуй, ни одна героиня, созданная Раневской в кино, не раскрывает так ее образ, как Роза Скороход. Так много неожиданностей, противоположностей создает она в этом образе. Одна из его граней — преданная еврейская мама, о которой написано и сказано так много. Быть может, лучше всего о ней говорит пословица: «Нет хорошей смерти, нет плохой матери». Роза, влюбленная в своего сына, в момент разочарования в нем решается на невозможное — не находиться с ним под одной крышей, то есть она сознательно разрушает традиции, материнские устои, да, по сути, и все представления о добре и справедливости. Ее любовь к сыну, власть над ним оборачиваются проклятием, несчастьем. Играя Розу Скороход, Раневская сумела показать, что трагедия одной человеческой души является воплощением несправедливого социального строя. Незабываема сцена прощания Розы с сыном. В ее взгляде глубокая печаль и боль. А как звучит ее вопрос, обращенный к нему: «Объясни мне ты, инженер, зачем пропала моя жизнь?» Сколько отчаяния в этих словах, сколько горя за бессмысленно прожитую жизнь, за свою беззащитность!
Фильм этот принес Раневской известность мирового уровня. В Белом доме картину видел президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт, сказавший: «На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская — блестящая трагическая актриса». Видел «Мечту» и знаменитый в то время американский писатель Теодор Драйзер. Вот что писала об этом его супруга Элен Драйзер: «Теодор был очень болен. Ему не хотелось писать, не хотелось читать, не хотелось ни с кем разговаривать. И однажды днем нам была прислана машина с приглашением приехать в Белый дом. Советский посол устроил специальный просмотр фильма „Мечта“. В одном из рядов я увидела улыбающегося Чаплина, Мэри Пикфорд, Михаила Чехова, Рокуэлла Кента, Поля Робсона. Кончилась картина. Я не узнала своего мужа. Он снова стал жизнерадостным, разговорчивым, деятельным. Вечером дома он мне сказал: „‘Мечта’ и знакомство с Розой Скороход для меня величайший праздник“.
И Драйзер, взяв в руки перо, начал писать статью о „Мечте“. Он писал ее три месяца, но, к сожалению, рукопись была потеряна». Что же так привлекло Фаину Георгиевну в роли Розы Скороход? Разумеется, не только трагическая судьба героини, но и трагическое время, в которое ей довелось жить, и конечно же так называемый «еврейский вопрос». Однажды Ия Саввина, навестив Фаину Георгиевну дома, приготовила для нее аппетитное блюдо — курицу, жаренную в сметане, которая выглядела, разумеется, и аппетитно и красиво. Уходя, Ия Сергеевна настаивала, чтобы Раневская обязательно, хотя бы из уважения к ее труду, съела курицу. Когда Ия Сергеевна ушла, Фаина Георгиевна сокрушенно произнесла: «Еврей ест курицу, когда он болен или когда курица больна». Эта давняя поговорка могла бы стать эпиграфом к роли Розы Скороход.
Михаил Ромм и Раневская дружили всю жизнь. Дружна была Фаина Георгиевна и с женой режиссера — замечательной актрисой Еленой Кузьминой, сыгравшей в фильме «Мечта» роль девушки Ганки (именно эта роль, по замыслу сценариста, должна была быть главной). Ганка оказалась в городе «чтобы заработать гроши, чтобы батька лошадь купил, чтобы замуж выйти». Как известно, для Ганки, по вине сына Розы, все закончилось трагически. Но ведь сценарий писался в 1943 году. И Габрилович, и Ромм пытались следовать принципу — советская власть приносит людям только счастье. В последних кадрах фильма мы видим Ганку, выступающую на многотысячном митинге в честь прихода Красной армии-освободительницы. Конечно, и режиссеру, и сценаристу было понятно, что финал фильма надуман, но если этого не заметили те, кто решал судьбу картины, то изменять ее не было необходимости — главной героиней стала Роза Скороход. И то, что фильм все-таки оказался жизненно правдивым, — заслуга образа Розы Скороход, созданного Раневской. Среди многих фильмов с участием Раневской (всего их двадцать шесть) «Мечта», несомненно, остается ее наивысшим актерским достижением.
Свидетельство дружбы Раневской с Еленой Кузьминой и Михаилом Роммом — их переписка. Вот одно из писем Кузьминой Раневской, написанное, судя по всему, вскоре после восьмидесятилетия актрисы: «Это я пишу к тому, что мы не имели понятия о вашей знаменательной дате… Газет на даче нет. Радио включать забываем. Это тоже успокаивает… Дорогая Фаиночка, мы вас очень любим. А ведь так мало осталось к старости людей, о которых даже мысли доставляют удовольствие. В тот тихий вечер мы включили телевизор (кстати, он тоже одичал и непотребно рычит) и наткнулись на уже идущую „Мечту“. С удовольствием смотрели…
О том, что вы упали в больнице, мы узнали от Нины Станиславовны Сухоцкой и ужасно огорчились. Ведь надо же иметь такое везение, чтоб в центре учреждения, где людей склеивают, разбиться на куски!..
Это только вы можете! От этого вашего „все не по-человечески“ мы вас любим еще больше…»
В последние годы жизни Раневская и Ромм встречались в местах, далеких от театра и кино, — неоднократно совпадало их пребывание в кремлевской больнице. Фаина Георгиевна записывала в дневнике: «Помнится, как однажды, захворав, я попала в больницу, где находился Михаил Ильич, увидев его, я глубоко опечалилась, поняла, что он болен серьезно. Был он мрачен. Помню его слова о том, что человек не может жить после увиденного неимоверного количества метров пленки о зверствах фашистов. Он мне сказал тогда: „Дайте слово, что вы не будете смотреть мой фильм ‘Обыкновенный фашизм’, хотя там нет и тысячной доли того, что делали эти нечеловеки“». Раневская обещала не смотреть этот фильм. И сдержала свое слово, хотя не без труда.
Выдающийся киновед Майя Иосифовна Туровская рассказывала мне, как однажды встретила Раневскую в доме Иосифа Прута. Майе показалось, что был какой-то сговор: в тот день к Пруту должны были прийти гости на просмотр фильма «Обыкновенный фашизм». Там же был Савва Кулиш — соавтор сценария. «Как попала Фаина Георгиевна к Пруту в тот день? Подозреваю, что ее привел сам Кулиш. Я поняла, что Фаину Георгиевну надо уводить и ради ее самой и ради Михаила Ильича. Когда мы с Фаиной Георгиевной оказались у меня на квартире (я жила неподалеку от Прута), я предложила Раневской почитать рукопись моей книги о Вампилове. Фаина обрадовалась, даже взбодрилась: „А может быть, Вампилов напишет роль и для меня. Он неимоверно талантлив“». Так Майя Туровская «спасла» Раневскую от «Обыкновенного фашизма», который, без всякого сомнения, стал бы тяжелым испытанием для чувствительного сердца актрисы — как и для любого человека, не лишенного совести и сострадания.
Находясь в больнице, Ромм и Раневская затеяли «игру» в переписку. Вот одна из записок Михаила Ильича Ромма Раневской: «Фаина, дорогая! Я старый и вдобавок глухой на одно ухо. Старею ужасно быстро и даже не стесняюсь этого. Смотрел „Мечту“ и всплакнул. А раньше я просто не умел плакать. Обычно я ругаю свои картины и стесняюсь, стыжусь смотреть, а „Мечту“ смотрел, как глядят в молодости. На свете нет счастливых людей, кроме дураков да еще плутов. Еще бывают счастливые тенора, а я не тенор, да и вы тоже…»
Раневская признавалась: «За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору наших двух встреч с Михаилом Ильичом. Такого отношения к актеру — не побоюсь слова, — нежного, такого доброжелательного режиссера-педагога я не знала, не встречала. Его советы-подсказки были точны и необходимы».
К семидесятилетию Ромма Фаина Георгиевна отправила ему поздравительное письмо, полное объяснений в любви, Михаил Ильич ответил ей: «В годы „Пышки“ я был (между нами) глуп и самоуверен. Мне казалось, что кино — самое важное, святое дело и, значит, все должны плясать вокруг него. Вреда от него больше, чем пользы… А вообще-то, мне грустно, очень одиноко и ничего не хочу (какое совпадение в настроениях Раневской и Ромма! — М. Г.). А будет, как раз, юбилей. Но зачем мне юбилей? Вообще, думается мне, что „Обыкновенный фашизм“ — это, по всем признакам, последняя картина человека, а я не понял своевременно. На пенсию пора…»
Когда силы не позволяли им в больнице писать друг другу письма, Ромм и Раневская оставляли друг другу короткие записки: «Я вас люблю». А дальше: «До встречи в палате», «Встретимся на телевизоре», «Словом, до встречи».
В своей статье в «Комсомольской правде», посвященной восьмидесятилетию со дня рождения Раневской, Майя Туровская писала: «Раневской редко доводилось играть умных, все понимающих женщин. Когда-то нам кажется, что на заре, а по сути, в зените своей артистической карьеры — ей посчастливилось получить у Ромма роль хозяйки пансиона „Мечта“ в фильме того же названия. А может быть, это Ромму посчастливилось, потому что в этой достаточно литературной роли Раневская приоткрыла такую едкую горечь знания о корыстной и нищей жизни своей героини, такую мрачную иронию слова „мечта“, и в то же время, такое преодоление этого несчастного знания силой сердца, что если уж выделить какие-то роли — „путеводители“ по „феномену Раневской“, то в первую очередь надо было назвать умную хозяйку респектабельного и жалкого пансиона „Мечта“ Розу Скороход».
Эти слова Туровской хотелось бы дополнить мыслью о том, что не встретиться в этом фильме Ромм и Раневская не могли, хотя вся предыдущая жизнь каждого из них не вела к этой встрече. Раневская родилась в богатой семье, не испытывавшей никаких симпатий к революции, а отец Ромма, сын владельца типографии в Вильно, был профессиональным революционером, что и привело его к ссылке в Иркутск. Казалось, прошлое никак не могло сделать их единомышленниками, но их объединила любовь к искусству, к правде жизни. Объединила прочно и навсегда, и даже искренняя любовь Михаила Ильича к Ленину, к которому Раневская относилась весьма критически, не оттолкнула их друг от друга.
В 1971 году, когда Ромма не стало, Раневская записала в дневнике: «Скучаю без Михаила Ромма. Он говорил, что фильмы свои его не радуют, но когда смотрел „Мечту“ — плакал. В этом фильме он очень помогал мне как режиссер, как педагог. Доброжелательный, чуткий с актерами, он был очень любим всеми, кто с ним работал… Не так давно видела в телевизоре немую „Пышку“. Как же был талантлив Михаил Ромм, если в немой „Пышке“ послышался мне голос Мопассана, гневный голос его о людской подлости!»
О Раневской и Ромме рассказывает Ростислав Янович Плятт: «Старая мать, потрясенная эгоизмом и черствостью своих детей… Мне кажется, что эта тема берет начало в грандиозной ее киноработе — роли Розы Скороход в замечательном фильме Ми-хайла Ромма „Мечта“. Вот тут мы встретились впервые как партнеры; у нее была главная роль, у меня — эпизодическая, но я был свидетелем того, как рождалась у Раневской ее Роза, властная хозяйка меблированных комнат. Фаина Георгиевна в то время была еще сравнительно молодой женщиной, лет сорока, с худой и гибкой фигурой. Это ей мешало: она видела свою Розу более массивной, ей хотелось, так сказать, „утяжелить“ роль. И, наконец, она нашла „слоновьи ноги“ и тяжелую поступь, для чего каждый раз перед съемкой обматывала ноги от ступней до колен какими-то бинтами. Ощущение точной внешности играемой роли всегда питало ее, а уж нутро ей было не занимать: эмоциональная возбудимость, взрывной темперамент, моментами поднимавший Розу до трагических высот, — всё было при ней. „Мечта“ вышла на экраны в 1941 году, и с тех пор — не долговато ли? — Раневская жила в поисках роли себе по плечу, роли, которая смогла бы до дна утолить ее неуемную творческую жажду…»
О фильме «Мечта» писали многие критики, среди них Константин Михайлов — давний друг Раневской. Он тоже считал, что Роза Скороход стала главной работой актрисы в кино: «Хозяйка захудалого пансиона в панской Польше. Алчная, грубая, властная и в то же время ничтожная, жалкая в своей безмерной любви к сыну — подлецу и пустышке. Нельзя забыть сцену ее свидания с ним, через тюремную решетку, ее взгляда, полного тоски (да, снова тоски!) по его погубленной судьбе, по ее обманутым надеждам, взгляда, в котором был весь ее человеческий крах, падение. Нельзя забыть ее отечных, тяжелых ног, ее рук, ищущих деньги в тряпках комода, ее резкого голоса хозяйки, когда она говорит со своими постояльцами, ее слез… Надо сказать, что это был фильм блистательного актерского ансамбля. И пусть это не прозвучит обидой для других артистов, но я ходил смотреть его ради Раневской. Было ли в роли то, что мы называем „смешным“? Да, и там были нотки знаменитого юмора актрисы, комедийные краски, но в той мере, в той прекрасной пропорции, которая необходима, чтобы оттенить страшное, злое, сильное… Да, она была сильна, жестока и вместе с тем драматична. Роза Скороход — один из шедевров Раневской».
А вот что о фильме «Мечта» написал Ираклий Андроников: «С необычайной остротой Раневская проникает в социальную основу образа. Она мыслит исторически. Для нее нет характеров неподвижных — вне времени и пространства. Она очень конкретна и глубока. И великолепна в разнообразии национальном — русская „мамаша“, украинская кулачка, американская миллионерша, фашистская фрау Вурст, местечковая стяжательница в „Мечте“… великолепные строки об этой картине Евгения Габриловича и Михаила Ромма. Блестящее искусство Раневской подтверждает еще и то обстоятельство, что она играет в кинокартинах в таком блистательном окружении, в окружении таких мастеров, таких талантов, как Грибов, Хмелев, Яншин, Гарин, Мартинсон, Плятт, Абдулов, Жаров, Чирков, Орлова, Жеймо, Марецкая, Астангов, Станицын, Кузьмина… И этот ансамбль помогает ей с еще большим блеском обнаружить ее грандиозное дарование…»
В 1937 году режиссер Савченко, увидев фильм «Пышка», решил, что его новый фильм не может состояться без Раневской, и пригласил ее сняться в новом своем фильме «Дума про казака Голоту». Несмотря на то, что там не было роли для Раневской, не было свободной женской роли вообще, он все же сделал предложение Фаине Георгиевне, и они вместе стали искать для нее роль в картине. В конце концов, она со свойственным ей юмором нашла выход: давайте превратим попа в попадью. Всего сорок секунд длился эпизод с попадьей, но он оказался, по мнению многих, самым запомнившимся в этом фильме. Киношники стали, что называется, расхватывать Раневскую. В 1939 году режиссер Анненский решил снять фильм по рассказу Чехова «Человек в футляре». Понятно, что Раневскую пригласили на сатирическую, острохарактерную роль жены инспектора гимназии. В этом фильме она впервые на экране допустила «отсебятину», сочинив свой текст роли инспекторши, да так, что никто не заметил изменений в тексте Чехова.
Примерно в то же время ее «перехватил» режиссер Лукашевич и пригласил на главную роль в комедийный фильм «Подкидыш». С этим фильмом, после выхода его на экран в 1940 году, к Раневской пришел первый успех у широкой публики. Прочитав сценарий (авторы Агния Барто и Рина Зеленая), Раневская спросила авторов: «Скажите правду, сценаристы роль Ляли писали под меня?»
Ляля — немолодая бездетная женщина, страстно любящая детей. Завязка фильма вот в чем: увидев на улице заблудившуюся девочку, она тут же, не раздумывая, прибирает ее к рукам, то есть удочеряет. При ней постоянно находится муж-подкаблучник по имени Муля, робкие возражения которого решительно пресекаются властной супругой. Ляля — человек самоуверенный во всех поступках, которые совершает, к тому же уверенный в своем незыблемом праве морального судьи. Но все эти недостатки могут быть оправданы ее неимоверной, искренней, бескорыстной любовью к детям. Рост Раневской, ее комплекция очень способствовали тому, чтобы она подошла именно на эту роль. Однажды в ходе съемок, заметив растерянность экранного мужа (его играл актер Петр Репнин), Ляля — Раневская воскликнула: «Муля, не нервируй меня!» Фраза эта, отсутствовавшая в сценарии, моментально сделалась крылатой. В ту пору именно такой фильм нужен был зрителям: недавно закончился Большой террор, и большинство людей хотели забыть о бесконечных поисках врагов народа и найти в жизни что-то светлое, счастливое. А может ли быть большее счастье, чем любовь к детям?
После «Подкидыша» Раневская стала любимицей не только взрослых, но и детей. Они толпами бегали за ней на улице и кричали: «Муля, не нервируй меня!» Но эта искренность, непосредственность детей скорее нравилась Раневской, чем раздражала. Неудивительно, что вскоре она опять снялась в детском фильме «Слон и веревочка» (сценарий Агнии Барто). Участие в детских кинофильмах продолжилось уже после войны фильмом «Золушка» по пьесе Шварца. Но классикой осталась роль Ляли в «Подкидыше», по которой актрису узнавали даже люди, далекие от кино. Как анекдот, рассказывают случай, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, вручая Раневской по случаю восьмидесятилетия орден Ленина, вместо приветствия сказал: «А вот идет наш Муля, не нервируй меня!» Раневская ответила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился и добавил: «Простите, но я вас очень люблю».
В чем отличие Фаины Раневской от многих других актрис, снимавшихся в фильмах для детей? Она относится к детям очень серьезно. Не упрощает психологического построения роли, не думает, что дети ее не поймут. Она доверяет их художественному вкусу, и, как ни странно, дети это чувствуют, улавливают. Свидетельство тому — отношение к Раневской детей: она стала желанным гостем в домах пионеров, детских клубах. Ей писали сотни писем, небольшая часть которых публиковалась в «Пионерской правде» или зачитывалась по радио.
В 1939 году Раневская снялась в двух фильмах — «Человек в футляре» Исидора Анненского и картине «Ошибка инженера Кочина», снятой Александром Мачеретом по сценарию Юрия Олеши. Впечатление от обоих фильмов у нее осталось отрицательное, особенно от «Ошибки», посвященной популярной теме — разоблачению иностранных шпионов и вредителей:
«„Ошибку инженера Кочина“ Мачерета помните? У него в этой чуши собачьей я играла Иду, жену портного. Он же просто из меня сделал идиотку!
— Войдите в дверь, остановитесь, разведите руками и улыбнитесь. И все! — сказал он мне. — Понятно?
— Нет, Сашенька, ничего не понятно! Мы не в „Мастфоре“ у Фореггера (там я познакомилась с Мачеретом, когда бегала к нему на занятия биомехаников — хотела узнать, с чем ее едят!), и не танец машин я собираюсь изображать!
— Но, Фаиночка, согласитесь, мы и не во МХАТе! Делаем советский детектив — на психологию тут места нет!
Я сдалась, сделала все, что он просил, а потом на экране оказалось, что я радостно приветствую энкавэдэшников! Не говорю уже о том, что Мачерет, сам того не желая, сделал картинку с антисемитским душком, и дети опять прыгали вокруг меня, на разные голоса выкрикивая одну мою фразу: „Абрам, ты забыл свои галоши!“
Я, когда в „Человеке в футляре“ снималась, решила говорить одну фразу. Играла я жену инспектора гимназии — у Чехова она бессловесна. Фраза такая: „Я никогда не была красива, но постоянно была чертовски мила“. Я спросила Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову, можно ли это вставить в фильм. Она засмеялась и разрешила…»
Когда в годы войны Раневская оказалась в Ташкенте, ее, что вполне естественно, пытались привлечь киношники, обосновавшиеся по соседству, в Алма-Ате. Там в ту пору работали Сергей Юткевич, Леонид Луков, Сергей Эйзенштейн. Последний снимал по заказу самого Сталина фильм «Иван Грозный», в котором, по его замыслу, должна была играть и Раневская. Для работы ему выделили едва ли не лучшее здание в городе — настоящий клуб, пригодный для работы киностудии. Такие условия в годы войны создавались не многим. Случайности в этом не было. Предложение, а по сути прямой приказ написать сценарий об Иване Грозном, возникло закономерно: тема измены казалась вождю актуальной всегда, особенно в начале Великой Отечественной войны. По его мысли, нашедшей опору в трудах историков, изменники-бояре мешали царю Ивану «собирать» Московское государство, бороться с татарами и другими внешними врагами, так же как самому Сталину мешали подлинные и мнимые враги, на которых жизненно важно было возложить ответственность за трагическое начало войны. Вот почему именно тогда Сталин предложил Эйзенштейну, только что снявшему патриотический антинемецкий фильм «Александр Невский», начать работу над картиной об Иване Грозном. Сталин нашел время для встречи не только с Эйзенштейном, но и с Николаем Черкасовым, предложенным на роль Ивана Грозного.
Раневской на этой встрече не было, но, разумеется, об интересе Сталина к новому фильму она знала — прежде всего со слов Эйзенштейна, который предложил ей роль Ефросиньи Старицкой. В сценарии эта историческая фигура, мать неудачливого претендента на трон князя Владимира, изображена в сугубо отрицательных красках, как защитница старых порядков и боярской власти, противница прогрессивной политики Ивана Грозного, готовая (в отличие от своего придурковатого сына) на самые крутые меры борьбы с царем.
Двенадцатого июня 1942 года Фаина Георгиевна пишет Эйзенштейну письмо из Ташкента:
«Дорогой Сергей Михайлович!
„Убить — убьешь, а лучше не найдешь!“ Это реплика Василисы Мелентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож!..
Бессердечный мой!..
Дорогой Сергей Михайлович! Ничего не понимаю: получила телеграмму с просьбой приехать на пробу во второй половине мая, ответила согласием, дожидалась вызова, — вступаем во вторую половину июня, — а вызова все нет и нет!
Может быть, Вы меня отлучили от ложа, стола и пробы? Будет мне очень это горестно, т. к. я люблю Вас, Грозного и Ефросинью!
Радуюсь тому, что сценарий Ваш всех восхищает. Жду вестей.
Обнимаю Вас. Раневская».
Сценарий Эйзенштейна к фильму «Иван Грозный» — одно из выдающихся произведений этого жанра. Вот что писал о нем Виктор Шкловский: «Это работа противоречивая, спорная и очень тщательная. Сценарий большой — в наборе он занимает больше 200 страниц… Это работа с четкой наметкой конфликтов, с обоснованием конфликтов, и тем не менее, этот сценарий не отражает возвращение Эйзенштейна к традиционной драматургии».
Таким образом, слова Раневской о том, что сценарий Эйзенштейна восхищает всех, не лишены оснований. Тем не менее процесс создания фильма оказался гораздо сложнее, чем работа над сценарием.
Из рассказа Марианны Таврог: «В годы войны Московская киностудия эвакуировалась в Алма-Ату, где оказалось немало выдающихся актеров: М. Ладынина, Н. Черкасов… Помощником режиссера был молодой Эльдар Рязанов, к которому Сергей Михайлович благоволил. Ему и поручили кинопробы для будущего фильма. На роль Ефросиньи (в порядке кинопробы) Эльдар Рязанов снял сначала Серафиму Бирман, но вдруг пронеслись слухи, что Эйзенштейн на эту же роль пригласил Раневскую. Вскоре я увидела Фаину Георгиевну, как это чаще всего бывает, на алма-атинском базаре. Впрочем, мы тогда знакомы не были. Но не узнать ее я не могла. Я тогда отважилась спросить у нее: „А Ефросинью в ‘Грозном’ будете играть вы?“ Надо было видеть взгляд, которым удостоила меня Фаина Георгиевна. „Вы считаете, что я так похожа на русскую княгиню?! Как ни странно, я впервые в жизни хочу сыграть мужскую роль, и, конечно же, Ивана Грозного! Посмотрите на мой профиль: разве я не похожа на него?“ — насмешливо произнесла Раневская. После такого ответа у меня отпало всякое желание продолжать разговор. Немного погодя, там же, на базаре, я услышала, что Раневскую на роль Ефросиньи не утвердил то ли худсовет, то ли вмешательство Большакова — „у Раневской слишком семитская внешность, поэтому на роль Ефросиньи она никак не подойдет“».
Говорили, что министр кинематографии Иван Большаков так возражал против Раневской, что даже обратился за поддержкой к секретарю ЦК Щербакову, курировавшему культуру. В письме к нему говорилось: «Семитские черты Раневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах». Дабы подтвердить свою мысль о семитской внешности Раневской, Большаков, кроме письма, послал Щербакову несколько фотографий Фаины Георгиевны. Письмо свое он закончил так: «Утверждать Раневскую на роль Ефросиньи не следует, хотя Эйзенштейн будет апеллировать во все инстанции».
Актрисе об этих переговорах конечно же никто не сообщил, поэтому отказ утвердить ее на роль Ефросиньи она восприняла как предательство со стороны режиссера. Как-то, встретив Раневскую все на том же алма-атинском базаре, Марина Ладынина, уверенная в том, что актриса уже снимается в фильме «Иван Грозный», поинтересовалась, как проходят съемки, на что Раневская гневно ответила: «Никогда, нигде и ни за что я не буду сниматься у этого изверга!» А вот как передал ее ответ Ладыниной Василий Катанян: «Даже если мне будет грозить голодная смерть, я лучше начну торговать кожей с собственной задницы, чем играть эту Ефросинью!» Катанян утверждал также, что разговоры эти дошли до Сергея Михайловича, который не замедлил послать Раневской телеграмму: «Как идет торговля? Эйзенштейн».
Ответила ли Раневская на это послание или нет, мы не знаем. Пробы ее на роль Ефросиньи прошли успешно, сомнений у тех, кто их видел, не возникло. Более того, сам Эйзенштейн уверял ее, что все решено на самом высоком уровне. Однажды ночью он позвонил Раневской. «Фаина, я только что из Кремля. Ты знаешь, что о тебе сказал товарищ Сталин?! Пыхая своей трубкой, сказал в присутствии многих кинематографистов. Иосиф Виссарионович гениально заметил: „Ни за какими усиками и гримерскими нашлепками артисту Жарову не удастся спрятаться, он в любой роли и есть товарищ Жаров. А вот товарищ Раневская, ничего не наклеивая, выглядит на экране всегда разной“. Вот так. Думайте. Разбирайтесь», — сказал Эйзенштейн громко и уверенно.
В тот день Фаина Георгиевна решила отметить это известие весьма своеобразно: она зашла в котельную, разбудила знакомого дворника-татарина, попросила его раздобыть бутылку водки, — и привет от вождя, переданный Раневской Эйзенштейном, был отмечен на славу. И хотя выглядела она наутро не лучшим образом, все же о ней по-прежнему говорили: «Типичная Ефросинья Старицкая!» Но, увы, сняться в этой роли Раневской не довелось — Ефросинью сыграла Серафима Бирман. Сыграла, по общему мнению, талантливо, несмотря на свою не менее семитскую, чем у Раневской, внешность.
Пожалуй, ни о какой несыгранной роли Раневская не жалела так, как о роли Ефросиньи Стариц-кой. Но ее отношения с Эйзенштейном довольно быстро наладились — вероятно, актрису убедили, что режиссер не виноват в ее снятии с роли. Сергей Михайлович часто бывал у Раневской в последние годы жизни — они были задушевными собеседниками, друзьями.
…В феврале 1948 года, когда театральная и киношная Москва хоронила Эйзенштейна, Раневская оказалась в траурной процессии рядом с Мироновой и Менакером. Она не просто плакала, а рыдала. «Мне кажется, что после гибели Михоэлса я никогда так не плакала! Какое-то у меня чувство — Эйзенштейна тоже убили. Может быть, не так злодейски, как Михоэлса, но убили. Не знаю, почему, но что-то в нашем кинофюрере есть от Малюты Скуратова», — тихо, почти шепотом сказала Раневская Менакеру, имея в виду министра Большакова. Говорить такое даже шепотом было небезопасно — гибель Михоэлса, убитого в Минске месяцем раньше агентами госбезопасности, было приказано считать автокатастрофой.
Возвращаясь с похорон, Раневская подробно рассказывала Менакеру и Мироновой об Алма-Ате, особенно о зимней, о том, как медленно и тихо опускается на деревья снег в горах Алатау. Рассказывала она Менакеру и об Алма-Атинской киностудии, точнее кинофабрике, расположившейся в годы войны в местном Доме культуры. О своих встречах с Луговским, писавшим стихи для будущего фильма об Иване Грозном, с игравшими в этом фильме замечательными артистами — Черкасовым, Жаровым.
Не один год работал Эйзенштейн над «Иваном Грозным». Картина вышла на экран через двенадцать лет после начала съемок первой части. Вторую часть Эйзенштейн так и не увидел — она была забракована высокопоставленным заказчиком. Вместе с Эйзенштейном хоронили и недоснятый им фильм. И еще в тот день на похоронах вспоминала Фаина Георгиевна последнюю квартиру Сергея Михайловича: «Это только казалось, что он все время живет на людях. Его, как, впрочем, и Михоэлса, считали старшим: люди нуждались в нем, в его помощи, а он был так одинок. Он боялся, что не успеет позвонить, если опять заболит сердце. Он не мог умереть от чего-то другого — только от инфаркта». Эйзенштейн действительно умер от инфаркта ночью 10 февраля 1948 года.
Был на его похоронах и Большаков.
Разговоры об упорной неприязни министра кинематографии к Раневской не лишены оснований. Есть в книге Катаняна глава «Фаина Раневская с оружием в руках», Василий Васильевич приводит там рассказ из воспоминаний Раневской: «Я жила в Алма-Ате, и Ромм сдавал там Большакову „Мечту“. Война, гибнут люди, полстраны под немцем, казалось бы — уймись. Нет, у него были какие-то претензии к Розе Скороход. Но он побоялся со мной связываться: я распустила слух, что ношу с собой браунинг, так как боюсь темноты, и лучше вечером со мной не встречаться, не ровен час — могу выстрелить… Ромм сказал, что это спасло Розу. Выходит, что я защитила ее с оружием в руках».
И еще одно горе постигло Фаину Георгиевну, еще одни похороны — в 1949 году умер маршал Федор Иванович Толбухин. Эта страница жизни Раневской может показаться неожиданной, широкой публике она почти неизвестна. Из воспоминаний остались, пожалуй, только строки в книге Алексея Щеглова «Раневская»: «В эти дни Фуфа подарила мне машинку-сувенир от маршала Толбухина для ее „эрзац-внука“, наверное, выпросила у маршала этот обтекаемой формы темно-синий автомобильчик, размером с челнок зингеровской швейной машинки, с поперечным колесиком на брюшке. Хитрость трофейной игрушки была в том, что, когда она подъезжала к краю стола, передок свешивался, центр тяжести перемещался и поперечное колесико, касаясь поверхности, отворачивало машинку от края пропасти — она никогда не падала на пол».
Фаина Георгиевна познакомилась с Федором Ивановичем в Тбилиси, вскоре после войны (он в ту пору был командующим Закавказским военным округом), ей по душе была его офицерская выправка (он был штабс-капитаном еще в годы Первой мировой войны), да и вообще его офицерский характер. Их дружба особенно укрепилась после того, как Федор Иванович поведал Фаине Георгиевне о том, что войска под его командованием освобождали Крым, и тут уж о своей жизни в Крыму рассказывала маршалу Раневская. Маршал Толбухин так проникся ее рассказом, что при каждой встрече просил повторить свою «крымскую» историю. Он же делился своими воспоминаниями о Гражданской войне, с особым волнением говорил о подавлении Кронштадтского мятежа. Фаина Георгиевна влюбилась в него, вероятнее всего, в тот момент, когда он читал ей стихи Багрицкого:
Нас водила молодость в сабельный поход,
Нас бросала молодость на кронштадтский лед…
О трогательном романе маршала Толбухина с Фаиной Раневской мне поведала Елизавета Моисеевна: «Может, я не вправе рассказывать, но, не знаю уж почему, сегодня вспомнила об этом. Иногда я думаю, что после войны Федор Иванович — единственный мужчина, которым была увлечена Фаина, и это при том, что она о мужчинах вообще слышать не хотела. Они познакомились, помнится мне, в Тбилиси и встречались периодически то в Москве, то в Грузии. Она так тепло вспоминала о Толбухине: „Я никогда не влюблялась в военных, но Федор Иванович был офицер той, старой закалки“…» Елизавета Моисеевна говорила мне еще и о том, что видела запомнившиеся ей фотографии Толбухина и Раневской: с какой любовью они смотрели друг на друга: «Я помню, сколько времени после похорон Толбухина Фаина находилась в печали…»
«Любила, восхищаюсь Ахматовой. Стихи ее смолоду вошли в состав моей крови» — строки из дневника Раневской. То, что стихи Анны Андреевны «вошли в состав крови» актрисы, сомнений не вызывает. А вот каким образом Раневская впервые познакомилась с ними, сейчас установить нелегко. Во всяком случае, строки Ахматовой о погибшем брате были знакомы Фаине Фельдман еще в начале 1910-х годов:
Пришли и сказали: «Умер твой брат…»
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня холодный закат
Над крестами лаврскими плачет.
И новое что-то в такой тишине
И недоброе проступает,
А то, что прежде пело во мне,
Томительно рыдает.
Брата из странствий вернуть могу,
Любимого брата найду я,
Я прошлое в доме моем берегу,
Над прошлым тайно колдуя.
Я когда-то спросил у Елизаветы Моисеевны, не ведома ли ей история знакомства Раневской с этими стихами. Она ответила: «Нет. Могу лишь предположить, что в Таганрог их могла привезти София Парнок». Стихи эти сегодня кажутся пророческими — ведь один из братьев Ахматовой, Андрей Горенко, покончил с собой только в 1920 году. Поневоле в них видится судьба ее расстрелянного мужа Николая Гумилева: «Сестра, отвернись, не смотри на меня. Эта грудь в кровавых ранах». А завершаются эти стихи совсем уж страшным пророчеством:
О, прости, моя сестра,
Ты будешь всегда одинока…
Из рассказов Фаины Георгиевны об Ахматовой: «Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге, прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: „Вы — мой поэт“, — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты. Дарила меня дружбой до конца своих дней».
Фаина Георгиевна отказалась писать воспоминания об Ахматовой («есть еще и посмертная казнь, это воспоминания о ней ее „лучших“ друзей»), но все же отдельные заметки оставила. «Вы просили меня написать об А. А. Ахматовой, — это из письма Раневской Маргарите Алигер, — я не умею, не могу. Но вам хочу сказать то, что вспомнилось буквально сию минуту, потому что я все время о ней думаю, вспоминаю, тоскую… Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег… На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это было nature morte, — Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть. Когда мы возвращались домой, по дороге встретили солдат, они пели солдатские песни. Она остановилась, долго смотрела им вслед и сказала: „Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню“».
Раневская не могла удержаться от рассказов о своих встречах с Ахматовой, написала на эту тему много страниц в своих дневниках. Есть в них монологи, никому не ведомые, кроме Раневской: «Она была женщиной больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то гуляли с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: „Вот там я была влюблена… А за тем окном я целовалась“». И еще: «…Читала однажды Ахматовой Бабеля, она восхищалась им, потом сказала: „Гений он, а вы заодно“».
Пребывание в Ташкенте в годы войны особенно сблизило Ахматову и Раневскую. Они поняли, как много между ними общего, и научились доверять друг другу самые сокровенные тайны. Фаина Георгиевна вспоминала: «Во время войны Ахматова дала мне на хранение папку. Такую толстую. Я была менее „культурной“, чем молодежь сейчас, и не догадалась заглянуть в нее. Потом, когда у Ахматовой арестовали сына второй раз, она сожгла эту папку. Это были, как теперь принято называть, „сожженные стихи“. Видимо, надо было заглянуть и переписать все, но я была, по теперешним понятиям, „необразованной“».
Когда Анна Андреевна весной 1943 года узнала, что Фаина Георгиевна собирается вернуться в Москву, она заметно опечалилась и сказала: «Надеюсь вскоре тоже уехать в Ленинград». Раневская спешила покинуть Ташкент по понятной причине — она отчаянно нуждалась и соглашалась на любую работу, только бы хоть что-то заработать. Правда, в каждой предложенной ей работе она старалась найти что-то творческое: «Мне предложили сценарий небольшого фильма, и что-то в нем есть подкупающее. Знаете, Анна Андреевна, речь идет о подвиге трех бойцов, но это не то же самое, что „Два бойца“. В сценарии нет любовных историй, однако солдаты эти поразили меня своей непосредственностью и искренностью. К тому же там наша тема: за искусство надо бороться беспощадно, как сказано в вашем стихотворении „Мужество“»:
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Фаина Георгиевна пересказала Анне Андреевне краткое содержание фильма под названием «Три гвардейца» и подробно остановилась на предстоящей ей роли директора музея, которую фашисты превратили в прачку. Этот фильм оказался, пожалуй, единственной работой Раневской в кино, которая шла к зрителю целых шестьдесят пять лет. Почему так произошло, сказать трудно. Героизм советских людей, их страдания в годы оккупации отражены в фильме в полной мере. Но почему-то его не выпустили на экраны в годы войны — вначале он в сокращенном виде вошел в картину «Родные берега», а потом и вовсе был отправлен «на полку».
Судя по рассказам Раневской, ее роль в этом фильме оказалась по сердцу и Ахматовой. И неслучайно — там, например, героиня обращается к солдату, который хотел воспользоваться музейным столом в целях обороны: «Эта вещь помнит еще Пушкина!» А что такое Пушкин для Ахматовой и Раневской — мы знаем. Те немногие, кто видел этот фильм, считают его одной из самых значительных ролей Раневской. Фаина Георгиевна, как-то делясь впечатлениями с Ахматовой о своей героине уже спустя много лет после войны, сказала: «Вы знаете, Анна Андреевна, почему я тогда так охотно согласилась сняться в фильме „Родные берега“? Тогда еще не были написаны ваши стихи:
Что война, что чума? Конец им виден скорый,
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен.
Разумеется, тогда я не только не знала этих стихов — их не было в природе, но мне кажется, что я их слышала, когда играла свою Софью Ивановну». И это похоже на правду, ибо в финале фильма Раневская читает стихи Ахматовой:
Чтобы туча над скорбной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Дружба Ахматовой и Раневской, скрепленная в Ташкенте, после войны стала еще крепче. При первой возможности Фаина Георгиевна ездила к Ахматовой в Ленинград. Летом 1945 года Раневская попала в больницу, постоянно вспоминала об Ахматовой, продолжала мысленно беседовать с ней и, когда не было сил писать письма, диктовала их с просьбой передать, переслать Анне Андреевне. Вот одно из таких писем, написанных 28 августа 1945 года, в день рождения Раневской:
«Ф. Г. Раневская — А. А. Ахматовой. (Написано под диктовку.) Спасибо, дорогая, за Вашу заботу и внимание и за поздравление, которое пришло на третий день после операции, точно в день моего рождения в понедельник. Несмотря на то, что я нахожусь в лучшей больнице Союза, я все же побывала в дантовом аду, подробности которого давно известны.
Вот что значит операция в мои годы со слабым сердцем. На вторые сутки было совсем плохо, и вероятнее всего, что если бы я была в другой больнице, то уже не могла бы диктовать это письмо.
Опухоль мне удалили, профессор Очкин предполагает, что она была не злокачественной, но сейчас она находится на исследовании.
В ночь перед операцией у меня долго сидел Качалов В. И. и мы говорили о Вас.
Я очень терзаюсь кашлем, вызванным наркозом. Глубоко кашлять с разрезанным животом непередаваемая пытка. Передайте привет моим подругам.
У меня больше нет сил диктовать, дайте им прочитать мое письмо. Сестра, которая пишет под мою диктовку, очень хорошо за мной ухаживает, помогает мне. Я просила Таню Тэсс Вам дать знать результат операции. Обнимаю Вас крепко и благодарю».
К счастью, опухоль у Раневской оказалась незлокачественной, и уже в сентябре она приступила к работе в Театре драмы.
В трудные для Ахматовой дни после печально знаменитого Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» она звонила Раневской в те нечастые дни, когда ее не истязали в прессе, и сообщала: «Сегодня хорошая газета». Однажды в тот период она в сердцах произнесла, беседуя с Раневской: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?»
А ведь еще совсем недавно в «Литературной газете» от 24 ноября 1945 года были напечатаны портрет Анны Андреевны и ее интервью. Как отмечалось в прессе, президиум Союза писателей во главе с Николаем Тихоновым восхвалял ее творчество. Но прошло совсем немного времени, и Тихонов был освобожден от обязанностей председателя правления. Тогда же, 4 сентября 1946 года, писательская организация, оперативно реагируя на изгиб партийной линии, постановила: «Исключить Зощенко М. М. и Ахматову А. А. из Союза советских писателей как несоответствующих в своем творчестве требованиям параграфа 2 Устава Союза, гласящего, что членами Союза могут быть писатели, стоящие на платформе советской власти и участвующие в социалистическом строительстве».
Об этом постановлении Раневской подробно рассказал присутствовавший на заседании правления ССП Вениамин Каверин. Но, конечно, она не стала называть Анне Андреевне имена писателей, проголосовавших за ее исключение. Она слишком хорошо знала нравы писательской братии — ее привычку «добровольно и с песнями» прислуживать власти, ее склонность к доносительству и по-истине «сальериевскую» зависть.
Последнее качество было присуще многим талантливым литераторам, даже казавшимся независимыми. Зависть можно узреть и у Лидии Корнеевны Чуковской — по «Запискам об Анне Ахматовой» многие читатели создают для себя образ Анны Андреевны. Раневская в этих записках порой изображается с избытком черной краски. Правда, Чуковская не умалчивает о том, как восторженно к Фаине Георгиевне относилась сама Ахматова, обозначенная в мемуарах как NN:
«NN очень беспокоится, чтобы Ф.Г. не заразилась тифом, и как всегда, настойчиво говорит о ее гениальности:
— Она гениально изображает меня. Вы видели?
Как у гения — в одном фокусе собрано все. Прозрение какое-то».
Но чаще в «Записках об Анне Ахматовой», особенно там, где речь идет о ташкентском периоде, Раневская предстает в неприглядной роли склочницы, хвастуньи и выпивохи. Вот запись от 15 ноября 1942 года: «Ушла я от Софы отравленная. Там сидела Раневская (продает очередную шубу). Потом она ушла, сообщив, что сегодня зайдет к NN, свезет ей яблоки и яйца. Когда она ушла, Софа стала жаловаться, что Раневская ноет — „я устала“, „я не могу больше“ (!?) и просит, чтобы Софа меняла булки, получаемые по карточкам NN, на яйца и яблоки для нее, но в то же время одну булку берет себе».
И еще несколько дневниковых записей Лидии Чуковской:
Двадцать седьмого апреля 1942 года:
«Вечером, поздно, зашла к NN занести и вложить последние перепечатанные страницы. У нее застала Раневскую, которая лежала на постели NN после большого пьянства. NN, по-видимому, тоже выпила много. Она казалась очень красивой, возбужденной и не понравилась мне. Я ушла, мне не хотелось видеть ее такой… Раневская, в пьяном виде, говорят, кричала во дворе писательским стервам: „Вы гордиться должны, что живете в доме, на котором будет набита моя доска“. Не следовало этого кричать в пьяном виде».
Июнь 1942 года:
«Раневская сама по себе не только меня не раздражает, но наоборот: ум и талант ее покорительны. Но рядом с Ахматовой она меня нервирует. И мне стыдно, что Ахматова ценит ее главным образом за бурность ее обожания, за то, что она весь свой день строит в зависимости от Ахматовой, ведет себя рабски. И мне грустно видеть на ногах Ахматовой три пары туфель Раневской, на плечах — платок, на голове — шляпу… Сидишь у нее и знаешь, что Раневская ждет в соседней комнате. От этого мне тяжело приходить туда».
Двадцать шестого октября 1942 года:
«С большим удовольствием рассказала о том, как патруль задержал Раневскую, но узнал и отпустил. Она всегда с гордостью говорит о ее гении и славе».
По этим записям можно судить, что Лидия Корнеевна вряд ли завидовала популярности Раневской (уж скорее такую зависть могла испытывать Ахматова, но ей это чувство было в принципе чуждо), но, без сомнения, ревновала к ней Анну Андреевну. На какое-то время это привело даже к разладу в ее отношениях с Ахматовой (о чем в записках, заметим, не сказано ни слова). Драматург Лев Озеров в своих воспоминаниях передает слова Раневской: «Мне известно, что в Ташкенте она (Ахматова. — М. Г.) просила Л. К. Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне».
Раневская часто присутствовала на литературных вечерах в комнате Ахматовой, где, кроме нее, собирались Елена Булгакова, Владимир Луговской, Абрам Эфрос (здесь уместно вспомнить рассказ, услышанный мною от Любови Марковны Фредкиной, ученицы Абрама Эфроса, находившейся в то время в Ташкенте: «Абрам Маркович считал, что Ахматова и Раневская так влюблены в Александра Сергеевича Пушкина, что ненавидели всех женщин, и больше других — Наталью Гончарову, — причастных к его судьбе. Даже Цветаевой они не могли простить ее очерк „Мой Пушкин“…»).
О своем посещении такого вечера в квартире Ахматовой вспоминает Валентин Берестов — тогда еще школьник, а в будущем известный поэт. В тот день Ахматова вдохновенно читала стихи и отрывки из «Поэмы без героя»: «Читала так замечательно, как будто перед нею огромный переполненный зал, внимающий ее стихам. Ощущение нужности своей поэзии, ее востребованности помогало выжить не только ей, но и всем, кто с ней общался».
От Анастасии Павловны Потоцкой я слышал, что в этой квартире они с Раневской читали рукопись «Мастера и Маргариты», тайком полученную от вдовы Булгакова. Раневская, наблюдая за тем, как воспринимает книгу Ахматова, произнесла: «Да ты ведь колдунья». На что Ахматова, не задумываясь, выпалила стихи:
Из логова змиева, из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Уже потом я узнал, что эти стихи Гумилева были посвящены Ахматовой и написаны именно в тот период, когда Анна Андреевна собиралась расстаться с ним навсегда.
Елену Сергеевну Булгакову, тоже оказавшуюся в годы Великой Отечественной войны в Ташкенте, познакомила с Ахматовой Раневская, знавшая ее и Гумилева еще в Москве. Знакомство это вскоре переросло в дружбу. Ахматова не раз говорила о Елене Сергеевне: «Она умница, она достойная! Она прелесть!» Анна Андреевна не раз читала «Мастера и Маргариту» вслух, повторяя: «Фаина, это гениально!» Из воспоминаний Светланы Сомовой, знакомой Ахматовой еще по Ленинграду: «Когда Ахматова читала стихи на Жуковской у Елены Сергеевны Булгаковой, которая много помогала им обеим, это был эстетический праздник». Дом на Жуковской состоял из ряда построек, прилепившихся друг к другу. Когда Елена Сергеевна съехала с этой квартиры, она передала свою длинную и большую комнату с окном во всю стену Анне Андреевне, что оказалось очень кстати — там нашлось место и для Фаины Георгиевны.
Здесь, в Ташкенте, Раневская и Булгакова не только познакомились, но и сблизились. Фаина Георгиевна, узнав о тех препонах, которые власти чинят изданию булгаковских произведений, возмутилась, сказав Елене Сергеевне, что вечно так продолжаться не может. Уже когда Раневская вернулась в Москву, она обратилась к ряду авторитетных писателей с просьбой оказать содействие вдове Булгакова в вопросе издания его произведений. Разумеется, Ахматову она не могла включить в список ходатаев — ее произведения после постановления 1946 года тоже попали в «черный список».
Примерно в то же время Раневская попыталась вовлечь в эту кампанию по восстановлению справедливости в отношении Булгакова не только писателей, но и артистов. Откликнулись Святослав Рихтер, Арам Хачатурян, Галина Уланова, Роман Кармен. Однажды, уже после войны, в гости к Булгаковой пришли Анна Ахматова, Святослав Рихтер и Фаина Раневская. «Рихтер играл всю ночь до утра, не отходя от рояля. Я плакала. Это нельзя забыть до конца жизни», — вспоминала позже Фаина Георгиевна.
Ахматова молила небеса не только о родном Ленинграде, но и о других местах, где шла война с Гитлером. Была счастлива, узнав о разгроме армии Роммеля в Северной Африке. Раневская вспоминала о том, что Ахматова в тот день бежала к ней через весь Ташкент, чтобы поделиться своей радостью.
Часто в Ташкенте они встречались с актерами Большого театра, находившимися в эвакуации, и посещали устроенные ими музыкальные вечера. 23 июня 1942 года в Большом зале Ташкентского оперного театра оркестр Ленинградской государственной консерватории (им дирижировал в тот день заслуженный артист республики Н. А. Мусин) исполнил Седьмую симфонию Шостаковича, совсем недавно впервые прозвучавшую в блокадном Ленинграде. В тот памятный день там были и Ахматова, и Раневская. Пройдут годы, и Фаина Георгиевна, встретившись в московской больнице с Дмитрием Шостаковичем, расскажет ему, как они с Ахматовой слушала знаменитую «Ленинградскую» в Ташкенте. Вспоминала, как дрожали обе, слушая его гениальную музыку: «Мы плакали, а она редко плакала». В 1950-е годы Анна Андреевна в сборнике своих стихов, подаренных любимому композитору, напишет: «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле».
Там же, в Ташкенте, в балетной школе Тамары Ханум, на вечере, посвященном Первому мая 1942 года, впервые прозвучало ахматовское «Мужество». Им открывалась книга стихов Ахматовой «Избранное», изданная в Ташкенте в 1943 году. Это издание явилось поводом для собрания московских поэтов, читавших на вечере стихи Анны Ахматовой и свои собственные. Среди гостей были В. Луговской, переводчики В. Левик и В. Тарановская (сестра Софии Парнок), поэт Александр Кочетков. Ахматова, услышав в исполнении Кочеткова его «Балладу о прокуренном вагоне», пришла в восторг. Раневская, присутствующая при этом, сказала: «А я эти стихи знала еще до войны», — и позже не раз цитировала строфы из «Баллады»:
Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, —
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами.
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой.
<…>
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них —
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг.
В день рождения Ахматовой 30 сентября 1942 года Раневская сумела организовать небольшое застолье, где была и молодежь: Саша Гинзбург (повзрослев, он стал Александром Галичем), Наум Рамбах, позже известный переводчик Наум Гребнев. Все чаще на ахматовских собраниях в те тяжкие дни войны звучали стихи поэтов, казалось бы, в ту пору забытых: А. Фета, К. Случевского, И. Анненского, В. Хлебникова, разумеется, О. Мандельштама. Читали их Ахматова, Раневская, Надежда Мандельштам. Бывали на этих вечерах также Абдуловы — Осип Наумович и Елизавета Моисеевна, музыкант Александр Козловский и его жена Галина, Евгения Берковская, Эдуард Бабаев, профессор Владимир Адмони, художник Александр Тышлер.
Случались литературные собрания и в доме Алексея Толстого. На одном из них Ахматова сказала Раневской: «Фаина, мы не можем оставаться в этом доме. Здесь ругают Горького!» — и обе они, голодные, ушли от роскошно накрытого стола. Ахматова да и Раневская, игравшая в спектаклях по пьесам А. Толстого, высоко ценили его литературный талант, но это не мешало Ахматовой винить его в гибели Мандельштама, преследования которого начались после того, как он дал пощечину Толстому. Однажды она сказала: «Алексей Толстой меня любил… он был удивительно талантливый, интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента…»
В Ташкенте роль Раневской в жизни Анны Ахматовой была особенно значимой. После возвращения из эвакуации, после войны они по-прежнему общались часто, Фаина Георгиевна при любой возможности приезжала к Ахматовой в Ленинград. Особенно после принятия печально знаменитого Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», когда от Анны Андреевны отвернулись многие знакомые. Потом, когда к Ахматовой вернулось признание, пусть и полуофициальное, встречи стали более редкими, поговаривали, что Раневская за что-то обижалась на подругу, ревновала ее к славе, однако это совсем не так — просто порой не было сил и времени увидеться. В письме Эрасту Гарину и его жене 13 марта 1965 года она писала: «Была у меня с ночевкой Анна Ахматова. С упоением говорила о Риме, который, по ее словам, создал одновременно и Бог и сатана. Она пресытилась славой, ее там очень возносили и за статью о Модильяни денег не заплатили, как обещали. Премию в миллион лир она истратила на подарки друзьям, и хоть я числюсь другом — ни хрена не получила: она считает, что мне уже ничего не надо, и, возможно, права.
Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым, — я запамятовала, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее напрокат шапочку и приду к Вам в гости».
Пятого марта 1966 года Раневская узнала о смерти Ахматовой. Несколько дней спустя она записала в дневнике: «Гений и смертный чувствуют одинаково в конце, перед неизбежным. Все время думаю о ней, вспоминаю. Скучно без нее… Будучи в Ленинграде, я часто ездила к ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку. Помнится, она сидела у окна, смотрела на деревья и, увидев меня, закричала: „Дайте, дайте мне Раневскую…“ Очевидно, было одиноко, тоскливо. Стала она катастрофически полнеть, перестала выходить на воздух. Я повела ее гулять, сели на скамью, молчали».
В 1991 году в «Советском писателе» была издана большая книга (свыше семисот страниц), в которую вошли воспоминания Д. С. Лихачева, И. Н. Луниной, Г. И. Чулкова, Н. Я. Мандельштам, С. В. Шервинского, А. Г. Тышлера, Исайи Берлина, Льва Озерова… А воспоминаний Раневской среди них нет. Впрочем, Фаина Георгиевна ответила на это: «Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили… Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее».
В сентябре 1946 года, приехав в Ленинград к Ахматовой, чтобы поддержать ее в трудный час, Раневская неожиданно встретилась на улице с Леонидом Осиповичем Утесовым. В тот день он выглядел как-то не «по-утесовски»: был печален, задумчив. Увидев Раневскую, он сказал:
— Надо же, в Москве, Фаина Георгиевна, годами не видимся, а здесь в Ленинграде встретились.
— А я знаю, куда вы идете и к кому (он направлялся к Зощенко. — М. Г.).
— А я тем более догадываюсь, куда идете вы. И хотя мы движемся в разных направлениях, но по одинаковому поводу.
Заметим, в те годы немногие позволяли себе хоть как-то общаться с Зощенко и Ахматовой — оба они оказались в изоляции. Правда, к Ахматовой изредка приезжали ее друзья из Москвы, в частности Нина Ольшевская и, само собой разумеется, Фаина Георгиевна, хотя сама Ахматова не раз пыталась отговорить Ольшевскую («У тебя ведь дети, подумай об этом!»). Раневскую, зная ее характер, она и не пыталась отговаривать. Бывало, что Ахматова оставалась на ночь не в своей квартире, а у друзей. Однажды она осталась на ночь у Томашевских — академика Бориса Викторовича и его жены Ирины. Ирина Томашевская вспоминает, как однажды они с Ахматовой выехали навестить Зощенко, жившего в том же подъезде двумя этажами ниже. Когда они спускались по лестнице, сосед, живший прямо под ними, как раз собирался выйти: «Увидев Ахматову, он замер на пороге и не шевельнулся, пока они не прошли мимо, как будто даже кивок в их сторону мог его скомпрометировать…»
Но вернемся к встрече Утесова с Раневской. Внезапно на хмуром лице Леонида Осиповича вспыхнула улыбка, и он сказал: «Когда будете у Анны Андреевны — поклон ей от меня. Если она меня еще помнит — до войны она не раз приходила на мои концерты в Ленинграде. А если забыла, то все равно передайте ей привет и расскажите любимый анекдот моего папы: „Два еврея едут в поезде.
— Вы куда? — спрашивает один из них.
— Я — в Пинск, а вы?
— А я в Минск.
— Как же это может быть: я еду в Пинск, а вы в Минск, а сидим в одном вагоне?“».
«Хорошо, — сказала Фаина Георгиевна, — что у вас, Леонид Осипович, сохранилось чувство юмора. Когда я думаю об Анне Андреевне, о Михаиле Михайловиче, меня юмор покидает».
Встреча эта возобновила дружбу Раневской с Утесовым, продолжавшуюся до последних дней их жизни.
В 1981 году Раневская с опозданием — Утесову уже исполнилось восемьдесят — послала ему телеграмму: «С большой нежной любовью всегда молодого Леонида Утесова крепко обнимает старая Раневская». Телеграмма эта возникла неслучайно. В каком-то номере «Музыкальной жизни» за 1980 год, где был небольшой материал и о ней, Фаина Георгиевна прочла сообщение: «Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии музыкального искусства и в связи с 80-летием со дня рождения народный артист СССР Л. О. Утесов награждается орденом Трудового Красного Знамени».
Когда познакомились Раневская и Утесов, сегодня сказать трудно, но встречались они еще в довоенное время. Утесов бывал на спектаклях, в которых играла Раневская — и в Театре драмы, и в Театре имени Пушкина, и в Театре имени Моссовета. Не однажды после окончания спектаклей он заходил к Раневской в гримуборную и со свойственной ему восторженностью высказывал похвалы. Особенно восхищался он Фаиной Георгиевной в роли Верди в «Лисичках». А уж спектакль «Шторм» Билль-Белоцерковского Утесов посещал во все свободные от собственных выступлений вечера. Леонид Осипович однажды послал Раневской записку, в которой признался, что ее маленькая роль в спектакле «Шторм» сделала этот спектакль большим. И еще в этой записке он писал: «Странно, Фаина Георгиевна, что Вы не родились в Одессе (Раневская исполняла в этом спектакле роль одесской спекулянтки. — М. Г.). Таких талантливых спекулянток не было даже на одесских толкучках. Если спектакль „Шторм“ повезут в Одессу, я „зайцем“ поеду с вашим театром. Предрекаю Вам успех у одесской публики».
Елизавета Моисеевна Абдулова, дружившая с Раневской и хорошо знавшая Утесова, поведала мне, что, увидев Раневскую в роли Бабушки в спектакле «Деревья умирают стоя» по пьесе А. Касоны (он был поставлен в Театре имени Пушкина в середине 1950-х), Утесов сказал, что он видел много драматических актрис, но вершиной была Раневская. «Впрочем, актрисе, сыгравшей роль Розы Скороход в фильме „Мечта“, нет равных не только в театре, но и в сегодняшнем кинематографе», — заметил Леонид Осипович. Да и Фаина Георгиевна, небольшая любительница эстрадных концертов, удостаивала своим вниманием только программы Утесова. Последние годы жизни Раневской они виделись довольно редко, но по телефону общались часто. Вот что вспоминала жена Утесова Антонина Сергеевна Ревельс:
«Что за женщина! Что за гениальная актриса! Но как она живет?! Под рукой нет, да и вообще в доме нет бумаги и карандаша. Дом — проходной двор, приходят все, кому не лень. Все какие-то незнакомые лица, все объясняются ей в любви, все садятся за стол без всякого приглашения. Беззащитное существо!»
В биографиях Утесова и Раневской было много схожего. И не только в силу возраста (Раневская была моложе Утесова всего на год с небольшим). Оба они были любимцами зрителей, то есть актерами по-настоящему народными, хотя оба запоздало были удостоены этого звания (Раневская — в 1961 году, Утесов — в 1965-м). Примерно в один и тот же период впервые снялись в кино (Утесов — в «Веселых ребятах», Раневская в роли госпожи Луазо в «Пышке»), Несмотря на громкую известность, как сказали бы сейчас, «звездность», оба были не в фаворе у власти — не в последнюю очередь из-за своей национальности. И оба, несмотря на это, избежали каких-либо репрессий: и потому, что демонстративно держались в стороне от политики, и оттого, что их обаяния не избежали первые лица государства. Сталин с удовольствием слушал блатные песни в исполнении Утесова, а Брежнев, как уже говорилось, по-детски радовался, видя Раневскую на экране.
Однажды Антонина Ревельс показала мне большую, хорошо сохранившуюся фотографию Раневской в роли миссис Сэвидж. Я не впервые видел такое фото, но Антонина Сергеевна обратила мое внимание на дарственную надпись на ней: «Почему так люблю Вас, Леонид Осипович? Не только за большой Ваш талант, равного которому не знаю. Но более всего за доброту Вашего сердца. И еще за то, что Вы не играете на сцене — играть можно в карты и другие игры. Истинный актер не играет на сцене — он живет на ней». Далее подпись, а под ней постскриптум: «Извините, что на фотографии пишу целое письмо. Вечно передо мной нет бумаги, слава богу, хоть авторучка оказалась под рукой. Апрель 1965 г.».
Нетрудно вычислить, что фотография эта была прислана Утесову вскоре после празднования его семидесятилетия. Раневской на этом вечере не было, но она узнала о нем из воспоминаний народной артистки РСФСР Ирмы Яунзем. «Ах, какая умница Ирма!» — прочитав их, воскликнула Фаина Георгиевна. Вот отрывок из этих воспоминаний:
«23 апреля 1965 год. Москва.
Я вернулась с совершенно незабываемого, изумительного юбилея… праздновали 70-летие Леонида Осиповича Утесова в театре эстрады. Еще за квартал уже невозможно было подойти к театру. Стоял кордон милиции, площадь и набережная были запружены машинами… у входа толчея — не пробиться!
Я участвовала в чествовании от ЦДРИ и ВТО, и в делегации ВТМЭИ. От ЦДРИ мы сделали хор птичек певчих, „пропивших свои голоса“ — смешные куплеты из песен Утесова со словами ему.
Кто только не приветствовал Лёдю!
Начала Е. А. Фурцева, которая его сердечно поздравила и объявила, что ему присвоено звание „Народного СССР“.
Наконец-то Утесов дождался! И получил его по праву…
Сегодня это был действительно юбилей и чествование народного артиста!
Дай ему Бог здоровья и насладиться этим званием… Всем нам осталось недолго еще наслаждаться на этой земле… В делегациях проходили заводы, фабрики, театры, писатели, литераторы, художники — бесконечный поток — вереница людей из театров, учебных заведений, МГУ, общественные, концертные… всего не сосчитаешь… Действительно незабываемый праздник улыбок, цветов, добрых слов… и… все же я видела и „кислые“ улыбки недругов… Конечно, завистников у него немало. Но я — порадовалась за него от всего сердца и… погордилась!
Пусть он будет здоров и счастлив! Незабываемый вечер! Он останется у меня на всю жизнь. Я помню, такой был у Собинова, Неждановой, Яблочкиной… и то, пожалуй, с этим — не сравниться…»
Прочитав эти заметки, Фаина Георгиевна в течение следующих дней звонила всем своим друзьям и знакомым, побывавшим на чествовании Утесова, повторяя: «Какие вы счастливые, что видели этот юбилей!»
А вот еще один рассказ Антонины Ревельс: «Однажды, в конце августа 1966 года, Леонид Осипович вспомнил, что забыл поздравить с юбилеем Фаину Георгиевну.
„Ты знаешь, как много общего в наших судьбах? — сказал он мне. — Даже в том, что нас обоих не назначили ‘Гертрудами’ (героями Социалистического Труда. — М. Г.). Но не в этом главная наша общность. Фаина Георгиевна такая же Раневская, как я Утесов. Когда она родилась, правда почему-то не в Одессе, а в Таганроге, ее фамилия была Фельдман“.
И, ухмыльнувшись, добавил: „Но я думаю, что самый красивый бульвар в Одессе — Приморский — переименовали в бульвар Фельдмана не в честь ее отца (на самом деле бульвар был назван в честь большевика Якова Фельдмана). На этом наше сходство не заканчивается. Мою маму звали Малка, а ее Милка — на древнееврейском то и другое значит ‘царица’. Правда, в верхах Фаину Георгиевну жаловали больше, чем меня. Даже День кино назначили на 27 августа — это день рождения Раневской. Она со свойственной ей скромностью не раз говорила: ‘Я понимаю, что не заслужила такого персонального праздника. Но раз они там так постановили, не могу же я возражать’. И еще есть одна тайна у Фаины Георгиевны, которую выдаю только тебе, Тонечка. Она не моложе меня на год, а старше, хотя об этом знают немногие. Думаешь, только в ее дате рождения ошиблись? Во всех энциклопедиях сообщается, что я родился 22 марта, а я точно знаю, что это случилось 21-го. Слава богу, что хотя бы год обозначили правильно“».
Я не впервые спросил Антонину Сергеевну, почему обо всем этом она не рассказала в книге «Рядом с Утесовым». «Я уже объясняла вам, Матвей, — ответила она, — что после смерти Леонида Осиповича весь его архив, выполняя его волю, я передала в ЦГАЛИ. Он сам его подготовил. Сдав архив, я, спустя некоторое время, стала записывать все, что помню о Леониде Осиповиче — ведь мы жили „параллельно“ и „пересекаясь“ почти сорок лет. Книгу „Рядом с Утесовым“ я сдала в издательство „Искусство“ еще в 1992 году. Мне достался замечательный редактор Людмила Васильевна Гамазова. Я чуть ли не еженедельно приносила ей дополнение. Однажды она остановила меня, сказав, что так мы книгу никогда не закончим. Воспоминания не покидают меня. Видите, сколько я вам рассказала из того, что не вошло в книгу?
Впрочем, о Фаине Георгиевне что-то в книге есть. В частности, письмо Утесова к ней и ее ответ. Письма эти написаны в разные годы. Я сейчас вспомнила встречу Утесова с Раневской на каком-то юбилейном вечере в „старом“ ЦДРИ. Надо было видеть, как обрадовались они друг другу. Со свойственной ей экзальтированностью она громко произнесла: „Леонид Осипович, вы не всю еще мою биографию знаете, я ведь могла быть вашей коллегой в буквальном смысле. Помните Леонида Давыдовича Лукова, главного нашего кинокомсомольца? Так вот однажды этот мэтр, которого Вера Смирнова без малейшего оттенка юмора называла ‘еврейским Пырьевым’, задолго до войны, предложил мне сняться в его фильме. Мало того, спеть в этом фильме какой-то романс. Представляете, мне петь романс! Я пыталась отказаться, но Леонид Давыдович приревновал меня к Игорю Савченко, напомнив, что он специально для меня роль попа переделал в попадью, только бы я там спела песню, чтобы разбудить зрителей в зале“. Фаина Георгиевна громко расхохоталась. „Знаете, чего я жду сейчас? Приглашения в Большой театр!“».
К счастью, Антонина Сергеевна успела «законспектировать» этот разговор. Я же заметил, что, не поместив его в книгу, она тем самым ее обеднила. На что она ответила: «Зато будет полнее ваш рассказ об Утесове»…
Здесь я дополню мой рассказ об Утесове и Раневской отрывком из статьи Глеба Скороходова «Кто бы знал мое одиночество»: «Сниматься для телевидения она принципиально отказывалась: „У меня его нет“. Хотя иногда приходила смотреть телепередачи к соседке, Лидии Смирновой. Кажется, она единственная в огромном котельническом замке была рада видеть Раневскую. „Мы с ней снимались в михалковском дерьме ‘У них есть Родина’, — рассказывала Фаина Георгиевна. — Как мы там дружно страдали по своим возлюбленным — слезы лились в четыре ручья!.. Когда я говорю о ‘дерьме’, то имею в виду одно: знал ли Сергей Владимирович, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения в Советский Союз, прямым ходом отправляли в лагеря и колонии? Если знал, то неужели тридцать сребреников не жгли руки? Вы знаете, что ему дали Сталинскую премию за ‘Дядю Степу’? Михаил Ильич Ромм после этого сказал, что ему стыдно носить лауреатский значок“».
Какое отношение этот рассказ Скороходова имеет к теме «Раневская — Утесов»? Роман Ширман как-то поведал мне: «Однажды я встретился с Фаиной Георгиевной в Доме актера. Леонид Осипович тогда уже тяжело болел и на людях не появлялся. Фаина Георгиевна поинтересовалась его здоровьем, передала привет и, уже прощаясь со мной, спросила: „Скажите, что заставило Леонида Осиповича петь песни на слова Михалкова? Неужели с репертуаром трудности?“
Не так уж много песен спел Утесов на слова Михалкова, но Раневской это запомнилось.
Леонид Осипович скончался 9 марта 1982 года. Раневская в ту пору хотя и была в Москве, но тяжело болела, и от нее долгое время скрывали его смерть. А когда она узнала (рассказал ей об этом Ростислав Янович Плятт), что Утесова больше нет, у нее вырвалось горькое: „Почему он не взял меня с собой?!“»
Я конечно же был наслышан о дружбе Раневской с легендарным советским художником-карикатуристом Борисом Ефимовым. И, разумеется, при первой возможности расспросил его об этом, а позже прочел его книгу «Десять десятилетий», где он писал: «Я дружил со многими выдающимися женщинами нашей страны и даже среди самых-самых Раневская занимает особое место, я бы сказал особую нишу».
А вот устные воспоминания Ефимова: «Удивительной была ее популярность. Из уст в уста передавались ее забавные словечки, смешные реплики из ролей. Припоминаю, как мы однажды стояли с ней возле дома отдыха „Серебряный Бор“, где одновременно отдыхали. И откуда-то маршировала группа солдат. Проходя мимо нас, они приветственно замахали руками. Я вообразил, не скрою, что это относится ко мне, и собрался порадоваться своей известности. Но тут раздалось дружное: „Муля, не нервируй меня!“ Фаина устало помахала солдатам рукой и сказала мне:
— Боже, как мне надоело это „Муля, не нервируй меня!“.
Эта реплика из фильма „Подкидыш“ стала настолько крылатой, что преследовала Раневскую на каждом шагу. Слышал от нее самой: как-то ее на улице окружила группа ребят с криками: „Муля, не нервируй меня!“ Выйдя из себя, Раневская им скомандовала: „Пионеры! Стройтесь и идите в задницу!“ Любопытно, что сама Раневская считала эту роль из „Подкидыша“ одной из самых незначительных, а после неожиданной популярности буквально ее возненавидела. И можно себе представить ее злость, когда вручая ей орден за творческую деятельность, Брежнев, как она мне рассказывала, произнес осточертевшее ей: „Муля…“ и так далее.
Поразителен сценический диапазон Раневской — от поистине трагических ролей, таких, как в спектаклях „Странная миссис Сэвидж“ или „Дальше — тишина“, трогавших зрителей буквально до слез, до комических образов, таких, как спекулянтка в „Шторме“ или мать невесты в чеховской „Свадьбе“, вызывавшие гомерический хохот. Надо сказать, что Раневской нелегко давались эти сложнейшие психологические перевоплощения. Помню, как-то после спектакля „Дальше — тишина“ мы с женой и внуком Витей зашли за кулисы с цветами для Фаины Георгиевны. Я захватил с собой и незадолго до того вышедшую книгу своих воспоминаний.
— Спасибо вам, Фаиночка, огромное. Вы играли потрясающе.
— А вы думаете, это легко дается? — спросила Раневская и вдруг заплакала. — Ах, как я устала… От всего, от всех и от себя тоже.
Я растерянно смотрел на нее, не зная, что сказать, и решил поменять тему разговора:
— А это, Фаиночка, наш внук, Витя. А есть еще внук поменьше, Андрюша, которого мы называем Поросюкевич.
Фаина Георгиевна улыбнулась сквозь слезы.
— Поросюкевич? Это очаровательно. А почему?
— А он с рождения был толстенький, как поросенок.
С тех пор, где и когда бы мы ни встречались, Раневская неизменно спрашивала:
— А как поживает ваш очаровательный Собакевич?
— Не Собакевич, а Поросюкевич, — обиженно поправлял я.
— Да, да. Простите, дорогой. Конечно Поросюкевич.
Но при следующей встрече все повторялось».
Воспоминания Бориса Ефимова, как всегда, лились рекой, потоком. Он сказал мне, что в отличие от многих «вспоминателей» Раневской всё, что он расскажет сейчас, — его собственные свидетельства. Рассказывал он и о дружбе Раневской с Татьяной Тэсс — эта талантливая писательница сегодня почти забыта. Сохранилось немало писем, адресованных Раневской Тэсс и наоборот. Вот одно из таких писем, написанное Раневской от имени провинциала Кафинькина из поселка Малые Херы:
«Здравствуйте, Татьяна Тэсс!
Увидел я Вашу карточку и невозможно смотреть без волнения, как Вы загадочно улыбаетесь — „Огонек“, № 45, индекс 70 663.
Рассказ при ней написан с большим знанием дела. Хотя я не люблю чтения про буржуазный строй, чуждый советским людям. Из Вашего яркого сочинения видно, что наши люди лучше заграничных, хоть я и пострадал от нашего, советского. Я был об-краден племянником на почве доверия к людям.
Этим летом я решил удалиться на свежий воздух для поправления организма. Как говорится, годы берут свое, а по просьбе вышеизложенного родственника я оставил его в своем домике на предмет стережения имущественного фонда, так как в последнее время в Малых Херах неспокойно от тунеядцев и были случаи нападения с помощью холодного оружия. Это нежелательное явление со стороны молодежного туризма, которые повадились наблюдать достижения предков по линии церквей, а также банных сооружений далекого прошлого.
Возвратился я полный сил, как тут же обнаружил пропажу кальсон (2 пары темно-фиолетовых с начесом), а также пиджака (люстрин) и настольной лампы (импорт). Зная, как перо в Ваших руках хлестко бьет по явлениям и как душевно, горячо Вы переживаете на страницах прессы отрицательные стороны нашей действительности, прошу Вас написать про мой случай, имевший место.
И еще должен сказать, что когда читаю Ваши произведения, сходящие с Вашего пера, всегда переживаю острые переживания. В Вашем пере волнует борьба за хорошее внутри человека. Мои соседи того же мнения, и мы часто обсуждаем совместно Ваши умные сочинения, выхваченные из жизненных процессов людей. Когда получаем газету, перво-наперво ищем Ваше фамилие, и если ее нету, то и не читаем — скука одолевает. Пишите, Татьяна, чаще. Пишите, почему нет снижения цен и других достижений? Почему к нам в Малые Херы не приезжают выдающиеся артисты для обмена культурными ценностями? Многое еще хочется поведать Вам, зная Ваше чуткое отношение к трудящимся. К примеру, выходил я больную курицу (чахотка легких). И что же Вы думаете? На основании найденных у соседей во дворе перьев и пуха, она была похищена в период именин бухгалтера завода „Путь в коммунизм“. Прошу этот случай описать с присущей Вам верой в человека.
Или возьмем такое: у моего кореша случился геморрой, после чего он, недолго думая, скончался, не дождавшись врача. Несмотря на мои позывные, врачиха явилась через отрезок времени. Совместимо ли это с нашей конституцией?
В это, Татьяна, надо вникнуть, чтобы покончить с пережитками нашей счастливой жизни! В наступающем Новом 1967 году желаю Вам острее оттачивать Ваше гневное перо на благо родины. Желаю Вам счастья в личном разрезе.
С глубоким почтением Кафинькин А. И.
Мой адрес: Малые Херы, Бол. Помойная (бывшая Льва Толстого), собственный дом».
И снова из воспоминаний Бориса Ефимова: «Раневская находилась в дружбе с Татьяной Тэсс, хотя трудно себе представить более разные характеры — экспансивная, эмоциональная, не слишком воздержанная на язык Фаина и сугубо практичная, деловитая, скуповатая Татьяна.
Помню, мы с Татьяной Тэсс были на премьере спектакля „Странная миссис Сэвидж“. Как всегда игра Раневской произвела огромное впечатление, и мы на другой день послали ей общую телеграмму, высказывая свое восхищение. Вскоре я получил от Раневской ответную телеграмму с трогательными словами благодарности. Мы жили с Татьяной Тэсс в соседних подъездах и, встретив ее на следующий день во дворе, я спросил:
— Таня, вы получили телеграмму от Раневской?
— Никакой телеграммы я не получала, видимо, начхала она на меня. Наверное, надулась почему-то. За что — не пойму.
Через пару дней мы сидели с Раневской рядом в Доме кино на просмотре итальянского фильма со знаменитой Клаудией Кардинале.
— Фаиночка, — спросил я, — что у вас произошло с Таней Тэсс? Она обижена, что вы ответили только мне на нашу общую телеграмму.
— А пошла она в ж… Посудите сами, Боря. Мне надо было срочно перекрутиться с деньгами. Вы знаете, что Танечка достаточно состоятельная дама. И я спросила ее выручить меня на пару дней. И вы знаете, как элегантно она мне ответила? „Фаиночка — вам будет трудно их вернуть“. Какая изобретательная форма отказа… По-моему, это большое свинство. Да Бог с ней. Скажите лучше, как поживает ваш очаровательный Собакевич?
Когда мы выходили из зала после просмотра картины, сюжетом которой была довольно мутная история о кровосмесительной связи между братом и сестрой, кто-то спросил:
— Какое у вас мнение, Фаина Георгиевна?
На что последовал ответ, целиком в духе Раневской:
— Впечатление, как будто наелась кошачьего дерьма».
В качестве примера анекдотов от Раневской хочу привести рассказ Бориса Ефимова: «Сколько раз у разных людей я читал об особом юморе Фаины Георгиевны, в телефонных разговорах о ее озорстве с собеседниками, о ее отличительном умении остановить собеседника: я был свидетелем, когда к ней домой позвонила одна надоедливая дама, завела с ней длинный, скучный разговор. Раневская некоторое время терпеливо слушала, а потом прервала ее:
— Ой, простите, голубушка. Я разговариваю с вами из автомата, а тут уже большая очередь, стучат мне в дверь.
Она положила трубку и весело рассмеялась».
И еще Борис Ефимович процитировал почти по памяти письмо Раневской, полученное им в день своего восьмидесятилетия:
«Мой дорогой, очень любимый человек, очень любимый художник, мой друг, позвольте Вас так называть. В день Вашего рождения мне так хотелось Вам сказать о моей любви, пожелать Вам только хорошего и много хорошего, но я не знала адреса, а сейчас меня навестила Таня Тэсс и дала мне слово, что мою любовь опустит в Ваш почтовый ящик.
Обнимаю крепко, нежно!!! Ваша Раневская — небезызвестная артистка!»
«Уж коли я напомнил об анекдотах из жизни Раневской, — продолжал Борис Ефимович, — расскажу про еще один, возникший при мне: весной 1970 года группа актеров и писателей собралась на экскурсию в Горки, к Ленину. Собралась, что называется, вся интеллектуальная Москва, и на двух автобусах от Дома литераторов мы отправились в Горки. Настроение было хорошее, даже песенное, но вдруг на середине пути один из автобусов вышел из строя, и все из этого автобуса пересели в исправный. Тут уже людей было более чем достаточно. Я, Раневская и Лепешинская оказались на последнем сиденье, и вдруг мы обратили внимание на Раневскую — она двумя пальцами закрыла нос и, обернувшись ко мне, тихонечко сказала: „Боря, Вам не кажется, что у людей открылось второе дыхание?“ Лепешинская не сдержалась и рассмеялась так громко, что кое-кому это показалось неуважительным в такой поездке».
Главу своей книги, посвященную Раневской, Ефимов заканчивает так: «Фаина Георгиевна Раневская ушла из жизни в 1984 году. Обидно и горько, что эта уникальная актриса была так мало востребована в театре и в кино в достойных ее ролях. В этом непростительно повинны близорукость и недоброжелательство, и не в последнюю очередь, интриганство тех, кто в ту пору делал погоду в искусстве».
Когда я последний раз виделся с Борисом Ефимовым — это было 24 марта 2006 года, — он сказал мне: «Если надумаете когда-то писать о Фаине Георгиевне, я Вам еще много сумею рассказать, ибо я свою книгу уже закончил. Как жаль, что Вы уже не сумеете встретиться с Зиновием Ефимовичем Гердтом! Они с Раневской так любили друг друга. Думаю, что он написал о ней воспоминания, но где они — я не знаю. А свой рассказ о Раневской я хотел бы закончить запомнившимися мне навсегда ее словами: „Я не имею права жаловаться — мне везло на друзей“».
Одна из немногих старинных сказок, которая продолжает жить и сегодня, — это «Золушка, или Хрустальный башмачок» Шарля Перро. Среди множества ее интерпретаций в театре и кино особое место занимает советский фильм с тем же названием. В том, что он появился на свет, немало счастливых случайностей. На самом деле фильм с таким названием с Любовью Орловой в главной роли снимался еще в 1940 году. Режиссер Александров взял сюжет сказки «Золушка» и перенес его в современность. Деревенская девушка Таня Морозова, проделав путь от ткачихи до депутата Верховного Совета СССР, превращается в известную всей стране личность. Да и с «принцем» ей повезло: ее мужем стал инженер Лебедев, которого играл любимый всеми актер Евгений Самойлов. Но в итоге фильм пришел на экран с другим названием, предложенным главным авторитетом в области кино, да и во всех других областях, товарищем Сталиным, — «Светлый путь».
В 1946 году Евгений Львович Шварц написал свою «Золушку», полагая, что она станет сценарием фильма. В первые послевоенные годы призраки пережитых несчастий еще бродили по улицам Ленинграда и не только Ленинграда — не было семьи, которая не испытала бы лишений, не потеряла близких. И все же Евгений Львович решился, отважился написать свою светлую сказку — именно свою, не совсем совпадающую с текстом Шарля Перро. Конечно же он знал замечательный пересказ этой сказки, сделанный Тамарой Габбе. Вот его начало: «Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой никто никогда не видывал. У нее были две дочери очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. У мужа тоже была дочка добрая, приветливая, милая — вся в покойную мать. А мать ее была самая красивая и добрая женщина на свете».
В пересказе Габбе у сказки счастливый конец: «Золушка простила сестер, простила все обиды, которые она претерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца — ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде. А через несколько дней сыграли веселую свадьбу».
Так чем же отличается «Золушка» Евгения Шварца от «Золушки» Шарля Перро? Хотя бы последним монологом короля: «Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым». Для того чтобы сказать вслух такие слова в 1946 году, во времена, когда бдительная цензура могла в любой фразе узреть антисоветский намек, надо было быть отважным и правдолюбивым человеком. К тому же сказочные герои изображены автором с известной долей иронии. Король то и дело из-за каждого пустяка отказывается от престола и тут же снова водворяет корону на свою голову. Лесничий до смерти боится жены. А она комически злодействует, то и дело угрожая всем, включая короля, своими высокими связями. Конечно же именно эту роль Шварц предложил сыграть Раневской.
Договор на сценарий фильма «Золушка» Шварц подписал с киностудией «Ленфильм» в январе 1945 года. Но идея фильма возникла у режиссера Надежды Николаевны Кошеверовой, ученицы Козинцева и Трауберга, еще за год до этого. Вот как вспоминает она об этом: «В сорок четвертом году, возвращаясь из эвакуации, я встретила в Москве Жеймо (Янине Болеславовне Жеймо, сыгравшей Золушку, было в ту пору 36 лет. — М. Г.). Она сидела в уголке — такая маленькая, растерянная… Я взглянула на нее и неожиданно предложила: „Яничка, вы должны сыграть Золушку…“ Она немного повеселела, и мы тут же отправились к Помещикову, который заведовал тогда Сценарным отделом в Комитете кинематографии. Возражений у него не было, он только спросил: „А кто напишет сценарий?“ И я, не задумываясь, выпалила: „Шварц“. Разумеется, никакой предварительной договоренности с Евгением Львовичем у меня не было, но, узнав о замысле, он тоже им загорелся».
Из дневника Евгения Шварца 12 августа 1945 года: «Сценарий „Золушки“ все работается и работается. Рабочий сценарий дописан, перепечатывается, его будут на днях обсуждать на художественном совете, потом повезут в Москву. Много раз собирались мы у Надежды Николаевны Кошеверовой — она будет ставить „Золушку“. Собирались в следующем составе: я, оператор Шапиро и художник Блейк или Блэк — не знаю, как он пишет свою фамилию. Кошеверова — смуглая, живая, очень энергичная, но ничего в ней нет колючего, столь обычного у смуглых, живых и энергичных женщин. И не умничает, как все они. Шапиро — полуеврей, полугрузин. Приятный, веселый, беспечный, сильный человек. Странно видеть, как дрожит у него одна рука иногда и как он вдруг начинает заикаться. Это вследствие сильной контузии. В начале войны он был в ополчении. Блэк — длинный, черный, в профиль чем-то похож на Андерсена. В этом — иногда — вдруг ощущается нечто женственное и капризное. Он — самый активный из всех обсуждающих рабочий сценарий. Но предложения его меня часто приводили в отчаяние. То ему хочется, чтобы король любил птиц, то — чтобы часы на башне били раньше, чем они бьют в литературном сценарии. Все это, может быть, и ничего, но, увы, совершенно ни к чему. Я возражал — и часто яростно, но старался не обижать Блэка, ибо он человек, очевидно, нежный и, боюсь, вследствие этого недобрый. А согласие в группе — первое дело. После обсуждений мы ужинали. Кошеверова пленительно гостеприимна, что тоже редкий талант. Вообще встречи эти — целый период. Приятный».
Уже 15 мая 1946 года Кошеверова получила первый вариант «Золушки». Вторым режиссером был назначен Михаил Григорьевич Шапиро, до этого не имевший самостоятельного опыта кинорежиссерской работы. Композитором фильма пригласили Антонио Спадавеккиа, итальянца, родившегося в Одессе и приехавшего получать музыкальное образование в Москве у самого Сергея Прокофьева. Несмотря на множество сочиненных им произведений, по прошествии лет выяснилось, что главной его работой оказалась музыка, написанная к фильму «Золушка». Вот как пишет об этом сам композитор: «Я приходил на съемочную площадку, и мне начинало казаться, будто я сам нахожусь в некоей волшебной стране с ожившими сказочными героями…»
К участию в фильме были привлечены известные, даже знаменитые актеры. Янину Жеймо утвердили на роль Золушки, Эраста Гарина — на роль Короля, Фаину Раневскую — на роль Мачехи, Василия Меркурьева — на роль Лесничего, отца Золушки. Елена Юнгер играла одну из злых сестер, благодаря чему художником фильма согласился стать ее муж Николай Акимов, замечательный мастер театра и кино. Кстати, его предыдущей женой была Надежда Кошеверова, с которой он после развода умудрился сохранить добрые отношения. В свою очередь, ее новым мужем стал Андрей Москвин, ставший оператором фильма. О каждом из участников съемочной команды «Золушки» можно рассказать немало интересного. Как здесь не вспомнить слова Раневской: «Для меня всегда было загадкой — как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком?» Компания актеров, приглашенных на фильм, могла «заражать» друг друга и оптимизмом, и юмором, и талантом.
Еще до войны Янина Жеймо была популярной артисткой цирка и кино. Как заметил Евгений Шварц, все ее существо — туго натянутая струнка, и всегда верно настроенная. Когда Шварц уже написал сценарий «Золушки», сомнений по поводу приглашения на главную роль Янины Жеймо у него не было. Он откровенно обожал эту актрису, такую трогательную, беззащитную, несчастную в личной жизни. Вот его рассказ о встрече с ней на Невском, вскоре после войны: «Янечка, маленькая, в большой соломенной шляпе, просвечивающей на солнце, в белом платье с кружевцами. Посреди разговора начинает она оглядываться растерянно. И я замечаю в священном ужасе, что окружила нас толпа. И какая — тихая, добрая. Даже благоговейная. Существо из иного, праздничного мира вдруг оказалось тут, на улице».
Сохранился рассказ Янины Болеславовны о том, как снимался один из последних эпизодов фильма. «В сценарии Евгения Шварца „Золушка“ героиня просто надевала туфельку по приказанию мачехи. Моя Золушка, как я ее представляла, не могла просто из чувства страха или покорности мачехе исполнить приказание. Я долго просила Шварца дописать фразу, объясняющую согласие Золушки надеть туфельку. Но он считал, что для Золушки, которую любят дети всего мира, ничего не нужно объяснять. Этот поступок ничуть ее не унизит. Вслед за драматургом и режиссеры считали, что нечего заниматься отсебятиной. И тогда я пошла на хитрость. На съемке эпизода с туфелькой Раневская-мачеха начинает льстиво уговаривать Золушку надеть туфельку. Я, Золушка, молчу. Раневская опять обращается ко мне. Я опять молчу. Фаина Георгиевна теряется от моего молчания и неожиданно для всех — и для самой себя тоже — заканчивает фразу: „А то я выброшу твоего отца из дома“. То есть говорит то, что мне и нужно было. Моя Золушка соглашается, боясь за отца. Присутствующий в павильоне Шварц принял бессознательную „подсказку“ Раневской: „Только вы забыли, Фаина Георгиевна, конец фразы: ‘…и сгною его под забором’“. Так родилась в фильме реплика Раневской, отсутствовавшая в первоначальном сценарии…»
В течение многих лет, когда Фаину Георгиевну хвалили за женскую роль в фильме «Золушка», она с несвойственным ей смущением говорила: «Лучше меня в этом фильме сыграла Янина Жеймо». А Шварц, вспоминая празднование юбилея Жеймо в Доме кино, пишет: «Весь юбилей проводился бережно, и ласково, и весело. Мы с Олейниковым (речь, видимо, идет о тридцатилетием юбилее Жеймо в 1939 году, поскольку на последующих юбилеях поэта-обэриута Николая Олейникова уже, увы, не было в живых. — М. Г.) сочинили кантату, которая начиналась так»:
От Нью-Йорка и до Клина
На сердцах у всех клеймо
Под названием Янина
Болеславовна Жеймо.
Янина Жеймо осталась в памяти зрителей по немногим фильмам. Но роль Золушки запомнилась, пожалуй, больше других. К тому же она оказалась последней в кинобиографии Жеймо — вскоре она вышла замуж за своего земляка, польского режиссера Леонида Жанно, и уехала с ним в Польшу, где и прожила до самой смерти в 1987 году.
Василия Меркурьева на роль Лесничего рекомендовал сам Евгений Львович. На это пытался возразить кто-то из участников киногруппы: «Как же может сыграть Лесничего актер, недавно снимавшийся в фильме „Член правительства“, а до этого в картине „Возвращение Максима“?» Имелось в виду, что красавец и здоровяк Меркурьев, «отметившийся» в ролях положительных советских героев, не годится на роль подкаблучника, панически боящегося своей жены. Но на Меркурьеве настояла Фаина Георгиевна, высоко ценившая талант этого актера. Говорили, что в период съемок фильма «Золушка» Раневская влюбилась в Меркурьева, да так, что не могла этого скрыть. Такое с Раневской случалось не однажды. Роман этот если и имел место, то был весьма непродолжительным, но уважение к Василию Васильевичу и дружбу с ним она сохранила до конца его дней.
Из воспоминаний Фаины Георгиевны: «Известие о кончине Василия Васильевича Меркурьева (в 1978 году. — М. Г.) было для меня тяжелым горем. Встретились мы с ним в работе только один раз в фильме „Золушка“, где он играл моего кроткого, доброго мужа. Общение с ним как партнером было огромной радостью. Такую же радость я испытала, узнав его как человека. Было в нем все то, что мне дорого в людях, — доброта, скромность, деликатность. Полюбила его сразу крепко и нежно. Огорчилась тем, что не приходилось с ним снова вместе работать. Испытываю глубокую душевную боль от того, что из жизни ушел на редкость хороший большой актер».
Кандидатура Фаины Георгиевны не вызвала сомнений — к тому времени она сыграла немало ролей в фильмах для детей. На читке киносценария Евгений Львович Шварц воскликнул: «Да кто же, кроме Раневской, может сыграть Мачеху?!» Кто-то из присутствующих, шутя, заметил:
— А если Фаина Георгиевна будет «дописывать» текст за вас?
— Ей я, пожалуй, разрешу. А если она сделает такие дополнения, как в пьесе Билль-Белоцерковского «Шторм», то даже поделюсь с ней гонораром.
Разумеется, Фаина Георгиевна дополнила текст сценария Евгения Шварца. Эти дополнения вошли в фильм, но, правда, в своих переизданиях «Золушки» Евгений Львович их не учел (наверное, не захотел делиться гонораром). Впрочем, фильм живет своей жизнью с дополнениями Раневской. Здесь же отметим: Фаина Георгиевна не просто любила Шварца — обожала. И это было взаимно, как свидетельствует Глеб Скороходов.
Об игре Раневской в фильме «Золушка» лучше всех, пожалуй, написала Елена Юнгер: «С Раневской мне выпало счастье сниматься в картине „Золушка“. Ее требовательность к себе не имела границ — съежившись где-нибудь в углу, прячась от посторонних глаз, она часто сердито бормотала: „Не получается… Нет, не получается! Не могу схватить, не знаю за что ухватиться“… Во время съемок Фаина Георгиевна очень похудела и, гримируясь, безжалостно обращалась со своим лицом. Подтягивала нос при помощи кусочков газа и лака, запихивала за щеки комочек ваты. Все это было неудобно, мешало… „Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли“, — говорила она».
Играя Мачеху, Раневская в съемочном коллективе «Золушки», как, впрочем, всегда и везде, стала душой компании. Из рассказа Леонида Ривмана, работника киностудии «Ленфильм»: «Фаина Георгиевна была на самом деле не мачехой, а всеобщей мамой. Всех подкармливала, таскала какие-то бутербродики, конфетки. Раневская подбадривала всех участников съемок „Золушки“ не только пищей физической, но и духовной. Сколько замечательных шуток при этом исходило от нее!»
По своей привычке, она активно вмешивалась в процесс съемок, изобретая фразы, жесты, аксессуары, способные, по ее мнению, лучше показать ее героиню, усилить ее восприятие зрителями. В своем дневнике она писала: «В сцене, где готовилась к балу, примеряла разные перья — это я сама придумала: мне показалось очень характерным для Мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть в зеркало, прикладывая к голове различные перья, и любоваться собой».
Эраст Гарин в 1944 году играл жениха в фильме «Свадьба», где играла и Фаина Раневская. В «Золушке» им опять довелось сниматься вместе. На роль Короля пробовались и другие известные актеры (Ю. Толубеев, К. Адашевский), но режиссер и Шварц предпочли Гарина — он лучше смотрелся в этом комическом и в то же время трогательном образе. Многим зрителям запомнились его слова: «Ухожу! Ухожу в монастырь!» И через пару минут: «Ну, так и быть. Остаюсь на троне… Подайте мне корону!» Рассказывают, что Шварц, увидев эту игру Гарина, воскликнул: «Уверен, другого короля нам не найти!»
Елизавета Моисеевна Метельская поведала мне о том, что Осип Абдулов сожалел, что не может принять предложение Евгения Львовича и Фаины Георгиевны сняться в роли Короля — он тогда был очень занят в своем театре. Раневская говорила: «Хорошо, что ему пришло в голову пригласить вместо себя для участия в этом фильме Эраста Гарина». «Поверьте, он сыграет не хуже меня», — сказал Осип Наумович. Здесь уместно вспомнить строки Евгения Яковлевича Весника, написанные о Гарине: «Одним из самых талантливых чудаков был незаметный в жизни и быту, но только не на экране и сцене, производящий впечатление какого-то недотепы, умнейший Эраст Павлович Гарин. Трогательный, беззащитный фанатик театра и кино, загадочный для одних и очень понятный для других. Человек, по свидетельству хорошо знавших его, не произносивший лишних слов, напрочь лишенный риторичности. Все им произнесенное было всегда связано с конкретными проблемами, всегда относилось к сути режиссерской или актерской работы. Он не говорил лишнего и никогда не врал, следуя словам Монтеня: „Как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде“.
Он был великим профессионалом и не мог себе позволить отвлекаться на треп, лень. Эраст Павлович был человеком размышляющим, и это качество во многом объясняло его замкнутость и малословие. Невозможно представить Гарина, произносящего с трибуны пламенную речь по поводу работы и судьбы каких-нибудь партий. Это было бы гомерически смешно или… трагично!
Еще: он почти никогда не пользовался иностранными словами. Прекрасно обходился родным языком».
Во время съемок «Золушки» — первого советского фильма-сказки — укрепилась дружба Раневской с Гариным, продлившаяся долгие годы. Фаина Георгиевна дружила не только с ним, но и с его женой Хесей Локшиной, которую ласково называла «Хесо» или «Эрасточкой». Гарины были в числе тех немногих людей, к которым Раневская позволяла себе обращаться в трудные житейские часы, минуты. Хочется привести отрывки из писем разных лет Раневской к Локшиной:
«Дорогая Эрасточка!
Очень была рада увидеть Ваши иероглифы, дорогая Хесо. Очень была рада тому, что Вам там хорошо. Вообще, я вижу, что мне осталось в этой жизни радоваться удаче друзей. Других радостей у меня больше нет. И не может быть… В театре я не бываю, — это даже лучше, потому что очень меня мутит от суматохи, сплетен, шипения, страдания неедущих, ликования едущих…
Ваша любящая подруга Фаина.
…А ведь судьба мне — мачеха!»
«Хесо, дорогая, как огорчило меня письмо Ваше, как душа болит, когда думаю о переезде Вашем, хлопотах, с этим связанных, но я не решаюсь Вам посоветовать отделаться от всего юмором. Не лучше ли глазу? По поводу переезда знаю, что в этих случаях надо утешаться тем, что пожар, землетрясение, чума и т. д. еще менее соблазнительны. Так я всегда говорила моему семейству на Хорошевке.
…Обнимаю крепко. Привет Эрасту.
Ваша Фаина».
«На днях явилась ко мне некто Сытина — сценаристка, если бы с ней не было администратора, я бы подумала, что эта женщина убежала от Кащенки, но администратор, ее сопровождавший, производил впечатление вполне нормального сумасшедшего, работающего в кино. Сценаристка объявила, что они с администратором приехали за мной на съемку, которая состоится завтра (?)…
…Я сказала, что не знаю сценария, не знаю роли и не представляю себе, как при этом можно сниматься. Сценаристка пообещала в дороге рассказать мне содержание сценария и роли (!).
На мой решительный отказ пуститься в такую авантюру Сытина стала осыпать меня упреками, сердилась, бранилась, обвинила меня в отсутствии этики по отношению к студии, съемочной группе, режиссуре и пр. А после упреков она снова стала умолять спасти положение и ехать во что бы то ни стало. Вся эта сцена происходила в вестибюле д/л (Дома отдыха Комарово), и многие кинематографисты из „Ленфильма“ стали невольными свидетелями. Я просто вся тряслась от такой неожиданности, от ее напора, от того, что не знала, как избавиться от этой женщины. Знаете ли Вы такого человека — Бориса Михайловича Марголина? Этот добрый человек взял меня за руку, увел в мою комнату, уложил в кровать и укрыл одеялом, потому что меня трясло, а день был жаркий.
Больше всего меня оскорбили упреки в отсутствии этики, меня оскорбило то, что со старой, заслуженной артисткой можно обращаться как с девкой…
…Хесо, если будет у Вас секунда, когда будете в силах, — напишите 2 слова о себе и Эрасте. Я даже Вам открытку с адресом суну, чтоб Вам не затрудняться на адрес.
Очень крепко Вас обоих обнимаю. Здесь было жарко, а теперь холодный ветер. Бегаю по лесу королем Лиром! Ах, до чего одиноко человеку.
Ваша Фаина.
…После визита Сытиной я закурила. Жаль!»
Рассказывают о «скандале», возникшем между Раневской и Гариным во время съемок «Золушки». Однажды Эраст Гарин появился в гримерке Раневской в одних кальсонах — то ли по рассеянности, то ли от усталости. Фаина Георгиевна, узрев его, воскликнула: «Хераст, ты — хам!» — и влепила пощечину. Гарин так обиделся, что сбежал со съемочной площадки, но не забыв при этом накинуть королевскую мантию. «Наш король не гол, он в кальсонах», — шептались по этому поводу в съемочной группе. Вскоре беглого короля нашли в находящейся неподалеку пивной в компании с Меркурьевым.
Они были пьяны и окружены завсегдатаями пивной, громко с ними общавшимися — разумеется, обращаясь к ним на «ты». Кто-то из завсегдатаев кричал: «Как смеете вы с Королем быть на „ты“? Вам дай волю — и вы с вождями будете на одной ноге!» Меркурьев приложил палец к губам и шепотом, но внятно произнес: «Этого не будет никогда». Об этом кто-то рассказал Евгению Львовичу, на что он сердито ответил: «В моем сценарии этого нет».
Фильм «Золушка» снимался в быстром темпе, но вместе с тем очень сосредоточенно, продуманно и доброжелательно по отношению к зрителям. Может быть, потому, что большинство его участников были ленинградцы, еще совсем недавно, в течение всех дней блокады, смотревшие смерти в лицо. До сих пор остается непонятным, как сняли этот фильм с пышным реквизитом и костюмами в послевоенном Ленинграде, где почти не осталось мебели и других «излишеств», сожженных в печках… Хрустальные башмачки и платье Золушки, по свидетельствам очевидцев, ткались буквально из воздуха. Однако находились «искусствоведы», говорившие: «Можно ли после таких ужасов снимать, а тем более показывать зрителям фильмы, преисполненные иронии и веселья? Да еще по сценарию Евгения Шварца!» Но, наверное, создатели фильма рассуждали по-иному, по-бабелевски: «У всякого глупца хватает причин для уныния, и только мудрец разрывает смехом завесу бытия». И, уж наверное, они помнили слова Генриха Гейне: «Серьезность величественнее, если путь к ней прокладывает смех». Без сомнения, авторы «Золушки» понимали, что, созидая такой фильм, они несут истинное чудо тем, кому уже не хватало сил и веры в трудные послевоенные годы.
Фильм был уже снят, а приключения продолжались…
Из дневника Евгения Шварца за 27–28 апреля 1947 года: «Чудеса с „Золушкой“ продолжаются. Неожиданно в воскресенье приехали из Москвы оператор Шапиро и директор. Приехали с приказанием — в самом срочном порядке приготовить экземпляр фильма для печати, исправив дефектные куски негатива. Приказано выпустить картину на экран ко Дню Победы. Шапиро рассказывает, что министр смотрел картину в среду. Когда зажегся свет, он сказал: „Ну что ж, товарищи: скучновато и космополитично“. Наши, естественно, упали духом. В четверг смотрел „Золушку“ худсовет министерства. Первым на обсуждении взял слово Дикий. Наши замерли от ужаса. Дикий имеет репутацию судьи свирепого и неукротимого ругателя. К их великому удивлению, он стал хвалить. Да еще как! За ним слово взял Берсенев. Потом Чирков. Похвалы продолжались. Чирков сказал мне: „Мы не умеем хвалить длинно. Мы умеем ругать длинно. Поэтому я буду краток…“ Выступавший после него Пудовкин сказал: „А я, не в пример Чиркову, буду говорить длинно“. Наши опять было задрожали. Но Пудовкин объяснил, что он попытается длинно хвалить. Потом хвалил Соболев. Словом, короче говоря, все члены совета хвалили картину так, что министр в заключительном слове отметил, что это первое в истории заседание худсовета без единого отрицательного отзыва. В пятницу в главке по поручению министра режиссерам предложили тем не менее внести в картину кое-какие поправки, а в субботу утром вдруг дано было вышезаписанное распоряжение: немедленно, срочно, без всяких поправок (кроме технических) готовить экземпляр к печати. В понедельник зашел Юра Герман. К этому времени на фабрике уже ходили слухи, что „Золушку“ смотрел кто-то из Политбюро. Юра был в возбужденном состоянии по этому поводу… Он остался у нас обедать… Я доволен успехом „Золушки“ — но как бы теоретически. Как-то не верю…»
Интуиция не подвела драматурга. Вряд ли стоит напоминать, что «Золушка» снималась под «аккомпанемент» недавно принятого Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», вдохновлявшего бюрократов всех уровней на поиски «космополитов». Уже через месяц после принятия решения о съемках фильма на обсуждении в худсовете «Ленфильма» сценария «Золушки» возник вопрос о «неуважении» Шварца к классической сказке. Вскоре Евгений Львович получил от дирекции «Союздетфильма» два больших письма с массой претензий — в них, в частности, говорилось о недопустимости такой интерпретации сказки Перро. Однако за сценарий Шварца вступились многие видные актеры и литераторы, в том числе Фаина Раневская, Анна Ахматова, Александра Бруштейн. Шварц конечно же знал об этом и был очень рад.
И вот чудо свершилось: фильм-сказка «Золушка» по сценарию Евгения Шварца вышел на большой экран в 1947 году. Раневская, сыгравшая до этого больше двадцати ролей в кино, считала свое участие в «Золушке» одной из немногих удач. Как-то она призналась Елизавете Метельской: «Какое счастье, что я поддалась соблазну и уступила предложению Шварца и Кошеверовой сняться в этом фильме. Кроме всех прелестей участия в нем, я в течение многих месяцев почти ежедневно встречалась с Анной Андреевной Ахматовой. Да и сам Шварц такая прелесть. До этого я знала его очень мало, а сейчас не представляю, что мы когда-то были незнакомы. „Подарки судьбы“, — как любила повторять Анна Андреевна».
В своей книге «Разговоры с Раневской» Глеб Скороходов пишет: «Мачеха — одна из лучших комедийных ролей Раневской. Но вот загадочная метаморфоза: злая Мачеха — объект ненависти читателей „Золушки“ — в фильме вызывает восхищение и восторг. Даже юные зрители, которые часто острее взрослых воспринимают зло, встречают появление Мачехи на экране с радостным оживлением. И по окончании фильма говорят о ней не с возмущением, а с любовью…»
То, что фильм до сих пор с удовольствием смотрят дети и взрослые во всем мире, — высшая награда его создателям.
К сожалению, я не был знаком с Осипом Абдуловым, но часто бывал в его удивительном доме, общался с его вдовой и сыном Всеволодом. Всегда было ощущение, что он по-прежнему присутствует дома, и не только потому, что на стенах висело множество фотографий: Абдулов в разных ролях, Абдулов с друзьями… Какое-то мистическое явление — мне казалось, что он слушает мои беседы о нем с Елизаветой Моисеевной: «Если б вы знали, сколько выпало нам с Осипом Наумовичем горя: мы потеряли двоих сыновей. Один умер в Ташкенте, второй в этой квартире (я случайно узнал от Сергея Владимировича Образцова, что один из сыновей Абдуловых покончил самоубийством). Осип Наумович помогает мне не просто выжить, но жить. Как жаль, что вам не довелось познакомиться с ним!»
Раневская не раз говорила, что, кроме Павлы Леонтьевны, у нее друзей не было, но в то же время говорила о своей любви к Михоэлсу и конечно же к Абдулову: «Я его нежно любила, тоскую и скучаю по нему и по сей день. За многие годы жизни в театре ни к кому из актеров не была так привязана». Они встретились и подружились, работая вместе в Театре имени Моссовета. Кажется, в спектаклях вместе не играли, а если и играли (как в «Шторме» Билль-Белоцерковского), то в разных сценах. Однажды Осип Наумович обратился к Фаине Георгиевне с предложением сыграть вместе что-нибудь из Чехова. Почему выбрали «Драму», сегодня сказать трудно, но писать текст решили вместе под редакцией Елизаветы Моисеевны. Решили подготовить выступление как эстрадный номер. С этого началась их дружба, длившаяся до последнего дня жизни Осипа Наумовича — Фаина Георгиевна навестила больного Абдулова за несколько дней до его смерти.
Как уже говорилось, мне единственный раз довелось видеть Раневскую в квартире Осипа Абдулова на дне его памяти, отмечавшемся 14 июня 1978 года. Там Елизавета Моисеевна вспомнила историю, которую любила повторять Фаина Георгиевна. И хотя история эта скорее трагическая, но очень давняя, и спустя годы вызывает улыбку. Случилось это летом 1940 года. Тогда Осип Наумович впервые почувствовал приступ стенокардии, как тогда говорили — грудной жабы. Он был один в доме и в испуге очень скоро нашел в записной книжке телефон врача. На той стороне провода послышался слабый голос — абонент взмолился: «Я сам болен и скоро умру». Но Осип Наумович подумал, что это отговорки, и настоял на приходе врача. Через несколько минут в коридоре большой коммунальной квартиры в Улановском переулке появился маленького роста старичок. Он чуть было не упал — его удержал Осип Наумович. Врач сказал: «Теперь вы видите, кто из нас скорее умрет?» И тут уже роль врача исполнял Осип Наумович — приступ грудной жабы прошел. Вот то, что медленно, спокойно рассказала Елизавета Моисеевна. Но все сидевшие за столом покатывались со смеху, а Фаина Георгиевна буквально задыхалась: «Лизочка, прекрати, я умру в твоем доме!» Немногим позже, когда мы вышли в коридор покурить, Ростислав Янович рассказал мне, что у этой истории весьма печальный конец — старый врач умер на следующий день после визита к Осипу Наумовичу, оказавшемуся его последним пациентом.
И снова из воспоминаний Раневской: «Мне посчастливилось видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покоряло. Он любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить. Я не знаю никого, кто мог бы так, без малейшего усилия, шуткой привести в хорошее настроение опечаленного товарища». Здесь мне вспоминается разговор с Ростиславом Яновичем Пляттом на одном из дней памяти Осипа Наумовича. Он рассказывал мне о работе в «абдуловском» радиотеатре (именно так называл Плятт театр, созданный Абдуловым на радио). Осип Наумович создал коллектив, с которым выпустил немало спектаклей, — помимо актеров в группе были инсценировщики, композиторы и даже оркестр с дирижером. Помню слова Плятта: «Созданный Абдуловым творческий коллектив был сплоченным, послушным, это был, быть может, лучший в моей жизни коллектив. Хотя работа моя на радио у Осипа Наумовича была дополнительной, я не помню случая, чтобы я да и другие когда-нибудь нарушали дисциплину. Ему удалось перенести драматический театр к микрофону. Когда я сейчас слушаю записи этих спектаклей, то думаю, что это было истинное чудо искусства. Уж если Фаина Георгиевна так ценит его работу даже сегодня, то представьте себе, какими были его постановки». Много интересного рассказал в тот день об Абдулове Плятт и за общим столом, и во время нашей беседы. А уже через какое-то время, когда мы случайно встретились с Ростиславом Яновичем, он вдруг сказал:
— А знаете, Ося ведь не имел никакого музыкального образования, он был «слухач», а впечатление было, что он владел всеми инструментами и даже дирижерским пультом.
Раневская вспоминала об Абдулове: «Он очень любил Р. Я. Плятта, восхищался его одаренностью. Я вообще заметила, что талант тянется к таланту, и только посредственность бывает равнодушна и даже враждебна к таланту». Она не соглашалась с теми, кто считал Абдулова весельчаком и балагуром: «Он был грустный, у него были печальные глаза».
С Фаиной Георгиевной Абдулова объединяла еще и потеря родительского дома: родившись в 1900 году в польском городе Лодзь, он юношей уехал в послереволюционную Москву в надежде попасть в русский театр, и примерно в то же время семья Раневской покинула Россию, оставив ее одну. На одном из вечеров памяти Осипа Наумовича Елизавета Моисеевна вспомнила курьезный случай, рассказанный кем-то из приятелей Абдулова:
«Он смотрел спектакль „Павел Греков“ на периферии. Главного героя играл хороший актер, но он хромал. Мой приятель спросил его:
— Почему вы хромаете в этой роли?
— То есть как — почему? Я видел спектакль в Театре революции, Абдулов там тоже хромает».
Услышав этот рассказ, я сразу вспомнил стихи поэта Арго, в юности дружившего с Абдуловым. Привожу их по памяти:
Король, какой, не все равно ли,
Был и разумен, и удал.
Но на ногах имел мозоли
И потому слегка хромал.
А царедворцы, род лукавый,
Такой обычай завели:
Кто левою ногой, кто правой
Хромали дружно, как могли.
Однажды царедворцы заметили при дворе стройного человека, не хромающего. Велико было их удивление, но человек этот на их вопрос, как смеет он не хромать, ответил: «А вы присмотритесь — я хромаю сразу на обе ноги». Рассказ Елизаветы Моисеевны о спектакле «Павел Греков» впечатлил Фаину Георгиевну, и она сказала: «Теперь я понимаю, почему Осип Наумович так часто играл королей. Он был самым демократичным королем; человека более доброжелательного, чем он, я не встречала. Он так спешил делать добро, что умер совсем молодым. Я ругала его, пыталась урезонить, а он отвечал: „Неужели и вы, Фаина, не понимаете, что в этом весь смысл моей жизни?“».
Всеволод Абдулов рассказывал мне: «Я навсегда запомнил день 31 мая 1953 года. Мы с мамой были на спектакле, так как знали, что в то утро у отца был острый сердечный приступ. И все же отец доиграл спектакль до конца. В этом был весь Осип Наумович». Две недели спустя, 14 июня, Абдулова не стало…
Напомним, что Раневская не любила писать воспоминаний и, скорее, относилась к ним отрицательно. Один из немногих сборников воспоминаний, в которых она участвовала, — это книга «Осип Наумович Абдулов. Статьи. Воспоминания». Хочу привести здесь отрывок из этой книги: «Помнится, как в день спектакля режиссер попросил его (Абдулова. — М. Г.) заменить внезапно заболевшего актера. Было это на гастролях во Львове, стояла нестерпимая жара, мы поехали в парк; там, укрывшись в тени, он читал роль, боясь, что не успеет ее выучить к вечеру… Волнуясь, как школьник перед экзаменом, он говорил текст роли, стараясь его запомнить. Глаза у него были детскими, испуганными, а ведь он был прославленным актером! Сыграл он экспромтом. Превосходно, только утром жаловался на сердце, которое всю ночь болело. И сколько подобного было в его жизни! Он жил в искусстве, не щадя себя, подвижнически, и умер молодым».
Многие, вспоминавшие об Абдулове, отмечали, что Фаина Георгиевна не только не забывала его, но часто, вспоминая, не могла сдержать слез даже при людях. Как-то она рассказала Катаняну, что обратилась к Константину Треневу, с которым была дружна, с просьбой написать для нее и Абдулова скетч:
— Понимаешь, Костя, нам нужно, чтобы мы могли приехать в любой клуб, я со своим чемоданчиком, где концертное платье, и сыграть скетч в сборном концерте. Как мы играем Чехова — стол, два стула, мы с Осипом. Но мне хочется что-то современное, грустное или смешное — это уже как ты решишь. Потом переоделись — бегом на другой концерт.
— Понятно, — сказал Тренев. — У меня даже есть идея.
Вскоре раздался его звонок:
— Приходи.
Дальше расскажем словами самой Фаины Георгиевны: «Купила торт, „прибоярилась“ (одно из ее любимых выражений — уж не от несыгранной ли роли боярыни Ефросиньи?) и поехала слушать скетч. Волнуюсь. После чая Костя раскрыл рукопись, откашлялся и начал:
— Открывается занавес. На сцене — спальня в стиле Людовика XIV, служанка зажигает свечи. Перед трюмо сидит Генриетта. Это ты.
— Подожди, подожди! Где мы возьмем спальню в концерте? И откуда служанка, когда мы с Осипом вдвоем? С чемоданчиком из клуба в клуб…
— A-а, понятно. Это другое дело. В следующий раз получишь то, что нужно!»
Надо ли рассказывать, что сценарий Тренев так и не написал? В итоге Раневская и Абдулов сочинили его сами, при деятельном участии Елизаветы Моисеевны.
В воспоминаниях Раневской об Абдулове есть такие слова: «За долгие годы моей жизни в театре ни к кому из товарищей я не была так привязана. Актер он был редкого дарования и необыкновенной заразительности. Играть с ним было для меня наслаждение».
Осип Абдулов, Фаина Раневская и Соломон Михоэлс при всей занятости часто бывали на спектаклях друг у друга, ходили в гости. Почти всегда при любом застолье Соломон Михайлович вспоминал случай из ташкентской жизни: «Еду я на своем фаэтоне, вдруг извозчик говорит: „Соломон Михайлович, вон впереди идет ваш хромоногий друг“. Я обрадовался (это был Осип Наумович). Когда мы поравнялись с ним, я пригласил его в наш экипаж, на что Осип Наумович сказал: „Спасибо, я быстрее дойду сам“. И я, услышав эти слова, напел: „Только грянет над Ташкентом утро вешнее…“ Услышав это, Абдулов стал пританцовывать».
Ташкент еще больше сдружил Раневскую и Михоэлса, тем более что до этого они встречались в течение многих лет. «Когда не стало Осипа Наумовича, — вспоминала она, — я через некоторое время начала играть с другими партнерами, но вскоре прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было. И все роли, в которых прежде играл Осип Наумович, в исполнении других актеров проходили незамеченными. Зрители знали и любили Осипа Наумовича по театру, кино, эстраде. Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покорило меня. Он любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить. За долгую мою жизнь я не помню никого, кто так мог без малейшего усилия шуткой привести в радостное хорошее настроение опечаленного друга.
Как актер, он обладал громадным чувством национального характера. Когда он играл серба — был подлинным сербом („Министерша“), подлинный англичанин — „Ученик дьявола“, подлинный француз — „Школа неплательщиков“, подлинный грек — „Свадьба“ Чехова.
Вспоминаю его великолепное исполнение роли Лыняева в спектакле „Волки и овцы“, Сорина в чеховской „Чайке“. Эта работа особенно взволновала меня. Какая глубокая печаль уходящего, никому не нужного старика была показана им в этой роли! С какой мягкостью и вдохновением он ее играл!»
И снова нарушу хронологию. Что поделаешь — жизнь людей, да еще таких выдающихся, как Раневская и Михоэлс, не всегда вмещается в хронологические рамки.
О великих актерах Соломоне Михоэлсе и Фаине Раневской написано немало статей и книг. И все же есть малоизвестная общая страница их биографий, оставшаяся за пределами исследований и публикаций — дружба этих двух замечательных людей. Дружба не в том общепринятом понятии, которое сводится к частым встречам, постоянному общению, беседам… Скорее, это была та редкая истинная дружба, которая возникает между людьми, на первый взгляд далекими друг от друга и по образу жизни, и по ее восприятию, но в основе которой таится что-то непостижимое, позволяющее скрашивать горести и умножать радости.
Вспоминая ужин в гостинице в Киеве, Фаина Георгиевна написала: «В „Континентале“ Соломон Михайлович, Корнейчук и я. Ужин затянулся до рассвета. Я любуюсь Михоэлсом, он шутит, смешит, но вдруг делается печальным. Я испытываю чувство влюбленности, я не отрываю глаз от его чудесного лица».
Здесь позволю себе отступление, скорее подтверждающее эти слова Фаины Георгиевны, чем противоречащее им. Вот рассказ Анастасии Павловны Потоцкой, записанный мной еще в 1970-е годы: «Прошло столько лет с тех пор, как не стало Соломона Михайловича, а мне и сейчас трудно коснуться той темы, о которой сам Михоэлс вслух ни при ком не говорил… Не знаю, вправе ли я приподнять эту завесу… Ведь он сам так хотел забыть эту тему и оставить ее забытой для всех, кто не думал, да и не думает до сих пор, что Михоэлс нес только в самом себе, преодолевая, как огромную беду, свою внешность. Люди, безгранично верившие в него, любившие Михоэлса в жизни, на сцене, на трибуне, — обернутся с искренним недоумением, если при них кто-нибудь скажет, что Михоэлс был уродлив. Люди, писавшие и не писавшие о нем, вспоминают его внешность, как необыкновенную, неповторимую…»
В середине 1930-х годов Раневская, Михоэлс и Вениамин Зускин оказались в Киеве. Там снимался фильм «Последний извозчик». Консультировал его Григорий Львович Рошаль, режиссером был Хонэ Шмаин. В главных ролях снимались Зускин и Фаина Раневская. Из слов дочери актера Аллы Зускиной я узнал кое-что об этом несостоявшемся фильме: «Я, разумеется, не видела даже фрагменты фильма, но знаю и помню, что Фаина Георгиевна бывала у нас в доме и до войны и после. А уж почему закрыли этот фильм — не знаю. Незабываема для меня теплота отношений Раневской и Зускина, но это я уже могла наблюдать в послевоенные годы».
В фильме «Последний извозчик» снимался Марк Бернес, игравший «мужа дочери» Зускина. Жену его сыграла Ксения Тарасова, замечательная, но сегодня забытая актриса. По неведомым причинам фильм этот так и не появился на экранах. В книге Глеба Скороходова можно прочесть воспоминания Раневской: «Мне довелось играть с таким гением, как Зускин, мы снимались в фильме „Последний извозчик“… У меня где-то сохранилась фотография — я ее сама придумала, — мы с Зускиным „молодые“ новобрачные голубки с тупыми лицами, замершие перед объективом местного фотографа.
К сожалению, следы этого фильма мне нигде разыскать не удалось. Фильм начали снимать до войны, а завершали уже после, видимо в ту пору, когда мы с Михоэлсом и Корнейчуком были в Киеве и проводили время в „Континентале“ и других „злачных“ местах. Помню, мы шли с Ксенией по Крещатику — обе элегантные, погода чудесная, солнце, зелень, легкий ветерок с Днепра, и настроение радостное, и съемки „Извозчика“ шли удачно, и вдруг видим — навстречу женщина с безумными глазами: идет, что-то выкрикивая. Вокруг нее люди, а она, одетая вполне интеллигентно, вытянув руку с указующим перстом, пророчески взывает к окружающим. Мы замерли, а женщина подошла к нам, указав на наши лица, протяжно сказала: „Сотрите Вашу краску, распустите Ваши прически, сорвите Ваши праздничные одежды — скоро придет огонь и смерть, слезы, горе, запылают жилища, почернеют листья. Сотрите Вашу краску, сбросьте Ваши праздничные одежды!“
И пошла дальше. Как это было страшно! Она была сумасшедшей или пророчицей. Это был сороковой или сорок первый год. Не знаю, может быть, она действительно предчувствовала события, но я вспомнила ее, когда приехала после войны в Киев, на гастроли, и увидела сгоревшие дома и почерневшие листья.
Фильм не сохранился. Нет уже Бернеса, погиб Зускин. Будучи репрессированным, он не выдержал и, разбежавшись, размозжил себе голову об стену (это не так — он был расстрелян вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета 12 августа 1952 года. — М. Г.). Умерла и Тарасова. Актеры разных талантов, разной одаренности, но не одна ли у всех судьба — умереть дважды?»
И еще немного из воспоминаний Раневской о том же ужине в киевском «Континентале»:
«Уставшая девушка-подавальщица приносит очередное что-то вкусное. Михоэлс расплачивается и дарит подавальщице сто рублей — в то время перед войной большие деньги. Я с удивлением смотрю на Соломона Михайловича, и он шепчет, наклонившись ко мне: „Знаете, дорогая, пусть она думает, что я сумасшедший“. Я говорю: „Боже мой, как я люблю Вас!“».
Вспоминает Анастасия Павловна Потоцкая: «Как бывало больно за него в трамвае, в автобусе, где случайные пассажиры начинали перемигиваться и подсмеиваться, а Михоэлс это видел и чувствовал каждую черту своей внешности, каждой клеткой своего нутра!.. Как часто в таких случаях во мне вскипала такая злость, что хотелось наказывать ни в чем не виновных, кроме бестактности и невоспитанности людей. И, кстати, я нашла очень интересный способ наказания… Если пристально с некоторым удивлением смотреть на чужие ноги — обладатель или обладательница ног начинает чувствовать себя беспокойно… Переведите в этот момент глаза, постарайтесь встретиться взглядом и вновь начните рассматривать эти ноги. Успех необыкновенный идет буквально у вас на глазах. Сначала перемигивания и ухмылка, а потом и весь идиот!»
Разумеется, в своей влюбленности в Михоэлса Потоцкая и Раневская были союзниками.
В конце войны, в 1944 году, Михоэлс во главе Еврейского антифашистского комитета вернулся из поездки в Америку. Фаина Георгиевна пришла к нему домой, в его комнату с вечно гудящим за стеной лифтом.
И снова Раневская:
«Он лежал в постели, больной и рассказывал мне ужасы из „Черной книги“; он страдал, говоря это. Чтобы чем-то отвлечь его от этой страшной темы одного из кругов, не рассказанных Данте, я спросила: „Что вы привезли из Америки?“ Соломон Михайлович усмехнулся: „Мышей белых жене для работы, а себе… мою старую кепку“. Мой дорогой, мой неповторимый».
И дневниковая запись 14 января 1948 года: «Погиб Соломон Михайлович Михоэлс. Гибель Михоэлса, после смерти моего брата, самое большое горе — самое страшное в моей жизни.
Не знаю человека умнее, блистательнее, нежнее его. Очень его любила, он бывал мне как-то нужен, необходим. Однажды я сказала ему: „Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; и есть люди, в которых живут только… глисты. В Вас живет Бог!“ Он улыбнулся, задумался и ответил: „Если во мне живет Бог, то он в меня сослан“…»
А вот отрывок еще из одного письма Раневской Михоэлсу, написанного в 1944 году:
«Дорогой, любимый Соломон Михайлович! Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы вы скорее оправились от болезни, мне знакомой… Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь докучать моей любовью. Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну. Душевно Ваша Раневская».
Ниже я приведу еще один отрывок из этого письма, а пока хочу рассказать о другом. Долгие годы меня связывала дружба с Анастасией Павловной Потоцкой, и я слышал много ее рассказов о дружбе Михоэлса и Раневской. В марте 1965 года в ВТО состоялся вечер, посвященный семидесяти пятилетию Михоэлса. Это был особый вечер и по содержанию (достаточно сказать, что на нем выступили Ю. А. Завадский, А. Г. Тышлер, И. С. Козловский, П. А. Марков), и по царящей на нем атмосфере. Все ожидали выступления Раневской, но его так и не было.
«Я, как, впрочем, и многие, была не только в недоумении, но даже расстроена, — рассказывала Анастасия Павловна. — Попыталась встретиться с Фаиной Георгиевной, но поговорить с ней не удалось — она, видимо, ушла сразу же после окончания. Надо ли вам объяснять состояние моей души после этого вечера? Конечно же, заснула только под утро, да и то, сидя в кресле. И тут звонок: „Анастасия Павловна, милая, замечательная моя! Не спала всю ночь после вчерашнего. Думала о Михоэлсе. Счастью моему не было предела. И волнению тоже… Боялась, что не выдержит сердце, так была взволнована. Простите, что звоню в такую рань — это не в отместку за звонок, который сделал мне Соломон Михайлович в два часа ночи после спектакля „Капитан Костров“… Так вот, дорогая Анастасия Павловна, я вчера не выступала не только из-за волнения, но помешало что-то еще: моя излишняя застенчивость и очень яркие выступления на этом вечере… Я хотела после вечера отдать вам свои записи — наброски к выступлению, но вы были окружены людьми, а у меня не было сил еще ждать… Я непременно передам вам эти свои записи“».
Правда, в этих записях не было воспоминаний Фаины Георгиевны о том, что специально для участия в спектакле «Капитан Костров» она научилась играть на аккордеоне только для того, чтобы самой исполнить песенку «Ну-ка встану, погляжу, хорошо ли я лежу». И песенка эта стала изюминкой всего спектакля.
Когда я помогал Анастасии Павловне в упорядочении архива Михоэлса, — и это было в середине семидесятых годов, — я, естественно, спросил, есть ли эти записи у нее. К сожалению, Фаина Георгиевна так и не передала их, не знаю почему.
Передо мной письмо А. П. Потоцкой от 6 января 1979 года. Она написала его, вернувшись из театра со спектакля «Дальше — тишина», потрясенная игрой Фаины Георгиевны. Это письмо — замечательное свидетельство истинных отношений Михоэлса и Раневской; я воспроизвожу его почти полностью: «А ведь Вы — действительно удивительная, дорогая Фаиночка! Вы дороги тысячам людей, дороги поколениям актеров! Вы бесконечно дороги Михоэлсу и мне, и сегодня я не могу не написать Вам. Спектакль „Дальше — тишина“ я смотрела трижды и каждый раз уходила с ощущением огромного нового дыхания, того самого, которое так нужно, чтобы жить и быть человеком. Это то дыхание, украденное зрителем от таланта актера, которое помогает не существовать, а жить, жить, думать и работать.
Меня иногда упрекают в том, что о ком бы, о чем бы я ни писала — я обязательно „свожу все к Михоэлсу“. Это не так плохо, Фаиночка, если в этом письме я напомню Вам о том, каким Михоэлс был провидцем, как он умел предвидеть. В день его 75-летия Вы позвонили мне и сами напомнили о поразительном звонке Соломона Михайловича, свидетелем которого я была. Это было в три часа утра (или ночи — как хотите). Он звонил Вам, я пыталась удержать его: „В три часа!“ „Нет, — сказал Михоэлс, — она поймет, что я рядом, и ей станет легче, а разве лучше, если она будет метаться в одиночестве?!“ И тогда состоялся этот самый телефонный разговор: „Фаиночка, я знаю, что ты не спишь. Ты сегодня играла не так, как ты умеешь! Ну и что? Я тебе говорю очень серьезно — это все ничего не значит. Подумаешь — „Капитан Костров“! Ведь ты такая актриса, которая… ну обязательно, обязательно… словом, ты сыграешь, и сыграешь не одну роль. И сыграешь замечательно! Да, это я — Михоэлс. Обнимаю“. Мне к этому прибавить нечего. Вы играете замечательно, как и обещал Соломон… Спасибо! Обнимаю, целую Вас, Фаиночка, очень-очень Вас люблю „одна за двоих“».
Истинно одаренные люди талантливы во многом. И в умении дружить, в верности дружбе, в постоянстве, несмотря на любые трудности и испытания. Настоящая дружба не прекращается, пока жив один из друзей. Свидетельство дружбы Раневской и Михоэлса — письмо Фаины Георгиевны Анастасии Павловне. И хотя письмо это во многом перекликается с рассказом Анастасии Павловны, которое я воспроизвел выше, и с ее письмом Фаине Георгиевне, я все же воспроизвожу часть его, так как оно подтверждает непреходящую преданность старой дружбе. Как жаль, что письмо это по причинам, мне неведомым, так и не было отправлено адресату и Анастасия Павловна не знала о его существовании до конца своих дней! За несколько месяцев до смерти — она умерла осенью 1981 года — Потоцкая послала Раневской поздравительную открытку. В ней были слова, преисполненные любви к Фаине Георгиевне, воспоминания об их встречах и приглашение в гости: «Давно пора повидаться».
Хочу привести еще один фрагмент из письма Раневской Михоэлсу 1944 года, которое я уже цитировал, — из него становится особенно понятно, сколь крепкая и глубокая дружба связывала этих людей, как доверительны были их отношения. Но сперва комментарий к этому письму. Я. Л. Леонтьев — театральный деятель, заместитель директора Большого театра СССР, близкий друг семьи Булгаковых — попытался в 1944 году помочь вдове Булгакова Елене Сергеевне и написал обращение, которое передал Михоэлсу для того, чтобы тот по своему усмотрению собрал под ним подписи видных деятелей культуры.
Итак: «Дорогой, любимый Соломон Михайлович! Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам. Текст обращения, данный Я. Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата! Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков. Может быть, Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова…»
И еще «вне очереди» хочу рассказать об одной виртуальной встрече Раневской с Анастасией Павловной и Соломоном Михайловичем Михоэлсом. Помню точно, что это было в 1981 году, в день рождения Анастасии Павловны. В тот день в могиле Михоэлса у его ног мы захоронили урну с прахом его жены. Не могу точно вспомнить год, но помню, что именно в тот день — надо же случиться такому совпадению! — первый раз по телевизору показали фильм-спектакль «Тевье-молочник» с Михаилом Ульяновым. Многих из тех, кто присутствовал на этом захоронении, пригласила к себе Елизавета Моисеевна Метельская, а уже когда мы были в доме у Абдуловых, Елизавета Моисеевна позвонила Фаине Георгиевне и пригласила ее в гости: «Приезжай, у нас поэт Моисей Цетлин». Прошло около часа, и Фаина Георгиевна была уже с нами. Она подняла тост за здоровье Анастасии Павловны: «Выпивать за здоровье умерших надо так же, как за живых». И после тоста Фаина Георгиевна попросила Моисея Цетлина прочесть его стихи, посвященные Потоцкой и Михоэлсу. Моисей Наумович прочел эти стихи, слушая которые, Раневская и Метельская глотали слезы. Потом он прочитал стихотворение «Завещание»:
Я прожил жизнь средь этих стен.
Как радостен был для меня
Их скромный вид, их малый плен.
Здесь видел я отца и мать…
Я видел здесь, как рок сиял,
Я видел горе здесь и смерть,
И здесь хочу я умереть.
Но здесь я не хочу лежать, —
В далекой Азии, где — мать.
«Вы сказали такую горькую правду! — воскликнула Раневская. — Я так часто думаю об этом, и не только потому, что также размышлял Александр Сергеевич Пушкин»:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Уже много лет спустя я прочел в книге Раневской ее слова: «Когда я слышу о том, что люди бросают страну, где родились, всегда думаю: как это можно, когда здесь родился Толстой, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Чехов, когда здесь жили писатели, поэты, как Тютчев, Блок и те, другие, каких нет нигде. Когда здесь свои березы, свои тополя, свое небо. Как это можно бросить?»
А теперь вернемся к тому неотправленному письму, о котором Фаина Георгиевна говорила по телефону Потоцкой после вечера памяти Михоэлса в 1965 году. По счастью, оно сохранилось в архиве Раневской: «Дорогая Анастасия Павловна! Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича. Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть и слушать его.
В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко „Капитан Костров“. Роль, как я теперь вспоминаю, я обычно играла без особого удовольствия, но, когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть — Соломон Михайлович смотрит на меня.
Придя домой, я вспоминала с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла. В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: „Ведь вы все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за вас. Перестаньте терзать себя, вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать и спите спокойно — совсем неплохо играли“. А я подумала, какое это имеет значение — провалила ли я роль или нет, если рядом добрый друг, человек — Михоэлс. Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, нет, никто так больше и никогда так не поступал. Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной. Он сказал мне, знаете, я получил письмо с угрозой меня убить. Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище — одна комната, без солнца, за стеной гудит лифт денно и нощно. Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека…»
Письмо это не закончено, а уж почему Фаина Георгиевна к нему не вернулась, нам сегодня остается только гадать.
Но о другом можно сказать с уверенностью: много, очень много общего было в отношении к жизни, к искусству и к себе у Раневской и Михоэлса.
Михоэлс привез из Америки только кепку, в которой уехал… Раневская же, когда ее спросили, почему она так скромно живет, почти бедно, не задумываясь, ответила: «Мое богатство в том, что оно мне не нужно!..» И еще об этом же: «У актера в кармане должна быть только зубная щетка, чтобы он свободно мог передвигаться, смотреть, видеть, изучать жизнь». Михоэлс однажды сказал Анастасии Павловне: «Знаешь, что меня беспокоит? Это что я оставлю в наследство тебе и детям? Разве что мой юмор и следы моего обаяния?»
В восхождении к театру у Раневской и Михоэлса немало похожего. «В театральную школу я не была принята по неспособности», — Раневская. «Я мечтал стать актером… Но мой первый учитель актерского мастерства заявил, что актера из меня не выйдет, так как у меня для этого нет достаточных данных», — Михоэлс. «Училась в таганрогской казенной гимназии, по окончании которой вынуждена уйти из семьи, которая противилась моему решению идти на сцену», — Раневская. «Мои родители отнеслись бы к подобному решению отрицательно: в среде, к которой принадлежала моя семья, профессия актера считалась зазорной», — Михоэлс.
Во многом, если не в целом, отношение к искусству в России определяется отношением к Пушкину. «Я боюсь читать Пушкина… Я всегда плачу. Я не могу без слез читать Пушкина… Мне так близок Пушкин. Я прихожу с репетиций, кидаюсь без сил, на кровати лежит пушкинский том открытый. Даже читаю то, что знаю наизусть… Все думаю о Пушкине. Пушкин — планета» — это из записей Раневской о Пушкине в разные годы.
Михоэлс прожил всю жизнь с оглядкой на Пушкина. Он много говорил о Пушкине в своих лекциях, писал в статьях. Есть у него в записных книжках мысль, представляющая особый интерес: «Пушкин всю жизнь черпал огромное богатство не только в русской культуре, но и вне ее… Но, черпая все эти богатства, Пушкин, обогащенный, снова и снова возвращался в русскую культуру, отдавая ей все свои силы и все накопленное им. Пушкин был как бы бумерангом русской культуры. Вылетающий с огромным размахом из русской культуры, он к ней же возвращался и в нее вносил новые свои вклады».
Обоих роднит еще и то, как безоглядно, не думая о последствиях, они бросались на помощь своим друзьям, когда те попадали в беду.
Из записок Раневской об Ахматовой: «Когда появилось постановление (о журналах „Звезда“ и „Ленинград“. — М. Г.), я помчалась к ней. Открыла дверь Анна Андреевна. Я испугалась ее бледности, синих губ. В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Молчали мы обе… Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Это день ее и моей муки за нее и страха за нее».
Из воспоминаний А. П. Потоцкой: «Михоэлс никогда… не мог оставаться зрителем, если друг был в беде. Он не мог быть просто гостем на празднике друга. В дни так называемых разгромных статей по телефону звучали слова: „Это я, Михоэлс, просто подаю голос…“»
Вскоре после похорон Михоэлса Анастасия Павловна обратилась к ближайшим друзьям Михоэлса с просьбой по поводу сбора материалов о нем. Наверное, она по наивности своей решила, что если было вынесено решение правительства об увековечении памяти Михоэлса, подписанное самим Сталиным, если даже установили стипендии имени Михоэлса, а театр назвали его именем, то память о нем останется неприкосновенной. Из записей Раневской от 28 февраля 1948 года: «Вчера у меня была вдова Михоэлса, мне хотелось ей что-то дать от себя, а было такое чувство, что я не только ничего не могу ей дать, а еще и обираю ее».
«Самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, — дружба». Эта мысль Ф. Ларошфуко более всего отражает суть отношений Раневской и Михоэлса — кроме истинной мудрости, свойственной и Фаине Георгиевне, и Соломону Михайловичу, Бог даровал им большую человеческую Дружбу. И более того, после смерти они оказались рядом — и Михоэлс, и Раневская похоронены на кладбище крематория около Донского монастыря.
На этом же кладбище похоронена сестра Фаины Георгиевны Изабелла. «Однажды я встретила Фаину Георгиевну на этом кладбище, — рассказывала мне Елизавета Моисеевна, — мы недолго постояли у могилы Беллы, а потом не сговариваясь пошли к Соломону Михайловичу. Неожиданно для обеих заговорили о Верико Анджапаридзе, которой так и не удалось побывать на могиле Соломона Михайловича. А мне вспомнилось все, что слышала о встрече и дружбе Анджапаридзе и Михоэлса. В каком-то смысле связующим звеном для них была Раневская…»
Когда Михоэлс погиб, одна из первых телеграмм с соболезнованиями пришла из Тбилиси от Верико Ивлиановны. После этих нескольких слов сочувствия, вечером 17 января она позвонила Анастасии Павловне и долго беседовала с ней по телефону. Среди прочих утешений она сказала: «Мы с вами счастливые женщины. Мы обе любили, обожали замечательного человека. Слово „актер“ — лишь часть этой личности. На тризне я всегда буду с вами. А если не удастся приехать в Москву, то пойду гулять по улочкам старого Тбилиси. Рядом со мной будет Соломон Михайлович. Он будет напевать мне напевы, которые он назвал каким-то красивым словом — хасимские (наверное, хасидские. — М. Г.), а я ему буду петь грузинские песни, которые, я знаю, он любил так же, как и еврейские. Встречу с Михоэлсом мне послали небеса как подтверждение встречи двух народов — грузин и евреев».
В начале 1950-х, когда имя Михоэлса предавали проклятию в советской прессе, Верико Ивлиановна находила способ каждый год 13 января дать знать о себе Анастасии Павловне, и не просто словесно — через своих друзей и знакомых в Москве она помогала ей материально. Что может быть благороднее?
Уж коли мы вспомнили об Анджапаридзе и Михоэлсе, хочу эту главу завершить рассказом об одной их встрече. Летом 1934 года ГОСЕТ гастролировал в Тбилиси, тогда еще Тифлисе. В тот приезд театра в Тифлис Соломон Михоэлс и Верико Анджапаридзе часто встречались, подолгу беседовали, гуляли по городу. Однажды побывали в Государственном историко-этнографическом музее Грузии, где гидом их оказался народный артист Акакий Хорава. Он был замечательным экскурсоводом, прекрасным знатоком «еврейского Тбилиси». На одной из улочек Хорава обратил внимание своих спутников на развалины — здесь когда-то была синагога, разрушенная очередными завоевателями. Во время этой экскурсии Хорава вспомнил, что совсем недавно, год тому, он водил по «еврейскому Тифлису» Раневскую, для которой весь его рассказ оказался неожиданным: «Помню, как этому моему рассказу удивилась Фаина Георгиевна. В особенности моим словам о том, что евреи в Тбилиси живут почти также давно, как и грузины. Фаина Георгиевна просияла, когда я рассказал ей о событии, происшедшем в 1840 году. Начальники тифлисских портных — устабашей, как их называли, — обратились с письмом лично к главному представителю России на Кавказе с просьбой не выселять евреев-портных из Тифлиса. И этот главный русский обратился к высшему руководству, написав: „Жалоба на евреев лишь доказывает, что евреи в мастерствах своих превосходят других ремесленников, да и вообще они городу не только нужны, но и необходимы…“»
Когда ГОСЕТ уезжал из Тифлиса, Верико Ивлиановна и Соломон Михайлович под мелодию еврейской народной песни «Дядя Эля» прошлись в танце по перрону.
Михоэлс, Раневская, Анджапаридзе…
Давно известно и сказано не мной: «Кто умер, но не забыт — бессмертен».
В 1943 году Раневская вернулась из эвакуации в Москву. Едва ли не в первый день после возвращения в доме раздался звонок. Это был Николай Павлович Охлопков, который с деланым изумлением спросил: «Фаина Георгиевна, как же мы с вами ничего еще не сделали?» Раневская удивилась, услышав, что Охлопков стоит во главе Театра революции, но решила лишних вопросов не задавать. Николай Павлович сообщил, что хочет поставить что-то по Чехову: «А кто лучше вас может сыграть в чеховском спектакле?» В театре решили поставить спектакль по раннему рассказу Чехова «Беззащитное существо». Мало кто помнит его, хотя рассказа более современного, чем этот, придумать трудно. Кистунов, служащий банка, пришел на работу после страшного приступа подагры — «вид у него был томный, замученный и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий». Первая его просительница — дородная, цветущая женщина, — просила, даже требовала каких-то выплат: «Муж проболел пять месяцев… Лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали…» Женщина, фамилия которой была Щукина, требовала выплатить мужу жалованье за прошедшее время и к тому же восстановить его на работе: «Я слабая, беззащитная… От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу».
Все попытки Кистунова поставить даму на место, разумеется, результатов не дали, а попытки объяснить просительнице, что она явилась не по адресу, ни к чему не привели: «У Кистунова зарябило в глазах… „Прикажите выдать мне деньги! Ваше превосходительство… Я женщина беззащитная, слабая… Мой муж коллежский асессор, схожу к адвокату… так от тебя звания не останется!.. Троих жильцов засудила, за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься…“»
Надо ли говорить, что «беззащитная» женщина довела Кистунова до того, что он вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и безропотно отдал просительнице. Видевшие Раневскую в роли Щукиной отмечали, что никогда еще она не играла так гениально, как в «Беззащитном существе». Спектакль этот был поставлен в годы войны в Театре драмы. Рассказывают, что многие актеры просили Охлопкова ставить его после двадцати двух часов, специально для театральной Москвы.
В Театре драмы (сегодня это Театр имени Маяковского) Раневская сыграла во многих спектаклях, среди других — бабушку Олега Кошевого в спектакле «Молодая гвардия» по книге Фадеева и жену Лосева в пьесе Александра Штейна «Закон чести». За эту роль ей в 1949 году была присуждена Сталинская премия второй степени — это была первая государственная премия в ее жизни.
Очень скоро после сыгранных в этом театре ролей Охлопков, обращаясь к Раневской, сказал:
— У вас есть один большой недостаток, с которым вам нельзя было идти на сцену.
— Какой? — поинтересовалась Раневская.
— Скромность! — ответил Охлопков.
«Недостаток» этот действительно имел место, но едва ли он сыграл решающую роль в театральной биографии Раневской.
Работая в Театре драмы, она была удостоена звания народной артистки РСФСР (5 ноября 1947 года). В том же году была отмечена орденом «Знак Почета». На спектакль «Молодая гвардия» с ее участием часто приходил Александр Фадеев, который однажды сказал Охлопкову: «Образ бабушки Олега Кошевого создал не я, а Фаина Георгиевна». Но самую запоминающуюся свою роль в Театре драмы Раневская сыграла в 1945 году — это была роль Верди в пьесе Лиллиан Хелман «Лисички».
Почему драма американской писательницы-коммунистки так заинтересовала Раневскую? Может быть, причина этого — мысль об одиночестве, пронизывающая всю эту пьесу. Неоднократно главная героиня по прозвищу Верди (Птичка), обращаясь то ли к зрителям, то ли к самой себе, восклицает: «Двадцать два года и ни одного счастливого дня!» Но восклицания ее остаются неуслышанными окружающими, они не интересны даже Оскару Хаббарту — ее мужу. Он не может понять, что в жизни бывает что-то более ценное, чем доллары. Вокруг Верди повсюду, даже в семье, вертятся хитрые и подлые хищники, напоминающие лисичек (перевод не совсем точный — в оригинале название пьесы «Foxies» не имеет такого уменьшительно-ласкательного оттенка, как по-русски).
Верди все чаще задумывается над тем, позволительно ли ей оставаться среди таких людей. А Хаббарт и остальные «лисички» не представляют, как это у Верди могут возникать такие странные желания — уйти от своих близких. А она не может с ними общаться, она сознает, что все вокруг не понимают ее, отмахиваются от нее. Раневская так убедительно сыграла человека «не от мира сего», что зрители ее не только поняли, но и полюбили. В отличие от «лисичек», ее окружающих, Раневская — Верди так увлечена своей мечтой, что порой взволнованно высказывает свои мысли вслух, не задумываясь о реакции окружающих.
«Перестань трещать!» — слышит она от всех вокруг. И продолжает находиться в созданном ею мире. Она не понимает, зачем и почему эти «лисички» хотят женить ее сына Лео — юношу жестокого и черствого, напоминающего по характеру своего отца, на доброй, отзывчивой девушке Александре из богатой семьи («лисичек» всегда и везде интересует только последнее), которую, несомненно, ожидает судьба Верди. Понимая все это, Верди задает сама себе вопрос: «Почему так злы люди?» И конечно же при первой возможности раскрывает Александре гнусный замысел Хаббарта. Случилось так, что Хаббарт оказался свидетелем этого разговора. Дабы проучить «предательницу», он отвесил Верди пощечину, и это стало последней каплей — она решилась покинуть свой дом и уйти в неизвестность. Для западных зрителей этот сюжет был банальным повторением страданий «бунтующих» героинь начала XX века, поэтому пьеса Хелман не имела там особого успеха. Но для советских людей она стала откровением, впервые показав им реальную жизнь современных американцев, пусть и искаженную коммунистическими убеждениями автора пьесы.
Прошло почти пятьдесят лет с того времени, как зрители увидели в Театре драмы спектакль «Лисички» с Раневской в роли Верди. Сегодня зрителей, видевших этот спектакль, осталось немного. Но совсем недавно я говорил с одним из них — с Анатолием Алексиным. Он, вспомнив сцену с пощечиной, сказал: «Раневская гениальна в любой роли, но в Верди она конгениальна!» И слезы навернулись на его глаза.
Актриса Театра драмы Клавдия Васильевна Пугачева вспоминала: «Это была лучшая роль Раневской в те годы. Стержнем этого спектакля стала схватка двух женских характеров — Реджины (которую играла прекрасная актриса Клавдия Половикова) и Верди. Образ Реджины, подлинной главы клана бизнесменов-нуворишей Хаббартов, противостоял образу Верди, мечтательницы из среды аристократов американского Юга. Как сказал Охлопков, обыгрывая фамилию Раневской: „‘Лисички’— американский ‘Вишневый сад’, только там еще и по морде бьют“. Обе актрисы превосходно сыграли труднейшие партии: Половикова — поражение в победе, Раневская — победу в поражении. Ибо ее Верди — осмеянная, поруганная, униженная — оставалась символом человеческой чистоты и достоинства».
Клавдия Пугачева, с которой Раневская познакомилась в годы работы в Театре драмы, надолго стала ее близкой подругой. О ней немало интересного рассказал мне Борис Михайлович Поюровский. От него я, например, узнал, что в Театре драмы Фаина Георгиевна делила с Пугачевой гримерную, да и на гастролях они часто селились в одном номере. Хотя многие говорят о трудном характере Раневской, Пугачева писала: «Я получила много радости от общения с Раневской… Фаина интересовалась литературой, поэзией, музыкой…
Любила писать масляными красками пейзажи и натюрморты, как она их называла „натур и морды“… Она любила говорить образно, иногда весьма озорные вещи, высказывала их с большим аппетитом и смелостью, и в ее устах это звучало как-то естественно». О пристрастии Раневской к непарламентским выражениям говорят многие мемуаристы. Едва ли интеллигентной Клавдии Васильевне подобные словесные пируэты были по вкусу, но она, впрочем, как и многие, для Раневской делала исключение.
В своих воспоминаниях Пугачева останавливается на особом случае. В пьесе Штейна «Закон чести» ей пришлось играть с Раневской одну роль Нины Ивановны, жены профессора Лосева (главного героя в спектакле). Как относятся к подобному актеры вообще, не только Раневская — говорить излишне. Поклонникам Фаины Георгиевны эта роль чем-то напомнила тапершу из фильма «Александр Пархоменко», но это было чисто внешнее сходство. Позже Пугачева вспоминала: «Ее первый выход сразу же пленял публику, она выходила, садилась за пианино, брала один аккорд и под его звучание поворачивала лицо в зал. У нее было такое выражение лица с закатанными кверху глазами, что публика начинала смеяться и аплодировать. Она брала второй аккорд и с бесконечно усталым выражением опять поворачивалась к залу — смех нарастал. Дальше уже играть было легко, так как зрители были в ее власти».
Впрочем, то же самое можно сказать почти о каждой роли Раневской — она, независимо от содержания роли, каждую свою героиню превращала в главный объект спектакля. Так вот, в спектакле «Закон чести» Раневской вынуждены были подобрать дублера, так как она надолго заболела, а откладывать спектакль, который готовился на выдвижение Сталинской премии, было нельзя, так что роль «профессорши» предложили Пугачевой. Разумеется, больше всего Клавдия Васильевна пыталась не повторить Раневскую в игре. Она сшила себе узкую юбку, модную в то время. Уже после первых шагов на сцене Пугачевой публика восторженно зааплодировала. О ее игре в этой роли вскоре заговорили зрители, да и сам Охлопков воспринял Пугачеву в этой роли так, что решил, чтобы она и Раневская играли ее по очереди.
Реакция Раневской не заставила себя долго ждать: «Чертовка, что ты там придумала, что на твой выход тебе устроили овацию?» Узнав о «проделках» Пугачевой, Раневская сшила и себе узкую юбку. Последовал провал: едва она села за пианино, как под ней рухнул стул. И не только. Вот что рассказала мне об этом случае Елизавета Моисеевна: «Когда Раневская поднялась, зрители, сидевшие в первых рядах, встали и дружно зааплодировали. Оказалось, ее юбка разошлась по швам».
И еще о дуэте Раневская — Пугачева. Как мы уже писали, во время гастролей их поселяли в один номер. Деньги у них были общие, но Раневская каждый раз прятала их и конечно же забывала куда. Искать деньги приходилось Пугачевой, за что Раневская прозвала ее «Шерлоком Холмсом». Клавдия Васильевна вспоминала: «Однажды к Раневской обратилась молодая актриса, сообщив ей о том, что недавно познакомилась с молодым человеком, влюбилась в него и хочет выйти замуж. Ждала одобрения мудрой Раневской. „Если ты действительно его полюбила, то зачем спрашивать совета?“ Намечавшийся брак не состоялся».
В первые послевоенные годы карьера Раневской в театре и кино складывалась довольно успешно. За первой Сталинской премией в 1949 году последовала вторая — за роль жены Лосева в пьесе А. П. Штейна «Закон чести». Тогда же она удостоилась многочисленных похвал прессы за роль отъявленной фашистки фрау Вурст в пропагандистском фильме «У них есть Родина». Она говорила: «Да, фрау Вурст у меня получилась. Вурст — по-немецки колбаса. Я и играю такую толстую колбасу, наливающую себя пивом. От толщинок, которыми обложилась, пошевелиться не могла. И под щеки и под губы тоже чего-то напихала. Не рожа, а жопа».
В 1949 году Раневскую пригласили в Театр имени Моссовета. Разумеется, приглашение исходило от главного режиссера Юрия Александровича Завадского. Он знал о Раневской если не от Павлы Вульф, то от ее дочери Ирины, бывшей какое-то время его женой. В то время в театре готовили постановку спектакля «Модная лавка» по пьесе И. А. Крылова. Время было мрачное, и Завадский хотел поставить такой спектакль, который никто бы не мог обвинить в космополитизме. Крылова все знали как баснописца, как драматург он был известен лишь немногим. Во всяком случае, в репертуарах советских театров пьесы его вовсе или почти не встречались. Правда, в период войны (1942) в Йошкар-Оле к столетию смерти Крылова русский и марийский театры поставили «шутотрагедию» Крылова «Подщипа». Попытка осовременить ее не удалась, и спектакль прошел незамеченным. В Театре имени Моссовета «Модная лавка» была замечена и отмечена, так как эту веселую, жизнерадостную пьесу ждали многие зрители. Но особого успеха ни самому театру, ни Раневской спектакль этот не принес.
Следующей ролью Фаины Георгиевны в этом театре стала Агриппина Солнцева в пьесе А. Сурова «Рассвет над Москвой». Незадолго до этого (1946) спектакль Сурова «Далеко от Сталинграда» поставил в ТЮЗе сам Лобанов. Но, несмотря на то, что постановку «Рассвета над Москвой» курировал сам Завадский, успеха спектакль не имел — слишком уж убогой была драматургическая основа. Раневская играла роль Агриппины Семеновны, ткачихи в прошлом, матери Капитолины, директора ткацкой фабрики. Фабула довольно обычная по тем временам: Капитолина Солнцева, не внемля возражениям рабочих, решила выпустить большое количество ткани нелучшего качества и некрасивой расцветки. Ей возражают не только коллектив, но и мать. Суров построил пьесу по классическому принципу соцреализма, отобразив в ней «конфликт хорошего с лучшим».
В этом же спектакле вместе с Раневской играла Вера Петровна Марецкая, ведущая артистка театра, тоже бывшая в свое время женой Завадского. Конечно же таким двум актрисам удалось развернуть конфликт в спектакле и довести его до идеологически нужного «градуса». Раневская — Агриппина Солнцева — сумела создать нужный, с партийной точки зрения, образ старой ткачихи. Показать, что победы достигают лишь те, кто по-настоящему понимают интересы государства и борются за них. Конфликт между дочерью и пожилой Агриппиной заканчивается победой последней, так как она убеждена в своей правоте. Главный вывод — что проблема отцов и детей, оказывается, существует и в эпоху социализма, но решается мирно, в полном соответствии с генеральной линией. Впрочем, даже эта убогая пьеса, сегодня заслуженно забытая, подтвердила истинную значимость таланта Раневской. Вполне понятно, что пьеса «Рассвет над Москвой» была на ура принята официозом и даже удостоена Сталинской премии. В числе лауреатов оказалась и Раневская, награжденная за исполнение роли Агриппины.
Ее следующая роль премий не получила, но зрителям оказалась гораздо дороже. Фаина Георгиевна сыграла небольшую роль одесской торговки-спекулянтки в пьесе Владимира Билль-Белоцерковского «Шторм». Ее автор был весьма колоритным персонажем — сын лесника из глухого еврейского местечка, он стал матросом торгового флота, несколько лет жил в США, потом проникся большевистскими идеями и принял участие в Гражданской войне. Его пьеса об этом смутном периоде российской истории, поставленная еще в 1920-е годы в театре МГСПС (так тогда назывался Театр имени Моссовета), стала заметным явлением в ранней советской драматургии. Позже она, как и все творчество Билль-Белоцерковского, стала восприниматься критически и оказалась забыта.
Это и имел в виду известный критик Борис Парамонов, когда писал: «Мне повезло — я видел Раневскую в театре. Пьеса была пустая, из так называемой советской классики: там Раневская играла спекулянтку на допросе в ЧК. Был там такой момент: спекулянтка Раневская начинает плакать, достает платок — для чего поднимает многочисленные юбки, под которыми оказываются красные галифе. Раневская сама придумала этот трюк».
Роль Фаины Георгиевны оказалась самой заметной в спектакле, самой запоминающейся. После сцены с допросом спекулянтки значительная часть зала покидала спектакль, что очень раздражало Завадского и, конечно, его «приму» Веру Марецкую. Мимо них не проходили восторги, которые высказывали по поводу игры Раневской не только простые зрители, но и искушенные театралы, в том числе писатель Виктор Ардов. Вот фрагмент его письма, написанного «по горячим следам», после чтения пьесы:
«Дорогая Фаина Георгиевна!
Я сдержал свое слово и позвонил Вам на другой день, после того, как смотрел Вас в „Шторме“. Но Вы уже ушли, и рассказать Вам, как мне понравились Вы в этой роли страшной женщины, мне не пришлось. И тогда я решил изложить Вам свои впечатления письменно. И вот почему: телефонные разговоры расточаются во времени и в пространстве. Провода не сохраняют беседы, которую они передавали. А Ваша игра стоит того, чтобы оставить по себе более существенный след, нежели несколько вздохов по проводке… К тому же нынешние рецензенты писать об актерах разучились, да и не принято нынче с душою описывать отрицательных персонажей. Вот я и задумал отнять у Вас время на чтение нижеприведенных строк.
Прежде всего, меня приятно поразило, как Вас знают и любят зрители. Когда Ваш партнер (который вместо умного и опытного чекиста почему-то играет пижона тех лет) сказал в дверь на сцену: „Введите арестованную!“ — по залу прошло движение. Это люди сообщали друг другу, что сейчас Ваш выход. А они Вас ждут. (Кстати, контролерши в фойе, еще пока шел 1-й акт, сообщили мне, сколько времени осталось до Вашей сцены, и заявляли, что они и сами каждый раз выходят в зал, чтобы поглядеть на этот эпизод.) Ну, что Вас встречают аплодисментами, это Вы и сами знаете…»
Дружба Раневской и Ардова продолжалась еще много лет. В 1974 году Виктор Ефимович, немало писавший о Раневской, опубликовал в «Литературной России» статью «Фаина Раневская. Трагическое и смешное». Это были размышления опытного и талантливого театроведа об искусстве игры Раневской. Статья начинается так: «В любой роли она поражает нас тем, что беспощадна к героиням, которых играет на сцене или в кино. Смело выбирает она из жизни черты и приметы для выявления образа. И смело воспроизводит эти, подчас рискованные штрихи… Талант Раневской и глубок, и остер, и на редкость широк по диапазону… Но актриса обладает также мощной палитрой самых разнообразных красок. К сожалению, режиссеры почти не привлекают ее на роли трагического плана. Зато уж если в образе, созданном Раневской для экрана или сцены, существуют акценты драматические, то мы наслаждаемся неожиданной для многих глубиной проникновения актрисы в коллизии судьбы, помыслы и страсти».
А вот письмо Раневской Ардову от 10 декабря 1974 года:
«Дорогой, добрейший Виктор Ефимович! Спасибо за то, что прислали Вашу статью. Спасибо за то, что так хорошо, так душевно, щедро написали обо мне. Я так благодарна вашему вниманию к тому, что я стараюсь делать.
Я не избалована вниманием к себе критиков, в особенности критикесс, которым стало известно, что я обозвала их „амазонки в климаксе“.
В театре сейчас очень трудно совестливой актрисе, и Ваша статья мне в утешение. Новой роли у меня нет, а я так люблю рожать. Я в немилости у самодура и кривляки Завадского, который лишает меня работы новой.
Еще и еще раз благодарю. Ваша Раневская».
В конце концов спектакль «Шторм», где все внимание зрителей было привлечено к эпизодической и сугубо отрицательной роли Раневской, стал раздражать Завадского. Он пробовал заменить Фаину Георгиевну в этом эпизоде, но в итоге зрители перестали ходить на спектакль и он был снят с репертуара. Память об этом спектакле осталась только из-за маленькой роли Раневской.
В 1954 году она вернулась к давнишней своей мечте — сыграть роль Анны Сомовой в спектакле по пьесе Горького «Сомов и другие». Спектакль был поставлен после смерти Сталина, на заре того периода, который до сих пор именуют «оттепель». Однако ничего «оттепельного» в нем не было — в нем, как и в фильме «Ошибка инженера Кочина», как во множестве других произведений сталинской эпохи, описывались козни врагов народа. На сей раз — «буржуазных специалистов», ненавидящих советскую власть и всеми силами вредящих ей. Среди них были жена и мать главного героя Сомова, убеждающие его примкнуть к их заговору. Артист Театра имени Моссовета Константин Михайлов вспоминал: «В пьесе Горького „Сомов и другие“ я играл Сомова, она — мою мать, этакую российскую интеллигентку. В ней были строгость, сдержанность, умение подавлять чужую волю. И высокомерие, рожденное убеждением в своем безусловном, неколебимом превосходстве, особенно над людьми „из народа“. Та „выделенность“, которая в ее исполнении была убедительной и органичной».
Конечно, роль Анны Сомовой не стала для Раневской такой этапной, как, скажем, роль Вассы Железновой. Но ее работа в спектакле запомнилась и зрителям, и Раневской. Возможно, потому, что там были заняты многие ведущие актеры: кроме Раневской в нем играли Михайлов, Плятт, Серова, Орлова. Здесь же скажем о том, что именно в этом спектакле Раневская подружилась с Валентиной Серовой, о чем свидетельствуют письма к ней, написанные Раневской:
«Милая Валя!
С большим опозданием, но зато с большим и искренним чувством восхищения Вами в роли Лидии Сомовой — дарю Вам полевые цветы… Желаю и впредь такой же большой и творческой удачи и подлинного вдохновения, с какими Вы играете Лидию. Была бы рада, если бы эти цветы понравились Вам, так же, как они нравятся мне. Обнимаю.
Ваша Ф. Раневская».
«Неповторимая Валя!
После Вашего отъезда я все время о Вас думала, и так же, как и Вы желаете мне добра, я для Вас хочу только хорошего. Еще раз благодарю и за добрые ко мне чувства, и за желание избавить меня от денежных забот. Само собой разумеется, что этот долг я Вам сделала легко, и он меня не тяготит, как обычно, когда мне приходится прибегать к заимодавцам не столь милым, как Вы! А дороже всего для меня то, что будучи в Москве так мало времени, Вы его урвали и для меня. Обнимаю крепко, Ваша Фуфа».
Прозвище Фуфа, сокращение от имени Фаина, закрепилось за Раневской с 1930-х годов, но так ее называли только близкие друзья. Называя себя в переписке с кем-то Фуфой, она как бы подчеркивала переход на новый уровень отношений.
Еще долго театроведы да и зрители будут разгадывать «тайну» Раневской — почему достаточно было только ее появления на сцене, как всё в зале менялось. Впрочем, на этот вопрос ответила сама Раневская: «Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой славе гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Это происходит от того, что человека, пользующегося известностью, считают счастливым, удовлетворенным, в действительности все наоборот. Любовь зрителя несет в себе какую-то жестокость. Я помню, как мне приходилось играть тяжело больной, потому что зритель требовал, чтобы играла именно я. Когда в кассе говорили „она больна“, публика отвечала: „А нам какое дело? Мы хотим ее видеть и платим деньги, чтобы ее посмотреть“. А мне писали дерзкие записки: „Это безобразие! Что это Вы надумали болеть, когда мы так хотим Вас увидеть?“ Ей-богу, говорю сущую правду. И однажды, после спектакля, когда меня заставили играть „по требованию публики“ очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою „славу“».
О том же Раневская пишет в своих дневниках: «Одесса, 1949 год. Осень… В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение — это обсуждают в парикмахерских, в зубных амбулаториях, в трамвае, в частных домах. Всех огорчает моя чудовищная „скупость“ — ибо в бедность никто не верит».
Однажды, вернувшись из Одессы, Фаина Георгиевна сказала Елизавете Моисеевне: «Теперь я понимаю, почему Бабель, так любя Одессу, покинул ее еще в начале 20-х годов. И понимаю себя, до сих пор не могу оторваться от Бабеля. Пожалуй, только к Чехову я так привязана. Не перестаю читать „Конармию“…Знаю почти всю наизусть». И еще она сказала Елизавете Моисеевне, что всю жизнь будет благодарна Горькому за его ранние рассказы и «Вассу Железнову» и конечно же Бабелю за его «Конармию» и «Закат».
На спектакле «Сомов и другие» завершился первый период работы Раневской в Театре имени Моссовета. Почему она решила уйти? Здесь важную, а может быть, и решающую роль сыграли ее непростые отношения с Завадским и Верой Марецкой. Вероятно, главный режиссер театра и его ведущая актриса решили, что Раневская слишком сильно «перетягивает на себя одеяло» зрительских симпатий. Конечно, ее не выгнали со скандалом — ее отношения с театральным руководством оставались дружескими, но раз за разом Завадский намекал, что не слишком удерживает Фаину Георгиевну у себя и не станет возражать против ее перехода в другой театр. В конце концов — это случилось в 1955 году — она смирилась и дала себя «переманить».
«Переманили» ее географически недалеко от Театра имени Моссовета. К тому же в театр, где она состоялась как актриса, — бывший Камерный Таирова, ныне Театр имени А. С. Пушкина.
Раневскую сразу же пригласили на спектакль «Игрок» по Достоевскому, любимому писателю актрисы. Ей еще не доводилось играть в спектаклях по его книгам — «реакционного» классика начали ставить впервые после революции, и это тоже был знак времени. Одним из первых к Достоевскому обратился Георгий Товстоногов, поставивший в своем театре «Идиота» со Смоктуновским. Без преувеличения можно сказать, что впечатление было ошеломляющим.
Раневская была давно знакома с творчеством Товстоногова, симпатизировала ему, да и он не скрывал своего желания видеть ее на сцене своего театра в Ленинграде. Сохранилась запись, в которой улавливается желание Товстоногова встретиться с Раневской. А вот из ответа Фаины Георгиевны: «Всегда жалела, что мне не пришлось с Вами встретиться. И это прошло мимо меня, как прошло все лучшее… Мне дорого и Ваше внимание и Ваша оценка моей такой скромной работы».
Сохранилась телеграмма Товстоногова, посланная Раневской в связи с ее семидесятилетием:
«Сердечно поздравляю огромную артистку нашего времени со славным юбилеем. Всегда преклоняюсь перед Вашим замечательным талантом. Желаю всего самого прекрасного.
Искренне любящий Вас Георгий Товстоногов
27.08.1976 г.».
Но вернемся к спектаклю «Игрок».
Фаина Георгиевна прямо-таки ухватилась за участие в этом спектакле — не только из-за того, что у нее появилась, наконец, возможность играть Достоевского, но и потому, что она нашла очень подходящую для себя роль — бабушки Антонины Васильевны. Не исключено, что эта героиня ассоциировалась у нее со старухой из «Пиковой дамы» Пушкина, но более вероятно, что роль бабушки в «Игроке» привлекла Раневскую своей значимостью и одновременно трагичностью. Фаина Георгиевна, конечно, читала роман и знала, что все герои «Игрока», как бы высоко они себя ни ставили, находятся в руках у бабушки. Эта русская помещица, сидящая в кресле с парализованными ногами, сумела утвердить свою власть над теми, кто ждал ее смерти — среди них были русский генерал Алексей Иванович Загорянский, его родственники и разноязычные авантюристы, крутившиеся вокруг игорных домов. Ее неожиданный приезд в Европу стал катастрофой для них. Отказав им в деньгах, она упрекнула: «Не умеете Отечества своего поддержать!» — и тут же проиграла в рулетку все свое состояние, похоронив все мечты и надежды людей, рассчитывающих на него. Спектакль этот в Театре имени Пушкина пользовался громадным успехом, и прежде всего зритель шел на Раневскую.
Год 1956-й в жизни Раневской был знаменит не только переходом в новый театр, но и тем, что она, наконец, отважилась на поездку к матери, с которой рассталась почти сорок лет назад. Ее отец уже умер, остальные члены семьи, кроме старшей сестры Беллы, жили в Румынии. Сохранились фотографии той встречи — мать Фаины Георгиевны, дряхлая, почти неузнаваемая, рядом с ней брат со своим сыном. Раневская стала хлопотать о разрешении приехать в Румынию ее сестре, которая уехала во Францию с мужем-коммерсантом. Она убедительно просила «выдать в срочном порядке въездную визу в Румынию», но, увы, не получилось, и мечта ее матери — собрать всех птенцов на старости лет в одном гнезде — так и не осуществилась. Белла, как известно, приехала к Фаине немного позже и уже до конца своей жизни оставалась в Москве.
О перипетиях их совместной жизни сохранилось немало воспоминаний и у Елизаветы Метельской, и у Нины Сухоцкой. Но, может быть, объективнее других написала актриса Ольга Андровская, хорошо знавшая Раневскую по фильмам. Вот отрывок из ее письма Н. Д. Добротворской:
«Здесь, в Москве, я знаю такой случай. Одна из очень известных актрис (Раневская) — после тридцати с чем-то лет — обрела свою сестру, овдовевшую в Париже (на самом деле в Турции. — М. Г.), и, путем хлопот, вернула ее в СССР, в Москву и поселила ее у себя в квартире. Я была у нее и увидела, что они обе — два полюса разных, прежде всего, во взглядах на жизнь, да и во всем, и обе страдают».
Здесь, наверное, не будет лишним рассказ Михаила Ардова о подробностях переезда Беллы в Москву:
«Это было у нее (Раневской. — М. Г.) дома. Я машинально взял со стола фотографию, на которой были две фигуры — сама Фаина и Е. А. Фурцева, которая смотрела на актрису снизу вверх и очень преданно.
На оборотной стороне снимка рукою Раневской было написано буквально следующее:
„Е. А. Фурцева: Как поживает ваша сестра?
Я: Она умерла…“
Повертевши фотографию в руке, я сказал:
— Фаина Георгиевна, а Фурцева на этом снимке играет лучше, чем вы…
Мой выпад она игнорировала, произнесла:
— Я очень, очень ей благодарна. Она так мне помогла. Когда приехала моя сестра из Парижа, Фурцева устроила ей прописку в моей квартире… Но она — крайне невежественный человек… Я позвонила ей по телефону и говорю: „Екатерина Алексеевна, я не знаю, как вас благодарить… Вы — мой добрый гений…“ А она мне отвечает: „Ну что вы! Какой же я гений? Я скромный советский работник…“»
На новом витке истории, когда страна с приходом «оттепели» серьезно изменилась, Раневская, как и многие ее сверстники, ощутила себя потерянной, выпавшей из времени. Отсюда все более частые ее жалобы в дневнике на старость, болезни, непонимание молодежи; отсюда же все более частые в ее репертуаре роли старух. Вслед за бабушкой в «Игроке» она в 1958 году сыграла другую бабушку в спектакле «Деревья умирают стоя» по пьесе испанского драматурга Алехандро Альвареса Касоны.
Этот спектакль оказался в значительной мере этапным в творчестве Раневской. Она не просто изучила пьесу, но и вписала в свою роль множество дополнений. В театре даже поговаривали, что надо бы в программке указать: «Редакция перевода Ф. Раневской». Впрочем, так было не впервые: как мы помним, роли Мачехи в «Золушке» и Маньки в пьесе Билль-Белоцерковского «Шторм» она тоже в значительной мере написала сама. В архиве Раневской сохранились ее заметки о работе над ролью: «Работая над Бабушкой в „Деревьях“, я отказывалась от соблазнительного для этой роли внешнего колорита испанки. Меня взволновал характер этого человека — прямодушная, добрая, справедливая, сильная, чистая душа. Все это могло привести к некоторой сентиментальности (фраза зачеркнута. — М. Г.). И когда она выгоняет своего подлинного внука, потому что он ей чужой — в этом и есть величие ее духа. Никакой „голос крови“ не останавливает ее от решения порвать навсегда с преступным ей человеком, о встрече с которым она мечтала все 20 лет его отсутствия».
Не только пресса, но и все видевшие этот спектакль восхищались игрой Раневской. Она же, как всегда, оставалась предельно скромной в оценке своего таланта и беспредельно щедрой к коллегам. «Помню, как на вечере в Доме актера, — вспоминает Н. Сухоцкая, — Верико Анджапаридзе показывала сцены из спектакля „Деревья умирают стоя“… Взволнованная игрой Верико, Раневская бросилась к ней, целовала ее, искренне восторгалась ею и всю дорогу домой уверяла меня, что только сейчас поняла, как плохо она сама играет эту роль, и что Верико — актриса гениальная, а она — бездарь!» Раневская повторяла: «Часто говорят: „Талант — это вера в себя“. А по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой, своими недостатками, что я, кстати, никогда не встречала у посредственности…»
Раневская и Верико Анджапаридзе не просто высоко ценили друг друга — обожали. Вот отрывок из письма Анджапаридзе Раневской: «Получила ваше чудесное письмо. Почему оно чудесное? Во-первых, вы здоровы, во-вторых, каждая ваша ласка — как манна небесная, в-третьих, в вас ни чуточки не стало меньше тяги к сцене… А в целом мне очень нужны ваши письма. Они меня будоражат, дразнят. Когда приходит письмо с размашистым почерком на конверте — будто подарок получила…
Но вот, дорогая, разболталась я. Сейчас ничего не играю, и не тянет играть ни в какую. Для меня готовят пьесу на основе старинной легенды…
Имею предложение на телевидении сыграть миссис Сэвидж и еще одну мать в хрустальном зверинце. Я столько замечательных строк прочла в вашей Сэвидж (как мне хочется ее увидеть). Потому что она ваша — боюсь ее играть…
И Михаил Эдишерович (известный режиссер Чиаурели, муж Верико. — М. Г.) очень нежно приветствует вас… Ваша Верико Анджапаридзе».
Раневская не раз советовалась с подругой, посылая ей на одобрение тексты предложенных ей ролей. Вот отрывок из письма Анджапаридзе, отправленного Раневской после прочтения пьесы «Дальше — тишина»: «Текст своеобразно примитивный, и все очарование пьесы в душевном складе двух стариков, и до чего она правдива и на самом деле всегда нужная, злободневная. Я без слез не могу ее читать. Я обязательно ее сыграю. Еще раз спасибо вам за нее!
Пьесу на днях я вышлю вам, никому ее в руки не даю, сама же буду ее переводить…
Юбилей по поводу 50-летия артистической деятельности, кстати, через год мне стукнет 70, возраст, не требующий комментариев! Многое, многое в вашем письме преувеличено. Клянусь вам, я предельно искренна. Вы перестаньте меня так хвалить… А то я открою свои профессиональные секреты, и вам станет неловко».
В Театре имени Пушкина, при всей своей любви и к Александру Сергеевичу, и к этому зданию, где она когда-то играла у Таирова, Раневская задержалась ненадолго. Завадский, театр которого с ее уходом потерял многих зрителей, завел с ней переговоры о возвращении через посредника (им оказалась Елизавета Метельская). «Слушать не хочу ни о Завадском, ни о его театре, даже уборщицей туда не пойду», — отрезала Раневская в свойственной ей манере. И вдруг в какой-то день, обращаясь к Метельской, сказала: «Я бы вернулась в театр Завадского, если бы мне предложили что-то из Достоевского. Я продолжаю сама с собой играть Антонину Васильевну, но чувствую, что созрела сыграть Марию Александровну. Недавно перечитывала „Дядюшкин сон“ — так хочется побывать Марией Александровной!»
Изменить отношения к предложению Завадского ее заставили трудности, возникшие в отношениях с руководством Театра имени Пушкина. Все было точно так же, как в Театре имени Моссовета, — главный режиссер Борис Равенских и его ведущая актриса Вера Васильева решили, что Раневская получает слишком большую долю зрительских похвал, оттесняя их в сторону. Опять-таки никто ее не выгонял — просто перестали давать роли. Последнюю роль в этом театре — Прасковью Алексеевну в пьесе Алексея Толстого «Мракобесы» — она сыграла весной 1960-го, после чего потянулись долгие «безрольные» месяцы. Бездельничать она, как известно, не умела, поэтому, формально оставаясь в штате театра, на целых пять лет ушла в кино.
В 1961 году она сыграла главную роль в фильме режиссера Надежды Кошеверовой «Осторожно, бабушка!» (опять эти бабушки!). Задуманный как развлекательный, фильм сводился к бесконечной беготне бабушки, решившей устроить личную жизнь любимой внучки. Разумеется, это не лучшая роль Раневской в кино, но тем не менее именно после этого фильма ей присвоили звание народной артистки СССР. Судьба не раз играла с ней в подобные игры — вспомним, что за далеко не лучшую свою роль фрау Вурст в фильме «У них есть Родина» Раневская впервые удостоилась Сталинской премии.
Незадолго до «Бабушки» она сыграла роль Свиристинской в комедийном фильме Александра Файнциммера «Девушка с гитарой», тоже не блещущем особыми достоинствами. В том же 1961 году она снялась в роли Мурашкиной в телевизионном фильме Георгия Ливанова «Драма», а в 1963 году снималась в фильме «Так и будет» (по драме Виктора Розова) и в фильме Вениамина Дормана «Легкая жизнь» (в роли спекулянтки «Королевы Марго»), Несколько раз она появлялась на экране в популярных тогда киножурналах «Фитиль», бичующих «отдельные недостатки». Все перечисленные роли, кроме, быть может, Мурашкиной в чеховской «Драме», особого следа в творчестве Раневской не оставили.
Говорят, что в это время Юрий Завадский как-то сказал ей: «Фаина Георгиевна, не могу понять, почему вы ушли из нашего театра и так долго размышляете о возвращении. Я знаю, что вы мечтаете о Достоевском. Федор Михайлович не нуждается в реабилитации, но даже в наши либеральные времена его не очень-то охотно пускают на сцену. Но мы обязательно поставим Достоевского с вами!» Тогда он впервые услышал, что больше всего Раневская мечтает сыграть в спектакле «Дядюшкин сон», поскольку ей кажется, что на фоне «Идиота», «Преступления и наказания» и других знаменитых романов Достоевского об этой его повести могут забыть. А ей очень хотелось, чтобы зрители услышали ее героев.
Это стало решающим аргументом в пользу перехода Раневской из Театра имени Пушкина, где ее существование стало в значительной мере номинальным, в Театр имени Моссовета. Первой ее ролью здесь стала, как и предполагалось, Марья Александровна Москалева в инсценировке повести «Дядюшкин сон». Напомним кратко фабулу этого произведения. Марья Александровна Москалева благодаря непревзойденному умению пустить пыль в глаза, «убить» соперницу метким словом и ловко пушенной сплетней признана «первой дамой» губернского города Мордасова. Все ненавидят ее и боятся, однако признают ее влияние. Ее супруг Афанасий Матвеевич, простоватый и до крайности запуганный женой, когда-то лишился места «за неспособностью и слабоумием» и живет один в «подгородной деревне», парясь в бане и попивая чай. У Москалевых всего сто двадцать душ имения, а Марья Александровна мечтает о блестящей жизни в «высшем обществе», единственный путь к которой — выгодное замужество ее юной и красивой дочери Зины. Запретив Зине выйти за влюбленного в нее учителя, мать находит для нее «идеального» жениха — богатого «полупокойника», князя К. Заманив старика в гости, она заставляет дочь спеть романс, который будит в князе страстные воспоминания. Искусно направляемый хозяйкой, подвыпивший и расчувствовавшийся бонвиван делает Зине предложение. Но соперник князя Мозгляков, получивший отставку, вовремя убеждает полоумного «дядюшку» в том, что предложение Зине — всего лишь его очаровательный сон. Через год Зина выходит замуж за пожилого генерала, губернатора «отдаленного края», где становится первой дамой. Марья Александровна получает возможность блистать в «высшем обществе», равнодушно погубив ради этого душу своей дочери, сделав из нее такую же беспринципную хищницу, как она сама.
Спектакль «Дядюшкин сон» в Театре имени Моссовета был поставлен в 1964 году. Об этой роли Раневской вспоминал уже цитированный нами артист театра Константин Михайлов: «Особенно близко мне довелось соприкоснуться с Фаиной Георгиевной в большой работе над „Дядюшкиным сном“ по Достоевскому, которая всех нас очень увлекала. Марья Александровна Москалева — „первая дама в Мордасове“! О, сколько в ней было энергии, изобретательности, хитрости, умения вести интригу, управлять своим болваном-мужем! Сколько умения льстить, очаровывать, любезничать, обольщать провинциальным — мордасовским — изяществом! Сколько распорядительности, решительности — Наполеон в кринолине, да и только! И все это для того, чтобы заставить развалину, выжившего из ума князя жениться на ее дочери, на ее обожаемой Зине. А главное — заставить Зину. И тут идут в ход и слезы, и необузданная фантазия — только бы уговорить дочь подыгрывать ей. Вот уже близка победа… И вдруг осечка — полное крушение, падение, осмеяние… Роль давала Раневской возможность использовать богатейшие возможности — контрастные краски, стремительные переходы, широкую амплитуду чувств, настроений… Я вспоминаю, как упорно, как жадно она работала над нелегко дававшимся ей материалом».
В середине 1960-х годов, когда советским режиссерам было, наконец, позволено ставить пьесы современных западных авторов, Завадский неоднократно обращался к европейской и американской драматургии, лично общался с Артуром Миллером, Бертольтом Брехтом, Генрихом Бёллем. Одним из результатов этого общения стала блистательная постановка по роману Бёлля «Глазами клоуна» с Геннадием Бортниковым в главной роли. Попасть на этот спектакль было не то чтобы трудно — невозможно, зрители по ночам стояли в очереди за билетами. Даже самой Раневской оказалось непросто его увидеть.
Немудрено, что следующая ее роль также оказалась связана с пьесой иностранца — американского драматурга Джона Патрика. Она сыграла главную роль в поставленном в 1966 году спектакле «Странная миссис Сэвидж». Сюжет необыкновенный для советской сцены — большая часть действия происходит в психиатрической больнице. У миссис Сэвидж скончался муж, и она оказалась полновластной хозяйкой огромных семейных капиталов. Дети решили, что она не сумеет правильно распорядиться деньгами, и отправили ее на лечение в психушку. Заметим, собственных детей у миссис Сэвидж не было — были лишь пасынки и падчерицы, но, согласно завещанию, владелицей наследства стала именно Сэвидж. Дети сделали все, чтобы настроить медперсонал против своей мачехи, но вскоре — не последнюю роль здесь сыграли доброта и характер миссис Сэвидж — у нее появились союзники среди пациентов больницы. В итоге объявленная безумной пожилая женщина оказалась более нормальной, чем ее молодые родственники, одержимые жаждой богатства.
Неожиданно для многих Завадский пригласил режиссером этого спектакля Леонида Варпаховского, который лишь недавно вернулся в Москву после восемнадцатилетнего пребывания в сталинских лагерях, но сохранил свой талант и желание работать. Варпаховский в то время мало знал Фаину Георгиевну, но, посмотрев ее в других спектаклях, решил, что хочет видеть в роли миссис Сэвидж только ее. Его предупредили, что работать с Раневской очень непросто: «Кто будет режиссером, вы или Раневская, сказать трудно. К тому же она будет утверждать, что „родилась“ в недрах МХАТа, что сам Немирович-Данченко мечтал видеть ее в своем театре. Много чего может говорить о себе Раневская, но не делайте ей замечаний». «С такими актерами, — озадаченно заметил Варпаховский, — мне еще работать не приходилось». Все эти разговоры не оттолкнули его от встречи с Раневской, а скорее заинтриговали.
Работать с актрисой режиссер начал весьма своеобразно. Их первые встречи, переходящие в репетиции, происходили на одной из скамеек Сретенского бульвара. Фаина Георгиевна долго не могла понять методику работы Варпаховского, но талант в нем учуяла быстро и от работы с ним не собиралась отказываться. Постепенно их «творческая лаборатория» на бульваре стала привлекать внимание случайных прохожих: «Фаина Георгиевна, произносите слова роли так, чтобы на вас не оборачивались». Иногда Раневская вдруг прекращала репетицию, сообщала, что ее дома ждет собака — любимый по кличке Мальчик, — и приглашала Варпаховского к себе домой. Дальше она почти каждый раз предлагала режиссеру погладить «псину» и ревниво справлялась о том, нравится ли ему Мальчик. Леонид Викторович, как и многие, заработавший в лагерях стойкую неприязнь к собакам, отвечал уклончиво. Постепенно репетиции «Странной миссис Сэвидж» перенеслись на квартиру Раневской.
Варпаховский не раз жалел о своем решении, но тем не менее отказаться от Раневской уже не мог. Поговаривали, что, когда Завадский предлагал на роль Сэвидж других актрис, Варпаховский и слышать об этом не хотел: «Только Раневская может сделать этот спектакль триумфальным».
Я видел Раневскую в этом спектакле не раз и, с каждым разом всматриваясь в ее лицо, понимал, что присутствую при сотворении чуда. Я видел слезы на глазах многих зрителей, когда шел спектакль, и хотя его финал вполне оптимистичен, зрители уходили со слезами на глазах. Елизавета Моисеевна, которую я тоже не раз видел в зрительном зале, говорила мне: «Какое счастье, что у Варпаховского хватило терпения выдержать Фаину!» А спектакль шел более ста раз — каждый раз по-новому, но всегда с триумфом.
С первой звездой советского кино Любовью Орловой Раневская познакомилась, скорее всего, в 1946 году на съемках фильма «Весна». Почему Александров привлек к участию в этом фильме Раневскую, вполне объяснимо — он всегда любил участие звезд в своих фильмах. В тот период Раневская ближе познакомилась и с самим Александровым, и с его очаровательной супругой, но по-настоящему их сдружил спектакль «Странная миссис Сэвидж», главную роль в котором Раневская довольно неожиданно решила уступить Орловой. Впрочем, неожиданность эта легко объяснима. Спектакль держался в репертуаре Театра имени Моссовета немало лет, роль миссис Сэвидж Раневская сыграла около ста раз, и каждый раз в ее игре появлялось что-то новое. Елизавета Моисеевна Метельская рассказывала: «Мне всегда казалось, а скорее, я чувствовала, что Фаине Георгиевне уже надоела миссис Сэвидж, то есть она созрела, чтобы расстаться с ней, но вместе с тем очень боялась, что ее будущая сменщица может превзойти ее в этой роли, ведь театр не кино, и увиденное на сцене сегодня завтра может оказаться совсем иным».
Уже через год после премьеры, в августе 1967 года, она направила руководству театра заявление, больше похожее на ультиматум:
«Спектакль „Странная миссис Сэвидж“ пользуется большой популярностью, и мое участие в нем налагает на меня особую ответственность, которую я одна не в силах нести.
В последнее время качество этого спектакля не отвечает требованиям, которые я предъявляю профессиональному театру. Из спектакля ушло все, что носит понятие искусство.
Чувство мучительной неловкости и жгучего стыда перед зрителем за качество спектакля вынуждает меня сказать вам со всей решимостью: или спектакль в таком виде должен быть снят, или немедленно, безотлагательно должны быть Вами приняты меры к сохранению спектакля в его первоначальном виде.
Для этого необходимо:
восстановить спектакль в первом составе (исключая больного Афонина);
провести с этим составом хотя бы две репетиции с режиссером-постановщиком Р. Варпаховским при участии главного режиссера театра.
Этими требованиями я делаю последнюю попытку спасти спектакль.
Если эти меры не будут приняты, я буду вынуждена отказаться от участия в спектакле.
Прошу Вас учесть, что мое решение твердо и неизменно».
Ее предложения были частично приняты, но недовольство накапливалось, и в начале 1970-х Раневская твердо решила отказаться от участия в спектакле. Быть может, одной из причин этого стала смерть ее партнера, замечательного актера Вадима Бероева (он умер в конце 1972 года). Но расстаться со спектаклем Театр имени Моссовета не пожелал, и тогда возникла мысль заменить «незаменимую» Раневскую. Конечно, и у Завадского, и у директора театра Лосева имелись сомнения по этому поводу, но выбора не было. Они предложили роль миссис Сэвидж Любови Орловой. Разумеется, вполне объяснимо, что Фаина Георгиевна при всем уважении к Орловой ревностно относилась к этому предложению.
Предвидя это, Любовь Петровна заявила руководству театра: «Пока Фаина Георгиевна сама не обратится ко мне с этим предложением, я играть в этом спектакле не буду». И Лосев преуспел: со свойственной ему дипломатичностью он уговорил Раневскую позвонить Орловой и сказать: «Любочка, если я кому могу отдать Сэвидж, так только вам. Без вас спектакль пропадет». Для Орловой участие в этом спектакле тоже стало своего рода жертвой. Если Раневская уже привыкла играть бабушек, то всеми силами старавшаяся скрыть свой возраст Орлова долгое время всячески избегала таких ролей. Хотя близился ее семидесятилетний юбилей, ее излюбленный афоризм «мне всего тридцать девять» оставался для нее всегда актуальным. Ее согласие играть миссис Сэвидж стало прежде всего проявлением уважения к таланту Раневской и в то же время желанием помериться с ней силами на сцене.
Раневская и Орлова до этого встречались не только на съемках фильмов Александрова («Встреча на Эльбе» и «Весна»), но и в спектаклях, например в горьковском «Сомове», где Любовь Петровна играла «в очередь» с Валентиной Серовой. Наверное, не последнюю роль в решении Раневской передать роль Сэвидж Орловой сыграло то, что Фаина Георгиевна, встречаясь с ней не только в театре и в кино, но и дома, во Внукове, видела в ней черты характера, свойственные Сэвидж: доброту, отзывчивость, искренность в общении.
Орлову и Раневскую объединяло еще одно: в молодости Любовь Петровна была ученицей Немировича-Данченко и Станиславского, а Фаина Георгиевна на вопрос, кого она считает своими учителями, помимо Павлы Леонидовны Вульф, всегда называла Станиславского. Пройдет немало лет, и Раневская напишет в своих записях: «Теперь читаю „Летопись жизни и творчества“ К. С. Станиславского и опять плачу от благодарности судьбе, которая подарила мне счастье видеть его на сцене».
Сохранилось несколько писем Орловой Раневской. Вот одно из них, написанное в сентябре 1947 года:
«Дорогая Фаина Георгиевна!
Очень я жалею, что не смогла довести свои хлопоты о санатории до конца. Беспокоюсь о Вашем здоровье. Вчера закончился фестиваль. „Весна“ получила премию. На Ваших кусках очень смеялись. Вы чудная актриса, и я Вас очень люблю… Венеция с водяными улицами меня не устраивает для жизни. Завтра едем в Милан и Флоренцию. Затем в Рим. Думаю, числа 1-ого будем в Москве, если не поедем во Францию. Впечатлений очень много. Все Вам расскажу при встрече. Целую Вас, дорогая. Гриша тоже Вас целует. Самый сердечный привет от нас Павле Леонтьевне. Ваша Л. Орлова. 16.IХ.47. Венеция».
Еще одно письмо Орловой было, вероятно, написано вскоре после премьеры спектакля «Дальше — тишина».
«Дорогая моя Фаина Георгиевна!
Дорогой мой Фей!
Очень прошу Вас набраться сил, желания, энергии, самовнушения во что бы то ни стало — выздороветь поскорее!
Во-первых, я Вас не видела в „Тишине“, а во-вторых, очень интересная получается у Вас роль у Гр. Вас. (Григорий Васильевич Александров. — М. Г.) в фильме, а самое главное, я могу Вас иногда долго не видеть, но совсем не могу, когда Вы больны!
Вспоминаю нашу последнюю встречу у Вас дома (не забыть бы мне спросить, почему-то Вы смеялись по-хорошему надо мной). Как это было симпатично и вкусно!
Я очень Вас люблю!
Когда сможете — приду.
Гр. Вас. шлет Вам самые сердечные приветы, а я обнимаю, целую.
Всегда Ваша
Люба Орлова».
Этель Ковенская, в прошлом актриса театра Михоэлса, поведала мне, что в годы, когда она работала в Театре имени Моссовета, она часто встречалась с Любовью Орловой, а с Раневской гораздо реже: «Не смейтесь надо мной, но я почему-то боялась Фаину Георгиевну, и даже в тех спектаклях, в которых мы встречались, наше знакомство дальше участия в них не продолжалось. У меня даже однажды спросила об этом Любовь Петровна: „Мне кажется, зря вы как-то сторонитесь Фаины Георгиевны. Она очень честный и удивительный человек“».
Свидетельств их дружбы осталось немало. Вот отрывок из ответа Орловой на письмо Раневской:
«…Спасибо за письмо. Оно было радостно в ссылке. Ненавижу гастроли!
К моему сожалению, не увижу Вас, но к моей радости — уезжаю домой.
Хочу пожелать Вам мужества, терпения, покоя в трудных условиях гастролей.
Ну что же делать? Утешайтесь тем, что сможете все проверить на этих спектаклях, обыграть роль для Москвы.
Путь все спектакли будут для Вас генеральными репетициями.
Не бередите себя, а берегите свои силы, здоровье и нервы! Все мои советы исходят из самой глубины моей души и любви к Вам!..
Всегда Ваша
Люба Орлова».
Тем не менее передача одной из лучших ролей Раневской другой актрисе не могла не вызвать у нее творческой ревности. Елизавета Моисеевна Метельская рассказывала мне, что по поручению Раневской она тайком ходила на репетиции спектакля с Орловой в заглавной роли и пришла к выводу, что Любовь Петровна играет «свою» миссис Сэвидж, на что Фаина Георгиевна ответила: «Я в этом не сомневалась». Надо сказать, что замена актрисы не повредила спектаклю: я видел один из первых спектаклей с участием Орловой и помню, как она выходила после окончания пьесы на бис. В это время все зрители подходили к рампе, чтобы любоваться ею, и долго еще не отпускали Орлову со сцены.
Любовь Петровна действительно играла миссис Сэвидж по-другому, чем Раневская, но никак не хуже. Руководство театра могло облегченно вздохнуть. Правда, не все критики были довольны заменой; кто-то из них свою рецензию по поводу игры Орловой в спектакле «Странная миссис Сэвидж» закончил словами: «Гениально — но не то». Как бы там ни было, отношения Орловой и Раневской Сэвидж не испортила — напротив, они стали еще теплее. Сохранилось письмо Орловой Фаине Георгиевне, написанное в январе 1974 года:
«Моя дорогая Фаина Георгиевна! Мой дорогой Фей!
Какую радость мне доставила ваша телеграмма! Сколько нежных, ласковых слов! Спасибо, спасибо вам!
Я заплакала — это бывает со мной очень-очень редко. Ко мне пришел мой лечащий врач, спросил: „Что с вами?“ Я прочла ему вашу телеграмму и испытала гордость от подписи РАНЕВСКАЯ, и что мы дружим 40 лет, и что вы — моя Фея. Доктор смотрел вас в „Тишине“ и до сих пор не может вас забыть. Спросил, какую вы готовите новую роль. И мне было так стыдно и больно ответить, что нет у вас никакой новой роли. „Как же так? — он говорит. — Такая актриса, такая актриса! Вот вы говорите, и у вас нет новой роли. Как же это так?“
Я подумала — нашему руководству не важно, будем мы играть или нет новые роли. Впрочем, он сказал: „Ведь ваш шеф слишком стар, он страдает маразмом и шизик, мне так говорили о нем“. Я промолчала, а когда он ушел, я долго думала: как подло и возмутительно сложилась наша жизнь в театре. Ведь вы и я выпрашивали те роли, которые кормят театр…
Мы неправильно себя вели. Нам надо было орать, скандалить, жаловаться в Министерство, разоблачить гения с бантиком и с желтым шнурочком и козни его подруги, но… у нас не тот характер. Достоинство не позволяет.
Я поправляюсь, но играть особого желания нет, я вся исколота. Вместо попы сплошные дырки, а вместо вен — жгуты на руках. Я преклоняюсь перед вашим мужеством и терпением, ведь вас каждый день колят!..
Я нежно вас целую, обнимаю, очень люблю. Всегда ваша Люба Орлова».
Это письмо было написано Орловой, когда Любовь Петровна находилась уже в больнице с неоперабельным раком. Фаина Георгиевна посещала ее там. Как могла — успокаивала, хотя ей, как она сказала однажды, больше жаль было Александрова, который очень быстро, за месяц болезни Орловой, превратился в старика. В какой-то день, это было уже весной 1974 года, Александров, увидев Раневскую, сказал, обращаясь к Орловой: «Любочка, а не пригласить ли нам Фаину Георгиевну на главный праздник нашей жизни?» (23 мая ежегодно Александров и Орлова отмечали день своего знакомства.) Но, увы, следующий праздник не состоялся — Любовь Петровна умерла.
Двадцать второго января 1975 года у Орловой случился приступ настолько сильный, что она потеряла сознание, но, как только пришла в чувство, стала уговаривать мужа, чтобы он поехал домой: «Ведь мы завтра должны отметить ваш день рождения, Григорий Васильевич» — как известно, супруги, прожившие вместе сорок лет, всегда обращались друг к другу на «вы». Григорий Васильевич поддался агитации жены и врачей, но, разумеется, уснуть в ту ночь не смог. Утром 23 января раздался звонок, и он услышал странную фразу, произнесенную Любовью Петровной: «Я так долго жду вас, где же вы?» Когда он оказался у постели больной, услышал слова, которые оказались последними, произнесенными Орловой: «Как долго я вас ждала!»
Разумеется, перечислить всех актеров из Театра имени Моссовета, с которыми общалась Раневская, непросто. Ведь этот театр — единственный, в котором Фаина Георгиевна работала дважды, в общей сложности почти четверть века.
В этой главе я хочу рассказать о немногих из тех, кому выпало счастье встречаться и дружить с Раневской. Из молодежи театра в первую очередь хочется вспомнить юного в понятии Фаины Георгиевны Геннадия Бортникова. С Бортниковым судьба свела Раневскую в Театре имени Моссовета. Сразу угадав в нем большой талант, она записывала в дневник: «Вновь родиться, чтобы играть Раскольникова. Нужно в себе умертвить обычного, земного, нужно стать над собой, нужно искать в себе Бога. Как мне жаль, что я не могу быть для него тем, чем была для меня ОНА (Павла Вульф. — М. Г.).
Б. должен убить в себе червяка тщеславия, он должен сказать себе: „Я ничего не сыграл еще, я плюю на успех, на вопли девочек и мальчиков, я должен прозреть и остаться один на один с собой и с Родионом“.
Господи, помоги ему!
Я ничего не требую от Б. потому, что роль эта делается годами, но что я хочу от него?»
В 1995 году (21 декабря) Геннадий Бортников опубликовал в «Общей газете» статью «Игры великих». В ней он много интересного рассказал о Раневской. Вот отрывок из этой статьи: «Раневская перед репетицией почувствовала себя неважно. Режиссер попросил Сошальскую подменить Фаину Георгиевну. И вот мой монолог закончился, черный бархатный занавес должен быстро подняться, обнажив место действия. И надо же было „верховому“ не вовремя нажать кнопочку бобины, на которую накручивался этот бархат!.. Занавес дернулся. Сошальская, которая изображала Раневскую, стояла на этом, чуть загнутом бархате. Туфли на шпильках, шпилька проткнула бархат, и Варвару Владимировну стало поднимать вверх на колосники. Актриса тихо повизгивала, все, кто был в зале, замерли. Бархат трещит, столбы пыли в лучах направленного света… И вдруг из зала раздается голос Раневской, обращающейся к режиссеру: „Голубчик, прости, но этого я повторять не буду, это чистая мейерхольдовщина!“
Однажды мы вместе с Фаиной Георгиевной застряли в театральном лифте. Ну, просидели там какое-то время, и лифт двинулся вниз, где нас уже встречали взволнованные артисты: „Как вы там? Не страшно ли было? Не жарко ли?“ И вдруг Фаина Георгиевна резко отскакивает от меня в сторону, прижимается к стене. „Фаина Георгиевна, что такое, вам плохо?“ — „Нет, — говорит мне Раневская. — Просто мы с вами так долго были вместе, что я теперь скомпрометирована. Вы, Гена, должны немедленно на мне жениться!..“
Про Фаину Георгиевну расскажу еще историю.
У Фаины Георгиевны была домработница, звали ее Нюра.
Однажды к Раневской пришли гости и начали просить ее показать награды. Фаина Георгиевна полезла в комод, где лежала ее шкатулка со всеми наградами, открывает — а шкатулочка пустая!.. Раневская, конечно, в ужасе: „Меня обокрали, мой иконостас расхищен!..“ Ну, погоревала, погоревала, сказала, что утром позвонит в милицию. И вдруг в этот момент открывается дверь и входит Нюра — грудь вся в орденах и медалях Раневской. Фаина Георгиевна, естественно, интересуется: что все это значит? Домработница вся в слезах, падает на колени… Короче говоря, выясняется, что Нюра влюбилась в пожарного или шофера и, завоевывая его любовь, решила на свидания надевать все регалии Раневской, чтобы он проникся к ней уважением…»
Разумеется, Ия Саввина и Раневская, много лет работая в одном театре, были знакомы, но узнали друг друга по-настоящему, когда Ию Сергеевну ввели в спектакль «Странная миссис Сэвидж». Это произошло уже в пору, когда Раневская была больна и Варпаховский с актерами иногда проводили репетиции у нее дома. Из воспоминаний Ии Саввиной: «Фаина Георгиевна утверждала, что начни она жизнь сначала — стала бы археологом. Мне кажется, наоборот — будучи археологом, все равно стала бы актрисой. Человек высокой культуры, она практически знала литературу, увлекалась биологией и генетикой. Археология, пласты миллионолетней культуры, опыт всего человечества. Раневская жила скромно: „Вот мое богатство“ — и при этом обводила рукой стены квартиры. Портреты Ахматовой, Пастернака, Качалова, Щепкиной-Куперник, Улановой, Акимова с дарственными надписями».
Известно, что в последние годы жизни Фаина Георгиевна нередко раздражалась, капризничала. Дело было не только в возрасте. Однажды, беседуя по телефону с Ией Саввиной, которую накануне чем-то обидела, она сказала: «Я так одинока, все друзья мои умерли, вся жизнь моя — работа. Совсем молодой я осталась в России одна, без родственников, по двум причинам — не мыслила жизни без театра, а лучше русского театра в мире нет. Но и это не главное… А я работаю трудно, меня преследует страх перед сценой, будущей публикой, даже перед партнером. Я не капризничаю, девочка, я боюсь. Это не от гордыни…»
В другом разговоре Раневская поведала Саввиной: «В двадцатые годы наша сборная труппа играла в Крыму. Мы погибали от голода. Наконец решили пойти к комиссару. Сидел человек с закрытыми глазами. Я сказала: „Не могу говорить с вами, если вы на меня не смотрите“. Он открыл глаза — это были страшные, кровавые глаза: „Я не сплю четыре месяца“. Какие были люди!»
Среди моссоветовской «молодежи» Марина Неелова занимала особую нишу, и неслучайно Фаина Георгиевна выделяла ее среди других актеров, с которыми поддерживала дружбу. Неелова лучше других чувствовала одиночество Раневской. «Девочка, если бы вы знали, как я одинока!» — признавалась она Марине. И хотя об одиночестве она говорила и Елизавете Моисеевне Абдуловой, но та относилась к проблемам подруги без особого сочувствия: «Скажи, чего тебе не хватает? У тебя даже Мальчик есть, а ты жалуешься». Совсем по-иному одиночество Раневской воспринимала Неелова: «И собака, и цветы, и птицы — все не так одиноки, как она. Страшное слово — одиночество — произносится ею без желания вызвать сострадание, а так, скорее констатация факта. И сердце сжимается, когда это слышишь именно от нее, от человека, любимого всеми. Сидит в кресле, днем с зажженным торшером, читает без конца, беспокоится о Мальчике, кормит птиц, почти ничего не ест…»
Вот типичный разговор Фаины Георгиевны с Нееловой: «Ешьте, вы мало едите. Вот творог. Хотите, я вас научу делать творог? Он страшно полезный. Я сама его делаю… Если бы вы знали, как он мне надоел. Не ешьте творог, я поищу нормальную пищу». И тут же не забывает обратиться к Марине с просьбой: «Погладьте моего Мальчика… Вы знаете, как он переживал, когда я болела? Он так страдал за меня! Ночью я упала и не могла подняться, и некого позвать… Надо терпеть до утра… А он пришел, стоит рядом и страдает — я люблю его…»
И снова рассказ Нееловой: «Цветы в почти пустой квартире. Пустой холодильник… „Мне все равно ничего нельзя“, — говорит Раневская. Единственные продукты, имеющиеся в квартире, — пакеты с пшеном на подоконнике для птиц и птичек. Впрочем, квартира очень даже не пустая: книги, книги, книги, многие на французском языке („мой Мальчик знает всю французскую поэзию“), „Новый мир“, газеты, очки. И на всех обрывках листов, на коробках — записанные, зафиксированные в эту секунду, пришедшие мысли. Кое-где споры, замечания. На одной странице жестокая характеристика известного театрального деятеля: „Он великий человек, он один вместил в себя сразу Ноздрева, Собакевича, Коробочку, Плюшкина — от него исходит смрад“».
А вот что писала Фаина Георгиевна о Нееловой в своем дневнике:
«В телепередаче недавно увидела актрису Неелову. Два больших отрывка большой актрисы. Позвонила в театр, ее телефона не дали. Она была у меня, в ней есть что-то магическое. Магия таланта. Очень нервна, кажется даже истерична. Умненькая, славная, наверное несчастна. Думаю о ней, вспоминаю. Боюсь за нее. Она мне по душе, давно подобной в театре, где приходится играть (хотя я и не признаю этого слова в моей профессии), не встречала. Храни ее Бог — эту Неелову» (1 марта 1980 года).
«Если окружение — богема — она погибнет. Вчера вечером она мне позвонила, опять все думала о ней. Сочетание в ней инфантильного с трагическим. Вызывает во мне восхищение ее талант и сострадание к ее беззащитности. Огорчает то, что помочь я ей бессильна. Ей нужен учитель, а я не умею, она сама с собой не умеет, да и не хочет сделаться такой, какой должна быть!» (2 марта 1980 года).
Еще из воспоминаний Марины Нееловой: «Приезжаю от нее домой, звонок: „Как вы доехали? Я беспокоилась“. Я не успеваю позвонить, а она успела». Фаина Георгиевна относилась к Нееловой по-матерински: «Боюсь за вас, только не пейте! Я так испугалась вашего голоса, я боюсь, что после спектакля вы идете в ресторан и гуляете!» — «Фаина Георгиевна, дорогая! Это невозможно, я в рестораны не хожу вообще, не люблю, и это для меня может быть только наказанием». — «Спасибо, деточка! Не растрачивайте себя впустую». И она напомнила Нееловой афоризм: «Искусство — половина святости».
И еще из воспоминаний Нееловой: «Почти целый день провела у нее. Опять уезжала с тяжелым чувством, что оставляю ее одну; прощаясь, вижу, мне кажется, слезы у нее на глазах, и сама чувствую комок в горле и щемящую боль, тепло, нежелание расставаться, и хочу просто вот так смотреть на нее, просто эгоистически впитывать все, что она мне дает, даже в самые краткие моменты общения, даже по телефону, когда не вижу глаз, и только слышу ее мысли, пытаюсь их сопоставить со своими и почти всегда внутренне соглашаюсь. Уходя, еще раз прощаюсь не только с ней, взглядом окидываю комнату, а она, явно не желая проститься со мной, говорит: „Попрощайтесь с Мальчиком, мне кажется, он скучает без вас“. Уходя, я вдруг спросила: „Фаина Георгиевна, вы верите в Бога?“ — „Я верю в Бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, что это дело рук Божьих“».
Читая разговор Нееловой с Раневской о Боге, я почему-то вспомнил слова из Евангелия от Иоанна: «Бог есть любовь». И еще мысль из «Этики» Спинозы: «Бог существует, ибо он необходим».
В кругу знакомых Раневской было множество таких людей, которые попали в ее дом случайно: кто-то привел, кто-то порекомендовал. Одиночество Фаины Георгиевны заставляло ее с вниманием относиться даже к этим случайным посетителям. Человек, о котором я хочу рассказать, не относился к их числу, хотя первоначально актрису МХАТа Брониславу Ивановну Захарову прислала к Раневской в качестве помощницы Елизавета Моисеевна Абдулова.
После очередного пребывания в больнице осенью 1977 года Раневская как бы для себя отметила: «Завтра еду домой. Есть дом и нет его. Хаос запустения, прислуги нет, у пса моего есть нянька — пещерная жительница. У меня никого. Что бы я делала без Лизы Абдуловой?! Она пожалела и меня, и пса моего — завтра его увижу, мою радость; как и чем отблагодарить Лизу — не знаю… Завешаю ей Мальчика! 13.11.77 г.».
Если бы это случилось, то Мальчик был бы не первой общей собакой, «мамами» которой были одновременно Раневская и Абдулова. В 1946 году на встрече Нового года в ЦДРИ Абдулова и Михоэлс станцевали польку так зажигательно, что получили за это первый приз — собаку, названную Цдришкой. Сначала за собаку случались «бои местного значения», но потом Соломон Михайлович твердо сказал, что собака будет жить на Тверском бульваре, то есть в доме у него и у Анастасии Павловны. Маленький Сева Абдулов, очень тосковавший по Цдришке, ходил с мамой встречаться с ним, и Раневская, очень привязанная к Севе, иногда сопровождала их на эти встречи. Однажды Сева спросил маму, почему его любимая собака живет не у них, а у других людей. Фаина Георгиевна, услышав этот вопрос, сказала: «Севочка, у Цдришки две мамы: Анастасия Павловна и твоя мама. Вот так и будешь ходить к нему в гости, а братик у него только один — это ты».
Елизавета Моисеевна с годами не раз вспоминала эти слова Раневской, вспомнила она о них и на вечере памяти по Соломону Михайловичу. Тогда же Раневская рассказывала со слов Анастасии Павловны о том, как Ццришка, учуяв за сотни верст, что хозяин его погиб, отказывался от еды в течение нескольких дней.
Но вернемся к рассказу Брониславы Захаровой: «Отправить меня к Раневской решила Елизавета Моисеевна Абдулова — я дружила и с ней и с Севой, к тому же мне легко давалось пародирование. Вот и к Раневской я пришла под видом Татьяны Пельтцер: „Броня, давай сделаем так: ты позвонишь в дверь и голосом Татьяны Ивановны сообщишь о своем появлении“. Действительно, очень скоро из квартиры я услышала: „Танечка, я бегу!“ Открыв дверь и увидев мое лицо, Фаина Георгиевна изумилась, глаза ее заметно округлились. Тут же раздался звонок, и в трубке я услышала голос Елизаветы Моисеевны: „Фаина, я тебе все расскажу при встрече, но эта твоя будущая помощница очень хорошо изображает Пельтцер“. Фаина Георгиевна спросила: „Откуда эта студентка знает Пельтцер?!“ Тут я отважилась подать голос: „Я видела спектакли с ее участием, и мне так понравилась ее игра, что я запомнила многие ее фразы и быстро стала ее копировать“».
Фаина Георгиевна окинула взглядом новую знакомую и, спросив ее, что она еще умеет, пригласила на следующий день к 11.00. В назначенное время следующего дня Захарова в игривой кожаной кепке была уже в квартире Раневской. Повязав фартук, она произнесла: «Жду указаний!» — на что Раневская скомандовала: «Идите в ванную и стирайте белье». Заглянув в ванную, Бронислава Ивановна увидела такую картину: ванна была заполнена до краев замоченным бельем, там было все — от верхней одежды до нижнего белья. Захарова с рвением принялась за работу, тщательно терла руками, старательно отстирывая белье «самой Раневской».
После того как Захарова справилась с заданием, Раневская ее спросила: «Сколько же вам лет?» Бронислава Ивановна соврала, что ей двадцать четыре года (на самом деле ей было уже за тридцать). Сообщила, что подрабатывает в фирме «Заря», а в свободное от работы время обучается в Сельхозтехникуме на факультете «Парники». На самом же деле Бронислава в ту пору работала в ТЮЗе, играла в спектакле «Дорогой мальчик» по пьесе Сергея Михалкова. Она предупредила Раневскую, что в ближайшие дни ходить к ней не сможет, так как у нее начинается сессия. Вскоре они сдружились, и по просьбе Раневской Бронислава часто пародировала гостей Раневской, веселя до слез и их, и хозяйку дома.
Прошло какое-то время, и Фаина Георгиевна спросила, сколько она ей должна, на что Бронислава ответила:
— Пятьдесят копеек в час.
— Ты была со мной целые дни, хорошо помогала мне и, кроме того, исправно обеспечивала питанием этих сволочей (имелись в виду голуби, постоянно заполнявшие подоконник Раневской в ожидании корма. — М. Г.). Так мало платить тебе я не могу!
Когда у Раневской появился Мальчик, дружба Захаровой и Раневской стала еще крепче: «Все это время, пока я „подрабатывала“ у Раневской, она не догадывалась, кто я такая, и даже не предполагала, что я уже состоявшаяся актриса». И вот 31 декабря в одиннадцать часов вечера, когда Бронислава накрывала на стол, раздался звонок в дверь, на пороге появилась знакомая Брониславе женщина — кассир из театра, принесшая Фаине Георгиевне зарплату. Захарова поняла, что ее разоблачили, и действительно вскоре из коридора раздался голос Раневской:
— Деточка, как ваша фамилия?
— Захарова! — крикнула Бронислава.
— Так вы, оказывается, деточка, моя коллега? Всякое со мной случалось, но такого еще не было! Я никогда не прощу Лизе этого! Теперь я понимаю, почему ты не хотела брать деньги за свой тяжкий труд.
— Фаина Георгиевна, Елизавета Моисеевна, поверьте, не виновата, и она, и я искренне хотели вам помочь.
— Нет, я не могу этого простить! — буквально рыдала Раневская.
Потом она мне рассказала, что кассир, принесшая зарплату, спросила:
— А что у вас делает актриса Захарова?
Но этого разоблачения оказалось недостаточно. В 11.30, перед самым Новым годом, поздравить Раневскую зашла соседка, жена писателя Ардаматского, и вместо поздравления задала вопрос:
— Фаина Георгиевна, а что у вас делает Броня?
На сей раз Раневская ответила спокойно:
— Если бы этот вопрос прозвучал час назад, меня бы хватил инфаркт!
Бронислава Ивановна продолжает:
«Мы с Фаиной Георгиевной очень мило встретили этот Новый год, а в первом часу ночи пришла Нина Станиславовна Сухоцкая, с которой, как оказалось, мы знакомы. Это была одна из самых незабываемых встреч Нового года. Я часто бывала у Раневской в больнице, а потом, после ее возвращения, какое-то время жила у нее. Даже научилась ставить укол с инсулином, правда, у меня появились „соперницы“ — участковые врачи приходили каждое утро делать уколы, только бы пообщаться с Раневской. Принимала она врачей по-царски: кофе, чай, шоколад. Очень любила беседовать с врачами и не только на медицинские темы. Часто вспоминала о врачах, которых помнила еще по Таганрогу. Однажды, достав томик писем Чехова, прочла: „…B Таганроге, кроме лечебницы Гордона, будет еще водопровод, трамвай и электрическое освещение. Боюсь, что электричество не затмит Гордона, и он долго еще будет показателем таганрогской культуры“». Фаина Георгиевна рассказала, что областная физиотерапевтическая больница, основанная в Таганроге Давидом Марковичем Гордоном, заведовавшим этим учреждением до своей кончины, какое-то время носила его имя: «Я еще помню новейшее по тем временам оборудование, находившееся в водолечебнице. Сам Чехов был пациентом Давида Гордона. Он нередко доверял свое здоровье этому врачу».
Продолжим рассказ Брониславы Ивановны: «По утрам, когда врачи сообщали, что сегодня не могут, она просила меня: „Если приласкаешь Мальчика, то разрешу тебе вколоть инсулин“. Сейчас уже точно не помню, сколько лет я помогала Раневской — кажется, с 1976 года по 1982-й. Но в памяти моей остался каждый час общения с ней. Величественная, даже великая, сидела она за столом и вспоминала Ахматову и то, как любила она произведения Бабеля в исполнении Раневской, в особенности „Закат“. Я однажды попросила ее прочитать этот рассказ, на что получила ответ: „Без Анны Андреевны я забыла, но прочту кое-что другое“. И тогда я услышала в ее гениальном исполнении „Раввина“ Бабеля. Она так читала этот рассказ, что мурашки бегали по коже. Я впервые услышала мелодию еврейского языка на русском. Потом она была задумчивой, сосредоточенной; в нормальное состояние возвращал ее Мальчик, который, казалось, тоже был увлечен ее чтением: „Мальчик, родной мой! Я и не заметила, как родила собаку. Скажите правду, Бронислава, он похож на меня?“ — спрашивала Раневская, лаская Мальчика».
Бывало, что Раневская ревновала Мальчика к Броне. Она даже сочинила стихи по этому поводу, носившие название «Посвящение Масику, изменившему мне ради Брониславы Захаровой»:
Масик, маленький, родной,
Он приполз ко мне домой,
Он со мной и день и ночь,
Потому что он мне дочь!
Мальчик так привязался к Брониславе Захаровой, что едва пережил расставание с ней. Из записей Раневской: «Мой подкидыш в горе. Ушла нянька, которая была подле него два года (даже больше), наблюдаю псину мою. Он смертно тоскует по няньке. В глазах отчаяние. Ко мне не подходит. Ходит по квартире, ищет няньку. Заглядывает во все углы, ищет. Упросила няньку зайти, повидаться с псиной. Увидел ее, упал, долго лежал, не двигаясь, у людей это обморок, у собаки больше, чем обычный обморок. Я боюсь за него, это самое у меня дорогое — псина моя человечная».
Раневская не раз говорила: «Бронислава досталась мне от Елизаветы Моисеевны, а Елизавета Моисеевна в наследство от Абдулова. Что бы я делала без добрых своих друзей?» Приведем еще один фрагмент из воспоминаний Брониславы Ивановны: «Через какое-то время, обратившись ко мне: „А Райкина показывать можете?“ Я сказала, что, пожалуй, не могу, да и вообще он не принадлежит к числу любимых мною актеров. Впервые я увидела Раневскую не просто сердитой, но разгневанной: „Мне жаль вас, если вы не поняли, какой это великий актер!“».
Раневская, чрезвычайно придирчиво относившаяся к артистам, высоко ценила Аркадия Райкина. Вот отрывок из ее дневника: «27.01.1977 года. У меня сегодня день особый, счастливый день. Сейчас позвонил Аркадий Райкин, а он ведь гениальный. Он сказал, что хотел бы что-то сыграть вместе со мной. Горжусь этим, очень горжусь. Что-то, значит, хорошее во мне есть — в актрисе…» К сожалению, им так и не довелось сыграть вместе, но благоговейное отношение друг к другу они сохранили до конца своих дней.
Особое место среди друзей Раневской занимала Елена Камбурова. Они познакомились в 1970-е годы, когда Камбурова еще только создавала свой уникальный жанр — сплав песни, музыки и актерской игры. В книге Алексея Щеглова приводится запись из дневника Раневской: «Талантливая Елена Камбурова. Услыхала ее однажды по радио, и я туда писала о ней с восхищением. Ее преследуют за хороший вкус». Тогда же Раневская написала в исполком Моссовета письмо в поддержку певицы:
«Творческие поиски артистки Елены Антоновны Камбуровой привели ее к созданию на сов. эстраде направления, которое родственно театральному искусству. Многие рецензии в нашей стране и за рубежом озаглавлены „Театр Е. Камбуровой“.
Искусство Е. К. уникально. В ее творчестве счастливо сочетаются искусство драматической актрисы и певицы. 15 лет самоотверженной упорной работы поставили ее в один ряд с ведущими мастерами сов. эстрады. Ее способность предельно точно выражать себя в публицистическом жанре послужила основанием для присуждения ей в 1968 г. премии Московского комсомола.
Е. К. — актриса высокой культуры. Она знакомит зрителя с лучшими произведениями сов. и зар. авторов. В ее репертуаре несколько сольных программ. Песни, баллады, муз. новеллы, исполняемые Е. К., создают атмосферу поэтического раскрытия мира, доносят до зрителя самые сокровенные движения человеческой души, помогают ему занять бескомпромиссную гражданскую позицию сов. человека».
В интервью петербургскому журналисту А. Самойлову (еженедельник «Дело», декабрь 2002 года) Камбурова так рассказала о своем знакомстве с Раневской: «Фаина Георгиевна приехала на гастроли в Ленинград и включила в гостиничном номере радио в тот самый момент, когда я начала читать „Нунчу“ (инсценировка рассказа М. Горького)… Судьбе или случаю (уж не знаю, как назвать) было угодно, чтобы мы встретились. Появился один человек и говорит: „Я еду сегодня к Раневской. Хочешь посмотреть, как она живет?“ Раневская обычно говорила: „Я страшна в гневе“. И нас она встретила без всяких любезностей. Первое тепло пошло, когда она спросила моего спутника: „А это кто?“ Я назвалась и, в свою очередь, спросила, писала ли она письмо о моей „Нунче“ на радио. Настроение Раневской переменилось на 180 градусов: „Деточка, как хорошо, что Вы не фифа“. И еще: „Запомните: я Вас благословляю“.
А когда мы уходили, Раневская сказала: „У Вас такой же недостаток, как у меня. Нет, не нос. Скромность“. Я, наверное, больше не пришла бы к ней: благословила — и все. Но надо было подписывать какое-то письмо. Я взялась отнести его на Южинский переулок. И то ли она увидела мое отношение к ее собаке (а я безумно люблю животных), то ли что-то еще, но Фаина Георгиевна сказала мне: „Приходите…“».
С годами их отношения стали настолько теплыми, что три последних года своей жизни Раневская встречала Новый год у себя дома вдвоем с Еленой Камбуровой. В том же интервью А. Самойлову Елена Антоновна вспоминает: «Фаина Георгиевна очень по-доброму относилась ко мне. Очень жалею, что у меня не было возможности часто бывать у нее: у нас тогда были большие плановые гастроли, работали мы за символические деньги, ездили по всему Союзу, и я возвращалась в Москву измученная… Один только раз я была под ее гневом: пересказала с непечатными словами одну ее остроумную фразу другим людям. „Как вы могли! Вы же знаете, что я ни одного подобного слова не употребляю!..“ Я написала ей покаянное письмо, и в письме — что-то о Пушкине, нашем боготворимом Пушкине. Получив письмо, она сразу же мне позвонила: „Все-все-все, прощаю-прощаю-прощаю“.
В преддверии 1984 года, оказавшегося последним в жизни Фаины Георгиевны, я пришла к ней домой, чтобы встретить праздник вместе. Она лежала, чувствовала себя очень слабой. Так уж сложилось, что ни одно наше свидание, ни одна беседа не обходились без слова Пушкина. И на этот раз Раневская попросила почитать что-то из Пушкина. В двенадцатом часу она закрыла глаза и уснула».
После смерти Раневской на ее могиле на Новом Донском кладбище появилась бронзовая фигурка собаки — ее Мальчика. Долгое время никто не знал, откуда взялась собака, и только потом выяснилось, что ее установила Елена Камбурова. Она, всегда любившая животных, позаботилась о том, чтобы Фаина Георгиевна и после смерти не разлучалась со своим любимцем.
В 1960-е годы Раневская часто встречалась, главным образом в спектаклях Театра имени Моссовета, с Верой Марецкой. Вера Петровна была моложе Фаины Георгиевны почти на десять лет, по-разному складывалась их жизнь. Народной артисткой СССР Марецкая стала в 1949 году, а Раневская была удостоена этого звания лишь в 1961 году, в годы хрущевской оттепели. Их отношения в театре тоже не всегда были ровными, не обходилось без взаимной творческой ревности. Тем не менее Раневская объективно ценила талант Марецкой.
Задолго до их совместной работы в театре Завадского Фаина Георгиевна полюбила Марецкую за фильм «Закройщик из Торжка». «… По сей день мне видится лицо, глаза прелестной девушки с гусем в руках, она с восхищением рассматривает не знакомую ей улицу. Все ее удивляло, забавляло. Я подумала, любуясь ею, о том, что у нас появилась редкостно талантливая, обаятельная актриса. Увидев знакомого режиссера, спросила: „Что это за прелесть с гусем?“ И впервые услышала имя, ставшее дорогим всем нам, имя, недавно ушедшее от нас, Веры Петровны Марецкой.
Меня связывала с ней многолетняя дружба. Полюбила ее редкостное дарование, ее человеческую прелесть, юмор, озорство. Все в ней было гармонично, пленительно. Я никогда не скучала с ней.
Тяжело мне об этом думать и говорить. И Вера меня любила и называла: „Глыба!“ Если бы я могла в это верить!
Нет, я не знала актрис лучше Марецкой!»
Эти слова о Марецкой Фаина Георгиевна написала в 1978 году, вскоре после смерти Веры Петровны. Тот период был для Раневской особенно трудным: один за другим уходили друзья и знакомые, все теснее сжимая вокруг нее круг одиночества. Вера Марецкая, Юрий Завадский, Леонид Варпаховский, Любовь Орлова — все они умерли во второй половине 1970-х. Немало страниц в дневниках актрисы посвящено воспоминаниям об этих людях, заочным беседам с ними, сожалениям о том, что столько осталось несделанного, несказанного, несыгранного — а жизнь уже прошла…
Фаина Георгиевна не любила своих юбилеев и старалась по возможности скрывать их. Видимо, она была согласна с мыслью Кароля Ижиковского: «Юбилей — орудие мести тех, кто вынужден признать чужую славу». Тем не менее юбилейные даты Раневской не оставались незамеченными ее друзьями и, конечно, прессой и телевидением. Что любопытно, о них писали не только московские СМИ, но и газеты далеких от столицы городов. Так, статья Э. Осиповой «Любимая актриса» была опубликована в хабаровской газете «Тихоокеанская звезда» к семидесятилетнему юбилею Раневской, в августе 1966 года. В ней говорилось: «Только после революции пришло для актрисы время серьезных ролей при переполненных зрительных залах. Огромный успех принесла Раневской роль изворотливой спекулянтки Дуньки в известной пьесе Константина Тренева „Любовь Яровая“… Беспощадно издевается она в фильме „Весна“ над молодящейся, кокетничающей старухой Маргаритой Львовной…
Но творческая палитра актрисы — многокрасочна. Васса Железнова в одноименной драме Горького — первая роль, в которой Раневская поднимается на высоты подлинного трагизма. Невозможно не сказать об огромном успехе Фаины Раневской в драме испанского драматурга А. Касона „Деревья умирают стоя“. Такой творческий диапазон — немалая редкость в искусстве. Вот почему всякая новая работа прославленной актрисы, каждый ее выход на сцену — это и до сих пор неожиданность, новость, открытие».
Назовем еще одну заметную публикацию, посвященную 70-летию актрисы. В «Московской правде» была напечатана большая статья В. Евсеева «Волшебница с площади Маяковского». Автор отмечает, что, несмотря на популярность фильма «Подкидыш», наверное, было бы неправомерно ставить его в один ряд с такими фильмами, как «Член правительства», «Она защищает Родину», «Сельская учительница» (в этих фильмах главную роль сыграла Вера Марецкая). Но с другой стороны, пройдет несколько лет и Раневская, сыграв главную роль в фильме Михаила Ромма «Мечта», наглядно докажет, покажет, что ей по силам не только роли комические…
Автор статьи справедливо отмечает, что актерские судьбы Марецкой и Раневской складывались по-разному, хотя они уже много лет работают в одном театре. Если у Веры Петровны всегда были хорошие роли и в театре, и в кино, то у Раневской все складывалось по-иному Порой она годами не имела новых ролей, да и, будучи уже признанной киноактрисой, получала вдруг недостойные ее таланта роли (вспомним ее участие в фильме «Осторожно, бабушка!»). Автор статьи пишет: «У В. П. Марецкой и Ф. Г. Раневской — радостные юбилеи. Предстоят еще торжественные вечера, приветственные речи, адреса и подарки. Но самый большой подарок они уже сделали себе сами… Это — две новые, поистине замечательные работы. Марецкая сыграла вдову полковника в одноименной пьесе Юхана Смуула. А Раневская — заглавную роль в спектакле „Странная миссис Сэвидж“… В 60 и 70 Марецкая и Раневская сыграли роли, которые стали событием в жизни театральной Москвы. Сегодня они на вершине пути, а это значит, многое еще впереди».
Семьдесят пять лет — не круглая дата, но пять лет немало значат для любого человека, особенно актера. В жизни Раневской эти годы после семидесятилетия прошли под знаком спектакля «Странная миссис Сэвидж». В этом спектакле, как писал в своей статье «Непроходящая любовь» в газете «Комсомольская правда» журналист Валерий Туровский, «Фаина Георгиевна сыграла свою героиню воистину странной, странной до дикости, странной настолько, что „любящим“ благополучно-буржуазным детям ничего больше не остается, как заключить мать в тихую обитель для сумасшедших. И они, дети, по-своему правы: разве не безумство одаривать нищих, покровительствовать несчастным, болеть чужой бедой как своей. Мир со смещенными нравственными понятиями иначе и не мог расценивать ее благие деяния. Тему одиночества человека в „безумном мире“ продолжила актриса в новой своей работе — роли Люси Купер в спектакле „Дальше — тишина“. Высокий трагизм, в который нет-нет да и вплетается что-то удивительно знакомое, близкое, каскадно-раневской… Здесь актриса последовательно и страстно защищает человеческую личность от натиска обезличенной буржуазности…».
Хотя Фаина Георгиевна всячески отказывалась от празднований юбилеев, но отметить семьдесят пятую годовщину она согласилась — ее уговаривал весь коллектив Театра имени Моссовета во главе с Юрием Александровичем Завадским. Окончательно ее уговорил Ростислав Плятт, тоже не любивший подобные мероприятия, сказав: «Фаина, я буду тамадой». Но… человек предполагает, а Бог располагает. В июне 1971 года Раневская вновь оказалась в кремлевской больнице и юбилей прошел без нее. Ей оставалось читать посвященные этой дате статьи в газетах. Особенно ее обрадовала статья «Наши знатные земляки. Народная артистка» в «Таганрогской правде» (27 августа 1971 года). По телефону она связалась с корреспондентом газеты и поблагодарила его за публикацию: «Непременно передайте таганрожцам мой сердечный привет. И самые добрые пожелания во всем». Позже автор статьи Николай Чайка получил от нее письмо: «Дорогой Николай Дмитриевич! Сердечное спасибо за доброе ваше письмо, за газету из Таганрога. Статья меня очень взволновала, вернула к воспоминаниям о детстве, молодости. Меня очень смущают такие восторженные отзывы в некоторых газетах, вызванные моей „датой“, а ведь я так мало сделала! Могла бы больше, но не удалось». Таких звонков в больницу да и статей в прессе по поводу семидесятипятилетия Раневской было немало, но она была особенно рада вниманию, проявленному ее земляками. В те дни она сказала по телефону Сухоцкой: «Ты знаешь, никогда меня так не тянуло в Таганрог». На что та ей ответила: «Выздоровеешь, я поеду с тобой в Таганрог, а оттуда в Евпаторию. И побродим по местам нашего детства».
Осенью с небольшим опозданием Фаина Георгиевна отметила свой семьдесят пятый день рождения в кругу самых близких друзей. А тамадой в тот день был Ростислав Янович Плятт.
Отрицательное отношение Раневской к своим юбилеям особенно ярко проявилось с приближением ее восьмидесятилетия — такая солидная дата не только навевала грусть, но и пугала. Хотя Фаина Георгиевна продолжала мечтать о новых ролях, а быть может, желала отметить свой юбилей на сцене, но жизнь, разумеется, решила по-своему. В этот день, 27 августа 1976 года, во многих газетах появились статьи, посвященные знаменательной дате. Остановимся на одной, опубликованной в газете «Советская культура». Ее написал уважаемый театровед Борис Михайлович Поюровский, автор многих статей о Раневской. Прежде чем познакомить читателей книги с этой статьей, хочу передать содержание моей беседы с Борисом Михайловичем, состоявшейся в 2008 году:
«Впервые я увидел Раневскую в конце 1940-х годов в своем родном Харькове, когда там гастролировал театр Моссовета. Я попал на спектакль „Модная лавка“ по пьесе Крылова. Я был еще школьником и принадлежал к тому сословию зрителей, которое ждало актеров у входа и провожало их взглядами и аплодисментами после спектаклей. Я был потрясен реакцией Раневской на хоровое исполнение фразы „Муля, не нервируй меня“. Фаина Георгиевна отвечала: „Дети, идите в ж…“ У меня был шок — такая актриса! Но это было сказано без всякой злости — она улыбалась, а дети, как ни в чем не бывало, продолжали скандировать: „Муля — Раневская!“
В середине 1950-х я уже жил в Москве, и Юзовский, который жил тогда в писательском доме в Лаврушинском переулке и был с Раневской в дружеских отношениях, познакомил меня с Фаиной Георгиевной. Позже, к 70-летию Раневской, я опубликовал статью о ней в газете „Вечерняя Москва“ под названием „Блуждающая звезда“. Владимир Этуш сказал мне по телефону, что ему очень понравилась статья. Позвонил и Плятт, спросивший, не откликнулась ли Фуфа. Я ответил, что нет.
Прошло 3–4 дня. Звонок около 16 часов:
— Ну что? Как вы могли?
Спрашиваю:
— А что, Фаина Георгиевна?
— Вы почему такую гадость сделали? Это же мои враги распускают обо мне такие слухи.
— Какие слухи?
— Что я будто бы еврейка.
— Фаина Георгиевна, а разве это не так? Ведь ваша фамилия Фельдман — это фамилия вашего отца.
— Конечно, нет. Вот видите, и вы повторяете эти глупости. Это антисемиты такое обо мне говорят. Я чистокровная русская, я дворянка.
Я был в ужасе, точно зная, что она Фельдман и что она еврейка. На другом конце провода раздался хохот. И „дворянка“, задыхаясь от смеха, говорит: „Вы уже совершенно лишились чувства юмора!“
Она умела к себе самой относиться с невероятным юмором, и в этом была вся Фуфа. Она была склонна к мистификациям, и эта история со звонком очень для нее характерна. Вместо того чтобы просто поблагодарить, она изобрела такой ход.
И еще сейчас вспомнил. Был в театре Моссовета замдиректор или директор — распорядитель Валентин Школьник. Он был дружен со многими очень известными людьми. На его юбилей — не помню, было ему 50 или 60, — явился Завадский и в это же время заходит Раневская. Когда она появилась, все пришли в восторг. Она что-то подарила Школьнику, но не цветы, а какой-то пакетик. Она поцеловала его, сделала большие глаза и сказала: „Я так давно не целовалась с мужчиной. Это такая прелесть! Надо подумать, надо это пересмотреть“. Был общий хохот.
В то время в Москве шли разговоры о сексуальной ориентации Раневской. Сама же Фаина Георгиевна относилась к этому иронически.
Когда Завадский получил звание Героя Соцтруда, Фуфа на следующий день позвонила мне и спросила:
— Вы уже поздравили?
— Да. А вы разве еще не поздравили?
— Нет, я не стала. Я, конечно, должна была это сделать, я его очень люблю, но не поздравила. Я его знаю дольше, чем вы. Он хотел быть Народным артистом СССР и стал им, хотел быть лауреатом Ленинской и Сталинской премий и получил их. А теперь что он еще может хотеть? Разве что место на Новодевичьем кладбище. Ведь Нобелевскую премию театральным деятелям не дают, и он остался без цели в жизни. Это же самое страшное, когда у человека не остается никаких желаний. Я могу ему только соболезновать.
И это тоже Раневская — ей-то чужда была любая зависть. В отличие от других она очень поздно получила звание Народной артистки СССР, намного позже, чем Орлова или Марецкая. Не будучи завистливой, она была очень чутким и ранимым человеком. Когда 6 марта 1982 года умер Александр Менакер, я не был дома и узнал об этом случайно, встретив бывшую жену Андрея Миронова Катю. Сам Андрей был тогда в Горьком. Мы поехали к Марии Владимировне Мироновой, которая очень хотела, чтобы некролог был помещен в газете. Но Менакер был беспартийный. Печатать в то время в газете некролог можно было только с разрешения райкома. Помочь я попросил соседа Раневской, писателя Василия Ардаматского — поговаривали, что он был связан с КГБ. Нужно было принести ему готовый текст. Я напечатал на машинке и повез на следующий день. Мария Миронова просила ничего не говорить о смерти Менакера Фуфе, т. к. она очень расстроится. Я попытался зайти к Ардаматскому, так, чтобы не заметила Фуфа, а Мальчик, если на этаж приезжал чужой человек, молчал, а если знакомый — то выбегал в коридор и начинал лаять. Дверь в квартиру Раневской была всегда открыта. Пока я дозвонился Ардаматскому и передал текст, вышла Фуфа в своем знаменитом лиловом халате и сказала собаке: „Мальчик, ну что ты так, бедный, стараешься? Это пришел обыкновенный хам. Он не хочет с нами даже поздороваться. Плюнь на него и иди домой“.
Мне стало стыдно, и я сказал Раневской, что зашел на секунду. Раневская ответила: „Не надо делать нам одолжений. Мы в этом совершенно не нуждаемся!“ Я зашел к Раневской. Она сказала: „Надо раздеться. Я не пускаю к себе в пальто“. Я зашел и услышал: „Ну, что вы будете рассказывать? Зачем вы сюда приходили?“ Я ответил, что принес передать Ардаматскому книгу. На что она удивилась: „Он читает книги? Он их пишет. Это странно, что он пишет книги, я в это не верю. Ну, ладно, я не хочу сейчас об этом говорить. Вы мне лучше скажите, как Андрюша, как Маша и Саша?“ Я обалдел — прошли сутки, а она уже все знает. Я ответил, что Андрюша ничего, был в Горьком, но уже вернулся. Саша и Маша тоже ничего. „Все согласно паспорту“, как любил говорить Александр Семенович. Раневская: „Передайте Саше, что он уже неделю мне не звонит, я очень скучаю. Пусть он мне позвонит“.
7 марта умер Утесов. Но когда я сказал ей об этом, то по глазам понял, что она ничего не знает. Я посидел у Раневской, поговорил с ней и ушел. После этого я видел Раневскую только на похоронах Нины — жены Плятта. В тот день Плятт играл с Раневской в спектакле „Дальше — тишина“. После спектакля я зашел за кулисы — были поминки. Раневская тоже была. Это была последняя наша встреча».
И вот фрагмент статьи Б. М. Поюровскогоо Раневской, написанной к ее восьмидесятилетнему юбилею: «Сегодня Фаине Георгиевне Раневской исполняется 80 лет. Поздравляя ее, друзья, наверное, станут уверять Фаину Георгиевну, что 80 — это совсем еще немного. Такова традиция. Традиция юбилеев. В эти дни человеку говорят только приятное. Отчего лично я всегда скептически отношусь к юбилеям. Но в данном случае мы имеем дело с исключением. И именно поэтому, очевидно, не следует уверять Раневскую в том, что 80 — совсем еще немного. Много, очень много! Особенно если вспомнить, что за эти годы сделано…
Раневская — одна из немногих, кому, несмотря на все ухищрения режиссуры, удалось сохранить за собой право на индивидуальность. И в выборе ролей, и в их трактовке. С такой актрисой хлопот не меньше, чем радостей. Плохих ролей она играть не хочет и не понимает, зачем их играют другие (разлагающее внимание). Хорошими не делится ни с кем (опять же пример, недостойный подражания). Если бы ей дали возможность, Раневская играла бы ежедневно, до одури, всю жизнь. И уставала бы от этого меньше, чем от вынужденного безделья.
Славу Раневской принесли комедийные роли. Но она в такой же степени актриса драматическая. И даже трагическая. Правда, не в том понимании, какое вкладывали когда-то в это слово поклонники таланта великой Ермоловой. Но ведь и содержание понятий, и форма их с годами изменяются. Сама жизнь подсказывает новые характеры и новые ситуации. Скажем, Васса Железнова появилась в начале XX века. Сперва в действительности, а позже — и у Горького. Разве это не трагический образ?
Конечно, Васса Железнова — не Мария Стюарт. Но ведь и шотландская королева — не Медея, хотя каждая из них — фигура для своего времени трагическая. Следовательно, у нас есть все основания быть уверенными в том, что законы жанра не властны подчинить себе законы жизни.
Раневская встретилась с Вассой спустя 20 лет с того дня, когда она впервые вышла на сцену. За эти годы актриса переиграла самые разные роли: Шарлотту в „Вишневом саде“, Ольгу и Наташу в „Трех сестрах“, Глафиру Фирсовну в „Последней жертве“, Настю в „На дне“, леди Мильфорд в „Коварстве и любви“, Машу в „Живом трупе“, Дуньку в „Любови Яровой“…
С Вассой Железновой актриса встретилась в 1935 году, когда мхатовский режиссер Е. Телешева приступила к репетициям горьковской пьесы в ЦТКА. По свидетельству очевидцев, Раневская выступила одновременно в пяти качествах: прокурора, защитника, судьи, потерпевшего и подсудимого. Среди тех, кто подобным образом оценивал тогда работу актрисы, — Ю. Юзовский, один из самых проницательных исследователей драматургии и театра, узревший в этом дебюте рождение нового, незаурядного таланта».
Восьмидесятилетний юбилей актрисы был отмечен и статьей в «Комсомольской правде» Майи Иосифовны Туровской, хорошо знавшей Раневскую и много о ней писавшей. В этой статье говорилось: «Мало есть на свете судеб столь непростых — столь состоявшихся, выразивших себя и в то же время так мало реализованных, как Раневская… Раневской редко доводилось играть женщин, открыто и явно страдающих. Но я — и, наверное, все, кому довелось видеть спектакль „Лисички“ по пьесе Л. Хелман, — навсегда запомнила почти физическое ощущение душевной муки в обвалившейся фигуре пьяненькой Верди, не способной лицемерить и лгать, как то положено тем, кто хочет быть хозяевами.
Но дело не в этих отдельных ролях и трагических мгновениях, не столь заметных в общем потоке комедийности Раневской. Дело в том, что скрытое ощущение драматизма, даже трагизма бытия, жестокая ирония и горечь сквозят и изнутри наполняют смыслом ее щедрую и размашистую комедийность. Ее смех — всегда победа глубокой и сильной натуры над извечной „скорбью познания“». В конце этой статьи Майя Туровская пишет: «Да, она сыграла далеко не все, что она могла и должна была сыграть. Но она многое успела сказать всей своей нелегкой жизнью и искусством».
В августе 1981 года должен был отмечаться следующий, восьмидесятипятилетний, юбилей Раневской. Не дожидаясь этой даты, фотожурналист Юрий Рост, хорошо знавший Раневскую, опубликовал в «Литературной газете» в марте 1980 года заметку «С первого взгляда» с фотографией Раневской, сделанной им самим. Он писал: «Я произношу — Раневская — и смотрю на твое лицо, читатель. Оно меняется к лучшему. Оно теплеет, на нем появляется улыбка, и тень детства светлее тебя самого отражается в твоих глазах.
Балует нас порою природа, создавая таких удивительных женщин.
Рядом с ними проживаешь юность, молодые годы и те, которые, по щадящему определению, называют зрелыми. Проживаешь жизнь и не теряешь любви, дарованной с первого взгляда…
Кого не привлекла к себе магнетическая сила обаяния Раневской? (Это не риторический вопрос. Действительно, хотелось бы посмотреть на такого человека.) Разве что кто-то не видел ее в кино или на сцене… А ведь можно прокрутить ретроспекцию Раневской в „Повторном“ (имеется в виду Кинотеатр повторного фильма на улице Герцена, ныне Большой Никитской. — М. Г.). Да и в театр дорога не заказана…
…Я подхожу к стене пустоватой комнаты Раневской и смотрю на самые дорогие вещи в ее квартире: фотографии ее друзей и почитателей — Ахматовой, Качалова, Акимова, Анджапаридзе, Улановой, Шостаковича.
Какой счастливый для окружающих дар у этой актрисы! Как пронзительны и прекрасны ее женщины, и как радостно, что она щедра в таланте своем.
И как точно написал ей Борис Пастернак три слова на портрете: „Самому искусству — Раневской“.
Годы бегут и, как известно, в старости куда быстрее, чем в молодости. Недавно отмечали 80 лет со дня рождения Раневской, а уже стучится следующая юбилейная дата — 85. А упоминание имени Раневской по-прежнему вызывает самые добрые чувства, улыбку и нескрываемое к ней уважение».
Фаина Георгиевна согласилась с тем, что в дни ее восьмидесятипятилетнего юбилея по телевидению будет показана ретроспектива ее фильмов. Она даже сама составила их список. Но, как ни странно, их «не смогли найти» в Госфильмофонде, и она, ее друзья и многочисленные поклонники так и не дождались этого события. Ретроспективный показ состоялся только после смерти актрисы, в 1985 году.
Кем только не мечтала стать Фаина Раневская в детстве! Конечно, больше всего она хотела быть актрисой, о чем уже я говорил. Как мы помним, в гимназии она учиться не хотела, любовью к педагогам не отличалась. Кто бы мог подумать, что уже в солидном возрасте Фаина Георгиевна будет мечтать о профессии учителя? Но вот интервью, которое Раневская дала журналисту Андрею Караулову в день своего восьмидесятилетнего юбилея. Ему хочется предпослать несколько слов: когда Елизавета Моисеевна встречалась с трудностями в воспитании сына Всеволода, она, обращаясь к Фаине Георгиевне, просила: «Поговори с моим Севочкой, он такой непослушный, но я тебя ни о чем не просила». А уже буквально через несколько дней слышит от Фаины: «Лиза, у тебя замечательный сын, а то, что часто женится, ну и что, я тоже влюблялась во всех, от Бернарда Шоу до Василия Качалова. О Станиславском уже не говорю. Если бы у меня был такой сын — была бы счастливее всех на свете. Но, слава богу, у меня есть Мальчик. Ты знаешь, как они с Севой любят друг друга? Я думаю, что если б у меня не было Мальчика, Сева бы вообще забыл мой адрес…»
А вот то само интервью, о котором говорилось выше:
«Театральная общественность столицы отмечает 80-летний юбилей народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР Ф. Г. Раневской. Своих юбилеев сама Фаина Георгиевна не празднует. Не любит давать интервью.
Поэтому мы не поехали к ней, а просто позвонили по телефону, попросив сказать несколько слов нашим читателям.
— Знаете, о чем я мечтала всю жизнь? — сказала актриса. — Сыграть учительницу. Наверное, поэтому завидовала и Чиркову, и моему товарищу по театру Вере Петровне Марецкой. Что привлекает меня в образе учителя? Пожалуй, искреннее стремление жить для других — чего как раз недоставало многим моим героиням. Ведь это прекрасно — жить для других. Это подвиг, если хотите…
Да это действительно прекрасно. И мы подумали, что это в полной мере относится и к самой Фаине Георгиевне. Ведь ее тоже с полным правом можно назвать учителем, ибо у Раневской есть десятки и даже сотни учеников, работающих теперь во многих театрах. А разве мы не учились у героев Раневской? Разве, создавая свои образы на сцене и в кинематографе, актриса не призывала нас нести людям добро и счастье? Давайте вспомним „Человека в футляре“, „Любимую девушку“, „Подкидыша“… Или хотя бы одну из самых последних ее работ в театре — роль мисс Люси Купер в спектакле по пьесе В. Дельмара „Уступи место завтрашнему дню“ („Дальше — тишина“), блестяще поставленном в Московском академическом театре имени Моссовета Анатолием Эфросом…
— Я начала свою жизнь в кинематографе, — рассказывает Раневская, — в 1934 году, сыграв в фильме Михаила Ромма „Пышка“ роль госпожи Луазо. А через несколько лет на экраны нашей страны вышел один из самых моих любимых фильмов — „Подкидыш“. В работе над этим фильмом я убедилась, что актеру в какой-то степени всегда необходимо обладать даром педагога. Вы помните сюжет? Муж и жена нашли девочку и стали ее воспитывать. Я играла роль жены, и маленькую Веронику Лебедеву, исполнявшую роль нашей юной героини, мне пришлось воспитывать в самом буквальном смысле слова. Сейчас я вспоминаю это с удовольствием. С детьми работать всегда трудно. В кино, наверное, особенно. Там своя специфика, свои подчас изнурительные условия. Актер должен всегда чувствовать партнера независимо от того, ребенок это или нет. Должен понять мир ребенка. Потому и родственны наши профессии — актера и школьного учителя…
Фаина Георгиевна не раз выступала в школах перед юношеской аудиторией. Обращалась к мальчикам и девочкам в радио- и телепередачах. Примем как правило, актриса начинала серьезный разговор о месте человека в жизни, в обществе, учила детей уважать и ценить труд, раскрывала перед ними красоту человека. Не только словом, но и делом часто помогала актриса Раневская людям. Ее большой друг, народная артистка РСФСР Д. В. Зеркалова вспоминает такой случай. Однажды после очередной дискуссии в школе к Раневской подошла молоденькая учительница и стала жаловаться на одного из своих питомцев — мальчишка совсем отбился от рук. На следующий день Фаина Георгиевна пригласила паренька к себе домой. Она не сомневалась, что после вечера в школе он придет к ней. И не ошиблась. Раневская расспрашивала паренька о семье, о классе… И мальчик рассказывал. Рассказывал потому, что поверил ей. Оказалось, он любит рисовать. Потом Раневская помогла ему поступить в художественный техникум.
Наверное, таких примеров сама Фаина Георгиевна может привести много. Но она не любит об этом говорить, потому что считает все это в порядке вещей.
Героинь Раневской всегда выделяло стремление проникнуть в самую суть окружающего. Совсем недавно такой мы увидели миссис Этель Сэвидж в пьесе прогрессивного американского писателя и драматурга Джона Патрика „Странная миссис Сэвидж“. А сейчас Раневская с блеском играет Глафиру Фирсовну в „Последней жертве“ А. Н. Островского. Играет тонко, обнажая перед зрителем нравственные идеалы своей героини, ее душу, мысли…
— Хочу много играть, — говорит актриса. — Человек в восемьдесят лет становится мудрым. Нужно успеть о многом рассказать своим зрителям…
Мы поздравили Фаину Георгиевну. Пожелали ей новых сил, новой интересной работы. И как бы возвращаясь к началу нашего разговора, она сказала:
— Обязательно сыграю учительницу. Такую, знаете ли, старую, мудрую. Представляете, на склоне лет она снова встречается со своими учениками, теми, кому посвятила жизнь… И жизнь, оказывается, прожита не напрасно… Обязательно сыграю!»
В Театре имени Моссовета Раневская оставалась только в одном спектакле — «Дальше — тишина». Мысль о несыгранных ролях не покидала ее. А между тем время шло, убегало, ей было уже за восемьдесят, когда она в очередной раз задумалась об Островском. Еще в начале 1920-х годов в Крымском театре она сыграла Анфису Тихоновну в «Волках и овцах», а вскоре в том же театре — Галчиху в спектакле «Без вины виноватые». В 1922 году играла Манефу в знаменитой пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты». И, наконец, в 1923 году в «Грозе» Островского — сумасшедшую барыню. Четыре роли подряд в пьесах одного автора для нее были редким явлением — только в пьесах Чехова она сыграла больше. Но Островского она обожала и при первой возможности вернулась к нему: в Бакинском Рабочем театре в 1927 году сыграла в «Бесприданнице» тетку Карандышеву. А после этого около пятидесяти лет к Островскому на сцене не возвращалась. Почему в конце жизни состоялось это возвращение? Не без оснований полагаю, что здесь сказалось ее знакомство с Владимиром Яковлевичем Лакшиным, заместителем Твардовского в «Новом мире».
Из воспоминаний Лакшина: «Мы познакомились в доме Елены Сергеевны Булгаковой, наверное, в середине 1960-х годов. Разговор с Раневской, особенно поначалу, при далеком знакомстве, не был легок. Услышит звучок не то что фальши, но просто привычной в обиходе банальности — и не пощадит. Обаятельная смелость ее речи, неожиданный юмор исключали обиходное хамство. Не решусь сказать, чтобы в ней вовсе не было актерского и женского кокетства, но оно искупалось стремительной откровенностью. Запретных тем в разговоре для нее, казалось, не существует. Она испытывала собеседника острой игрой ума, лукавой импровизацией, в том числе естественным, не грубым употреблением словечек, отсутствующих в салонном дамском лексиконе. Лишь впоследствии я догадался, что это было одним из средств преодоления природной застенчивости».
Через несколько лет после их знакомства Фаина Георгиевна прочла написанную Лакшиным биографию Островского. Это, возможно, стало поводом к ее возвращению к Александру Николаевичу Островскому, а заодно и к своей молодости, к первому театру — Малаховскому. По признанию Фаины Георгиевны, Малаховский театр запомнился ей больше всего тем, что она там встретилась с Ольгой Осиповной Садовской — великой русской актрисой, ученицей Островского, который восхищался игрой Садовской в его пьесах. Книга Лакшина об Островском очень понравилась Раневской, и она, узнав об авторитете Лакшина не только в литературе, но и в Театре имени Моссовета, просила его присоветовать театру поставить какую-нибудь «забытую» пьесу Островского. За свой совет она попросила «взятку» — чтобы в рекомендуемой для них пьесе нашлась бы роль для нее. Лакшин, недолго размышляя, назвал комедию «Правда — хорошо, а счастье — лучше», где была роль, которую могла сыграть только Раневская: властная старуха Барабошева. Но пока в упомянутом разговоре об этом Раневской не сказал ни слова.
И снова из воспоминаний Лакшина: «На другой же день Раневская позвонила мне в возбуждении: „Дорогой мой! Спасибо, я ваша вечная должница. Нянька — это такая прелесть!“ Какая нянька? Оказалось, ей куда больше по душе роль няньки Фелицаты — не „бенефисная“, казалось бы, эпизодическая роль. По настоянию Раневской пьесу приняли в репертуар, начали репетировать…»
А вот отрывок из воспоминаний Сергея Юрского:
«Фаина Георгиевна спросила меня по телефону:
— Вы помните пьесу Островского „Правда — хорошо, а счастье — лучше“?
— Конечно.
— Хорошо помните?
— Ну, в общем… — я замялся.
Я считал себя знатоком Островского. Много лет я хотел его поставить. Перечитывал многие пьесы прямо подряд по полному собранию. Приглядывался к самым необиходным, малоизвестным, а такие, как „Бесприданница“, „Таланты и поклонники“, „Не было ни гроша, да вдруг алтын“, знал почти наизусть. А вот „Правда — хорошо…“ — что-то там про купчиху Барабошеву, что-то там про Платона и Поликсену, все хорошо кончается, и… и все. Что-то смутно.
— Ну, в общем, что-то не очень… хотя…
— Приезжайте ко мне и возьмите книжку, она у меня в руках. Вот это я хочу сыграть. Мне посоветовал пьесу Владимир Яковлевич Лакшин. Он замечательный, он лучше всех чувствует Островского. Вы читали его книгу про Островского? Чудо! Он мне подарил ее, но у меня ее украли. У меня крадут все книги. Даже с дарственными надписями. Я спросила у Лакшина: что бы вы мне посоветовали сыграть из Островского? И он сразу сказал: „Правда — хорошо, а счастье — лучше“. Я взяла пьесу в библиотеке, мне ее оттуда принесли, и я влюбилась в нее. Прочитайте, это прелесть.
Вечером я прочитал пьесу».
Сергей Юрьевич удивился, что пьеса эта осталась малозамеченной читателями и публикой: «Эта пьеса осталась стертым местом, пробелом… ни один не вспомнит потрясения, как от „Леса“, от „Бесприданницы“… какая-то серединность, умеренность печатью легла на отношение к этому произведению».
Почему Раневская так влюбилась в Фелицату? Не последнюю роль в этом могли сыграть замечательный характер старой няньки и добрые дела, которые она творила в доме, где служила. Именно она, Фелицата, устраивает счастье героев пьесы — Платоши и Поликсены. И еще возможно, что роль Фелицаты, хотя и эпизодическая, но столь важная, привлекла Раневскую тем, что ей хотелось в финале исполнить песню «Корсетка моя, голубая строчка» — эта песня прекрасно подходила к судьбе русской провинциальной няни, а Раневская примеряла ее еще и к собственной судьбе. По этому поводу она советовалась с Лакшиным, правда, Юрский об этом говорит по-иному — вроде бы Сергей Юрьевич сам посоветовал ей в конце спектакля спеть эту песню.
Юрский знал, что после Люси Купер в спектакле «Дальше — тишина» у Раневской других ролей не было. Ему, как и Фаине Георгиевне, было ясно, что для нее, под нее руководство театра ничего искать не будет. Прочитав пьесу «Правда — хорошо, а счастье — лучше», он на следующий день привез ее Фаине Георгиевне.
— Мне понравилось. Хорошая пьеса. Я бы попробовал ее поставить.
— Нет, не надо, — сказала Раневская обиженно. — Не надо вам ставить.
— Почему?
— Да потому, что она вас не тронула. Вы видите — я испортила библиотечную книжку. Я не удержалась и во многих местах карандашом написала «Прелесть». Вот видите… и здесь — «Прелесть, прелесть». Я влюбилась в пьесу. А вы нет. Ну и не ставьте. Вы вообще не режиссер, а актер. Вот и играйте себе, а ставить вам не надо.
При первом же разговоре между ней и Сергеем Юрьевичем возникли серьезные разногласия. Последний был уверен, что Раневской надо сыграть главную героиню — Мавру Барабошеву, да и ставить он собирался этот спектакль из-за Раневской. И вдруг Фаина Георгиевна объявляет, что согласна играть только добрую няньку Фелицату: «Я столько уродов сыграла. Я хочу хорошего человека играть».
— Фаина Георгиевна, дорогая, ведь я же хочу поставить спектакль для вас, чтобы вы были в центре!
— Вы знаете, вы очень тяжелый человек. Мы, наверное, с вами не сработаемся. Вы все время спорите. И в пьесу вы не влюбились. Оставим разговор. Пойдемте на кухню пить кофе.
И разговор пошел обычный в таких случаях. Фаина Георгиевна попросила приласкать Мальчика: «Вы знаете, когда я болела, он от меня не отходил. Он жалеет меня». Тут же Фаина Георгиевна предупредила, что на репетициях она бывать не может — не с кем оставить Мальчика.
Но Сергей Юрьевич уже не мог уйти от мысли поставить с Раневской спектакль по пьесе «Правда — хорошо, а счастье — лучше». Он решил, что роль Фелицаты, хотя и довольно большая, достаточно автономна и отсутствие актрисы на отдельных репетициях не скажется на результате. Но на присутствии Раневской на первой репетиции настаивал.
Накануне первой репетиции раздался звонок от Фаины Георгиевны: «Я очень сожалею, что так подвожу вас, но репетицию придется перенести». Правы оказались знатоки характера Раневской, предупреждавшие Сергея Юрьевича: «Она не придет». И все же на первую репетицию Фаина Георгиевна явилась, и на последующие тоже — настолько ее увлекла новая роль.
Из воспоминаний Сергея Юрского: «Раневская приезжает на спектакль рано. И сразу начинает раздражаться. Громогласно и безадресно. Все было не по ее: и лампочки горят тускло… ненужные ступеньки, да еще, как нарочно, полуспрятанные ковровой дорожкой. Гримеры и костюмерши трепещут».
Сергей Юрьевич понимал, что он как режиссер должен дипломатично уладить все конфликты и спасти от гнева всех участников спектакля: «Мне самому страшно. Наконец, натянув на лицо беззаботную улыбку, я вхожу к ней.
— Я должна сообщить вам, что играть сегодня не смогу… Ищите другую актрису».
Претензии Раневской все нарастали. То ей непонятно, зачем в спектакле появились песни, которых нет у Островского (хотя она сама собиралась непременно спеть в конце «Корсетку»). То она не может играть без суфлера. Тогда к Раневской был прикреплен помреж Мария Дмитриевна, но она продолжала приставать к режиссеру:
— Дайте руку. Видите, какая у меня холодная рука… Вы совсем не волнуетесь перед выходом? Я всегда волнуюсь как дура. А знаете, отчего это? Оттого, что я скромная. Я не верю в себя. Я себе не нравлюсь.
— Зато другим нравитесь.
— Кому?
— Вы всем нравитесь.
— Это неправда… Я плохо играю эту роль.
— Вот это — неправда. Вы замечательно играете.
— Может, я просто нравлюсь вам как женщина?
— Это само собой.
— Очень галантно… Ммм!
Сергей Юрьевич смотрит на Раневскую, ему страшно за нее, — кажется, она упадет при первом самостоятельном шаге, ее надо вести под руки. Но лишь раздался сигнал на сцену, как «нянька Фелицата» снова стала народной артисткой Раневской и уверенно поднялась на сцену. Сразу послышались овации.
— Зачем? Зачем они хлопают? — шептала Раневская. — Они любят меня? За что? Сколько лет мне кричали на улице мальчишки: «Муля, не нервируй меня!» Хорошо одетые, надушенные дамы протягивали руку лодочкой и аккуратно сложенными губками, вместо того чтобы представиться, шептали: «Муля, не нервируй меня!» Государственные деятели шли навстречу и, проявляя любовь и уважение к искусству говорили доброжелательно: «Муля, не нервируй меня!» Я не Муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать. Мне трудно видеть людей. Потому что все, кого я любила, кого боготворила, умерли.
Быть может, лучше всех это чувство Раневской, и не только ее, выразила поэтесса, которую высоко ценила не только Фаина Георгиевна, но и Анна Ахматова.
Из письма Раневской: «Прислала мне стихи Мария Сергеевна Петровых. Вспомнила я ее с невыносимой нежностью. Уже не помню, с кем пришла она, кто привел ее, такую на редкость милую, застенчивую, тихую. Читала мне свои дивные стихи и смущалась. Анна Андреевна называла ее „Мару-синька хорошая“, любила ее стихи, считала ее прекрасным поэтом. У Анны Андреевны светлело лицо, когда она говорила о Марии Петровых».
Фаине Георгиевне, как и Ахматовой, особенно нравилось стихотворение Петровых «Черта горизонта»:
Вот так и бывает: живешь — не живешь,
А годы уходят, друзья умирают,
И вдруг убедишься, что мир не похож
На прежний, и сердце твое догорает.
Вначале черта горизонта резка —
Прямая черта между жизнью и смертью,
А ныне так низко плывут облака,
И в этом, быть может, судьбы милосердье.
Тот возраст, который с собою принес
Утраты, прощанья, наверное, он-то
И застил туманом непролитых слез
Прямую и грань горизонта.
Так много любимых покинуло свет,
Но с ними беседуешь ты, как бывало,
Совсем забывая, что их уже нет…
Черта горизонта в тумане пропала.
Тем проще, тем легче ее перейти, —
Там эти же рощи и озими эти ж…
Ты просто ее не заметишь в пути,
В беседе с ушедшим — ее не заметишь.
Эти стихи Петровых Раневская вспомнила и после спектакля «Правда — хорошо, а счастье — лучше», когда она говорила Юрскому: «Столько людей аплодируют мне, а мне так одиноко. И еще… Я боюсь забыть текст. Пока длится овация, я повторяю без конца первую фразу: „И всегда так бывает, когда девушек запирают“, — на разные лады. Боже, как долго они аплодируют. Спасибо вам, дорогие мои, но у меня уже кончаются силы, а роль еще не началась… „И всегда так бывает, когда девушек запирают“. Нет, не так, я не умею говорить одинаково…»
Далее Сергей Юрьевич размышляет: «А если бы Раневская вышла на сцену как все обычные актеры, в нормальной заинтересованной тишине? Что было бы? Наверное, не было бы спектакля… Последние 20 лет, если не больше, она начинает свою роль (любую!) только после оваций. Дружные аплодисменты благодарности. Просто за то, что видим ее!.. И все-таки… Все-таки, когда так встречают актрису, когда такой единый порыв, — это праздник. Почти забытый, будоражащий праздник театр…»
После каждого ухода со сцены Раневская пела «Корсетку». Сергей Юрьевич воспринял это как излишество, но убедить Фаину Георгиевну не смог: «Почти всегда на уход Раневская пела. Пение заглушали аплодисменты. Почти всегда (один-два раза за два года) Раневская впадала в молчаливое отчаяние». Фаина Георгиевна весь спектакль находилась на сцене в кулисах, непрерывно продолжала учить роль по своей тетрадке. Конечно же продолжала жаловаться, да так, что голос ее доносился до сцены. Перед каждым выходом на сцену помреж должен был ей напоминать, а выходов этих в течение спектакля было десять. Мария Дмитриевна не только выпускала вовремя Раневскую на сцену, но растирала каждый раз мерзнущие руки Фаины Георгиевны, шепотом утешала ее, ободряла. Но, попав на сцену, Фаина Георгиевна не только не забывала слова, но и блистательно играла так, как будто впервые.
И снова вспоминает Сергей Юрьевич: «Она одна на сцене. И в ней — все. Не забыть. Этот полуоткрытый рот. Беспомощная рука, и в ней страшный рубль (данный Поликсеной для покупки отравы). И не идут, долго не идут слова. Только звуки. И наконец: „Ай, погибаю, погибаю!“ Лучшее и великолепнейшее, что было в этой комической роли, — трагические всплески. И для трагедии была создана Раневская, и для трагедии тоже. Думаю, что это ее жанр, но она почти никогда не играла его в чистом виде. Только отдельные мгновения…»
Раневская часто повторяла: «Я не играю, я живу на сцене!»
После своей премьеры 30 сентября 1980 года спектакль «Правда — хорошо, а счастье — лучше» шел на сцене Театра имени Моссовета два с половиной года, и все это время капризы Раневской продолжались: «Плохо! Найдите другую актрису. Вы знаете, мне тяжело, такая долгая зима. Я не выношу холода. Я ведь южанка. У нас тогда на юге зима была короткая, а здесь север. Я не могу привыкнуть за пятьдесят лет. И на сцене дует». Каждую минуту, когда это было возможно, она слушала актера В. И. Демента, участника спектакля, дивного гитариста. Раневская издавна любила гитару и цыганское пение, и обожавший ее Демент готов был бесконечно перебирать струны, сидя рядом с актрисой.
Последний раз Раневская играла Островского 19 мая 1982 года. В этот день намечались киносъемки спектакля для телевидения. Разумеется, Фаина Георгиевна об этом не знала, ибо она всегда была против киносъемок спектаклей. Да и Юрский возражал, полагая, что к съемкам надо специально готовиться. А спектакль шел: «Это был страшный спектакль. С первой сцены она стала забывать текст. Совсем. Суфлируют из-за кулис — не слышит. Подсказывают партнеры — не воспринимает, отмахивается, мечется на сцене и не может ухватить нить. Вторая картина — совсем катастрофа… Кончилась ее сцена. Почти ничего не произнеся, она уходит, с трудом передвигая ноги. Мы с Кастыровой играем дальше, но играем как автоматы… Слышим, как кинулись к Фаине Георгиевне, как она глухо то ли плачет, то ли стонет… Дотянуть бы до антракта. Раневская всех ругает, потом молчит. Утихает. Ей плохо — это видно. Нельзя продолжать спектакль. Но антракт всё тянется. Но последнее слово — стой, хватит — сказать не решаюсь. Да и кто бы решился? К Раневской подошли Демент и Морозов с гитарами, слышу — тихонько поют… Вот и Раневская присоединила свой голос. Поют. Потом слышны ее рыдания, и опять гитара. Я не зашёл к ней. „Начинайте акт, Галя“, — говорю я помрежу Ванюшиной…
…Во втором акте девятнадцатого мая необыкновенная Раневская была необыкновеннее самой себя… Но, может быть, мы просто все были счастливы, что Фаина Георгиевна воспряла духом… Всё бывает лишь так, как оно было. И в жизни, и на сцене. Тот вечер не запечатлен на пленке, не записан. Всё это осталось только в памяти живых свидетелей. Незабываемая мимолетность, более всего отражавшая Раневскую, царственную и здесь.
Была овация, были общие поклоны, был сольный выход Раневской вперед — как всегда, и взрыв рукоплесканий — как всегда, и цветы, и общий выход со мной в рампе, взявшись за руки — как всегда… Я чувствую, как она тяжело опирается на мою руку и шепчет: „Больше не могу…“ Всё почти как всегда, но, казалось (или на самом деле так было?), что мы переживаем необыкновенные минуты, редкие мгновения Театра с большой буквы, победу духа в искусстве».
И еще отрывок из воспоминаний Сергея Юрьевича Юрского: «После спектакля, после премьеры, после сотого представления, после трудов. Именно сюда стараются проникнуть посторонние — „закулисье“ притягивает более, чем само представление. Зрители почему-то думают, что на сцене им показывают не лучшее, а лучшее прячут у себя за кулисами, как скаредные хозяева прячут самые вкусные блюда от не очень дорогих гостей. Это неправда! Много грехов у актеров, но на сцене они отдают все, что имеют, все, чем богаты. А потом, когда отгремели аплодисменты (они ведь гремят всегда, и проходят годы, пока научишься различать, кто аплодирует и за что аплодирует), когда закрылся занавес, до того, как придет понимание, кому сколько славы и дивидендов досталось, актерам хочется остаться одним, без посторонних, и ВСЕМ вместе. Именно сюда, бывает, влезают телевизионные камеры, микрофоны, корреспонденты, просто тусовщики, чтобы вот так, попросту попросить сказать пару слов, тут ведь все свои… Нет! Если они проникли в наше святая святых, то уже не все свои…»
В роли Фелицаты Раневская больше на сцену не вышла. Это была ее последняя роль в этом спектакле. Лебединая песня. Впрочем, последний раз она вышла на сцену в спектакле «Дальше — тишина». Еще раз подумалось мне, как гениально назвал этот спектакль словами Гамлета его постановщик Анатолий Эфрос. Действительно, дальше — тишина, ставшая вечностью…
Юрский побывал в Таганроге, когда Фаины Георгиевны уже не было в живых. Естественно, подошел к дому, на котором была мемориальная доска «Здесь родилась и жила в детские годы народная артистка СССР Ф. Г. Раневская». Сергея Юрьевича как током ударило, и всколыхнулось в памяти многое, связанное в его жизни с Раневской: «Моя дорогая, моя незабвенная Фаина Георгиевна, с которой мы еще, кажется, совсем недавно играли и, взявшись за руки, выходили кланяться публике, которой, вдруг понимаю, более 15 лет нету на этом свете. Она ведь сменила фамилию и взяла прекрасное имя Раневской не только потому, что любила героиню пьесы „Вишневый сад“, но по землячеству — Чеховы-то соседи. И опять все три века закручиваются в моем сознании в единый канат, на котором держусь и который не мне расплести на составные части.
В правительственной больнице, в отдельной палате Раневскую окружало множество приборов и специальных медицинских приспособлений. Но легче от этого не было. Она хотела домой, к своим книгам, к своему дивану, к своей собаке, к своему одиночеству. Она лежала, закрыв глаза, и изредка стонала. И вдруг, тоже как стон, низким своим голосом сказала напевно: „Дай… мне… ручку“. Я замер. Стало страшно. Никогда она не обращалась ко мне на „ты“. Я наклонился и взял ее за руку. Она выдохнула: „Каждый пальчик… я их все перецелую“. Только тут я понял, что Раневская поет. Голос набирал силу. Слова ложились ровнее, и мелодия стала определенней:
Обниму тебя еще раз,
И уйду, и затоскую…
И уйду…
И затоскую.
„Хорошо я спела? — спросила она, не открывая глаз. — Это замечательный романс“. Потом глаза открылись. Они были огромные и выпуклые. Она произнесла шепотом: „Как мне страшно умирать“».
Читая эти слова Юрского, я вспомнил почему-то высказывание Ларошфуко: «Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием». Судя по воспоминаниям многих, знавших близко Фаину Георгиевну, она, как и положено всем смертным, боялась последнего дня жизни и иногда, наверное, думала: «А может быть, мы награждены бессмертием?» Но прав был Гераклит, сказав однажды: «Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».
Размышляя о Фаине Георгиевне, хочу процитировать слова Ф. Бэкона: «Бессмертие животных — в потомстве, человека же — в славе, заслугах и деяниях». Уж чего-чего, а славы и великих деяний Фаине Георгиевне Раневской выпало более чем достаточно.
И снова вернемся к последним дням жизни Фаины Георгиевны: в больнице ее часто навещали друзья, что вызывало недовольство медперсонала. Одно из последних больничных воспоминаний оставила нам Марина Неелова. Лето 1984 года выдалось жарким. Марина Неелова, позвонив в больницу, попросила разрешения навестить Раневскую.
— Можете навестить ее в четверг. Может быть, вам это удастся, но помните, ей ничего нельзя есть.
Фаина Георгиевна узнала Марину, очень обрадовалась:
— Вы меня вспоминаете?
— Нет, Фаина Георгиевна, помню всегда.
В тот день консилиум врачей решил делать операцию — оторвался тромб. Фаина Георгиевна, рассказав об этом Марине Нееловой, четко произнесла, как вердикт: «Операцию не хочу!» Неелова попыталась успокоить ее, что это нужно для скорейшего выздоровления: «Чтобы быстрее встали на ноги и не хромали». На что Раневская со свойственным ей юмором ответила:
— А вы что, думаете, я собираюсь играть «Даму с камелиями»? Нет, не собираюсь…
Фаина Георгиевна упорно отказывалась что-нибудь съесть, и Марина Мстиславовна в сердцах даже назвала ее хулиганкой.
— Вот уж не думала, что меня перед самой смертью обвинят в хулиганстве!
Прощаясь, Неелова обещала после выхода Фаины Георгиевны из больницы прийти к ней домой. Прощаясь с ней, Раневская сказала:
— Благослови вас Господь, деточка. Будьте счастливы!
Это была ее последняя фраза. На следующий день, 19 июля в 10.30 утра, Фаина Георгиевна Раневская скончалась.
Из воспоминаний Нееловой: «Она без нас, а мы без нее! Я успела только попрощаться. Теперь всегда буду помнить эту палату, ее, спящую и держащуюся за треугольник, висящий из-под потолка, ее руки похудевшие, с пятнышками на коже, но крепкие и нежные». Очень беспокоилась Фаина Георгиевна за судьбу Мальчика, если он останется без нее. Впрочем, успокаивала себя: «Я завещаю его Лизе Абдуловой. Тем более она сумеет говорить с ним по-французски». Мальчик, за которого так беспокоилась Фаина Георгиевна, пережил ее почти на шесть лет.
Некрологи по случаю смерти актрисы появились во всех центральных газетах. Вот отрывок из некролога, напечатанного в газете «Советская культура» 27 июля 1984 года:
«Советское искусство понесло тяжелую утрату. На 88-м году жизни скончалась Фаина Георгиевна Раневская, выдающаяся советская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственных премий СССР. Ф. Г. Раневская родилась в 1896 году в г. Таганроге. Около 70 лет жизни она отдала творческой работе, из них более четверти века — Академическому театру имени Моссовета.
Ушла из жизни актриса, внесшая большой вклад в развитие театрального и киноискусства. Талантливый, многогранный художник, Ф. Г. Раневская создала в театре замечательные сценические образы в спектаклях „Васса Железнова“ М. Горького, „Шторм“ В. Билль-Белоцерковского, „Последняя жертва“ А. Островского. В историю отечественного кинематографа вошли такие фильмы с ее участием, как „Мечта“, „Подкидыш“, „Весна“ и другие.
Творчество Ф. Г. Раневской снискало любовь и признание многочисленных зрителей. Ее актерские работы отмечены блестящим мастерством, жизненной правдой, точностью социальных характеристик. Искусству Ф. Г. Раневской, глубоко реалистическому по природе, были присущи высокая гражданственность, оптимизм, вера в человека.
Богатый сценический и жизненный опыт Ф. Г. Раневская щедро передавала молодежи. Своим вдохновенным трудом она оказывала значительное влияние на формирование советской актерской школы.
Родина высоко оценила заслуги Ф. Г. Раневской, наградив ее орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом „Знак Почета“, трижды ей присуждалась Государственная премия СССР.
Ф. Г. Раневская, выдающаяся советская актриса, верная дочь социалистической Родины, останется в нашей памяти».
Под некрологом стояли подписи не только членов Политбюро, но и выдающихся деятелей культуры: Ю. К. Борисовой, Е. И. Габриловича, А. А. Гончарова, О. Н. Ефремова, Е. В. Зайцева, Л. И. Касаткиной, Л. Ф. Лосева, М. В. Пашкова, Т. И. Пельтцер, Р. Я. Плятта, Е. Р. Симонова, А. И. Степановой, Г. А. Товстоногова, 3. П. Тумановой, Л. В. Шапошниковой, М. И. Царева.
Раневская похоронена на Донском кладбище. Она покоится в той же могиле, что и ее сестра Белла.
…На похоронах Михоэлса Фаина Георгиевна сказала Анастасии Павловне Потоцкой: «Если будет на то моя воля, я завещаю, чтобы меня похоронили на этом же кладбище. Я понимаю, что рядом с Соломоном Михайловичем места не будет, но хотя бы на одном кладбище… Вы ведь знаете мое безразличие к цветам, я не люблю их. Но деревья — совсем другое дело, ведь не зря говорят: „Деревья умирают стоя“. Нам с вами, Анастасия Павловна, надо еще жить, чтобы, глядя на нас, люди вспоминали о тех, кого мы помним и любим».
Дописав последнюю страницу, автор подумал, что все равно о личности Фаины Раневской никто не расскажет лучше ее самой. Поэтому он собрал из высказываний актрисы, опубликованных в различных книгах и на страницах СМИ, некое подобие «избранного», которым и завершается эта книга.
«Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга „Судьба — шлюха“».
«Бог мой, как прошмыгнула жизнь! Я даже никогда не слышала, как поют соловьи».
«Всю жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй».
«Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность».
«Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы они могли любить мужчин».
«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны».
«Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте».
«Мне всегда было непонятно — люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства».
«Мне попадаются не лица, а личное оскорбление».
«Сняться в плохом фильме — все равно что плюнуть в вечность».
«Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда».
«Я, в силу отпущенного мне дарования, пропищала как комар».
«Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: „Умерла от отвращения“».
«Ох уж эти несносные журналисты! Половина лжи, которую они распространяют обо мне, не соответствует действительности».
«Стареть скучно, но это единственный способ жить долго».
«Оптимизм — это недостаток информации».
«Когда мне не дают роли, чувствую себя пианисткой, которой отрубили руки».
«Деньги мешают и когда они есть, и когда их нет и не может быть».
«Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка».
«Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа. Раньше я просто знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают».
«Похороны — это спектакль для любопытствующих обывателей».
«Чтобы получить признание — надо, даже необходимо умереть».
«С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней».
«Спутник славы — одиночество».
«Часто говорят: „Талант — это вера в себя“. А по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой, своими недостатками, чего я, кстати, никогда не встречала у посредственности».
«Получаю письма: „Помогите стать актером!“ Отвечаю: „Бог поможет“».
«Тоскую о несыгранных ролях. Прожить бы еще несколько жизней».
В завершение отмечу, что Фаина Георгиевна успела так много сделать не только в искусстве, но и для своих друзей, что, по сути, прожила несколько жизней… Не случайно ее любимым афоризмом были слова Сенеки: «Хочешь жить для себя — живи для других».
1896, 27 августа — в Таганроге в состоятельной семье купца второй гильдии Гирша Хаимовича Фельдмана и Милки Рафаиловны Заговайловой родилась дочь Фаина.
1913 — Фаина впервые приезжает в Москву.
1915 — окончательно уезжает из Таганрога в Москву, где живет в маленькой комнатке на Большой Никитской. Начало дружбы с известной балериной Е. В. Гельцер, знакомство с М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштамом, В. В. Маяковским, В. И. Качаловым. Начало сценической деятельности в Малаховском дачном театре под Москвой.
1916 — отыграв сезон в Малаховском театре, Раневская подписывает договор с антрепризой Ладовской на роли «героинь-кокет» и уезжает в Керчь. Но выступления труппы не собирали зрителей, и Раневская покинула антрепризу. Начались ее скитания по провинциальным театрам — Феодосия, Кисловодск, Ростов-на-Дону.
1917 — Фельдманы уплыли на собственном пароходе в Турцию, оставив Фаину в России.
1918 — в Ростове-на-Дону Раневская познакомилась с П. Л. Вульф, в лице которой обрела надежного друга на всю жизнь.
Осень — принята в труппу «Театра актера», главным режиссером которого был П. А. Рудин. Успешно дебютировала в роли Маргариты Кавалини в «Романе». 1920–1924 — Раневская играет в Крымском театре, где ее впервые называют настоящей актрисой. Одной из лучших работ актрисы была роль Шарлотты в «Вишневом саде». Раневская также исполняла роли Ольги и Наташи (А. П. Чехов «Три сестры»), Маши (А. П. Чехов «Чайка»), Войницкой (А. П. Чехов «Дядя Ваня»), Зюзюшки (А. П. Чехов «Иванов»), Глафиры Фирсовны (А. Н. Островский «Последняя жертва»), Анфисы Тихоновны (А. Н. Островский «Волки и овцы»), Галчихи (А. Н. Островский «Без вины виноватые»), Насти (М. Горький «На дне»), Пошлепкиной (Н. В. Гоголь «Ревизор»), свахи (Н. В. Гоголь «Женитьба») и др.
1921, 21 апреля — Раневская и П. Л. Вульф в Симферополе встречают М. Волошина и становятся свидетельницами создания им стихотворения «Красная Пасха».
1922 — играет в Крымском театре роль Манефы в пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты».
1924 — играет в Смоленском театре роль Дуньки в спектакле «Любовь Яровая» (К. А. Тренев).
1925 — Фаина Раневская и Павла Вульф поступают в передвижной театр Московского отдела народного образования (МОНО), закрывшийся после первого сезона.
1925–1931 — играет в театрах Смоленска, Баку, Архангельска, Сталинграда. За этот период Раневская сыграла в спектаклях «Коварство и любовь» по Ф. Шиллеру (леди Мильфорд), «Дворянское гнездо» по И. С. Тургеневу (Лаврецкая), «Живой труп» по Л. Н. Толстому (Маша), «Свадьба» по А. П. Чехову (Змеюкина), «Юбилей» по А. П. Чехову (Мерчуткина), «Гамлет» по У. Шекспиру (Королева), «Ярость» по Е. Г. Яновскому (Председатель колхоза), «Чудак» по А. Н. Афиногенову (Трошина), «Любовь Яровая» по К. А. Треневу (Дунька), «Чудеса в решете» по А. Н. Толстому (Марго).
1931–1933 — играет в московском Камерном театре. Дебютирует в Москве ролью Зинки в спектакле по произведению Н. Г. Кулиша «Патетическая соната». Спустя некоторое время спектакль снимают с репертуара.
1933–1939 — входит в труппу Центрального театра Красной армии, где ей довелось сыграть мать в пьесе «Чужой ребенок» по произведению В. В. Шкваркина, сваху Глафиру Фирсовну в пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва», Оксану в пьесе А. Е. Корнейчука «Гибель эскадры» и главную роль в пьесе М. Горького «Васса Железнова».
1934 — успешно дебютирует в кино в фильме Михаила Ромма «Пышка» по новелле Г. Мопассана.
1937 — режиссер М. Савченко после просмотра фильма М. Ромма «Пышка» обратился к Раневской с просьбой сняться в его кинофильме «Дума про казака Голоту» (роль Попадьи). К этому времени актриса осталась без работы в театре и кино захватило ее. В этом же году Раневской присуждено звание заслуженной артистки СССР.
1938 — режиссер Анненский снимает фильм по рассказу А. П. Чехова «Человек в футляре», в котором Раневская играет роль жены инспектора гимназии.
1939 — Раневскую приглашают в Малый театр, она соглашается, но ее не хотят отпускать из Театра Красной армии, и актриса уходит со скандалом. Однако в Малом театре оказываются категорически против ее прихода в труппу. В итоге Раневская остается без работы. В этом году она снимается сразу в трех кинокартинах: «Человек в футляре» И. Анненского, «Ошибка инженера Кочина» А. Мачерета и «Подкидыш» Т. Лукашевич. Последний фильм принес ей всесоюзную известность.
1940 — снимается в кинофильме И. Пырьева «Любимая девушка» (роль тетки Добрякова). Тогда же М. Ромм пригласил Раневскую сниматься в фильме «Мечта» (роль хозяйки меблированных комнат Розы Скороход). Эта работа открыла трагическую грань таланта актрисы.
1941 — снимается в кинофильме А. Кустова и А. Мазур «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (роль Горпины).
Ноябрь — с приближением немцев к Москве Раневская эвакуируется в Ташкент, где остается до 1943 года.
1942 — снимается в кинофильме Л. Лукова «Александр Пархоменко» (роль Таперши).
1943 — снимается в кинофильме С. Юткевича «Новые похождения Швейка» (роль тетушки Адели). Снимается в кинофильме В. Брауна и Н. Садкович «Три гвардейца» (роль Учительницы). После возвращения в Москву принята в Театр драмы (ныне Театр имени Вл. Маяковского). Сыграла там роли Щукиной в спектакле по рассказу А. П. Чехова «Беззащитное существо», Свояченицы в пьесе «Капитан Костров» (А. М. Файко), бабушки О. Кошевого в пьесе «Молодая гвардия» (А. А. Фадеев) и др.
1944 — съемки в фильме «Свадьба» по рассказу А. П. Чехова. где Раневская играла мать невесты.
1945 — снимается в кинофильме С. Тимошенко «Небесный тихоход» (роль Профессора медицины). С большим успехом исполнила роль Берди в пьесе Л. Хелман «Лисички» в Театре драмы.
1946 — Раневская в больнице, ведет переписку с В. И. Качаловым.
Сентябрь — встреча Раневской и Л. О. Утесова.
Играет в пьесе А. Сурова «Далеко от Сталинграда» в ТЮЗе. Снимается в кинофильме И. Фрэза «Слон и веревочка» (роль Бабушки).
1947 — Раневская получает звание народной артистки РСФСР и орден «Знак Почета». Выходит на экраны комедия Г. Александрова «Весна» с Л. Орловой и Н. Черкасовым в главных ролях. Раневской в сценарии отводился лишь один эпизод: ее героиня Маргарита Львовна подавала завтрак своей племяннице — Орловой.
Лето — снимается в фильме «Золушка» по пьесе Е. Шварца в роли Мачехи.
Осень — снимается в кинофильме Л. Лукова «Рядовой Александр Матросов» (роль Врача).
1948 — актриса разъехалась с семьей своей подруги П. Л. Вульф и поселилась отдельно.
1949 — снимается в кинофильме Г. Александрова «Встреча на Эльбе» (роль миссис Мак-Дермот). Снимается в драме А. Файнциммера и В. Легошина «У них есть Родина» по пьесе С. Михалкова (роль фрау Вурст). Май — Раневская получает Сталинскую премию за исполнение роли жены Лосева в пьесе А. П. Штейна «Закон чести» на сцене Московского театра драмы. 1949–1955 — работает в Театре имени Моссовета.
1950 — получает орден Трудового Красного Знамени.
1951 — сыграла небольшую гротескную роль Спекулянтки в пьесе В. Н. Билль-Белоцерковского «Шторм» на сцене Театра имени Моссовета. Получила Сталинскую премию за исполнение роли Агриппины Солнцевой в пьесе А. А. Суворова «Рассвет над Москвой».
1953 — сыграла роль старухи Фатьмы Нурхан в спектакле по пьесе Н. Хикмета «Рассказ о Турции».
1954 — сыграла Анну Сомову в спектакле по пьесе М. Горького «Сомов и другие». На Всесоюзном радио записан спектакль «По ревизии» (автор М. Л. Кропивницкий), в котором принимала участие Ф. Раневская.
1955 — покинула Театр имени Моссовета и перешла в Театр имени А. С. Пушкина — бывший Камерный, где работала до 1963 года.
1956 — исполнила роль Антониды Васильевны в пьесе по роману Ф. М. Достоевского «Игрок».
1957 — едет в Румынию повидаться с матерью, с которой рассталась сорок лет назад.
1958 — в Московском театре имени А. С. Пушкина исполнила роль Бабушки в пьесе А. Касоны «Деревья умирают стоя». Снялась в роли Сверестинской в фильме Файнциммера «Девушка с гитарой».
1960 — сыграла главную роль в фильме «Осторожно, бабушка!» (режиссер Н. Кошеверова). Снялась в фильме «Драма» (режиссер Г. Ливанов) по рассказу А. П. Чехова в роли Мурашкиной. Из Турции вернулась на родину родная сестра Раневской Изабелла Георгиевна Аллен.
1961 — получила звание народной артистки СССР.
1963 — снялась в фильме «Так и будет».
1964 — сыграла роль Марии Александровны в спектакле по произведению Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон». Снялась в фильме В. Дормана «Легкая жизнь» (роль Королевы Марго).
1964–1965 — снималась в «Фитилях» (№ 25 и 33).
1965 — снялась в фильме Л. Квинихидзе «Первый посетитель» (роль Старой барыни). Возвращается в Театр имени Моссовета, где работает до конца своих дней.
1966 — Н. Кошеверова пригласила Раневскую в свою картину «Сегодня новый аттракцион» на роль Директора цирка. Сыграла в Театре имени Моссовета роль миссис Сэвидж в спектакле по произведению Дж. Патрика «Странная миссис Сэвидж».
1967 — получила орден Трудового Красного Знамени.
1969 — в Театре имени Моссовета сыграла роль Люси Купер в спектакле по произведению В. Дельмара «Дальше — тишина».
1970 — озвучивает мультфильм «Карлсон вернулся» (роль фрекен Бок).
1973 — в Театре имени Моссовета сыграла роль Глафиры Фирсовны в пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва».
1974 — переписка Раневской и Л. Орловой. Публикация статьи В. Ардова о Ф. Раневской «Трагическое и смешное» в «Литературной России».
1976 — в связи с восьмидесятилетием награждена орденом Ленина. В прессе появляются многочисленные статьи, посвященные юбилею Раневской.
1980 — снялась в фильме Ю. Кушнерова «Комедия давно минувших дней».
30 сентября — в Театре имени Моссовета Ф. Раневская играет в пьесе А. Н. Островского «Правда — хорошо, а счастье — лучше» (роль Фелицаты).
1982, 19 мая — последний раз сыграла в спектакле «Правда — хорошо, а счастье — лучше».
1983, 19 октября — навсегда оставила сцену — буднично, без проводов и речей, просто уведомив о своем решении директора Театра имени Моссовета.
1984, 19 июля — скончалась после перенесенных инфаркта и пневмонии. Похоронена в некрополе Донского монастыря рядом с сестрой Изабеллой.
Воспоминания об Анне Ахматовой / Сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных. М., 1991.
Воспоминания о Ромме. М., 1993.
Из переписки Фаины Раневской / Публ. и предисл. Ю. Данилина //Литературная газета. 1996. 17 января.
Ирина Вульф и ее знаменитые современники. М., 2006.
О Раневской. Сборник воспоминаний / Сост. Л. Ф. Лосев. М., 1988.
Осип Наумович Абдулов. Статьи. Воспоминания / Сост. Е. М. Абдулова-Метельская. М., 1969.
Ф. Г. Раневская — А. В. Щеглову // Киносценарии. 1996. № 4.
Фаина Раневская. Случаи. Шутки. Афоризмы / Сост. И. В. Захаров. М., 1998.
Фаина Раневская на сцене и в жизни / Сост. М. Ю. Амелин, Ю. Н. Амелин. Ростов н/Д., 2007.
Автор выражает благодарность тем, кто помог ему в работе над книгой — Е. М. Абдуловой-Метельской, А. П. Потоцкой-Михоэлс, В. О. Абдулову, Б. М. Поюровскому, Б. И. Захаровой, А. А. Колгановой, работникам Московской театральной библиотеки и РГАЛИ, а также сотрудникам ГОУ ПК № 13 имени С. Я. Маршака Е. В. Веденеевой, О. В. Кудриной, Д. С. Тупицыну, Ю. А. Медведевой, Г. В. Смирновой