Хаким Фирдоуси
Шах-наме
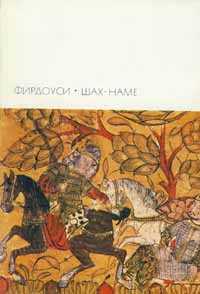
Всемирная история знает яркие, насыщенные грозными событиями периоды, которые Стефан Цвейг образно назвал «звездными часами человечества». В эти эпохи самые передовые представители своего времени, те, кого справедливо именуют совестью народной, остро и сильно переживая драматические ситуации своей эпохи, создают великие творения человеческого духа.
К числу подобных произведений, отразивших в высокохудожественной форме духовный и общественный подъем народов, относятся: «Махабхарата» и «Рамаяна», «Илиада» и «Одиссея», «Божественная комедия» Данте и трагедии Шекспира. В этом ряду стоит и «Шах-наме» гениального Фирдоуси.
Поэт, взявший себе псевдоним «Фирдоуси», что означает «райский», жил и творил в восточном Иране, который входил в те далекие времена в состав государства Саманидов, объединившего земли, на которых жили предки современных таджиков и персов. Это территориальное единство двух народов продолжалось многие столетия, и вплоть до XVI века культурное достояние персов и таджиков было общим.
В государстве Саманидов, политическими и культурными центрами которого были города Бухара и Самарканд, в X веке на базе развития производительных сил, городской жизни и роста национального самосознания народа расцвели наука и художественная литература. На территории Хорасана и Средней Азии в то время жили и творили выдающиеся математики Хорезми (IX в.), Худжанди (Хв.), великие философы и ученые Аль-Фараби (IX в.), Ибн-Сина (X–XI вв.) и Бируни (X–XI вв.).
В X веке в столице Бухаре и других городах державы Саманидов бурно развивалась литература на языке дари, иначе именуемом также фарси. Она послужила основой для дальнейшего развития классической персидско-таджикской поэзии: в X веке был выработан и отшлифован литературный язык фарси, сформировались основные жанры персидско-таджикской поэзии, сложилась система образов с развитой поэтической лексикой и богатством речевых средств, были канонизированы все стихотворные метры и их модификации.
В этот период в государстве Саманидов творила плеяда замечательных поэтов, в произведениях которых наряду с характерными для эпохи панегириками воплотились идеи и мысли, волновавшие передовых людей того времени и отразившие коренные интересы народа. В поэзии достигла высокого развития лирика как философско-этического, так и любовного характера; лирические стихи поэтов были проникнуты глубокими раздумиями о судьбе человека, о мироздании, социальной несправедливости.
О философской лирике дают яркое представление стихи выдающегося поэта-философа Шахида Балхи (X в.), в которых он выразил свое понимание взаимоотношения богатства и знаний:
Видно, званье и богатство — то же, что нарцисс и роза,
И одно с другим в соседстве никогда не расцветало.
Кто богатствами владеет, у того на грош познаний,
Кто познаньями владеет, у того богатства мало.
Этот мотив несовместимости знания и богатств в персидско-таджикской поэзии был излюбленным, он встречается у многих поэтов, в том числе и у великого Рудаки (ум. в 941 г.) — признанного основоположника классической поэзии на языке фарси.
Персидско-таджикскую поэзию X века характеризует живое восприятие бытия, призыв к полнокровной жизни со всеми ее радостями, вызов неумолимой судьбе. Такими мотивами навеяно известное стихотворение Рудаки:
Будь весел с черноокою вдвоем,
Затем что сходен мир с летучим сном.
Ты будущее радостно встречай,
Печалиться не стоит о былом.
Я и подруга нежная моя,
Я и она — для счастья мы живем.
Как счастлив тот, кто брал и кто давал,
Несчастен равнодушный скопидом.
Сей мир, увы, лишь вымысел и дым,
Так будь что будет, насладись вином!
В VII веке Иран и Средняя Азия были завоеваны Арабским халифатом и включены в сферу экономической, политической и культурно-духовной жизни этого огромного государства. Однако уже через столетие в среде иранских образованных кругов началось движение, известное под названием шуубийа, в котором отразился протест порабощенных пародов против их духовного закабаления. Так, например, иранские шуубиты собирали древние сказания, переводили древнеиранские книги на арабский язык, использовали в своих стихах идеи, образы и мотивы Авесты и других зороастрийских религиозных сочинений.
Особое распространение в X веке получило сведение древних иранских мифов и героических сказаний в специальные сборники, носившие название «Шах-наме» («Книга о шахах»). При составлении этих произведений широко использовались написанные на среднеперсидском языке своды «Худай-наме» («Книга о царях»), в которых наряду с официальной придворной хроникой династии Сасанидов (III–VI вв. н. э.) содержались также мифы и сказания иранских народов.
В течение X века на языке дари было составлено три (по свидетельству некоторых источников — четыре) прозаических свода «Шах-наме», которые носили полуисторический-полухудожественный характер и не могли оказывать должного эстетического воздействия. Следовательно, в то время уже созрела настоятельная потребность создания истинно поэтических произведений о героическом прошлом. Все это было обусловлено, с одной стороны, все возрастающим процессом пробуждения народного самосознания у предков таджиков и персов, необходимостью духовного самовыражения, то есть создания художественной эпической литературы на родном языке; с другой стороны, было продиктовано необходимостью консолидации внутренних сил страны перед угрозой иноземного вторжения кочевых племен, с которыми Саманидам приходилось вести беспрерывные войны. Этот социальный заказ остро чувствовали все передовые писатели и общественные деятели Саманидского государства, и первым, кто попытался удовлетворить эту настоятельную потребность общества, был поэт Дакики, погибший совсем молодым (977 г.) и успевший написать всего несколько тысяч бейтов (двустиший).
Завершить неоконченную работу Дакики взялся Абулькасим Фирдоуси, создавший гениальную эпопею «Шах-наме» — венец всей персидской и таджикской поэзии.
Исторические и историко-литературные источники сообщают о жизни Фирдоуси лишь скудные сведения. Известно, что он родился где-то около 934 года, в семье обедневшего дихкана — представителя полупатриархальной-полуфеодальной знати, теснимой новым классом феодальных землевладельцев.
В 994 году, как об этом говорится в заключительной части «Шах-наме», Фирдоуси закончил первую, неполную редакцию своего произведения. За долгие годы, в течение которых он писал «Шах-наме», ему пришлось испытать и голод, и холод, и жестокую нужду. О незавидном материальном положении великого поэта говорится во многих лирических отступлениях, разбросанных по всей огромной книге. Так, в одном из них он сетует:
Луна померкла, мрачен небосвод,
Из черной тучи снег идет, идет.
Ни гор, ни речки, ни полей не видно,
И ворона, что мглы черней, не видно.
Ни дров, ни солонины у меня,
И нет — до новой жатвы — ячменя.
Хоть вижу снег — слоновьей кости гору,—
Поборов я боюсь в такую пору.
Весь мир вверх дном перевернулся вдруг…
Хотя бы чем-нибудь помог мне друг!
Над первой редакцией поэт, судя по сведениям первоисточников и текста самого «Шах-наме», трудился около двадцати лет и лишь в старости получил вознаграждение за свой поистине титанический труд. В то время правители платили поэтам за посвящение им произведений. Однако Фирдоуси оказался в незавидном положении: в 992 году (то есть за два года до завершения первой редакции «Шах-наме») Бухара — столица Саманидов, политике которых отвечал идейный смысл эпопеи и на покровительство которых поэт имел все основания рассчитывать, была взята Караханидами — предводителями кочевых племен из Семиречья. И надеждам Фирдоуси не суждено было осуществиться, но он не прекратил работы и приступил ко второй редакции, по объему почти вдвое предвосходившей первоначальную, которая была закончена в 1010 году. К этому времени Саманидов в качестве правителя Хорасана и части Средней Азии сменил могущественный властитель Газны султан Махмуд (997—1030), прославившийся как жестокий завоеватель Северной Индии. Он отверг творение Фирдоуси.
Существует много легенд о причинах конфликта между гениальным поэтом и грозным тираном. Одна из них была поэтически обработана великим немецким романтиком Генрихом Гейне.
Согласно этой легенде, султан обещал поэту заплатить за каждое двустишие по золотой монете. Но Махмуд жестоко обманул его. Когда прибыл караван от султана и развязали тюки, оказалось, что золото заменено серебром. Оскорбленный поэт, который, по преданию, будто бы находился в бане, разделил эти деньги на три части: одну вручил банщику, другую — людям каравана, а на третью купил прохладительные напитки. Это был явный и прямой вызов деспотичному правителю. Султан приказал наказать поэта — бросить его под ноги слону. Фирдоуси бежал из родных мест и много лет провел в скитаннях. Лишь в старости он решил вернуться ыа родину.
Однажды главный министр в присутствии Махмуда произнес двустишие из великой поэмы. Султан, сменив гнев на милость, решил вознаградить поэта. Когда караван с дарами входил в ворота города, из противоположных ворот вынесли носилки с телом умершего Фирдоуси.
А в тот же час из восточных ворот
Шел с погребальным плачем народ.
К тихим могилам, белевшим вдали,
Прах Фирдуси по дороге несли,
— так заканчивает свою балладу, посвященную великому персо-таджикскому поэту, Генрих Гейне.
Советские ученые указали на подлинные причины отрицательного отношения султана к «Шах-наме». С одной стороны выступал Махмуд жесткий деспот, беспощадно подавлявший народные восстания и проводивший свои грабительские походы под знаменем священного ислама, с другой — великий поэт, воспевший борьбу за отчизну, но осудивший жестокость и беспричинное кровопролитие, прославивший справедливых правителей и простых людей, призывавший ценить «тех, кто зарабатывает трудом хлеб насущный». Султан не признавал никаких иных законов, кроме собственной воли, Фирдоуси же провозглашал гимн законности и правопорядку. Махмуд не ставил человеческую жизнь ни в грош, Фирдоуси же призывал ценить жизнь как величайшее благо. Одним словом, вся идейная основа, весь строи мыслей «Шах-наме» решительно противостояли политике Махмуда, и никакой речи, конечно, не могло быть о признании султаном великого творения.
«Шах-наме» — огромная стихотворная эпопея. В течение тысячелетия поэма многократно переписывалась, и средневековые писцы, не отличаясь особой щепетильностью в вопросах авторского права, поступали с текстом, как им заблагорассудится, так что количество бейтов в различных вариантах «Шах-наме» колеблется от сорока до ста двадцати тысяч. В критическом же тексте, впервые подготовленном на основе древнейших рукописей сотрудниками Института востоковедения АН СССР, содержится пятьдесят пять тысяч бейтов, и эту цифру следует полагать близкой к истине.
Композиция «Шах-наме» такова: поэма состоит из описаний пятидесяти царствований, начиная от царей легендарных и кончая личностями историческими. Некоторые эпизоды, как, например, разделы о сасанидских шахах, содержат всего лишь несколько десятков двустиший, иные же разделы насчитывают более пяти тысяч. Есть и такие разделы, в которые автор включил самостоятельные поэмы героического или романтического плана, нередко весьма крупные по объему. Именно они вследствие своей художественной силы приобрели наибольшую популярность. Таковы, например, «Рустам и Сухраб», «Сиявуш», включенные в повествование о царствовании Кей-Кавуса.
Исследователи делят «Шах-наме» на три части: 1) мифологическую (до появления систансккх богатырей); 2) героическую (до Искандара); 3) историческую. Хотя у самого автора такого деления нет, но оно вполне оправданно и имеет под собой реальную почву.
Каждый раздел предваряется тронной речью, как, например, речь Бахрама Гура. В этом обращении к великим мира сего и простым людям вступающий на престол властелин сообщает о своей будущей политической программе.
В заключительной части каждого раздела поэт устами умирающего шаха излагает предсмертмое завещание — наставление наследнику. В этом назидании наряду с пессимистическими нотками о бренности мира содержатся призывы быть справедливым и не обижать подданных, заботиться о процветании страны. Taк звучит, например, завещание Ардашира Бабакана:
Так будь разумным, щедрым, справедливым.
Страна счастлива — будет царь счастливым.
Лжи приближаться к трону запрети,
Ходи всегда по правому пути.
Для добрых дел сокровищ не жалей,
Они стране — как влага для полей.
А если шах жесток, и скуп, и жаден,—
Труд подданных тяжел и безотраден.
Дихкан скопил казну, украсил дом,—
Он это создал потом и трудом,—
И царь не отнимать казну дихкана,
А должен охранять казну дихкана.
Книги о царствованиях и включенные в них поэмы имеют обязательные зачины и концовки, которые не повторяются буквально, а варьируются в зависимости от ситуации.
Характерно, что, в отличие от книг всех средневековых персидских поэтов, Фирдоуси непосредственно за славословием богу помещает похвалу разуму. И в дальнейшем в повествовании автор неоднократно восхваляет человеческие знания, о которых он пишет так, словно сам является нашим современником:
Познанье выше имени и званья,
И выше свойств врожденных — воспитанье.
Коль в воспитанье сил не обретут,
Врожденные достоинства замрут.
…О личном благородстве всяк болтает;
Лишь светоч знанья душу украшает.
Или же:
И тот, в ком светоч разума горит,
Дурных деяний в мире не свершит.
Вся эпопея Фирдоуси пронизана одной, главной философской идеей— это борьба добра против зла. Силам добра, возглавляемым верховным божеством Ахурамаздой, противостоят полчища злых сил, главой которых является Ахриман. Иранцы в «Шах-наме» олицетворяют доброе начало, их враги — злое; небезынтересно, что те из иранцев, которые выбрали для себя неправый путь, изображаются как ступившие на стезю Ахримана. Фирдоуси так и пишет: «Его совратил Ахриман».
Злой дух в «Шах-наме» выступает в разном обличье, он не всегда действует сам, а большей частью исполнение своих нечестивых замыслов поручает дивам, то есть нечистой силе, выступающей в образе получеловека-получудовища.
Царевич Заххак, пишет Фирдоуси, был благородный и богобоязненный юноша, но его совратил Иблис (сатана), и он убил отца, захватил престол и стал систематически истреблять иранцев. Он процарствовал тысячу лет, пока силы добра во главе с потомком царей Фаридупом и кузнецом Кавой не свергли его.
В «Шах-наме» окончательное торжество всегда на стороне добра. В этом плане интересен конец эпопеи: иранское государство рухнуло под сокрушительным ударом арабских войск, величие Ирана повергнуто в прах. Но идейный смысл «Шах-наме», все призывы автора, помыслы изображенных им героев направлены на прославление своей страны. И поскольку падение Ирана изображено ретроспективно, как факт, происшедший несколько веков назад, само произведение Фирдоуси служит предостережением против повторения прежних ошибок, приведших к поражению.
Таким образом, основная мысль «Шах-наме» — это прославление родной страны, восторженный гимн Ирану, призыв к единению разрозненных сил, к централизации власти во имя отражения иноземных нашествий, на благо страны. Иранские правители — герои «Шах-наме» ни разу не начинают несправедливой войны, они всегда правая сторона, будь их врагами туранцы, византийцы или иные народности.
Богатыри и витязи в «Шах-наме» беззаветно преданы родной стране и шаху, олицетворяющему для них отчизну. Будучи незаслуженно обижены правителем, богатыри прощают обиды и оскорбления во имя общих интересов. Рустам но неведению убил юного туранского витязя Сухраба, и лишь после нанесения смертельной раны он узнает, что сразил собственного сына. А у шаха Кей-Кавуса был чудодейственный бальзам, способный вылечить смертельно раненного Сухраба, и Рустам отправляет к властелину гонца с просьбой дать зелье. Однако Кей-Кавус отказывает и без обиняков говорит прибывшему богатырю Гударзу, что он вовсе не желает, чтобы Сухраб остался в живых, из опасения, как бы отец и сын, объединившись, не свергли его с престола. В этой сцене поэт противопоставил низменности шаха величие Рустама, который и после этого остался верным вассалом Кей-Кавуса, так как для богатыря последний олицетворял собой Иран.
Вряд ли будет преувеличением утверждать, что именно Рустам — главный персонаж «шах-наме», а не властители, в войске которых он служит. В его образе автор воплотил свои представления об идеальном герое, Рустам наделен такой богатырской силой, что способен свергнуть любого шаха, а пережил их он много, поскольку сам прожил шестьсот долгих лет. Но он не поступает так, поскольку, согласно воззрениям Фирдоуси, царствовать может лишь отпрыск древних царей, наделенный фарром, божественной благодатью, осеняющей в виде нимба носителей верховной власти.
Вместе с тем Рустам в «Шах-наме» не безмолвный раб, а самостоятельная личность, наделенная огромным чувством собственного достоинства, сознающая свою силу и мощь, но тем не менее соблюдающая древние обычаи. Таким изображает его Фирдоуси в сцене, в которой шах Кей-Кавус осыпал его бранью и угрозами за опоздание на несколько дней, когда был вызван для похода против Сухраба. Сначала Кей-Кавус шлет богатырю письмо с просьбой, чуть ли не умоляет:
Пусть вечно бодрым разум твой пребудет!
Пусть в мире все тебе на радость будет!
Ты с древних лет опорой нашей был,
Ты — столп страны, источник вечных сил…
Пусть вечно над вселенною цветет,
От миродержца твой идущий род!
И счастье шахское не потускнеет,
Пока Рустам своим мечом владеет.
И вот Рустам прибывает во дворец вместе с посланным за ним витязем Гивом. Кей-Кавус приходит в ярость, и речи его звучат полным контрастом тому, что было сказано в письме:
Рассвирепел Кавус, насупил брови,
Привстал, как лютый лев, что жаждет крови.
От ярости, казалось, был он пьян,
В растерянность поверг он весь диван.
Вскричал: «Измена! Знаю я давно их!
Схвати их, Тус! Веди, повесь обоих!»
Хотя Рустам и верный вассал и подданный, он не дозволяет никому оскорблять свою честь и достоинство, и вот как он отвечает вспыльчивому властелину:
Шагнул и шаху в ярости сказал:
«Зря на меня ты гневом воспылал!
Безумен ты, твои поступки дики,
Ты недостоин звания владыки!..
Когда меня избрать хотели шахом
Богатыри, охваченные страхом,
Я даже не взглянул на шахский трон.
Был мной обычай древний соблюден.
А ведь — когда бы взял венец и власть я,
Ты б не имел величия и счастья».
Рустам покидает шаха, но вельможи и витязи посылают к нему мудрого Гударза, который уговаривает разгневанного богатыря простить шаха во имя спасения Ирана. Он возвращается, и вновь Кей-Кавус произносит совершенно иные, лицемерные слова:
Ему навстречу встал с престола шах
И молвил со слезами на глазах:
«Я нравом одарен непостоянным,—
Прости! Так, видно, суждено Йезданом…
Ты нам, Рустам, один теперь защита,
Опора наша, воин знаменитый!..
Мне в мире нужен только ты один,—
Помощник, друг мой, мощный исполин!»
В этих сценах поэт утверждает абсолютное гражданское превосходство народного героя и любимца над шахом. Величие Рустама и ничтожество властелина со всей мощью своего таланта Фирдоуси изобразил и в конфликте его с Исфандиаром. Художественное разрешение и мотивировка конфликта в данном случае намного сложнее, поскольку Исфандиар выступает как положительный герой, которому симпатизирует сам автор. Исфандиар — фигура трагическая, раздираемая противоречивыми чувствами. Он — молодой и неуязвимый воин, несправедливо оклеветанный, но тем не менее вставший грудью на защиту отчизны, когда ей угрожают неприятели. Он совершает множество блестящих подвигов и сокрушает врагов родины.
С другой стороны, Исфандиар жаждет и шахского трона. И после завершения победоносного похода он требует от отца, шаха Гуштаспа, уступить ему обещанный трон. Однако Гуштасп ставит еще одно условие — привести в столицу Рустама, скованного по рукам и ногам. Гуштасп заведомо посылает сына на смерть, так как со слов мудрого Джамаспа ему известно, что Исфандиар погибнет только от руки Рустама. Исфандиар осознает всю несправедливость требования Гуштаспа, видит, что отец платит Рустаму черной неблагодарностью, чувствует, что идет на неправое дело, и тем не менее соглашается выполнить желание отца, так как страстно жаждет царской власти. В данном случае к Исфандиару с полным основанием можно отнести слова Гегеля, сказанные им об Ахиллесе как о характере, сотканном из противоречий.
Фирдоуси облагораживает образ Рустама, который готов подчиниться шахскому требованию и явиться с повинной в столицу, но категорически отказывается разрешить сковать себя по рукам и ногам, так как рыцарская честь не позволяет ему этого. И Рустам старается склонить Исфандиара к мирному исходу, умоляет решить спор полюбовно, но тот неумолим и надменен, так как он получит трон лишь при выполнении отцовского приказа.
В этой коллизии проявляется мастерство Фирдоуси в создании трагического конфликта, решение которого может быть найдено лишь в смерти Исфандиара.
Величие гения Фирдоуси сказалось и в оценке им народных антифеодальных движений. Как великий художник он стремился преодолеть историческую и классовую ограниченность своего мировоззрения и поднялся выше средневековых представлений о характере и сущности восстаний, направленных против сильных мира сего.
Авторы исторических хроник и придворные поэты стремились заклеймить и очернить восставших крестьян и их вождей. Для сравнения можно привести слова историка X века Саалиби: «Чернь и бедняки беспорядочными толпами стекались к Маздаку, они сильно полюбили его и поверили в его пророческую миссию. Он же беспрестанно говорил лживые слова». Другой историк, Табари, называет восставших «разбойниками, насильниками, прелюбодеями», а Маздака — корыстолюбцем и подстрекателем.
И совершенно иную, правда, в некотором отношении противоречивую характеристику Маздаку и повстанцам дает Фирдоуси:
Был некий муж по имени Маздак,
Разумен, просвещен, исполнен благ.
Настойчивый, красноречивый, властный,
Сей муж Кубада поучал всечасно.
«Разбойники» и «грабители» средневековых хроник для автора «Шах-наме» были голодными отчаявшимися людьми, вынужденными изъять хлеб из царских амбаров; Фирдоуси так описывает этот эпизод:
Сказал Маздак: «О царь, живи вовек!
Допустим, что закован человек.
Без хлеба, в тяжких муках смерть он примет,
А некто в это время хлеб отнимет.
Как наказать того, кто отнял хлеб,
Кто не хотел, чтоб страждущий окреп»
А между тем, — ответь мне, царь верховный,—
Умен, богобоязнен был виновный?»
Сказал владыка: «Пусть его казнят:
Не убивал, но в смерти виноват».
Маздак, склонившись ниц, коснулся праха,
Стремительно покинул шаханшаха.
Голодным людям отдал он приказ:
«К амбарам отправляйтесь вы тотчас,
Да будет каждый наделен пшеницей,
А спросят плату, — пусть воздаст сторицей».
Он людям и свое добро вручил,
Чтоб каждый житель долю получил.
Голодные, и молодой и старый,
Тут ринулись, разграбили амбары
Царя царей и городских господ:
Ведь должен был насытиться народ!
Когда же, пишет Фирдоуси, шаху донеели об этом, он потребовал Маздака к ответу, и тот дал такое объяснение:
Лекарство для голодного — еда,
А сытым неизвестна в ней нужда.
Поймет владыка, что к добру стремится:
Без пользы в закромах лежит пшеница.
Повсюду голод, входит смерть в дома,
Виной — нетронутые закрома.
В повествовании Фирдоуси проскальзывает какое-то легкое осуждение, когда он пишет «разграбили», или же в другом случае:
К Маздаку люди шли со всей державы,
Покинув правый путь, избрав неправый.
Фирдоуси изображает вооруженные столкновения как величайшие бедствия для населения, страдавшего не только от вражеского нашествия, но и от воинов своей страны, которые обирали во время походов мирных жителей, вытаптывали их посевы. Поэт глубоко переживает участь тружеников, он скорбит об их доле, и его отношение к этому отразилось в «Шах-наме» в форме приказов, которые издают правители перед походами. Так, например, шах Кей-Хосров наставляет военачальника Туса:
Ты никого не обижай в пути,
Законы царства должен ты блюсти.
Тех, кто не служит в войске, — земледельцев,
Ремесленников мирных и умельцев,—
Да не коснется пагубная длань:
Вступай ты только с воинами в брань.
Об этом же свидетельствует и другой пример: во время похода в Малую Азию шах Хосров Ануширван велел казнить воина, посмевшего отобрать у земледельца мешок соломы. И поэт-гуманист видит в подобном поступке правителя факт величайшей справедливости.
В своей социальной утопии Фирдоуси призывает властелинов заботиться о нетрудоспособных членах общества, о сиротах и вдовах, стариках и инвалидах. И опять-таки подобные сцены, где шахи проявляют о своих подданных заботу, надо воспринимать не как отражение действительного положения вещей, а лишь как выражение воззрений самого автора. Взгляды Фирдоуси находят воплощение, например, в речах Бахрама Гура:
Кто стар, трудиться не способен боле,
Кто молод, но иссох от тяжкой боли,
Кто весь в долгах, кто беден, слаб, убог,
От зла заимодавцев изнемог,
Сироты, чья одежда вся в заплатах,—
Пусть хлеб и кров получат от богатых.
Есть женщины, родившие детей,
Скрывающие бедность от людей.
Умрет богач, оставив деток малых,
О боже, кто б обидеть пожелал их?
Но опекун является туда
И грабит их без страха и стыда.
Иной дела такие втайне прячет,—
Кто втайне прячет, пусть потом не плачет!
В богатых превращу я бедняков,
В безгрешных превращу еретиков,
От горя должников освобожу я,
Невинных от оков освобожу я,
Несчастных, втайне терпящих нужду,
К врагам своей казны я приведу.
А если, позабыв о благородстве,
Детей, что жизнь свою влачат в сиротстве,
Обокрадет распорядитель-вор,
То виселицей будет приговор!
Таков Фирдоуси — великий человеколюбец, сумевший, оставаясь сыном своей суровой эпохи, создать строки, полные благородного негодования, искреннего сострадания, неподдельной доброты и понимания человеческих нужд, забот надежд и стремлений.
Герои и персонажи «Шах-наме» стали впоследствии знаменем революционной борьбы и освободительных войн. Ведь недаром гилянские революционеры Ирана в 1921 году изображали на своих знаменах кузнеца Каву, и не случайно поэт Таджикистана лауреат Ленинской премии Мирзо Турсун-заде на антифашистском митинге народов Средней Азии читал стихи из «Шах-наме».
Много можно сказать об этой великой поэме. Я, помню, еще ребенком наблюдал, как простые крестьяне с любовью слушали чтеца «Шах-наме» в моем родном кишлаке в Таджикистане. Чтение «Шах-наме» проводилось в чайхане, в чайном доме, и всюду, где собирались люди и где находился чтец. И сейчас «Шах-наме», или, как называют ее в народе, «Книга о Рустаме», исключительно популярна среди широчайших народных масс. В Иране и в Афганистане Фирдоуси остается величайшим поэтом. Почти в каждом населенном пункте в Иране можно найти людей, которые зовутся «Шах-намехон» (то есть чтец «Шах-наме»), с большим успехом декламирующие эту поэму. Полностью поэма «Шах-наме» на русский язык еще не переведена, однако отдельные, ранее переведенные, отрывки пользуются огромной популярностью среди советских любителей литературы. В этой связи я позволю себе процитировать строки, написанные выдающимся деятелем современной иранской культуры, профессором Саидом Нафиси более четверти века назад, в дни празднования тысячелетия со дня рождения Фирдоуси:
«Он повсюду — этот певец Ирана. Всюду, где Гомер, Вергилий, Шекспир, Мольер, Дайте, Сервантес, Шиллер и Лермонтов, — всюду он рядом с ними. Тысячу лет назад, оставаясь в своем деревенском углу, в окрестностях Туса, он направился на завоевание мира. Но среди всех стран, через которые он прошел, в ряду горячих встреч, которые ему были оказаны, ость страна, где он был понят лучше, чем где-либо, почти так же хорошо, как на своей родине… Кто лучше русского уловит это состояние спокойного блаженства, это великолепие отречений, эту тишину мучений и захватывающую гиперболичность, присущую гению таких поэтов, как Рудаки, Дакики, Фирдоуси…»
Это справедливые слова. Фирдоуси — слава и гордость всей мировой культуры — близок и дорог всем народам нашей страны. Национальная гордость иранского народа, он является и великим поэтом таджиков, входящих в братскую семью народов СССР. Все народы, населяющие нашу страну, знают и любят гениального создателя образов Рустама, Сухраба, кузнеца Кавы, зачитываются волнующими эпизодами «Шах-наме». Любовь к Фирдоуси и его творчеству стала в нашей стране ярким проявлением дружественных и сердечных чувств к нашему южному соседу — иранскому народу, внесшему бесценный и неповторимый вклад в сокровишницу всемирной цивилизации.
Пришла пора, чтоб истинный мудрец
О разуме поведал наконец.
Яви нам слово, восхваляя разум,
И поучай людей своим рассказом.
Из всех даров что разума ценней?
Хвала ему — всех добрых дел сильней.
Венец, краса всего живого — разум,
Признай, что бытия основа — разум.
Он — твой вожатый, он — в людских сердцах,
Он с нами на земле и в небесах.
От разума — печаль и наслажденье,
От разума — величье и паденье.
Для человека с чистою душой
Без разума нет радости земной.
Ты мудреца слыхал ли изреченье?
Сказал он правдолюбцам в поученье:
«Раскается в своих деяньях тот,
Кто, не подумав, действовать начнет.
В глазах разумных — дураком он станет,
Для самых близких — чужаком он станет».
Друг разума — в почете в двух мирах,
Враг разума — терзается в цепях.
Глаза твоей души — твой светлый разум,
А мир объять ты можешь только глазом.
Был первым в мире создан разум наш,
Он — страж души, трех стражей верных страж,
Те трое суть язык, глаза и уши:
Чрез них добро и зло вкушают души.
Кто в силах разуму воздать почет?
Воздам почет, но кто меня поймет?
Не спрашивай о первых днях творенья
До нашего с тобою появленья,
Но, созданный всевышним в некий миг,
Ты явное и тайное постиг.
Иди же вслед за разумом с любовью,
Разумное не подвергай злословью.
К словам разумных ты ищи пути,
Весь мир пройди, чтоб знанья обрести.
О том, что ты услышал, всем поведай,
С упорством корни знания исследуй:
Лишь ветви изучив на древе слов,
Дойти ты не сумеешь до основ.
Далее Фирдоуси рассказывает о сотворении мира, человека, Солнца и луны. Затем следуют похвала пророку, разделы о том, как писалась книга, о поэте Дакики, который первым пытался создать «Шах-наме».
Восхвалением султану Махмуду завершается та часть эпопеи, которая носит название «Начало книги», после которой следует описание царствования древних царей.
Что сказывает нам дихкан-сказитель
О том, кто первым молвил: «Я властитель»,
О том, кто первый на свое чело
Надел венец? Все было и прошло…
Поведал так старинных книг пытатель,
О богатырских днях повествователь:
Принес престола и венца закон
Царь Каюмарс, и начал править он.
К созвездью Овна солнце устремилось,[1]
Мир получил закон, и власть, и милость.
В созвездье солнце начало блистать,
Весна вселенной расцвела опять.
Стал Каюмарс вселенной властелином.
Он обитал сперва в краю вершинном.[2]
Себя и всех людей, для новых дел,
Он шкурами звериными одел.
Довольство он людскому дал жилищу —
Людей он научил готовить пищу.
Тридцатилетье длилась власть царя,
Сверкавшего на троне, как заря.
Возликовали твари, — все живое,
Все люди зажили тогда в покое.
Склонялось человечество пред ним,
Сияло счастье над царем земным.
Был сын отважный у царя державы,
Красавец, жаждавший борьбы и славы.
Счастливый Сиямак пленял сердца,
Он был отрадой славного отца.
Минуло времени с тех пор немало.
Держава Каюмарса процветала.
Был у царя один лишь тайный враг —
Бес Ахриман, чья сила — зло и мрак.
Был сын у Ахримана — волк-воитель,
Бесовских полчищ лютый предводитель.
Владыки блеск, царевича расцвет,—
Стал из-за них для беса темен свет.
Собрал он войско, на царя пошел он,
Отнять хотел и царство и престол он.
Открыл он замысел коварный свой,
Вселенную наполнил волчий вой.
Когда услышал Сиямак правдивый,
Что вышли, сея гибель, злые дивы,
Вскипела у царевича душа,
Полки собрал он, яростью дыша,
И вышел, тигра шкурою покрытый:
Тогда не знали панцирной защиты.
Сошлись две рати; Сиямак вступил
Отважно в бой с исчадьем адских сил.
Взмахнул косматой лапой див жестокий,
Переломил героя стан высокий,
Ударил витязя о гребни скал,
Потом когтями сердце разодрал.
Услышал Каюмарс о смерти сына,
И черным стало солнце властелина.
Зверье и птицы собрались толпой,
Ушли, стеная, горною тропой,
Ушли, вопя и плача, в скорби жгучей,
Над царским троном пыль вздымалась тучей.
Оплакивали сына целый год.
Но вот прислал посланца небосвод.
Сказал Суруш с отрадою во взоре:
«Сдержи себя, забудь на время горе,
Ты войско снаряди, — вот мой приказ,—
И племя бесов уничтожь тотчас.
Очисти лик вселенной от злодея,
Иди на битву, местью пламенея».
Властитель поднял к небесам чело,
На головы врагов призвал он зло,
Восславил господа и свет денницы
И осушил от слез свои ресницы.
Не знала сна и отдыха душа,
За Сиямака отомстить спеша.
Оставил сына Сиямак пригожий,
При деде он верховным был вельможей,
Хушангом звался Каюмарса внук,
Он был — ты скажешь — кладезем наук.
Ужасна с сыном вечная разлука,—
Дед на своей груди взлелеял внука.
Царь, в жажде мщенья, торопясь к борьбе,
Призвал Хушанга юного к себе.
Открылась внуку боль его живая,
Царь молвил, тайну сердца раскрывая:
«Сбирать войска вселенной буду я,
И клич кричать военный буду я,
А ты веди войска на бой суровый,
Я отхожу, а ты — вожатый новый».
В том войске — пери, птицы, дикий зверь,
И юный вождь их поведет теперь.
Явился черный бес, исполнен страха,
Взметнул, взрывая, к небу комья праха.
Сошлись две рати, сдвинулись тесней,—
И бесы побежали от зверей.
Хушанг ударил беса дланью львиной
И умертвил злодея в миг единый.
Он бесу отомстил за смерть отца,
С презреньем растоптал он мертвеца.
Царь Каюмарс насытил сердце местью,—
Пришла к нему кончина с этой вестью.
Прежде чем перейти к «Сказанию о Заххаке», одному из важнейших в «Шах-наме» по глубине мысли и яркости изображения, Фирдоуси сжато, но с огромной поэтической силой описывает царствования Хушанга, внука Каюмарса, Тахмураса, сына Хушанга, и Джамшида, сына Тахмураса.
Хушанг впервые добыл огонь. Целясь в могучего змея, он попал камнем в скалу.
Змей не погиб, но обнаружил камень
То, что в себе таил он: яркий пламень.
Хушанг обучил людей кузнечному делу, научил их орошать поля, возделывать землю:
Так землепашец, проливая пот,
Стал добывать свой хлеб из года в год.
Тахмурас продолжил борьбу Каюмарса с силами зла. Ему удалось оседлать Ахримана, и он стал ездить верхом на враге человечества. Тахмурас уничтожил две трети бесовского полчища, а прочие бесы, в обмен на жизнь, научили царя письму на тридцати языках, в том числе на пехлевийском, греческом, арабском, персидском, согдийском, китайском.
Блестяще началось царствование Джамшида. Он научил людей изготовлять оружие, прясть лен, шелк, шерсть, шить одежду. Джамшид разделил подданных на четыре сословия: жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников. Царь принудил бесов работать на людей, делать кирпич, возводить дома.
Нашел он камфару в кристальном слое,
Бальзам и мускус, амбру и алоэ,
Познал искусство врачевать больных,
Изобретал он снадобья для них…
Так триста лет прошло за веком век.
Не знал в то время смерти человек,
Не знал нужды, не ссорились друг с другом,
Готовы были бесы к их услугам.
Но Джамшид возгордился: «Мир таков, как я его устроил», — сказал он. И бог лишил Джамшида своей благодати.
Жил некий человек в те времена,
Пустыня Всадников — его страна.[3]
Он царствовал, создателю послушный,
Богобоязненный, великодушный.
Вот имя правосудного: Мардас.
Он добротою подданных потряс.
Он был владыкой щедрым, беспорочным,
Владел конями и скотом молочным.
У благородного отца был сын —
Любимец, утешение седин.
Заххаком звался он, простосердечный,
Отважный, легкомысленный, беспечный.
Его и Бивараспом ты зови:[4]
«Бивар» — переведу я с пехлеви —
Есть «десять тысяч» на дари… Военных
Коней имел он десять тысяч ценных.
Он дни и ночи на коне скакал.
Не крови он, а подвигов искал.
Однажды утром посредине луга
Иблис пред ним предстал в обличье друга.
Беседа с ним была сладка, остра.
Он сбил царевича с пути добра.
Сказал Иблис: «Чтоб речь моя звучала,
Я клятвы от тебя хочу сначала».
Был простодушен юноша, тотчас
Исполнил искусителя приказ:
«Твои слова держать я в тайне буду,
Я повинуюсь им всегда и всюду».
Сказал Иблис: «Глаза свои открой:
Ты должен быть царем, а не другой!
Как медлит время с властелином старым,
А ты в тени, ты годы губишь даром.
Престол займи ты, пусть уйдет отец,
Тебе лишь одному к лицу венец!»
Заххак, почуяв боль, насупил брови:
Царевич не хотел отцовской крови.
Сказал: «Ты мне дурной совет даешь,
Дай мне другой, а этот — нехорош».
А бес: «Наказан будешь ты сурово,
Когда нарушишь клятвенное слово,
Бесславным будет близкий твой конец,
Останется в почете твой отец».
Так бес лукавый во мгновенье ока
Царевича поймал в силки порока.
«Как это сделать? — вопросил араб.—
Тебе во всем послушен я, как раб».
«Не бойся, — молвил бес, — тебя спасу я,
Главу твою высоко вознесу я».
Был во дворце Мардаса щедрый сад,
Он сердце услаждал и тешил взгляд.
Арабский царь вставал ночной порою,
Готовился к молитве пред зарею.
Здесь омовенье совершал Мардас.
Тропа не освещалась в этот час.
И вырыл бес на том пути колодец,
Чтоб в западню попался полководец.
И ночь пришла, и царь арабский в сад
Направился, чтоб совершить обряд,—
Упал в колодец, насмерть он разбился,
Смиренный, в мир иной он удалился.
Так захватил венец и трон злодей —
Заххак, отцеубийца, враг людей.
Когда его коварства удались,
Вновь злые козни строить стал Иблис.
Он обернулся юношей стыдливым,
Красноречивым, чистым, прозорливым,
И с речью, полной лести и похвал,
Внезапно пред Заххаком он предстал.
Сказал царю: «Меня к себе возьми ты,
Я пригожусь, я повар знаменитый».
Царь молвил с лаской: «Мне служить начни»
Ему отвел он место для стряпни.
Глава придворных опустил завесу[5]
И ключ от кухни царской отдал бесу.
Тогда обильной не была еда,
Убоины не ели в те года.
Растеньями тогда питались люди
И об ином не помышляли блюде.
Животных убивать решил злодей.
И приохотить к этому людей.
Еду из дичи и отборной птицы
Готовить начал повар юнолицый.
Сперва яичный подал он желток,
Пошла Заххаку эта пища впрок.
Пришлось царю по вкусу это яство,
Хвалил он беса, не узрев лукавства.
Сказал Иблис, чьи помыслы черны.
«Будь вечно счастлив, государь страны!
Такое завтра приготовлю блюдо,
Что съешь ты с наслажденьем это чудо!»
Ушел он, хитрости в уме творя,
Чтоб дивной пищей накормить царя.
Он блюдо приготовил утром рано
Из куропатки, белого фазана.
Искуснику восторженно хвалу
Заххак вознес, едва присел к столу.
Был третий день отмечен блюдом пряным,
Смешали птицу с молодым бараном,
А на четвертый день на свой бочок
Лег пред Заххаком молодой бычок,—
Он сдобрен был вином темно-багряным,
И мускусом, и розой, и шафраном.
Лишь пальцы в мясо запустил Заххак —
Он, восхищен стряпнёю, молвил так:
«Я вижу, добрый муж, твое старанье,
Подумай и скажи свое желанье».
«Могучий царь! — воскликнул бес в ответ.
В твоей душе да будет счастья свет!
Твое лицо узреть — моя отрада,
И большего душе моей не надо.
Пришел к тебе я с просьбою одной,
Хотя и не заслуженною мной:
О царь, к твоим плечам припасть хочу я,
Устами и очами их целуя».
А царь: «Тебе согласье я даю,
Возвышу этим долю я твою».
И бес, принявший облик человечий,
Поцеловал царя, как равный, в плечи.
Поцеловал Заххака хитрый бес
И — чудо! — сразу под землей исчез.
Две черные змеи из плеч владыки
Вдруг выросли. Он поднял стоны, крики,
В отчаянье решил их срезать с плеч,—
Но подивись, услышав эту речь:
Из плеч две черные змеи, как древа
Две ветви, справа отросли и слева!
Пришли врачи к царю своей земли;
Немало мудрых слов произнесли,
Соревновались в колдовстве друг с другом,
Но не сумели совладеть с недугом.
Тогда Иблис прикинулся врачом,
Предстал с ученым видом пред царем:
«Судьба, — сказал он, — всех владык сильнее.
Ты подожди: покуда живы змеи,
Нельзя срезать их! Потчуй их едой,
Иначе ты не справишься с бедой,
Корми их человечьими мозгами,
И, может быть, они издохнут сами».
Ты посмотри, что натворил Иблис.
Но для чего те происки велись?
Быть может, к зверствам он царя принудил
Затем, чтоб мир обширный обезлюдел?
Измучилась иранская страна,
Повсюду были смута и война.
Сокрылся лучезарный день в тумане,
Отторглись от Джамшида все в Иране.
Цари во всех явились областях,
Для битвы каждый поднимал свой стяг,
С полками шли цари, суровы с виду:
Иссякла в их сердцах любовь к Джамшиду.
Тогда вожди вельмож, богатырей
Отправились к арабам поскорей,
Прослышав о царе змееподобном,
Власть над землей установить способном.
На поиски царя спешила рать.
Придя, Заххака стала прославлять.
Был приглашен жестокий змей на царство,
Провозглашен владыкой государства.
Царь-змей помчался вихрем напрямик.
Украсил он себя венцом владык.
Он витязей, всегда готовых к брани,
Собрал в Аравистане и в Иране,
Воссев на трон Джамшида, заблистал,—
Мир для Джамшида тесным перстнем стал.
Его судьба внезапно охромела,
И новый царь настиг Джамшида смело.
Джамшид покинул войско и страну,
Оставив бесу власть, престол, казну.
Почти сто лет от мира он скрывался,
Для глаз людских незримым оставался.
Прошло сто лет, как занял змей престол,—
Он к морю Чина воинство привел.[6]
Джамшид скрывался, перед злом робея,
А все-таки не спасся он от змея!
Схватил его Заххак, едва настиг,
Не отпустил ни на единый миг,
Он распилил Джамшида на две части,
Чтоб мир не подчинился прежней власти.
Был временем похищен гордый царь:
Так поглощает стебельки янтарь.
Кто был Джамшида выше на престоле?
А много ль пользы он извлек оттоле?
Над властным семь столетий протекло,
Познал властитель и добро и зло.
Зачем же долгой жизни ты желаешь,
Коль тайну мира так и не узнаешь?
Тебе он дарит и нектар и мед,
Он ласково с тобою речь ведет,
Ковер любви он стелет пред тобою,
Уж ты решаешь: «Взыскан я судьбою»,
Доволен будешь миром ты земным,
Всю душу ты раскроешь перед ним,
Как вдруг сыграет он такую шутку,
Что больно станет сердцу и рассудку.
Мне опостылел бренный сей чертог,
Избавь меня от горя, вечный бог!
Заххака власть над миром утвердилась,
Тысячелетье царствованье длилось.
Мир под его ярмом стремился вспять,
И годы было тяжело считать.
Деянья мудрецов оделись мглою,
Безумных воля правила землею.
Волшба — в чести, отваге нет дорог,
Сокрылась правда, явным стал порок.
Все видели, как дивы зло творили,
Но о добре лишь тайно говорили…
Двух чистых дев, Джамшида двух сестер,
Отправили из дома на позор.
Как звезды непорочны и красивы,
Они затрепетали, словно ивы.
Звалась одна затворница — Шахрназ,
Другой невинной имя — Арнаваз,
Их привели, царя гневить не смея,
И отдали тому подобью змея.
…Так было: по ночам двух молодых,
То витязей, то юношей простых,
Вели на кухню, к властелину царства,
И повар добывал из них лекарство.
Он убивал людей в расцвете сил,
И царских змей он мозгом их кормил.
Случилось так, что слуги провиденья,
Два мужа царского происхожденья,
Один — благочестивый Арманак,
Другой — правдолюбивый Карманак,
Вели беседу о большом и малом,
Об ужасе, доселе небывалом,
О злом царе, чье страшно торжество,
О войске и обычаях его.
Один сказал: «Пред гнетом не поникнем,
Под видом поваров к царю проникнем,
Умом раскинем, став на этот путь,
Чтоб способ отыскать какой-нибудь.
Быть может, мы спасем от мук ужасных
Хоть одного из каждых двух несчастных».
Пошли, варили явства день-деньской,
Наукой овладели поварской.
И вот людей, вступивших тайно в дружбу,
К царю, в поварню, приняли на службу.
Когда настало время, чтоб отнять
У юных жизнь, чтоб кровь пролить опять,
Двух юношей схватили часовые,
Стрелки царя, разбойники дневные,
Поволокли по городу, в пыли,
Избили и на кухню привели.
У поваров от боли сердце сжалось,
Глаза — в слезах, а в мыслях — гнев и жалость,
Их взоры встретились, потрясены
Свирепостью властителя страны.
Из двух страдальцев одного убили
(Иначе поступить — бессильны были).
С бараньим мозгом, с помощью приправ,
Мозг юноши несчастного смешав,
Они второму наставленье дали:
«Смотри же, ноги уноси подале,
Из города отныне ты беги,
Иль в горы, иль в пустыни ты беги».
А змея накормили с содроганьем,
Мозг юноши перемешав с бараньим.
И каждый месяц — шли за днями дни —
Спасали тридцать юношей они.
Когда число их составляло двести,
То из дворца всех выводили вместе,
Давали на развод овец, козлят,
И отправляли в степь… И говорят:
Дало начало курдам это семя,
И городов чуждается их племя…
Был у царя еще один порок:
Он, осквернив невинности порог,
Красавиц знатных брал себе на ложе,
Презрев закон, устав, веленье божье.
Царю осталось жизни сорок лет.
Смотри, как покарал его Изед:
Однажды Арнаваз легла с Заххаком.
Затих дворец, объятый сном и мраком.
Трех воинов увидел царь во сне,
Одетых, как знатнейшие в стране.
Посередине — младший, светлоликий,
Стан кипариса, благодать владыки,
Алмазный блеск па царском кушаке
И палица булатная в руке.
Он устремился в бой, как мститель правый,
Надел ошейник на царя державы,
Он потащил его между людей,
На гору Демавенд помчал скорей…
Заххак жестокий скорчился от страха,
Казалось, разорвется сердце шаха.
Так вскрикнул он, что вздрогнули сердца,
Что задрожали сто столбов дворца.
Проснулись солнцеликие от крика,
Не зная, чем расстроен их владыка.
Сказала Арнаваз: «О царь земной,
Прошу тебя, поведай мне одной:
Находишься ты в собственном чертоге,
Кого ж боишься ты, крича в тревоге?
Не ты ли царь семи земных частей,[7]
Владыка всех зверей и всех людей?»
Ответил солнцеликим царь всевластный:
«Я не могу открыть вам сон ужасный,
Поймете вы, узнав про этот сон,
Что я отныне смерти обречен».
Тут Арнаваз сказала властелину:
«Открой нам страха своего причину,
Быть может, выход мы найдем с тобой,—
Есть избавленье от беды любой».
И тайну тайн своих открыл владыка,
Сказал ей, почему он вскрикнул дико.
Красавица в ответ произнесла:
«Ищи спасенья, чтоб избегнуть зла.
Судьба тебе вручила перстень власти,
И всей земле твое сияет счастье.
Ты под печатью перстня, царь царей,
Всех духов держишь, птиц, людей, зверей.
Ты звездочетов собери старейших,
Ты чародеев призови мудрейших,
Мобедам сон поведай до конца
И суть его исследуй до конца.
Поймешь ты, кто тебе враждебен: пери
Иль злые дивы, люди или звери.
Узнав, прими ты меры поскорей,—
Ты недруга не бойся, не робей».
Так молвил кипарис сереброликий.
Речь Арнаваз понравилась владыке.
Был темен мир, как ворона крыло,—
Открыло солнце из-за гор чело,
И яхонты внезапно покатило
По голубому куполу светило.
Где б ни были мудрец или мобед,
Что бдительным умом познали свет,—
Царь во дворец явиться приказал им,
О сне своем зловещем рассказал им.
У них спросил он тайные слова
О зле, добре, о ходе естества:
«Когда наступит дней моих кончина?
Кто на престол воссядет властелина?
Иль тайну мне откроете сейчас,
Иль прикажу я обезглавить вас».
Уста мобедов сухи, влажны лица,
Спешат друг с другом страхом поделиться:
«Откроем тайну, истине верны,—
Пропала жизнь, а жизни нет цены,
А если правду скроем из боязни,
То все равно мы не минуем казни».
Прошло три дня, — был мрачен их удел,
Никто промолвить слова не посмел,
И на четвертый, тайны не изведав,
Разгневался властитель на мобедов:
«Вот выбор вам; иль на помост взойти,
Иль мне открыть грядущего пути».
Оки поникли; услыхав о плахе,
Глаза — в слезах кровавых, сердце — в страхе.
Был прозорлив, умен один из них
И проницательнее остальных.
Разумный муж Зираком прозывался,
Над всеми мудрецами возвышался.
И, осмелев, он выступил вперед,
Сказал о том, что властелина ждет:
«Не будь спесивым, царь непобедимый,
Затем, что все для смерти рождены мы
Немало было до тебя царей,
Блиставших в мире славою своей,
Вел каждый счет благому и дурному
И отходил, оставив мир другому.
Пусть ты стоишь железною стеной,—
Поток времен тебя снесет волной.
Другой воссядет на престол по праву,
Он ввергнет в прах тебя, твой трон и славу.
Он будет, Фаридуном наречен,
Светиться над землей, как небосклон.
Еще не появился он, и рано
Еще его искать, о царь Ирана!
Благочестивой матерью рожден,
Как древо, плодоносен будет он,
Созрев, упрется в небо головою,
Престол добудет мощью боевою.
Высок и строен, словно кипарис,
Он палицу свою опустит вниз,
И будешь ты сражен, о царь суровый
Ударом палицы быкоголовой».
Несчастный царь спросил, судьбу кляня:
«За что ж возненавидит он меня?»
Смельчак сказал: «Коль ты умен, пойми
Что все деянья с их причиной слиты.
Ты жизнь отнимешь у его отца,
Возжаждет мести сердце храбреца.
Родится также Бирмая, корова,
Кормилица владыки молодого.
Из-за тебя погибнет и она,
Но будет витязем отомщена».
Царь выслушал, не пропустив ни слова,
И рухнул вдруг с престола золотого,
Сознанье потеряв, он отошел,
Беды боясь, покинул он престол.
Придя в себя, на мир тоскливо глянув,
Воссел он снова на престол Кейанов.
Где явно, где таясь, повел труды:
Искал он Фаридуновы следы.
Забыл о сне, о пище, о покое,
Над ним затмилось небо голубое.
Так время шло несцешною стопой.
Змееподобный заболел тоской.
Родился Фаридун благословенный,
И стало новым естество вселенной.
Стан кипариса, мощь богатыря,
Из глаз лучится благодать царя,—
Он засиял, дневному солнцу равный,
Он излучал Джамшида блеск державный.
Как дождь, он миру был необходим,
Как мудрость, нужен был сердцам людским.
Над ним кружился свод небес просторный,
Грядущему властителю покорный…
Вот родилась и телка в том краю.
За кроткий нрав хвалили Бирмаю.
Цвета шерстинок — желтый, алый, синий —
Горели ярко, словно хвост павлиний.
Потрясены, столпились перед ней
Мудрец, и звездочет, и чародей.
Пошли средь старцев пересуды, толки:
Никто не видывал подобной телки!
Меж тем кружил Заххак, страшась беды:
Искал он Фаридуновы следы.
И вот отца младенца, Абитина,
Уже рука настигла властелина.
Бежал он, чтоб душа была жива,
Но, жизнью сыт, он стал добычей льва!
Злодеи-слуги змея-господина
Однажды изловили Абитина.
Как барс, был связан этот человек,
И дни его бесчестный царь пресек.
Когда узнала, какова утрата,
Мать Фаридуна, разумом богата,—
Ей имя — Фиранак, была она
Любви к ребенку своему полна,—
Судьбою сражена, с тоской во взоре,
На ту лужайку побежала в горе,
Где Бирмая росла в траве густой,
Сверкая небывалой пестротой.
Пред стражем пастбищ Фиранак предстала,
Кровавыми слезами зарыдала,
Моля его: «Дитя мое возьми,
Он злобными преследуем людьми,
Ты замени ему отца родного,
Пусть молоком поит его корова.
Награды ждешь? Дитя свое любя,
Не пожалею жизни для тебя!»
Слуга лесов, коровы страж всечасный,
Ответил праведнице той несчастной:
«Рабом я буду сыну твоему,
Я, как слуга, твои слова приму!»
Три года пастырь верный и суровый
Поил ребенка молоком коровы.
Дитя везде искал страны глава.
Везде о дивноцй телке шла молва.
Мать Фаридуна прибежала снова,
Сказала пестуну такое слово:
«В моей душе, исполненной тревог,
Явилась мысль: ее внушил мне бог.
Мне надо действовать, бежать быстрее,
Мой сын мне жизни собственной милее!
С ног отряхну я прах земли волхвов,
Близ Хиндустана мы отыщем кров.
Спасу я от врагов красавца сына,
Горы Албурз укроет нас вершина».
Проворней серны, легче скакуна
С ребенком в горы понеслась она.
В горах отшельник жизнью жил святою,
Расстался он с мирскою суетою.
«О праведник, — ему сказала мать,—
Мой край — Иран, и мне дано страдать.
Знай, что к тебе пришла я с милым сыном,
Что станет он Ирана властелином.
Ты должен сторожить его покой
И дорожить им, как отец родной».
Тот принял сына по ее наказу,
Дитя не обдал холодом ни разу…
Но до Заххака весть дошла, увы,
О потаенных зарослях травы.
Как пьяный слон, обрушить гнев готовый,
Пришел — и жизнь он отнял у коровы.
Траву он выжег, истребил стада,
Опустошил ту землю навсегда.
К жилищу Фаридуна поскакал он,
Обрыскал все, — дитя не отыскал он,
Айван его спалил, смешал с золой,
Дворец его свалил, сровнял с землей.
Шестнадцать лет прошло над Фаридуном,
В долину отроком сошел он юным.
Пришел он к матери, сказал: «Теперь
Неведомого тайну мне доверь.
Скажи мне, кто я? Семени какого?
Кто мой отец? Я племени какого?
Что я скажу собранию: кто я?
Мне быль поведай, правды не тая».
«О славный сын мой, — Фиранак сказала,—
Как ты велишь, все расскажу сначала.
Знай, жил в Иране человек один,
Чье имя, сын мой, было Абитин,—
Царей потомок, витязь безупречный,
Отважный, мудрый и добросердечный.
Он к Тахмурасу возводил свой род,
Всех предков знал своих наперечет.
Тебе он был отцом, а мне супругом,
Моим он светом был, отрадой, другом,
Но вот Заххак, прислужник темных сил,
Свой меч занес: тебя убить решил.
Скрывала я тебя, спасти желая.
О, сколько дней тяжелых провела я!
Отец твой, витязь, взысканный судьбой,
Из-за тебя пожертвовал собой:
Две выросли змеи из плеч убийцы.
Стонал Иран под властью кровопийцы.
Чтоб ублажить двух ненасытных змей,
Мозг твоего отца пожрал злодей.
Тогда бежала я в леса глухие,
Не проникали в них глаза людские,
А там, являя красок пестроту,
Жила корова, как весна в цвету,
И на траве, как царь, спокойный, строгий,
Пред нею страж сидел, скрестивши ноги.
Тебя тому я стражу отдала,
Он пестовал тебя, хранил от зла.
Вскормленный молоком коровы чудной,
Ты, словно барс, окреп в глуши безлюдной,
Но про корову и прекрасный луг
Дошел внезапно до Заххака слух.
Тогда я унесла тебя из леса,
Покинув дом, бежала я от беса.
И стража он убил и Бирмаю —
Ту кроткую кормилицу твою.
Он в яму превратил твою обитель,
И пыль дворца взвил к небесам властитель».
У Фаридуна гнев блеснул в очах,
Пришел он в ярость при таких речах,
Он, материнским потрясен рассказом,
Наполнил болью — сердце, местью — разум.
Сказал он: «Львенок превратится в льва,
Лишь силы испытав свои сперва.
Доколе нам страдать под властью мрака?
Теперь я меч обрушу на Заххака.
Идя путем пречистого творца,
Столбом взметну я пыль его дворца!»
Сказала мать: «Нет разума в решенье —
Вступить со всей вселенною в сраженье.
Принадлежит Заххаку мир земной,
Он кликнет клич — войска пойдут войной:
Из каждой части света в бой суровый
Сто тысяч смелых двинуться готовы.
Желая мести, ты не должен впредь
На мир глазами юности смотреть:
Хмель юности вкушая, к людям выйдешь,
Но в мире одного себя увидишь.
Ты во хмелю свои развеешь дни,—
Мой сын, да будут счастливы они».
И было так: бесчестный царь Ирана
Твердил о Фаридуке постоянно.
Под гнетом ужаса он сгорбил стан,
Пред Фаридуном страхом обуян.
Однажды на престол воссел он в славе,
Надел венец в сапфировой оправе.
Призвал к себе со всех частей земли
Правителей, чтоб царству помогли.
Сказал мобедам: «Жаждущие блага,
Вы, чьи законы — мудрость и отвага!
Есть тайный враг. Опасен он царю:
Мудрец поймет, о ком я говорю.
Нельзя врагом, что вынул меч из ножен,
Пренебрегать, как ни был бы ничтожен.
Сильнее нашей мне потребна рать,
Мне дивов, пери надобно собрать.
Признайте, помощи подав мне руку,
Что больше я терпеть не в силах муку.
Теперь мне ваша грамота нужна,
Что лишь добра я сеял семена,
Что правды я поборник непреклонный
И чту я справедливости законы».
Боясь царя, пойдя дорогой лжи,
Согласье дали важные мужи,
И эту грамоту, покорны змею,
Они скрепили подписью своею.
У врат дворца раздался крик тогда,
И требовал он правого суда.
К Заххаку претерпевшего пустили,
Перед сановниками посадили.
Царь вопросил, нахмурив грозный лик?
«Кто твой обидчик? Отчего твой крик?»
А тот, по голове себя ударив:
«Доколе гнев терпеть мне государев?
Я — безответный, я — Кава, кузнец.
Хочу я правосудья наконец!
Ты, царь, хотя ты и подобье змея,
Судить обязан честно, власть имея;
И если ты вселенной завладел,
То почему же горе — наш удел?
Передо мною, царь, в долгу давно ты.
Чтоб удивился мир, сведем-ка счеты.
Быть может, я, услышав твой отчет,
Пойму, как до меня дошел черед?
Ужели царских змей, тобой наказан,
Сыновней кровью я кормить обязан?»
Заххака поразили те слова,
Что высказал в лицо ему Кава.
И тут же кузнецу вернули сына,
Желая с ним найти язык единый.
Потом услышал он царя приказ,
Чтоб грамоту он подписал тотчас.
Прочел ее Кава и ужаснулся,
К вельможам знатным резко повернулся,
Вскричал: «Вы бесу продали сердца,
Отторглись вы от разума творца.
Вы бесу помогаете покорно,
И прямо в ад стремитесь вы упорно.
Под грамотой такой не подпишусь:
Я никогда царя не устрашусь!»
Вскочив, порвал он грамоту злодея,
Швырнул он клочья, гневом пламенея,
На площадь с криком вышел из дворца,
Спасенный сын сопровождал отца.
Вельможи вознесли хвалу владыке:
«О миродержец славный и великий,
В тот день, когда ты начинаешь бой,
Дышать не смеет ветер над тобой,
Так почему же — дерзок, смел, — как равный,
С тобою говорит Кава бесправный?
Он грамоту, связующую нас,
Порвал в клочки, нарушив твой приказ!»
Ответил царь: «Таиться я не буду,
То, что со мной стряслось, подобно чуду.
Как только во дворец вступил Кава,
Как только раздались его слова —
Здесь, на айване, между им и мною
Как бы железо выросло стеною.
Не знаю, что мне свыше суждено:
Постичь нам тайну мира не дано».
Кава, на площадь выйдя в гневе яром,
Был окружен тотчас же всем базаром.
Просил он защитить его права,
Весь мир к добру и правде звал Кава.
Он свой передник, сделанный из кожи,—
Нуждается кузнец в такой одеже,—
Взметнул, как знамя, на копье стальном,
И над базаром пыль пошла столбом.
Крича, он шел со знаменем из кожи:
«Эй, люди добрые! Эй, слуги божьи!
Кто верует, что Фаридун придет?
Кто хочет сбросить змея тяжкий гнет?
Бегите от него: он — зла основа,
Он — Ахриман, он враг всего живого!»
Явил ничтожный кожаный лоскут,
За кем враги, за кем друзья идут!
Так шел Кава, толпа ему внимала,—
Народа собралось тогда немало.
Узнал кузнец, где Фаридун живет,—
Главу склонив, упорно шел вперед.
Пред молодым вождем предстал он смело.
Толпа вдали стояла и шумела.
Была воздета кожа на копье,—
Царь знамением блага счел ее,
Украсил стяг парчою, в Руме тканной,
Гербом алмазным ярко осиянной.
То знамя поднял он над головой,—
Оно казалось полною луной.
В цветные ленты кожу разубрал он,
И знаменем Кавы ее назвал он.
С тех пор обычай у царей пошел:
Венец надев и получив престол,
Каменьев не жалел царя наследник,
Чтоб вновь украсить кожаный передник.
Каменьям, лентам не было конца,
Стал знаменем передник кузнеца,
Он был во мраке светом небосвода,
Единственной надеждою народа…
У Фаридуна, возвратившего законной династии царство с помощью кузнеца Кавы, было три сына: Сальм, возглавивший Рум, то есть Византию, западные страны, Тур, получивший Туран, и Ирадж, ставший царем Ирана. Сальм и Тур, завидовавшие младшему брату, любимцу отца, злодейски убили Ираджа. От старших сыновей прибыл к Фаридуну гонец с золотым ларцом.
Дрожало шелковое покрывало,
Ираджа голова в ларце лежала.
Потрясенный Фаридун узнал, что молодая рабыня Махафарид беременна от Ираджа. Родилась девочка, и когда она подросла, Фаридун выдал дочь покойного сына за своего племянника Пашанга. От этого брака родился сын, названный Манучихром.
Престарелый Фаридун не мог отомстить за смерть любимого сына. Это сделал Манучихр. Возмужав, он собрал рать, разбил войска Сальма и Тура и обезглавил злодеев. Фаридун при жизни возвел Манучихра на царство.
С престолом он простился ясным взглядом,
Три головы сынов с ним были рядом.
Когда Манучихр воссел на престол, к юному царю пришел витязь Сам, владелец Систана, и сказал:
Мне глаз поручен над царем державы,
Тебе — судить, мне — суд одобрить правый.
Другим приближенным царя стал богатырь Каран, сын кузнеца Кавы.
Сказанием о Зале, сыне Сама, и о его возлюбленной Рудабе, которая по матери происходит от Заххака, и начинается та часть книги Фирдоуси, которую принято называть богатырской.
У Сама не было детей. Томимый
Тоскою, жаждал он жены любимой.
Красавица жила в его дворце:
Как мускус — кудри, розы на лице!
Стал сына ждать: пришло подруги время,—
Уже с трудом несла под сердцем бремя.
И вот родился мальчик в точный срок,
Как будто землю озарил восток.
Он солнцу был подобен красотою,
Но голова его была седою.
Семь дней отцу боялись все сказать,
Что родила такого сына мать.
Кормилица, отважная, как львица,
Не побоялась к витязю явиться,
Известье о младенце принесла,
И потекла из уст ее хвала:
«Да будет счастлив Сам, страны опора,
Да недруги его погибнут скоро!
К жене, за полог, богатырь, войди,
Увидишь сына у ее груди.
Лицом прекрасен, полон благодати,
Уродства никакого у дитяти,
Один порок: седая голова.
Твоя, о славный, участь такова!»
С престола Сам сошел. Был путь недолог
К супруге молодой зашел за полог.
Увидел седоглавое дитя
И помрачнел, страданье обретя.
Чело подняв, явил свою тревогу,
За помощью он обратился к богу:
«О ты, пред кем ничто — и зло, и ложь,
Один лишь ты отраду нам даешь!
Быть может, я пошел путем обмана?
Быть может, принял веру Ахримана?
Тогда, быть может, втайне ото всех,
Всевышний мне простит мой тяжкий грех
Ужалена душа змеею черной,
И кровь моя кипит в мой день позорный:
Когда меня о сыне спросит знать,
Что об уродце витязям сказать?
Что мне сказать? Родился див нечистый?
Отродье пери? Леопард пятнистый?
Покину я Иран из-за стыда,
Отчизну позабуду я тогда!»
Подальше унести велел он сына:
Да будет для него жильем — чужбина,
Отныне пусть уродец тот живет
Там, где Симург взмывает в небосвод.
Оставили дитя в глухой теснине,
Ушли назад, и Сам забыл о сыне.
Птенцам Симурга надобна еда.
Расправив крылья, взмыл он из гнезда.
Увидел он дитя в слезах и в горе
Да землю, что бурлила, словно море,
Пылало солнце над его челом,
Суровый, темный прах лежал кругом.
Симург спустился, — жаждал он добычи,—
И мальчика схватил он в когти птичьи,
К горе Албурз, в гнездо, на тот утес,
Где жил с птенцами, он дитя унес.
Но помнил бог о мальчике дрожащем,—
Грядущее хранил он в настоящем:
Симург, птенцы взглянули на дитя,
Что плакало, лицо к ним обратя,
И мальчика седого пожалели,
Познав любовь, им чуждую доселе.
Так время шло, в гнезде ребенок рос,
И только птиц он видел да утес.
Стал мальчик мужем, похвалы достойным,
На воле вырос кипарисом стройным…
В тоске заснув и скорбью омрачен,
Однажды ночью Сам увидел сон:
На скакуне арабском тропкой узкой
Наездник скачет из страны индусской,
О сыне подает благую весть,
Об этой ветви, чьих плодов не счесть.
Проснувшись, богатырь призвал мобедов
И речь повел, о сне своем поведав.
«Что скажете, — он вопросил, — о нем?
Постигли вы его своим умом?»
И стар и млад, услышав слово это,
Свои уста раскрыли для ответа:
«Свирепый зверь в лесах или в горах
И даже рыбы-чудища в морях
Равно своих детей растят любовно
И кормят их, о них заботясь кровно.
А ты забыл, что завещал творец,
Младенца бросил ты, дурной отец!
Прося прощенья, обратись ты к богу,
Он указует нам к добру дорогу».
И Сам прилег, едва настала ночь:
Душевную тоску терпеть невмочь.
Во сне увидел: знамя златоткано
Сияет на вершине Индостана,
Летит прекрасный юноша вперед,
Большое войско за собой ведет,
Мобед его сопровождает справа,
Советник слева скачет величаво.
Приблизился один из этих двух,
Воителю сказал, терзая слух:
«О многогрешный муж, лишенный чести,
Чье сердце не страшится божьей мести!
Как смеешь зваться ты богатырем,
Когда ты птицу в няньки взял внаем?
Седых мужей бранишь ты, прихотливый,
Чья борода светла, как листья ивы!
Подумай сам: виновен ли господь,
Когда цвета твоя меняет плоть?
Ничем считал ты сына-мальчугана,
А ныне он — воспитанник Йездана:
Наставника нежней не знает свет,
Тебе ж в сыновнем сердце места нет!»
Сам зарычал во сне, издал он стоны,
Как лев свирепый, в западне плененный.
Проснувшись, мудрецов призвал своих,
Призвал он и старейшин войсковых,
Помчался к той горе, что небу внемлет,
Покинутых, отринутых приемлет.
Видна ее вершина средь Плеяд, — [8]
Звезду похитить хочет, говорят.
А там — гнездо на высоте лазурной:
Оно вреда не видит от Сатурна.[9]
Алоэ ветви витязь увидал,
Опоры под гнездом — эбен, сандал.
Но как добраться Саму до вершины?
Здесь даже след не сыщется звериный!
Поняв, что нет ему пути наверх,
Взмолился он и в прах лицо поверг:
«Ты, что возвысился над вышиною,
Над звездами, над солнцем и луною,—
Подай мне руку, будь поводырем,
Чтоб мог я, грешный, совершить подъем».
А юноше сказал Симург в то время:
«О ты, кого взрастило птичье племя!
Я был твоей кормилицей в гнезде,
Как нянька, за тобой летал везде,
Прозвал тебя Дастаном: жертва бедствий,
Ты был отцом обманут в раннем детстве.[10]
Отец твой Сам, что в мире всех сильней,
Великий богатырь и князь князей,
Теперь пришел сюда, он ищет сына,
И честь твоя пришла с ним воедино.
Тебе помочь я должен, как птенцу,
Чтоб невредимым отнести к отцу.
А ты мое перо возьми с собою,
Парить я буду над твоей судьбою.
Накликнет недруг на тебя беду
Иль зло и благо вступят во вражду,
В огонь ты брось мое перо тотчас же,—
Увидишь от меня добро тотчас же.
Ведь я тебя вскормил в гнезде своем,
Ты был с птенцами под моим крылом».
И с ним в душе своей Симург простился,
И поднял вверх, и плавно опустился,—
Отцу спешил он юношу вернуть.
У сына были волосы по грудь,
Он был могуч, как слон, весна — ланиты…
И разрыдался воин знаменитый,
Склонился пред Симургом до земли,
Уста его хвалу произнесли.
Любовным взором Сам окинул сына:
Венца достоин, трона властелина!
Уста — рубины, очи — как смола,
Белы ресницы, голова бела!
И сердце Сама стало садом рая,
Сказал воитель, сына восхваляя:
«Мой сын, смягчи ты сердце и согрей,
Прости меня, приди ко мней скорей.
Я — раб ничтожный бога всеблагого,
Но раз тебя, мой сын, обрел я снова,
То клятву я даю перед творцом,
Что нежным буду я тебе отцом.
Ты скажешь мне желание любое,—
Исполню я и доброе и злое».
Он юношу, как витязя, одел,
Скалистых гор покинул он предел.
Спустившись в дол, потребовал для сына
Коня и одеянье властелина.
Дастаном прозван был приемыш скал,
Но сына Залем богатырь назвал.
Тут перед Самом, радостны впервые,
Старейшины предстали войсковые.
Погнали барабанщики слонов,
Взметнулась пыль до самых облаков.
Звон золотых звонков и голос трубный,
Индийские им подпевают бубны…
С веселым кличем двинулся отряд,
Ликуя, воины пришли назад,
Вступили в город, позабыв печали,
Одним богатырем богаче стали.
Услышал царь, что сына Сам вернул,
Что прибыл он торжественно в Забул.
Та весть была царю царей приятна,
И бога помянул он многократно.
Ноузару, сыну, отдал он приказ —
Навстречу Саму поспешить тотчас,
Как властелина встретить и восславить,
Его с великой радостью поздравить
И, расспросив, сказать богатырю,
Чтоб сразу же явился он к царю.
Ноузар подъехал к Саму в миг отрадный,
Был рядом витязь, юный и нарядный.
Могучий Сам с гнедого соскочил,
В объятия Ноузара заключил,
Спросил он о царе, чей облик светел,
О витязях, — Ноузар на все ответил.
Посланье выслушав царя владык,
Устами славный Сам к земле приник,
И ко двору направился воитель
Поспешно, как велел ему властитель.
В своем венце державном на престол
Владыка мира с радостью взошел.
По обе стороны царя воссели
Каран и Сам, в глазах у них — веселье.
Был юный Заль, блиставший красотой,
Убранством, палицею золотой,
Царю представлен, царственному дому,—
Царь подивился юноше седому.
Властитель попытать велел жрецам,
Мобедам, звездочетам, мудрецам,—
Что Залю предназначено судьбою?
Вождем рожден ли? Под какой звездою?
Чем будет он, когда войдет в года?
Какие речи поведет тогда?
Недолго длились мудрецов расчеты,
Увидели по звездам звездочеты,
Что слава храбреца — его удел,
Он горд, и трезв умом, и сердцем смел.
Найдя отраду в этом приговоре,
Был счастлив царь, и Сам забыл о горе.
Владыка мира приготовил дар —
Такой, что восхитились млад и стар:
Коней арабских, убранных богато.
Индийские мечи в ножнах из злата,
Несметное количество ковров,
Динаров, злата, яхонтов, мехов,
Румийских слуг в парче родного края:
Узоры — жемчуга, ткань — золотая,
Подносы, чаши, полные красы,
В сверканье хризолита, бирюзы,
С шафраном, мускусом и камфарою,—
Рабы вручили юному герою.
При том — и щит, и палицу, и лук,
И много стрел, и копий, и кольчуг.
Трон в бирюзе, печать — огонь рубина,
Златой венец и пояс властелина.
Тут Манучихр условье написал,
Подобно раю, полное похвал:
Кабул, Забул, и Май, и землю Хинда,
От моря Чина и до моря Синда
Все области, — гласил его указ,—
Он Саму отдает в счастливый час.
Тогда воскликнул Сам: «О справедливый,
О судия правдивый, прозорливый!
Смотри, во всей вселенной ни один
С тобою не сравнится властелин
В любви и правде, по уму и нраву!
Земле ты дал покой, а веку — славу.
К богатствам равнодушен ты земным,—
Будь вечен вместе с именем твоим!»
С царем простился витязь крепкостанный,
К слонам приторочили барабаны,
И город весь глядел на караван,
Который путь держал в Забулистан.
О витязе пришло в Систан известье,
Обрадовались люди этой чести,
Украсили Систан, как райский сад,
Казалось, камни золотом блестят!
Пришел на землю праздник благодатный,
Узнали радость и простой и знатный.
Со всей земли к дворцу богатыря
Властители стремились, говоря:
«Да принесет отраду сердцу Сама
Путь юноши, ступающего прямо!»
К Дастану шли, хваля богатыря,
Каменья драгоценные даря.
Затем отец, как должно властелину,
О доблестях царей поведал сыну.
Созвал в стране, со всех ее концов,
Мужей бывалых, славных мудрецов,
Созвал их для совета и беседы
И молвил: «О разумные мобеды!
Приказ владыки нашего таков:
Нам нужно двинуть множество полков,—
На землю гургасаров я нагряну,
Я войско поведу к Мазандерану.
А сердце, душу здесь оставлю я,
Глаза слезами окровавлю я.
Когда я молод был, рассудку чуждый,
Я совершил нелепый суд без нужды.
Я бросил сына, — большей нет вины:
Глупец, я не познал ему цены!
Симург его взрастил, как воспитатель:
На то благословил его создатель.
Расцвел мой сын, покинутый отцом:
Мне был ничем, а птице был птенцом.
Когда пришла прощения година,
Всемилостливый бог вернул мне сына.
Я Заля отдаю вам как залог,
Чтоб каждый память обо мне сберег.
Вы Заля сохраните и наставьте,
На верную стезю его направьте».
Потом на Заля славный Сам взглянул:
«Отныне знай: твое гнездо — Забул.
С достоинством владей землей такою,
Будь правосуден, щедр, стремись к покою.
Мужей почтенных собери вокруг,
И всадников, и знатоков наук.
Учись ты, все науки уважая:
В любой науке радость есть большая.
Все раздавай, что от наук возьмешь:
Постигнув знанья, ты добро поймешь».
Так молвил он и трубам внял военным.
Стал небосвод — смолой, земля — эбеном.[11]
Звон бубенцов и колокольцев звон
Над ставкой зазвенел со всех сторон.
Отправился в сраженье воевода.
Проделал Заль с отцом два перехода:
У витязя, возглавившего рать,
Учился он полками управлять.
Был некий царь Михраб. Отважный воин.
Богат, могуч, он власти был достоин.
Свой род от змея, от Заххака, вел,
В Кабуле утвердил он свой престол.
Платил он Саму подать ежегодно:
Он был слабей, борьбу считал бесплодной.
Узнав о молодом богатыре,
Он прибыл из Кабула на заре
С казной, с оседланными скакунами,
С рабами и со всякими дарами:
Привез динары, мускус и шафран,
Рубины, шелк, парчу заморских стран,
Венец, владык достойный знаменитых,
На шею цепь златую в хризолитах.
Когда услышал юноша Дастан,
Что прибыл из Кабула караван,
К Михрабу вышел он с приветным взглядом
И посадил царя с собою рядом.
С почетом гость был принят поутру,
И вот сердца раскрылись на пиру.
Все витязи вокруг стола воссели,
И богатырское пошло веселье.
Наполнил чаши кравчий молодой,
Взглянул на гостя юноша седой.
Понравился, видать, Михраб Дастану,
Дивился он его красе и стану,—
Любовь к Михрабу сердце обожгла!
Когда же встал Михраб из-за стола,
Промолвил Залю богатырь из свиты:
«Послушай слово, витязь именитый!
Есть дева за завесой у царя,
Лицо ее сияет, как заря;
Слоновой кости уподоблю тело,
С платаном стан ее сравню я смело;
Чернее мускуса — арканы кос,
Запястий кольца — завитки волос;
Цветы граната — две ее ланиты,
К плодам граната груди приравни ты!
Сравню глаза с нарциссами в цвету,
Ресницам ворон отдал черноту;
Напоминают брови лук таразский,[12]
Слегка покрытый мускусного краской;
То — мира ненаглядная весна,
Певучая, нарядная весна!»
Взволнован был Дастан таким рассказом,
Покинули его покой и разум.
Настала ночь, пришла к нему печаль,
К невиданной красе стремился Заль.
От жарких дум душа его болела,
Любви он сердце посвятил всецело…
Вот повод в путь обратный повернул,
Вернулся утром царь Михраб в Кабул,
Цветущим садом, что дышал покоем,
Направился к своим ночным покоям.
Два солнца принесла ему судьба:
Одно — Синдухт, другое — Рудаба.
Они поспорили б с весенним садом
Благоуханьем, прелестью, нарядом.
На дочь с восторгом посмотрел отец,
Просил он, чтоб хранил ее творец.
То — кипарис облит сияньем лунным,
И амбра над челом темнеет юным.
Она в парчу, в каменья убрана,
Как райский сад, желанного полна.
Жемчужинам позволив приоткрыться,
Вопрос Михрабу задала царица:
«Как ты пошел, супруг мой, как пришел?
Да будешь ты далек от бед и зол!
Седого Заля каково обличье?
Престол его влечет, гнездо ли птичье?
Видны ли человека в нем черты?
Отважно ль сердце? Помыслы чисты?»
Михраб ответил на слова царицы:
«Платан мой среброгрудый, лунолицый!
Во всей вселенной нет богатырей,
Подобных Залю силою своей,
Нет росписи и нет дворца такого
С изображеньем храбреца такого.
Пред ликом Заля никнет аргуван,
Он молод, бодр и счастьем осиян.
Один порок, что голова седая:
Так скажет муж, придирчиво взирая,
Но знай, что Заля красит седина,
Сказал бы, что чарует нас она!»
Отцу внимала Рудаба с волненьем,
Краснея, вспыхнула цветком весенним.
Она теперь покоя лишена:
Душа любовью к Залю зажжена!
Страсть воцарилась в сердце, свергнув разум,
И нрав и мысли изменились разом.
А было у нее служанок пять,
Пять любящих рабынь, тюрчанок пять.
Сказала тем служанкам несравненным:
«Хочу поведать вам о сокровенном.
Наперсницы, пред вами не таюсь,
Я с вами всеми тайнами делюсь.
Узнайте же, внимая мне с участьем,—
Да озарятся ваши годы счастьем,—
Я влюблена. Любовь моя сильна,
Как моря непокорная волна.
Сын Сама овладел моей душою,
Он и во сне стоит передо мною.
Люблю его и думаю о нем,
К нему и ночью я стремлюсь и днем.
Надумать способ вы должны, рабыни,
Чтоб я от мук избавилась отныне».
Служанки подивились тем словам:
Такие речи для царевны — срам!
Вскочили, будто бесы в них вселились,
С упреками к царевне обратились:
«Венец владычиц мира, ты светло
Вздымаешь над царевнами чело,
Ты славишься от Хинда и до Чина,
Блестящий перстень, красоты вершина!
Где кипарис, чей тонок стан, как твой?
Лучи Плеяд затмил твой лик живой!
Индийский раджа, полон восхищенья,
Кейсару шлет твое изображенье.
А ты? Не знаешь, видно, ты стыда,
Отца ты обесчестишь навсегда!
Того ты любишь, кто творцом отринут,
Того, кто был своим отцом покинут,
Кто птицей был вскормлен в гнезде глухом,
Кого клеймят на сборище людском.
Нигде от женщин старцы не родятся,
А если родились, так не плодятся.
Весь мир в тебя влюблен, тобой сражен,
Во всех дворцах твой лик изображен,
Твои глаза увидев, стан упругий,
Светило дня пойдет к тебе в супруги!»
Повеял ветер, на огонь дыша,—
Так у царевны вспыхнула душа,
И отвернулась от служанок дева,
Закрыв глаза, исполненные гнева.
Придя в себя, от ярости бледна,
Нахмурив брови, крикнула она:
«Нелепа ваша речь, глупа, незрела,
Таким речам внимать — пустое дело!
Ни раджу, ни хакана не хочу,
Царя царей Ирана не хочу,
Я только одному женою стану,—
Плечистому, высокому Дастану!
Слывет он старцем или молодым —
Соединю я душу только с ним!»
Услышав сердца страстного, больного
Смятенный крик, в одно сказали слово
Прислужницы: «Ты — наша госпожа,
Тебя мы любим, преданно служа.
Исполним, что велишь, без промедленья,—
Да приведут к добру твои веленья.
Когда тебе потребна ворожба,
Мы целый мир обманем, Рудаба,
В колдуний превратимся мы, в газелей,
Взлетим к пернатым ради наших целей».
Раскрыла Рудаба свои уста,
Улыбкой озарилась красота:
«Когда вы слово в дело обратите,
Вы древо плодоносное взрастите,
Как яхонт, будет ценен каждый плод,
И те плоды наш разум соберет».
Прислужницы расстались с госпожою,
Ей послужить желая всей душою.
Убрав цветами косы и надев
Парчу из Рума, пять прекрасных дев
Пошли к реке, пошли тропой прохладной.
Равны весне — цветущей и нарядной.
Был месяц фарвардин, был новый год.
На правом берегу прозрачных вод
Сидели Заль, и витязи, и слуги,
На левом были девушки-подруги:
Цветы срывая, шли среди кустов,—
Скажи: цветы в объятиях цветов!
Спросил Дастан, не отрывая взгляда:
«Откуда эти пять поклонниц сада?»
Ответствовал слуга богатыря:
«То из дворца кабульского царя,
То Рудаба, Кабула месяц нежный,
Служанок посылает в сад прибрежный».
Влюбленного потряс ответ такой.
Он запылал, он потерял покой.
Узрев служанок красоту девичью,
Взял у слуги он лук, пошел за дичью.
Пошел пешком — и видит: над травой
Склонился сокол с черной головой.
Он выждал, чтоб в полет пустилась птица,
И вот его стрела вдогонку мчится.
Он сбил стрелою птицу, и тогда
От крови красной сделалась вода.
Приказ Дастана услыхали девы,
Чтоб дичь слуга отнес на берег левый.
Одна из дев, чей сладок был язык,
Слугу спросила, глядя в юный лик:
«Кто этот витязь мощный, слонотелый?
Какого племени властитель смелый?
Какой из лука ловкий он стрелок!
Он смерти всех врагов своих обрек!
Всех всадников красивей этот воин,
И меток он, и ловок он, и строен!»
Тот, закусив губу, ответил ей:
«Так о царе ты говорить не смей!
Нимрузский шах, он Сама сын единый,
Его зовут Дастаном властелины.
Пускай объездит всадник целый свет —
Такого; как Дастан, на свете нет!»
А та, взглянув на отрока с улыбкой,
Ответила: «В твоих словах — ошибка!
В чертогах у Михраба есть луна,—
Затмила твоего царя она.
Слоновой кости — цвет, а стан — платана;
Венец волос — как мускус богоданный;
Глаза — нарциссы томные; калам
Серебряный — опора двум бровям;[13]
Сжат нежный рот, как сердце, что в несчастье;
Сравню я кудри с кольцами запястий;
Сквозь ротик даже вздоху не пройти,—
Таких красавиц в мире не найти!»
Смеясь, вернулся отрок тонкостанный.
Услышал он от славного Дастана:
«Чему ты засмеялся, мой слуга?
Зачем зубов открыл ты жемчуга?»
Слуга его порадовал ответом,
И сердце Заля озарилось светом.
Проворному слуге он дал приказ:
«Пойди скажи служанкам, что сейчас
Из цветников им уходить не надо:
Вернутся с самоцветами из сада!»
Потребовал динаров, жемчугов,
Парчи золототканой пять кусков,
Сказал: «Тайком служанкам подарите,
Об этом никому не говорите.
Пускай с известьем тайным от меня
Пойдут к царевне, верность мне храня».
Пошли рабы с открытою душою,
С каменьями, динарами, парчою,
Пять луноликих щедро одаря,
Сказали им наказ богатыря.
Одна, слугу заметив молодого,
Сказала: «Тайной не пребудет слово.
Есть тайна двух, но тайны нет у трех,
И всем известна тайна четырех.
Посол, совету моему последуй:
Коль слово — тайна, мне его поведай!»
Обрадовалась, на ухо слова
Шепнув подругам: «Мы поймали льва!»
Назад вернулся вестник черноглазый,
Что витязя исполнил все приказы
И тайну эту должен был беречь,—
Поведал обольстительницы речь.
Дастан пошел в цветник: луна Кабула
Теперь ему надеждою блеснула!
Таразские кумиры подошли,
Дастаиу поклонились до земли,
Услышали они вопрос Дастана
О блеске, стане и лице платана.
Сказал: «Правдивым внемлю я словам,
Смотрите, лгать я не позволю вам!
А если я в словах обман открою,
То всех слоновьей растопчу стопою!»
Рабыня, пожелтев, как сандарак,
К ногам его упала, молвив так:
«Еще от женщин не рождались дети,—
Среди князей не сыщешь в целом свете,—
Что были бы, как Сам, умны, сильны
И чистоты и мудрости полны.
А ты — второй, с отважною душою,
С высоким станом, львиною рукою,
Струится по твоим щекам вино[14]
И тело амброю напоено.
А третья — Рудаба, луна вселенной,
То — кипарис, пахучий, драгоценный,
Жасмина, розы радостный расцвет,
Звезды Сухейль счастливый, ясный свет.
С серебряного купола арканы
Спадают вдоль ланит, благоуханны.
Красавиц, равных ей, в Китае нет,
Звенит ей слава от семи планет!»
Служанку витязь вопросил прекрасный,—
Стал сладостным и нежным голос властный:
«Теперь, когда мою ты знаешь страсть,
Скажи мне, как могу я к ней попасть?
Любовь к царевне — вот мое пыланье,
Ее увидеть — вот мое желанье!»
А та: «Когда ты повелишь, храбрец,
Мы поспешим к царевне во дворец,
Всего наскажем ей, в силки заманим,—
Ты нам поверь, тебя мы не обманем.
Расставив путы, мы ее пленим,
Ее уста мы поднесем к твоим.
А если муж, зовущийся Дастаном,
Захочет сам пожаловать с арканом
И заарканит он стены зубец,—
То лев ягненка схватит наконец!»
Красавицы ушли; вернулся витязь,
Надеждой и томлением насытясь.
К вратам дворца подруги подошли,—
Охапки роз они в руках несли.
Привратник, жесткий сердцем, речью грубый,
Их встретил со враждой, сказал сквозь зубы:
«Ушли вы слишком поздно со двора.
Кто вас пустил? Вам спать давно пора!»
Красавицы слезами разразились,
В отчаянье к привратнику взмолились:
«Такой же, как и прежде, нынче день.
Не прячет дивов розовая сень.
Весенний свет горит над нашим краем,
И мы с лица земли цветы срываем».
Ответствовал подругам страж двора:
«Не так сегодня тихо, как вчера,
Когда в Кабуле не было Дастана,
Шатров походных, воинского стана.
Должны вы знать, что до начала дня
Кабульский царь садится на коня.
Накажет крепко вас владыка строгий,
С цветами вас увидев на дороге!»
Подруги во дворец вошли гурьбой,
Шептаться стали с милой Рудабой,
Динары положили, самоцветы,—
Посыпались вопросы и ответы.
Луна сказала: «Молвите сперва:
Он лучше ли, чем говорит молва?»
Все пятеро в одно сказали слово,
Богатыря восславив молодого:
«Высок и строен Заль, как кипарис,
Глаза его — как смоль и как нарцисс.
Сверкает царским блеском взор открытый,
Уста — рубины, словно кровь — ланиты.
Один изъян, что голова седа,
Но это не позор и не беда.
«Так должно быть!» — ты скажешь, если взглянешь,
А нет — любить его не перестанешь.
Сказали мы: «Свиданья близок час»,—
С надеждой в сердце он покинул нас».
Воскликнула сиявшая луною:
«Мне кажется, что стала я иною!
Тот салмый Заль, тот птенчик молодой,
В гнезде вскормленный, слабый и седой,
Вдруг обернулся ярким аргуваном,—
Могуч, красив лицом и строен станом!»
Так говорила, и смеялся рот,
Казалось, на щеках гранат цветет.
Служанка луноликой отвечала:
«Подумай о свидании сначала!
Твои мечты исполнены творцом,—
Да завершатся радостным концом!..»
Беседка там была — как день погожий,
На стенах нарисованы вельможи.
И вот в парчу беседка убрана,
Полна дыханья амбры и вина.
Пришли, расставив золотые блюда,
Осыпав землю горстью изумруда.
Везде — фиалка, лилия, нарцисс,
Кусты жасмина пышно разрослись.
От розового сока стали краше
Серебряные, золотые чаши.
Сияла там небесная краса,
И амбра поднималась в небеса.
Вот солнце заперли, закрыли келью
И потеряли ключ с благою целью.
Явилась в стан служанка со двора:
Мол, дело сделано, ступай, пора!
Заль поспешил к назначенному месту:
Так делает жених, ища невесту.
Влюбленная смотрела с кровли вниз:
Она — луной венчанный кипарис.
Услышал витязь голос благодатный:
«Добро пожаловать, воитель знатный!
Ужели ты пешком сюда пришел?
Был этот путь для царских ног тяжел!»
Привет услышав со стены высокой,
Он встретился глазами с солнцеокой.
«О госпожа! Прими, — воскликнул он,—
Хвалу от неба, от меня поклон!
Давно, рыдая, провожу я ночи,
К звезде Симак я устремляю очи,
Молю творца послать мне благодать:
Твое лицо мне тайно показать.
Теперь узнал я радость первой встречи,
Твой голос нежный, ласковые речи..
Но я стою внизу, ты — на стене,
Наверх взобраться помоги ты мне».
Услышав, что сказал седоволосый,
Царевна черные спустила косы,—
Таких еще не видел небосклон;
Был тот аркан из мускуса сплетен!
Спускалась ли со стен коса такая?
Заль молвил про себя: «Краса какая!»
За черной прядью извивалась прядь,—
Их можно было змеями назвать!
Она сказала: «Воин именитый,
Свой львиный стан и плечи распрями ты
И к черным косам руку протяни:
Арканом станут для тебя они!»
Такая речь царевны луноликой
Дастану показалась странной, дикой.
Он косы целовал своей луны,
И поцелуи были ей слышны.
Сказал: «Не быть такому дню вовеки,
Я зла тебе не причиню вовеки!»
Тут взял он у раба аркан, свернул,
Взметнул небрежно — даже не дохнул.
Попал в петлю зубец стены старинной,
На кровлю Заль взобрался в миг единый.
Когда уселся он — чиста, светла,
К нему с поклоном пери подошла.
Она в свою взяла Дастана руку,—
Пошли вдвоем, забыв былую муку.
Спустились вниз, — дорога их легка,
В руке могучей — нежная рука.
Вот перед ними дом, расписан златом,
Они пришли к тем царственным палатам.
Что излучали свет, как райский сад:
Рабыни перед гурией стоят!
Смотрел он, станом восхищен девичьим,
Лицом, кудрями, блеском и величьем:
В запястья, в ожерелья убрана,
Она сияла, как сама весна!
С достоинством, как властелин великий,
Воссел Дастан напротив луноликой.
Висел на поясе его кинжал,
Венец его рубинами блистал.
Любовь росла, стремясь навстречу счастью,
Ушел их разум, побежденный страстью.
Но вот рассвет забрезжил над дворцом,
Раздался в ставке барабанов гром.
Как тело — с жизнью, дух — с телесной силой,
Простился богатырь с царевной милой.
Мгновенно с кровли сбросил он аркан,
Покинул дом возлюбленной Дастан.
Когда явилось из-за гор светило
И витязей Дастана разбудило,
Они толпой веселой поутру
Направились к Дастанову шатру.
Призвал Дастан, огнем любви объятый,
Вельмож, что были разумом богаты.
Пришли мобеды, гордые князья,
Глава придворных, витязи-друзья,
Пришли к нему, покорные приказам,
В глазах — веселье, преданность и разум.
Он речь повел, призвав их на совет,
Улыбка — на устах, а в сердце — свет.
Сначала вседержителя восславил,
Сердца вельмож проснуться он заставил.
Сказал он пылко: «Пред лицом творца
Надеждой и тоской полны сердца!
Он солнце и луну вращает властно,
Ко благу нас ведет он ежечасно.
Наш мир цветет, всевышним сотворен,
Где бог, там справедливость и закон.
Весна и осень — от него награда,
Для нас растит он лозы винограда.
Мир у него — то стар и хмуро лик,
То молод, свеж и светел, как цветник,
И муравей, не вняв его приказу,
Не пошевелит лапкою ни разу.
Чету он создал — жизни торжество:
Потомству не бывать от одного!
Един лишь бог, всесущий и незримый:
Нет у него ни друга, ни любимой.
Четами он все твари сотворил,
Тем самым тайну мира нам открыл.
Что со вселенной стало бы и с нами,
Когда бы твари не жили четами!
В особенности тот, чей знатен род,
Несчастен, коль подруги не найдет.
На свете краше витязя не встретим,
Чем тот, кто светится любовью к детям.
Когда его последний час придет,
Он жизнь в потомстве снова обретет.
Отдаст он имя детям, чтоб сказали:
«Вот этот — Сама сын, а этот — Заля».
Сын украшает царство и венец,—
Остался сын, хотя ушел отец.
Об этом повесть мне поведать надо,
О юной розе радостного сада!
Я дочерью Синдухт навек пленен.
Что скажет Сам? Согласье даст ли он?
О юности моей не позабудет
Царь Манучихр — или меня осудит?»
Мобеды, утаив свои слова,
Молчанием ответили сперва:
Михраб — весьма почтенный муж, однако
Потомок он бесчестного Заххака!
Затем ответ промолвили такой:
«Да обретешь ты счастье и покой!
Рабы, послушные твоим веленьям,
Молчали мы, объяты удивленьем.
Хотя Михраб и не сравним с тобой,
Он все же витязь, взысканный судьбой.
К отцу с таким посланьем обратись ты,
Как ты один умеешь, сердцем чистый.
Дастан, ты каждого из нас умней,
Душой богаче, помыслом сильней.
Пусть Манучихру Сам пошлет посланье,
Узнает, каково царя желанье.
Идет ведь о ничтожном деле речь,—
Царь не захочет просьбой пренебречь».
Дастан призвал писца, и в слове ясном
Излил он все, что было в сердце страстном.
В письме немало было новостей,
Приветов нежных, радостных вестей.
Он первые свои наполнил строки
Хвалой тому, кто создал мир широкий:
«Меня рабом всевышнего зови,
Моя душа полна к нему любви.
Зажглась моя душа таким пыланьем,
Что не могу открыться пред собраньем.
О дочери Михраба говорю,
И плачу я, и на костре горю.
Звезда ночная — мне подруга в горе,
Из глаз на грудь мою струится море.
О богатырь, какой мне дашь ответ?
Избавишь ли меня от мук и бед?
Надеюсь: верный своему обету,
Исполнит полководец просьбу эту,
Как бог велит, захочет мне помочь,
Чтоб стала мне женой Михраба дочь.
Когда меня с горы Албурз привел он,
Мне обещал отец, отрады полон:
«Желанье сына — для меня закон,
Исполню все, что пожелает он».
Гонец тотчас же, как огонь, помчался,
С посланьем к Саму одвуконь помчался.
Лишь края гургасаров он достиг,
Заметил Сам посланца в тот же миг:
Кружил он по холмам, прогнав заботу,—
С гепардами понесся на охоту.
К богатырю приблизился гонец,—
Письмо от сына получил отец.
Со скакуна сошел посланец наземь,
Облобызал он землю перед князем.
Военачальник нити снял с письма,
Спустился он с высокого холма.
Он побледнел, опешил: от Дастана
Такая весть пришла к нему нежданно!
Решил отец, что сын его не прав,
Что выбор нехорош его и нрав.
Сказал: «Своим желаниям в угоду,
Он обнаружил низкую природу.
Недаром дикой птицей он вскормлен,—
Такой удел ему определен».
С охоты возвратился он угрюмый,
Закрались в сердце медленные думы.
На сердце тяжко стало от забот,
Прилег, но и во сне печаль гнетет.
Однако чем для нас труднее дело,
Чем больше ноет сердце, страждет тело,
Тем легче в сокровенном, в добрый час,
Спасение откроется для нас.
Проснувшись, он собрал мобедов мудрых,
Сановников, старейшин седокудрых,
Вопрос им задал: «Что же Заля ждет?
Какой желанья этого исход?»
Мобеды, как велел им воевода,
Искали долго тайну небосвода,
Увидели, узнали и пришли,
Как будто счастье для себя нашли.
И было звездочета предсказанье:
«О витязь в златотканом одеянье!
Чете благоприятствует судьба,
Пребудут в счастье Заль и Рудаба.
От этих двух родится слонотелый,
Могущественный, доблестный и смелый.
Он завоюет мир, он вознесет
Престол царя царей на небосвод,
С лица земли сметет он всех злодеев,
Сровняет землю, недругов развеяв,
Надеждою Ирана станет он,—
Будь этой доброй вестью озарен!
Он сделает счастливым государство,
И люди пригласят его на царство».
Услышав то, что молвил звездочет,
Избавился воитель от забот.
К себе гонца призвал он, просветленный!
С ним разговор повел он благосклонный:
«Ты сыну моему скажи добром,
Что целью он бессмысленной влеком,
Но должен я обет исполнить строго
И для обмана не искать предлога.
Едва зарей развеется туман,
Я поведу свои полки в Иран».
Он вестнику дирхемов дал немало,
Сказал: «Скачи, не делая привала».
Полкам велел он двинуться назад,-
Ликует рать, и воевода рад.
С позором гургасаров заковали,—
Шли пленники и стоны издавали.
Едва лишь первый луч во тьме блеснул,
В степи поднялся богатырский гул.
Смешался голос трубный с барабанным,
И громы раздались над ратным станом.
То двинулся в Иран воитель Сам,—
Отрадно возвращаться: храбрецам!
Помчался к Залю, не смыкая вежды,
Гонец победы, счастья и надежды.
У двух влюбленных — так пошли дела —
Посредница болтливая была.
От милой к милому носила вести,
От жениха — к возлюбленной невесте.
Призвал сладкоязыкую Дастан,
Поведал весть великую Дастан:
«Скажи царевне, мига не теряя:
«О кроткая луна, о молодая!
Слова, теснясь, томятся взаперти.
Дай выход им: должна ты ключ найти.
Посланец, мой наказ исполнив с честью,
От Сама прибыл со счастливой вестью».
Проворно ей письмо вручил храбрец,
Посредница помчалась во дворец.
К царевне понеслась она поспешно:
Письмо от Заля было так утешно!
Царевна, ей оказывая честь,
Дирхемы ей дала, велела сесть.
Повязку, сделанную в Индостане,
Такую, что не видно было ткани:
Основа и уток — рубин, алмаз,—
Каменья скрыли золото от глаз,
Два перстня дорогих, златоузорных,
Сверкавших, как Юпитер в высях горных,—
Послала Рудаба Дастану в дар,
А с перстнями — речей сердечный жар.
Посредница пошла, хотела скрыться,
Как вдруг ее заметила царица.
Та женщина, в душе почуяв страх,
Облобызала пред царицей прах.
Душа Синдухт исполнилась тревоги:
«Скажи: откуда ты? С какой дороги?
Идешь — боишься на меня взглянуть,
Стремишься незаметно проскользнуть.
Иль без тебя нет у меня заботы?
Ты лук иль тетива? Не знаю, кто ты!»
А та: «Мне надо прокормиться здесь,
На все я руки мастерица здесь,
Царевне продаю уборы, платья,—
Я прииесла их. Разве стану лгать я?»
Синдухт в ответ: «А ну-ка, покажи.
Меня ты успокой, не бойся лжи».
«Две вещи продала, — ей было мало,
Она меня за новыми послала».
«Так деньги покажи ты мне скорей,
Мой гнев ты остуди, водой залей!»
«Мне велено до завтра ждать уплаты,
А значит, денег нет, понять должна ты!»
Тогда, решив, что речь ее — вранье,
Разгневалась царица на нее.
За пазухою, в рукавах искала
Письмо, — обман в ее словах искала.
И вот пред нею — дорогой наряд,
Уборы блеском золотым горят!
Как пьяная, от боли, недоверья,
Она вошла в покои, хлопнув дверью,
Явиться приказала Рудабе,
Ланиты исцарапала себе,
Из двух нарциссов проливала слезы,
Пока росою не сверкнули розы:
«Дитя мое, ты, как луна, светла,—
Зачем дворцу ты яму предпочла?
Не о тебе ль, как долг велит издавна,
И тайно я заботилась и явно?
Зачем же хочешь ты меня терзать?
Должна ты мне всю правду рассказать;
Кто эта женщина? Зачем приходит?
Кем послана? Кого с тобою сводит?
Кто этот муж, который дорогих
Подарков удостоился твоих?
Арабскому венцу, отцовской власти
Ты вместо счастья принесла несчастье.
Свой род и имя ты не опорочь…
Зачем я родила такую дочь!»
Потупилась царевна молодая,
От срама и тревоги обмирая.
Печали влага хлынула из глаз,
Нарциссов кровь на щеки пролилась:
«О матушка, о мудрая царица!
Моя душа в силках любви томится!
О, если б ты меня не родила,
Я ни добра не знала бы, ни зла!
Едва Дастан в Кабуле поднял знамя,
Любовь к нему меня повергла в пламя.
Жить без него? Убьет меня тоска,
Весь мир его не стоит волоска!
Узнай: меня он видел, мой любимый,
В знак нашей клятвы руки с ним сплели мы.
К владыке Саму поскакал гонец,
И сыну свой ответ сказал отец.
Могучий Сам противился вначале,
Потом слова согласьем зазвучали.
С той женщиной мне Заль прислал привет,
Мои подарки — витязю ответ».
Смутилась от речей таких царица:
Ей лестно было с Залем породниться.
Ответила: «Пусть выбор твой хорош,
На свете Залю равных нет вельмож,
Он славный сын могучего владыки,
В нем ясная душа и ум великий,
Достоинств много, родом он высок,—
Все качества затмил один порок.
Разгневается сердце шаханшаха,
Он весь Кабул сровняет с тучей праха:
Не хочет он, чтоб мы пошли вперед,
Чтоб на земле возвысился наш род».
Ту женщину царица обласкала:
Мол, не могла понять ее сначала.
Царевну спрятав и замкнув замок,
Чтоб ей никто совет подать не мог,
Пошла в слезах и улеглась в постели,
Ее тоска и горе одолели.
Михраб счастливый вышел из шатра,—
В Дастане он обрел исток добра.
Увидел он: лежит в слезах супруга,
Лик побледнел, как будто от недуга.
Спросил в тревоге: «Что тебя томит?
Увяли лепестки твоих ланит!»
В ответ Михрабу молвила царица:
«Моя душа грядущего страшится.
Что будет с этой радостной страной,
С арабскими конями и казной,
С твоим дворцом, с послушными рабами,
С твоим венцом, с цветущими садами,
С царевной, что блистает красотой,
С величьем, славой, жизнью прожитой?
Пусть твой венец и трон блестят победно —
Со временем уйдут они бесследно.
Как ни старайся, их отнимет враг,
Деянья наши обратятся в прах.
Окажется в гробнице наша слава:
То древо, чьи плоды для нас — отрава,
Взрастили мы, трудясь в мороз и зной,
Венцом его украсили, казной,
Оно расцвесть роскошно не успело —
Его листва тенистая истлела.
Вот в этом наш предел и наш исход,
Не ведаю, когда покой придет!»
А царь: «Ты старое сказала слово,
А повторенье не бывает ново.
Сей мир противен светлому уму,
И мудрый ужасается ему.
Любого из живых судьба находит,
Один уходит, а другой приходит.
И в счастье и в беде — одна судьба,
Безумна с высшим судией борьба».
Синдухт — в ответ: «Поведала я притчу,
Надеясь, что я правду возвеличу.
Мудрец, достойный славы и похвал,
О древе притчу сыну рассказал,
А я ту притчу рассказала снова,
Чтоб со вниманьем выслушал ты слово.
Дастан, — открою истину тебе,—
Силки расставил тайно Рудабе.
Смутил ей сердце, сбил с пути царевну,
Найдем же выход, чтоб спасти царевну,
Я не смогла советом ей помочь,
И вижу я: страдает наша дочь».
Ошеломленный новостью такою,
Поднялся царь, сжимая меч рукою,
Вскричал: «Убью сейчас же Рудабу,—
Мне легче видеть дочь свою в гробу!»
Царица, гнев супруга понимая,
Сказала, стан Михраба обнимая:
«Властитель мой! Хотя бы к одному
Прислушайся ты слову моему,
А после поступи, как скажет разум,
Мы покоримся всем твоим приказам».
Отпрянул царь и оттолкнул жену,
Вскричал, подобный пьяному слону:
«Зачем я дочь свою в живых оставил,
Как только родилась — не обезглавил?
Был мягким, предков преступил завет,
И вот я от нее дождался бед.
Все качества отца должны быть в сыне,
Быть хуже, чем отец, — грешно мужчине.
Бесславья и позора не хочу,
А ты прибегнуть не даешь к мечу.
Когда могучий Сам и царь Ирана
Над ними власть получат невозбранно,
Тогда умрет кабульская земля,
Сады заглохнут, высохнут поля».
«Мой господин, — воскликнула царица,—
Не надобно болтать, не стоит злиться,
Не предавайся горю и слезам,—
Уже об этом знает всадник Сам,
Он с поля битвы двинулся обратно,
Он встретил эту весть благоприятно».
Промолвил царь: «Прекрасная луна!
Мне лгать в подобный час ты не должна.
Я б свадьбе не мешал, скажу я прямо,
Но Манучихра я боюсь и Сама.
И то сказать: на всей земле кого
С могучим Самом не прельстит родство?»
Синдухт сказала: «Гордый муж! Не стану
С тобой хитрить и прибегать к обману.
Твоя беда — она моя беда,
Я связана с тобою навсегда.
Как ты, и я вначале опасалась,
Но ясным наше дело оказалось.
Уж не такое чудо этот брак,—
Из сердца выкинь страх, тоску и мрак.
Заль поступил, как Фаридун когда-то,
К йеменскому царю пославший свата.
Чужой войдет как родич в твой дворец,—
Твой враг увидит в этом свой конец!»
Ответствовал Михраб, как прежде, гневный:
«Вставай и приходи ко мне с царевной».
Ей стало страшно: мрачен муж, как ночь,
Тоской терзаем, умертвит он дочь!
«Сперва, — сказала, — обещай мне милость»,—
Хитрила, царский гнев смягчить стремилась.
Михраб воскликнул: «Я клянусь тебе,
Что зла не причиню я Рудабе,
Но бойся Манучихра: царь всевластный
На нас нагрянет с яростью ужасной».
От сердца у царицы отлегло,
Она склонила пред царем чело,
Ушла с улыбкой на устах, сияя:
Лицо — как день, а кудри — тьма ночная.
Сказала Рудабе: «С весельем встань,
Теперь гепард терзать не будет лань.
Давай скорей запястья, кольца спрячем,
Убранство сняв, к отцу ступай ты с плачем».
«Снимать? Зачем? — сказала та в ответ,—
Мне, бедной, притворяться — смысла нет.
Навеки я принадлежу Дастану,
А то, что явно, я скрывать не стану».
И дочь предстала пред лицом царя,
Нарядна, как восточная заря.
Отец, ее увидев, восхитился
И мысленно к Йездану обратился.
Сказал ей: «Помутнен твой ум навек!
Какой допустит знатный человек,
Чтоб вышла пери за исчадье ада?
Тебя лишить венца и перстня надо!»
Он, полный гнева, как гепард рыча,
Кружил, сжимая рукоять меча.
Ушла царевна в страхе и печали,
И желтыми ее ланиты стали.
И мать и дочь — несчастные сердца —
Прибежища искали у творца.
Придворных шаханшаха всколыхнула
Весть о Дастане, о царе Кабула,
О том, что Заль влюблен: пришло на ум
Стать равными неравным этим двум!
Перед лицом царя царей мобеды
Об этой вести повели беседы.
Такое слово Манучихр изрек:
«За это дело нас накажет рок.
Умом, войной и силой твердой власти
Иран я вырвал из тигриной пасти.
Царь Фаридун Заххака сбросил гнет,—
Боюсь я: это семя прорастет.
Дастан, влюбившись, долг забыл сыновний:
Пусть дочь араба нам не станет ровней!
Когда у этих двух, — так царь сказал,—
Из ножен вдруг появится кинжал,[15]
То, если в мать пойдет дитя Дастана,
Мы много зла увидим от смутьяна.
Он возмутит иранскую страну,
Чтоб отобрать корону и казну».
Мобеды вознесли царя высоко,
Назвали властелином без порока:
«Воистину мудрейший ты из нас,
Сильнейший ты из нас в тяжелый час!
Верши по смыслу веры и закона:
Твой разум в плен захватит и дракона!»
Ноузару царь царей велел созвать
Вельмож придворных, избранную знать:
«Ступайте к Саму, поведите речи,
Спросите, как вернулся всадник с сечи,
Скажите: «К нам пожалуй во дворец,
Потом домой отправишься, храбрец».
Внял храбрый Сам такому приказанью,
Обрадовался этому свиданью,
Сказал Ноузару: «Я пойду к царю,
Свиданьем с ним я душу озарю».
Со звоном чаш тогда смешались клики,
Не умолкали здравицы владыке,
Ноузару, Саму — всаднику в броне,
И всем князьям, и каждой их стране.
Прошла в веселье ночь. Когда светило,
Сверкая, тайну неба им открыло,
Вельможи, как велел им царь царей,
К его двору помчались поскорей.
Могучий Сам, воитель несравненный,
Предстал пред повелителем вселенной.
Воскликнул Манучихр: «Иди на бой,
И всех отважных ты возьми с собой!
Кабул и Хиндустан сровняй с камнями,
Дворец Михраба ты повергни в пламя.
Пусть не уйдет Михраб из рук твоих,
Не оставляй змееныша в живых.
Змеиный род, исполнен злобы лютой,
Грозит земле войной, насильем, смутой.
Всех, у кого была с Михрабом связь,
Кто власть его признал, ко злу стремясь,—
Ты обезглавь, к одной стремясь корысти;
От семени Заххака мир очисти!»
Ответил Сам: «Злодеев одолев,
Из сердца шаха прогоню я гнев».
Челом склонился предводитель рати,
Припал устами к перстню и печати.
Домой велел полкам он повернуть,
Помчались кони, пожирая путь.
Михраб и Заль проведали заране
О том, что Сам идет дорогой брани.
Уехал гневный Заль, кляня судьбу,
Сгибая шею, выпятив губу.
Услышал Сам, что скачет ветроногий,
Что появился львенок на дороге.
Тут поднялись вельможи и стрелки,
Стяг Фаридуна вознесли полки.
С коня сошел Дастан отцу навстречу,
Пошел, предстал с поклоном, с доброй речью.
Тогда с обеих спешились сторон
Начальники, старейшины племен.
К ногам отца склонился Заль-воитель,
Но долго с ним не говорил родитель.
Вновь на коня сел всадник молодой,—
Казался он горою золотой.
Пред ним, пред юношей седоголовым,
Вся знать с сочувственным предстала словом,
Мол, повинись перед отцом родным,
Обидел ты его, — склонись пред ним…
Скакала знать без горя и тревоги,
Могучий Сам вступил в свои чертоги,
С коня сойдя, не отдохнув с пути,
Тотчас же сыну приказал войти.
Вошел Дастан, чтобы услышать речи,
Склонился до земли, расправил плечи,
Отца восславил, высоко вознес,
Ланиты орошая влагой слез:
«Да будет богатырь вовек счастливым!
Ты служишь правде сердцем прозорливым,—
Лишь я в тебе опоры не найду,
Хотя и славен я в твоем роду.
Явил ты правду и земле и людям,
Ты время осчастливил правосудьем,
А мне какой ты приготовил дар?
Чтобы обрушить на меня удар,
Мазандеран ты с воинством покинул,—
Как видно, правосудье ты отринул!»
Поняв: упрек Дастана справедлив,
Стоял воитель, руки опустив.
«Да, — Сам промолвил, — правда — твой свидетель,
В твоих словах — одна лишь добродетель.
Увидел ты обиду от отца,
И радуются недругов сердца.
Мечтал: исполню я твое желанье,
Ко мне ты прибыл, испытав страданье,
Но успокойся, жди, не горячась:
Твое устрою дело в добрый час.
Властителю земли письмо составлю,
С тобой, искатель радости, отправлю,
Все доводы царю я приведу,
Чтоб он склонился к правому суду.
Когда нам другом царь вселенной будет —
Исполнит нашу просьбу, не осудит».
Затем писца призвали во дворец,
Услышал речи мудрые писец.
Восславил Сам того, кто бесконечен,
Того, кто был всегда, кто есть, кто вечен,
Кто нам явил владычество свое,
Добро, и зло, и смерть, и бытие,
Кто создал мир с закатом и восходом,
С кружащимся над миром небосводом,
Кто — повелитель солнца, всех светил,
Кто Мапучихра славой осенил.
«Я — раб, одним лишь возрастом богатый,
Вступил с отвагой в год шестидесятый.
Пыль камфары — на голове моей:[16]
Так я увенчан солнцем наших дней.
Я прожил жизнь свою в броне и шлеме,
В боях с твоими недругами всеми.
В таких трудах немало лет прошло,
Конь для меня — земля, мой трон — седло.
Сломил я силою своих ударов
Мазандеран и землю гургасаров.
Тебе я счастье добывал в борьбе,
Ни разу не напомнив о себе.
Но, государь, ты видишь: я старею,
Я палицей, как прежде, не владею.
И плечи, и могучий стан, и грудь
Сумели годы властные согнуть.
Аркан мой отняло седое время,
Шести десятков лет мне тяжко бремя.
Я ныне Залю уступил черед,—
Пусть в руки меч и палицу берет.
Он с просьбою придет к царю вселенной,
Он явится с мечтою сокровенной,
Угодной богу, ибо твой удел,
О царь земли, — защита добрых дел.
Сомненья нет, известно властелину,
Какой обет я дал когда-то сыну.
Его желанье для меня — закон.
Он мне сказал, обидой уязвлен:
«Ты весь Амул на виселицу вздерни,
Но лишь не вырывай Кабула корни».
Пойми: питомец птичьего гнезда,
Он рос, людей не видя никогда,
И вот пред ним луна, краса Кабула,
Своей цветущей прелестью сверкнула.
Не диво, что влюбленный одержим,
Ты гневом не грози ему своим.
Я с сердцем проводил его тяжелым.
Когда предстанет он перед престолом,
Как царь, ответствуй сыну моему:
Не мне, рабу, тебя учить уму».
Поднялся Заль, охваченный волненьем,
Письмо отца схватил он с нетерпеньем,
Пошел, вскочил в седло, помчался вскачь,
И загремел вослед ему трубач.
Когда в Кабул проникли злые вести,
Исполнился Михраб вражды и мести,
На Рудабу разгневавшись, вскипев,
На голову жены излил он гнев.
Сказал он: «Таково мое решенье.
Не мне с царем земли вступать в сраженье
Тебя и дочь порочную твою
При всем собранье я сейчас убью.
Быть может, царь земли свой гнев умерит,
Когда в мою покорность он поверит!»
Угрозу мужа выслушав, жена
Уселась, в скорбь свою погружена.
Подумав, молвила: «Послушай слово.
Ужели нет нам выхода иного?
Казной пожертвуй, чтоб себе помочь.
Пойми, чревата горем эта ночь,
Но день придет, спадет покров тумана,
И мир сверкнет, как перстень Бадахшана».
А царь: «Не склонен я к таким речам,
Старинных сказок не болтай мужам!
За жизнь борись, когда ее ты ценишь,
Не то кровавый саван ты наденешь».
«О царь, — Синдухт заговорила вновь,—
Мою, быть может, не прольешь ты кровь.
Мне к Саму бы пойти, извлечь из ножен
Меч разума: он более надежен.
О жизни я заботиться должна,
С тебя же только спросится казна».
Царь молвил: «Ключ получишь без препятствий;
Жалеть не стану о своем богатстве.
Бери престол, венец, рабов, коней,
В дорогу отправляйся поскорей,—
А вдруг наш город шах не ввергнет в пламя,
Погасший свет опять взойдет над нами!»
Услышал именитый от жены:
«Ты жизни хочешь? Не жалей казны!»
Надела бархат и парчу царица.
Блеск жемчугов и яхонтов струится!
Взяла, чтоб одарить богатыря,
Динаров тридцать тысяч у царя;
И десять скакунов, одетых в злато;
И десять — разукрашенных богато;
И шестьдесят блиставших красотой
Рабынь: у всех по чаше золотой.
Венец в алмазах, в славе царской власти;
И множество серег, цепей, запястий;
В рубинах, в жемчугах — престол царя,
А золото престола, как заря.
Он в целых двадцать пядей шириною,
Он всаднику подобен вышиною;
Немало всяких тканей и ковров
Навьючили на четырех слонов.
Затем вскочила на коня царица:
Могла с отважным витязем сравниться!
Торжественно приехала в Забул.
Когда ее заметил караул,—
Немедленно, себя не называя,
Велела доложить владыке края,
Богатырю, чьи славятся дела,
Чтоб принял он кабульского посла.
Так доложил завесы охранитель, —
Впустить посланца приказал воитель.
Синдухт сошла с коня, пошла вперед,
И величавым был ее приход.
Пред полководцем прах облобызала,
С достоинством хвалу ему сказала.
Тянулся караван — за рядом ряд —
На два фарсанга от дворцовых врат.
Свои дары преподнесла царица,—
У Сама стала голова кружиться,
Он голову, как пьяный, опустил,
Руками он колени обхватил.
«Не счесть богатств! — он думал, пораженный,—
Ужель теперь послами стали жены!
Богатство это от нее приняв,
Обижу я властителя держав,
А крикну ей: «Даров не надо сыну»,—
Заль, как Симург, умчится на вершину!»
Подняв главу, сказал: «Рабы, слоны,
И кони, и сокровища казны
Пусть будут достоянием Дастана —
От имени луны Кабулистана!»[17]
Свалилась тяжесть у царицы с плеч,
Пред ликом Сама к ней вернулась речь.
С ней было три кумира, три рабыни,—
Взглянув на них, ты вспомнишь о жасмине,—
В руке у них — по чаше золотой,
Где жемчуга сверкали красотой.
Они каменья высыпали разом,
Смешали жемчуг с лалом и алмазом.
«От посторонних, — отдал Сам приказ,—
Дворец очистить надобно тотчас».
Синдухт сказала: «Славен ты недаром!
Твой разум юность возвращает старым.
Ты обучаешь мудрости вельмож,
Ты озаряешь мрак и гонишь ложь.
Твоей печатью зло запечатленно,
И палица твоя благословенна!
Михраб, я допускаю, виноват,
Он плачет кровью, он тоской объят,
Но в чем виновны жители Кабула?
Зачем, над ними сталь твоя блеснула?
Моя страна живет одним тобой,
У ног твоих она лежит слугой.
Страшись того, кто создал ум и силу,
Кто каждому велел сиять светилу.
Побойся бога! Разве ты злодей,
Чтоб проливать напрасно кровь людей?»
Сказал ей Сам: «Всю правду говори ты,
Спрошу — ответь, но только не хитри ты.
Михрабу ровня ты или раба?
Где свиделись Дастан и Рудаба?
Скажи: под стать ли Рудаба владыкам
По нраву, по уму, кудрями, ликом?
Разумна ли, красива ли она?
Ты обо всем поведать мне должна».
Ответила Синдухт: «Воитель правый,
Глава богатырей, оплот державы!
Сперва мне вечной клятвой поклянись,
Такой, чтоб содрогнулись прах и высь,
Что не обрушится твое злодейство
Ни на меня, ни на мое семейство.
Имеются чертоги у меня,
Есть и казна, и слуги, и родня,
Когда я гнева твоего не встречу,
На все твои вопросы я отвечу.
Все, что Кабул таинственно замкнул,
Я постараюсь отвезти в Забул».
Воитель руку ей пожал сердечно
И, обласкав, поклялся ей навечно.
Царица, услыхав его ответ,
Прямую речь и клятвенный обет,
Склонясь к ногам богатыря сначала,
Приподнялась и тайну рассказала:
«Узнай же: от Заххака рождена,
Отважного Михраба я жена.
Я — мать царевны этой тонкостанной,
Которой отдана душа Дастана.
Чтобы узнать, кто враг тебе, кто друг
И что замыслил ты, пришла я вдруг.
Коль мы виновны, рода мы дурного,
Коль не достойны мы родства такого,
Так вот я пред тобой, полна скорбей:
Коль вяжешь, так вяжи, коль бьешь, так бей.
Но ты не мсти кабульцам неповинным,
Не мрак ночной, а светлый день яви нам».
Воитель понял, что она умна,—
С душою светлой чистая жена.
«Пусть жизнь моя, — сказал он, — оборвется,
Я не нарушу клятву полководца.
И ты, и весь Кабул, и весь твой род
Живите без печалей и невзгод.
Согласен я, союз детей устрою,
Да станет Залю Рудаба женою.
Иного корня вы, но час пришел:
Вы заслужили царство и престол,
Так создан мир, и в этом нет позора,
Бессмысленна с творцом борьба и ссора.
Письмо я написал владыке стран,
В письме — мольба и боль душевных ран.
Заль полетел к царю с челом подъятым,
Так полетел, как будто стал крылатым!
На то письмо властитель даст ответ:
Он улыбнется — мы увидим свет.
Птенец Симурга ранен в сердце ныне,
От слез его увязли ноги в глине!
Коль Рудаба страдает, как жених,
То места нет обоим средь живых!
А ты мне покажи ее ланиты,—
Прошу, за это дань с меня возьми ты!»
Ответила Синдухт богатырю:
«Даруй мне милость — сердце озарю,
Взовьется до небес мой дух убогий,
Когда в мои пожалуешь чертоги.
Приди под сень кабульского дворца,
И в дар тебе мы принесем сердца».
Сам улыбнулся. Поняла царица,
Что гнев исчез и нечего страшиться.
Отправила проворного посла,
Благую весть Михрабу подала:
«Тревоги прогони, пришла отрада,
Готовься, ибо гостя встретить надо.
Я тоже медлить не хочу в пути,
Вослед письму я поспешу прийти».
Наутро, лишь забил родник рассвета,
Синдухт, в парчу и золото одета,
Направилась неспешно во дворец,
К богатырю, чей воссиял венец.
Когда она к престолу приближалась,
Луной владычиц всем она казалась!
Склонилась перед Самом до земли,
Слова из уст царицы потекли:
Просила дозволения царица
Домой, в Кабул, с весельем возвратиться.
Сказал ей Сам: «Вернись в родимый край,
Михрабу все, что знаешь, передай».
Велел он одарить царицу щедро
Сокровищами, что таили недра,
И тем, что было ценным во дворцах,
Что на полях росло, цвело в садах,
Скотом молочным, тканями, коврами
И прочими достойными дарами.
Он руку соизволил ей пожать
И слово клятвы произнес опять,
Что дочь ее берет он Залю в жены;
Отправил с ней отряд вооруженный;
Сказал: «Живи отрадно и светло,
Кабулу не грозит отныне зло».
Поблекший лик луны расцвел на диво,
Синдухт пустилась в путь с душой счастливой.
Теперь о Зале мы слова начнем:
Он к Манучихру поскакал с письмом.
Едва лишь весть дошла до властелина
О том, что Сам с письмом направил сына,
Вельможи вышли юношу встречать,
Воителя приветствовала знать.
Заль, во дворец войдя, склонился к праху
И произнес хваленье шаханшаху.
Лицо держал во прахе, недвижим,—
Беззлобный царь был очарован им.
Поднялся юный Заль и встал у трона,
Владыка принял Заля благосклонно,
Взял у него письмо, повеселев,
Смеясь, ликуя, сердцем просветлев.
Прочтя, сказал: «Ты мне забот прибавил,
Тревожиться, печалиться заставил.
Отрадно все ж читать моим глазам
То, что прислал мне с болью старый Сам.
Хотя в душе не улеглась тревога,
Ни мало не задумаюсь, ни много,
Исполню я желания твои:
Я знаю упования твои!»
Тут появились повара у входа,
За трапезу воссел глава народа,
А после, — было так заведено,—
В другом покое стали пить вино.
Дастан, вином насытясь и едою,
Сел на коня с уздечкой золотою.
Всю ночь не спал: пылала голова,
Сомненья в сердце, на устах слова.
Стан затянув, пришел он утром paно
К победоносному царю Ирана,
А царь призвал на Заля благодать.
Когда же удалился Заль опять,
Владыка повелел собраться вместе
Мобедам седокудрым — стражам чести,
Вельможам, звездочетам, мудрецам,
С вопросом обратиться к небесам.
Ушли мобеды, много потрудились,
По звездам тайну разгадать стремились
Три дня тянулось дело, но пришли,
Румийские таблицы принесли,[18]
Уста раскрыли пред главой народа:
«Исчислили вращенье небосвода
И волю звезд узнали мы тогда;
Не замутится чистая вода.
У Рудабы и Заля величавый
Родится витязь — гордый, с доброй славой.
Он будет долголетьем обладать.
Он явит силу, разум, благодать,
Высокий стан, могучее сложенье,
Всех на пиру затмит он и в сраженье,
Внушит он трепет всем царям земным,
И не дерзнет орел парить над ним.
Тебе служить он будет мощью бранной,
Опорой будет всадникам Ирана».
Ответил мудрецам царей глава:
«Храните в тайне вещие слова».
Был призван шахом Заль седоволосый,
Чтоб задали жрецы ему вопросы.
Мобеды сели, бодрые душой,
А перед ними — витязь молодой:
Он должен дать на те слова ответы,
Что пологом таинственным одеты.
Сказал один мобед, к добру влеком,
Воителю, богатому умом:
«Двенадцать видел я деревьев стройных,
Зеленых, свежих, похвалы достойных,
На каждом — тридцать веточек растет,
Вовеки неизменен этот счет».
Другой воскликнул: «Отпрыск благородных!
Погнали двух коней, двух быстроходных.
Несется первый, черный, как смола,
А масть другого, как хрусталь, светла.
Торопятся, бегут они далече,
Но первый со вторым не сыщет встречи».
Промолвил третий: «Тридцать седоков
Пред шахом скачут испокон веков.
Один — всмотрись получше — исчезает,
Но их число вовек не убывает».
Сказал четвертый: «Пред тобою — луг.
Шумят ручьи, трава растет вокруг.
Могучий некто с острою косою
Придет на луг, сияющий красою,
Все, что цветет, что высохло давно,
Не внемля просьбам, скосит заодно».
«Подобно камышам, — промолвил пятый,—
Два кипариса из воды подъяты,
На каждом птица свой свивает дом,
Днем — на одном, а ночью — на другом.
Слетит с того — и ветви вдруг увянут,
На это сядет — сладко пахнуть станут.
Один — вечнозеленый кипарис,
Другой — в печали чахнет, глядя вниз».
Сказал шестой: «Богат водой проточной,
Средь горных скал воздвигнут город прочный.
Но люди той заоблачной земли
Ему пески пустыни предпочли.
Дома в сухой степи тогда возникли,
Тогда рабы и господа возникли.
Забыли все о городе в горах,
Воспоминанья превратили в прах.
Но раздается гул землетрясенья,
Их область гибнет, людям нет спасенья,—
Тогда-то город вспоминают свой,
Тогда-то жребий проклинают свой.
Слова жрецов за пологом сокрыты.
Их смысл раскрой, их сущность разъясни ты.
Когда ж постигнешь их, о витязь наш,
Из праха чистый мускус ты создашь!»
Заль вдумался в таинственные речи,
Обдумав, он расправил грудь и плечи,
Затем открыл свои уста, готов
Ответить на вопросы мудрецов;
«Дерев двенадцать названо вначале,
На каждом — тридцать веток насчитали.
Двенадцать месяцев являет год,—
На смену шаху новый шах идет,—
А каждый месяц тридцать дней приводит:
Так времени вращенье происходит.
Теперь скажу: какие два коня
Летят подобно божеству огня?
Конь белый — день, а черный — тьма ночная.
Бегут они, чреды не изменяя.
Проходит ночь, за нею день пройдет:
Так движется над нами небосвод.
При солнце встречи нет и нет во мраке?
Бегут подобно дичи от собаки.
Теперь: какие тридцать седоков
Пред шахом скачут испокон веков?
Один из них все время исчезает,
Но всадников число не убывает.
Луну сменяет новая луна:
Такая смена богом создана.
Луна идет на убыль постепенно,
А все ж она вовеки неизменна.
Теперь скажу я, — пусть поймут везде,—
О кипарисах с птицею в гнезде.
Меж двух созвездий — Овном и Весами —
И тьма и мрак сокрыты небесами,
Но лишь к созвездью Рыбы мир придет,—
И тьма и мрак откроются с высот.
Два кипариса — две небесных части,
В одной — печаль, в другой находим счастье.
А птица — это солнце: всякий час
Оно и любит нас и губит нас.
Спросил о горном городе учитель:
То — наша постоянная обитель.
Мы временно живем в степи сухой,
С ее отрадой и с ее тоской.
Она щедроты нам несет и прибыль,
Она заботы нам несет и гибель.
Землетрясенье, буря, — в этот миг
Взволнован мир, он поднимает крик,
Твой труд заносится песком пустыни,
Ты переходишь в город на вершине.
Другой начнет владеть твоим трудом,
Но так же он уйдет, как мы уйдем.
Да, нашей жизни такова основа,
Так было, так пребудет — вечно ново.
В дорогу имя доброе возьми,
Тогда прославлен будешь ты людьми,
А если ты хитер, бесчестен, жаден,
Воистину конец твой безотраден.
Хотя б до неба ты воздвиг дворец,
Лишь в саване ты встретишь свой конец.
Ты ляжешь в страхе, с мертвыми очами,
Сокрыт в земле, покрытый кирпичами.[19]
На луг приходит человек с косой,
Траве он страшен свежей и сухой.
Он косит свежую, сухую косит
И тем не внемлет, кто пощады просит.
Да, время — каш косарь, а люди — луг,
Равны пред косарем и дед и внук,
Равны пред ним и молодость и старость,
Ища добычи, он впадает в ярость.
От века было так и будет впредь:
Рождается дитя, чтоб умереть.
Мы в эту дверь войдем, из той мы выйдем,
А пред собою косаря мы видим!»
Умом Дастана восхитился шах,
Услышал мудрость он в его словах.
Собрал он столько ценностей отборных,
Что удивил дарами всех придворных:
Венец в алмазах, трон — как небеса,
Запястья, цепи, серьги, пояса,
Здесь были и одежды дорогие,
Рабы, и кони, и дары другие.
Затем ответил Саму шаханшах,—
Дивись: была отрада в тех строках!
«Отважный богатырь, воитель знатный!
Как лев, ты побеждаешь в битве ратной.
О Сам! Твое письмо ко мне пришло,
И стало на душе моей светло.
Я все исполнил, что тебе желанно,
Что было счастьем и мечтой Дастана».
Простился Заль с властителем держав,
Над витязями голову подняв.
Гонца отправил к Саму юный воин,
Мол, я подарков царских удостоен,
С престолом воавращаюсь и венцом,
С весельем в сердце, с радостным лицом.
Таким для Сама было это слово,
Что юношею стал седоголовый!
На скакуна гонцу велел он сесть,
Михрабу он послал благую весть,
И тот обрадовался несказанно
Родству с владыкою Забулистана,
Как будто мертвый снова жизнь постиг,
Как будто юным снова стал старик!
Послал он за женой прекраснолицей,
Беседовал он ласково с царицей:
«Хвала, супруга, твоему уму,
Ты светлой мыслью озарила тьму.
С таким богатырем ты породнилась,
Что даже венценосцам дарит милость.
Начало положила ты, жена,
И ты же дело завершить должна.
Все, чем богат дворец, — перед тобою:
Казна, престол, венец — перед тобою».
Синдухт, супруга выслушав слова,
Покои убрала для торжества.
Украсила айван, как своды рая,
Вино, шафран и амбру разливая.
Ковер златоузорный был раскрыт,
Сверкал в узоре каждый хризолит.
Другой раскрыла — в жемчугах отборных.
Блиставший, словно капли вод озерных.
Установила на айване трон,—
Китайский был обычай соблюден.
Узоры трона — камни дорогие,
Меж них — изображения резные,
Бегут ступени, яхонтом горя,—
То был богатый трон, престол царя!
Одела дочь в сверкающие платья,
На всех уборах вывела заклятья,[20]
В раззолоченный увела покой,
Куда не мог проникнуть взор людской.
Кабулистан украсился богато,
Был полон красок, блеска, аромата.
Потребовали множество рабов,
Убрали спины боевых слонов,
Воссели барабанщики с певцами,
Украсили чело свое венцами,
Чтобы гостей с почетом привести,
Бросая злато, мускус на пути.
Как быстрый челн в реке, как в небе птица,
Дастан спешил, не мог остановиться.
Узнав, что прибыл богатырь земли,
Торжественно встречать его пошли.
Звенели во дворце забульском крики:
«Вернулся Заль счастливый, солнцеликий!»
Воитель Сам явился впереди,
Он долго сына прижимал к груди.
Освободившись из его объятий,
Поведал Заль о царской благодати.
Веселье, счастье старый Сам обрел,
Взошел он вместе с сыном на престол.
То улыбаясь, то улыбку пряча,
Сказал, что сына ждет во всем удача:
«К нам из Кабула, разума полна,
По имени Синдухт пришла жена.
Потребовала слово — дал ей слово,
Что зла не причиню ей никакого.
Просила ей помочь от всей души —
Ответы наши были хороши.
Просила, чтоб луна Кабулистана
Женою стала нашего Дастана.
Просила посетить ее жилье,
Чтоб от недуга исцелить ее.
Сейчас ее посол принес нам слово,
Что к торжеству в Кабуле все готово.
Каким же будет разговор с послом?
Какой ответ Михрабу мы пошлем?»
Был счастлив Заль, — тревоги все забыты,
Зарделись, как рубин, его ланиты.
И понял Сам, на Заля бросив взгляд,
Каким желаньем сын его объят:
Одна лишь Рудаба ему желанна,
Обман — все остальное для Дастана!
Велел раскрыть завесу старый Сам,
Велел звенеть звонкам и бубенцам,
Велел послу поехать на верблюде,—
Пусть знает царь Михраб, пусть знают люди,
Что полководец двинулся вперед:
С Дастаном, с малым войском он придет.
Над городом — звонков индийских звоны,
И чангов голоса, и лютней стоны.
Скажи: запели крыши, ворота,
Земля сияньем новым залита!
Игривы кони, челки их красивы,
Умащены душистой амброй гривы.
Синдухт навстречу вышла, а вокруг —
Рабыни, что готовы для услуг.
Несли рабыни чаши золотые,
А в чашах — мускус, камни дорогие.
Тут раздались хваленья двум гостям,
Посыпались каменья к их ногам.
Кто принял в этом торжестве участье,
Обрел богатство, и восторг, и счастье!
С улыбкою царице молвил Сам:
«Ты скоро ль Рудабу покажешь нам?»
Ответила Синдухт: «А где подарки
За то, что взглянешь ты на светоч яркий?»
«Проси, что хочешь, ты, — воскликнул Сам,—
Все, чем владею, я тебе отдам!»
Пошли к раззолоченному покою,
Чтоб встретиться с цветущею весною.
Сам, восхищенный яркой красотой,
Вдруг замер пред царевной молодой.
Он слов не находил для восхваленья.
Он глаз не отводил от изумленья.
Позвал Михраба, радостью объят,—
Союз скрепили, совершив обряд.
Влюбленных усадив на трон единый,
Посыпали алмазы и рубины.
Венец луны — в каменьях дорогих,
В короне золотой сиял жених.
Велел Михраб внести заветный свиток,—
Да знают все сокровищ преизбыток!
Он список вслух прочел. Ты скажешь тут:
«Все это слушать уши не дерзнут!»
Все вышли к месту пира и веселий.
Семь дней они с вином в руках сидели,
Затем они сидели во дворце,—
Счастливых три недели во дворце!
Собравшись в путь, уехал Сам вначале:
Его в Систан дела сраженья звали.
А Заль, стремясь веселье растянуть,
Собрался через три недели в путь.
Луну Кабула он увез оттуда,—
Под паланкин поставил он верблюда.
Уехали с отрадой из дворца.,
Восславив милосердного творца.
Сияя счастьем брачного союза,
Дошли с весельем в сердце до Нимруза.
Тут Залю Сам вручил венец, престол,
Свои войска в сражение повел:
На гургасаров, под счастливым стягом,
В поход пошел он, озаренный благом.
Сказал: «Я опасаюсь той страны,
Где очи и сердца нам не верны.
От них, проклятых, — смута постоянно,
Сражусь я с нечистью Мазандерана!»
Герой всепобеждающий ушел,
Вступил Дастан-властитель на престол.
Не много с той поры минуло весен,—
Стал кипарис высокий плодоносен.
Отяжелела будущая мать,
Румянца на ланитах не видать.
Не зная сна, несла под сердцем бремя,
И день пришел: приспело родов время.
В беспамятстве упала в тяжкий миг,
И вот раздался на айване крик:
Рыдала Рудаба, в тоске сгорая,
Свое лицо и косы раздирая.
До Заля эти вопли донеслись,
Услышал он, что страждет кипарис.
К супруге подошел он, к изголовью,
Глаза в слезах, облито сердце кровью,
Но, вспомнив про Симургово перо,
Сказал царице: «К нам придет добро».
Разжег жаровню в комнате царицы
И опалил перо священной птицы.
Настала тьма нежданная вокруг,
Симург могучий появился вдруг,
Подобно облаку с жемчужной влагой,—
Но то не жемчуг был, — то было благо!
Спросил: «О чем тоскуешь ты сейчас?
Зачем ты слезы льешь из львиных глаз?
От пери среброгрудой, луноликой
На свет родится богатырь великий.
Он барса криком приведет в испуг,—
И шкура в клочья разлетится вдруг,
И, прячась от воителя в чащобе,
Грызть когти будет барс в бессильной злобе.
Пред ним склонится лев, целуя прах,
Отпрянет вихрь, пред ним почуяв страх.
Скорее приведи ты ясновидца,
С кинжалом должен он сюда явиться.
Сперва луну вином ты опьяни,
Из сердца страх и горе прогони.
Он чрево рассечет, исполнен знанья,—
Не причинит жене твоей страданья.
Разрежет, окровавит он живот,
Из логова он львенка извлечет.
Затем зашьет он чрево луноликой,—
Избавишься от горести великой.
Смешаешь мускус, молоко, траву,
Которую тебе я назову,
Смесь растолчешь, просушишь утром рано,
Приложишь, — заживет мгновенно рана.
Затем потри ее моим пером,—
Познаешь благо под моим крылом.
Затем возрадуйся, прогнав тревогу,
Затем с молитвой обратись ты к богу:
Он древо царства для тебя взрастил,
Вечноцветущим счастьем наградил.
Забудь свою печаль, свои сомненья:
Получишь плод от этого цветенья».
Сказав, перо он вырвал из крыла
И, бросив, прянул в небо, как стрела.
Перо Симурга поднял седокудрый,
Исполнил Заль советы птицы мудрой.
Синдухт рыдала, муку обретя:
Из чрева скоро выйдет ли дитя?
Пришел мобед и влагу дал хмельную,
Искусный лекарь усыпил больную,
Рассек без боли чрево, заглянул,
Младенцу он головку повернул
И бережно извлек его оттуда,—
Никто не видывал такого чуда!
То мальчик был, но был он силачом,
Могуч сложеньем и красив лицом.
Дивились все его слоновой стати:
Никто не слышал о таком дитяти!
На сутки усыпленная вином,
Спала царевна безмятежным сном,
Не слышала, как рану ей зашили,
И снадобьем от боли излечили.
Очнулась луноликая от сна,
И обратилась к матери она.
Ей золото и жемчуга на ложе
Посыпали, хваля величье божье.
Тотчас же ей ребенка принесли,—
Сеял, как небожитель, сын земли!
И улыбнулась Рудаба дитяти:
Он был исполнен царской благодати!
Сказала: «Спасена я! Би-растам!»
Отсюда имя мальчика: Рустам.
Из шелка сшили куклу, ростом с львенка,—
Похожую на этого ребенка.
Набили куклу шерстью дорогой,
Украсив щеки солнцем и звездой,
Драконов на предплечьях начертили,
Персты когтями львиными снабдили,
Под мышки положили ей копье,
Поводья, палица — в руках ее.
На лошади, — вокруг была охрана,—
Отправили подобье мальчугана.
Осыпали дирхемами послов,
Верблюд помчался с вьюками даров.
Когда увидел Сам, воитель знатный,
Подобье внука с палицей булатной,—
Остолбенел, возликовал старик,
Воскликнул: «Эта кукла — мой двойник!
Пусть даже будет ей мой внук по пояс,—
Осядут облака, на нем покоясь!»
Затем потребовал к себе посла
И дал ему динаров без числа.
Затем такой устроил пир чудесный,
Что удивился даже свод небесный.
Затем он Залю написал ответ,
Благоухавший, словно райский цвет.
Вначале он воздал творцу хзаленье,
Приветствуя судьбы круговращенье.
Потом он Залю написал хвалы,
Владыке палицы, меча, стрелы.
Писал о кукле, силой наделенной
И царской благодатью осененной:
«Дитя храните так, чтоб на порог
С бедой прийти не смел и ветерок».
Над головой вселенная вращалась,
Судьбы предначертанье открывалось.
Высокий станом, к девяти годам
Подобным кипарису стал Рустам.
Ты скажешь: с дедом, витязем великим,
Он сходен статью, разумом и ликом.
Услышал Сам крылатую молву,
Что сын Дастана стал подобен льву.
Забилось сердце Сама громким стуком,
И пожелал он свидеться со внуком.
Над воинством назначил он вождя,
Ушел, людей бывалых уведя.
Дастан велел ударить в барабаны,
Закрыли землю воинские станы,
А сам с Михрабом поскакал верхом,
Спеша предстать перед седым отцом.
Огромный слон был к витязю направлен,
Был золотой престол на нем поставлен,
Воссел на троне отрок дорогой,
Плечист, могуч, со львиною рукой,
Венец на голове, кушак на стане,
Пред грудью щит, и палица во длани.
Отважный Сам приехал, — и тогда
Построились дружины в два ряда.
Сошли с коней кабульский царь с Дастаном,
Все, что гордились возрастом и саном,
Пред полководцем распростерлись ниц,
Воздали Саму славу без границ.
Расцвел, как роза, рассмеялся звонко
Воитель Сам, когда увидел львенка.
Велел, чтоб на слоне подъехал он.
Венцом, щитом и троном умилен,
Поцеловал дитя в глаза и брови.
Замолкли барабаны, рев слоновий.
Затем к дворцу направили коней,
Был весел путь, а речи — веселей»
Дед восхищался внуком громогласно,
Благословлял Рустама ежечасно.
Хмелели, чаши поднося к устам:
«Будь счастлив, Заль! Да здравствует Рустам!»
В день новолунья, в месяц благодатный,
Задумал Сам пуститься в путь обратный.
Он выехал, счастливый, из ворот,
С ним Заль один проделал переход.
«Мой сын, — сказал отважный Сам Дастану,—
Будь правосуден, чуждым будь обману.
Царям ты внемлешь, царский чтишь престол,
Богатству — светлый разум предпочел,
Ты с юных лет отринул зла дорогу,
И впредь иди путем, угодным богу,
Затем, что скоро ждет разлука нас,
Боюсь я сердцем, что настал мой час».
Душою молчалив и жарок речью,
Воитель поскакал боям навстречу
А Заль, оставив за собой Забул,
Свои полки к Систану повернул.
На иранском престоле Манучихру наследовал его сын Ноузар, неразумные действия которого вызвали в стране всеобщее недовольство. Приглашенный из Систана богатырь Сам отказался от предложенного ему вельможами трона, поскольку, как он заявил, владеть верховной властью может лишь потомок царей.
Меж тем в Иран вторглись туранцы, во главе которых стоял могучий богатырь Афрасиаб, сын шаха Пашанга. Сначала они разбили иранцев, но подоспевший Заль, только что похоронивший отца Сама, разгромил туранцев, а Афрасиаб в отместку обезглавил захваченного в плен Ноузара. После Ноузара в Иране недолго правили Зав и Гершасп.
Прослышав о смерти Гершаспа, Заль отправил юного Рустама на гору Албурз с наказом привести потомка древних царей Кей-Кубада, который стал основателем новой династии Кейанидов. Сыновья же погибшего Ноузара — Тус и Густахм, которых вельможи не допустили к власти, стали военачальниками нового шаха.
Кей-Кубаду наследовал Кей-Кавус. Дивы, пишет Фирдоуси, постоянно сбивали его с истинного пути. Сначала они внушили ему мысль о походе в Мазандеран, где он попал в плен к страшному чудовищу Белому диву. Узнав о постигшей шаха беде, Заль направил на выручку юного Рустама, который по пути в Мазандеран совершил семь подвигов, известных под названием «Хафт хан» («Семь привалов»). Богатырь убил Белого дива, разгромил мазандеранское воинство и освободил из плена иранцев.
Недолго пробыв в столице, Кей-Кавус идет походом на Хамаваран, правителя которого он разбил в сражении. Узнав о том, что у шаха есть прекрасная дочь по имени Судаба, Кей-Кавус сватается к ней и женится.
Хамаваранский правитель пригласил в гости Кей-Кавуса с воинами, напал врасплох и заточил всех в темницу.
Меж тем Афрасиаб, прослышав о пленении Кавуса, снова вторгся в Иран и захватил большую часть страны. Рустам отправился на выручку Кавусу. Шах Хамаварана вызвал на помощь войска из Египта и Бербера, но Рустам разбил их и освободил Кей-Кавуса из плена. Возвратившись в Иран, Рустам изгнал Афрасиаба, Кей-Кавус, вернувшись в столицу, построил роскошный дворец на горе Албурз.
Но вскоре дивы вновь совратили Кавуса с истинного пути и надоумили его подняться на небо, дабы познать тайны мироздания. Кавус велел привязать к паланкину четырех голодных орлов, но, взлетев, они вскоре выбились из сил и опустились в отдаленном краю. И вновь Рустам отправился на его поиски, нашел в глухом лесу и вернул в столицу.
Далее описываются охота и пирушка Рустама и семи его витязей в угодьях Афрасиаба. На них напало все туранское воинство, но Рустам разогнал туранцев и с победой вернулся в столицу Ирана.
Теперь я о Сухрабе и Рустаме
Вам расскажу правдивыми устами.
Когда палящий вихрь пески взметет
И плод незрелый на землю собьет,—
Он прав или не прав в своем деянье?
Зло иль добро — его именованье?
Ты правый суд зовешь, но где же он?
Что — беззаконье, если смерть — закон?
Что разум твой о тайне смерти знает?..
Познанья путь завеса преграждает.
Стремится мысль к вратам заветным тем…
Но дверь не открывалась ни пред кем.
Не ведает живущий, что найдет он
Там, где покой навеки обретет он.
Но здесь — дыханье смертного конца
Не отличает старца от юнца.
Здесь место отправленья в путь далекий
Влачимых смертью на аркане рока.
И это есть закон. Твой вопль и крик
К чему, когда закон тебя настиг?
Будь юношей, будь старцем седовласым —
Со всеми равен ты пред смертным часом.
Но если в сердце правды свет горит,
Тебя в молчанье мудрость озарит.
И если здесь верна твоя дорога,
Нет тайны для тебя в деяньях бога.
Счастлив, кто людям доброе несет,
Чье имя славой доброй процветет!
Здесь расскажу я про отца и сына,
Как в битву два вступили исполина.
Рассказ о них, омытый влагой глаз,
Печалью сердце наполняет в нас.
Я, от дихкан слыхав про старину,
Из древних сказов быль соткал одну:
Открыл Рустаму как-то муж молитвы
Дол заповедный, место для ловитвы.
С рассветом лук и стрелы взял Рустам,
Порыскать он решил по тем местам.
На Рахша сел. И конь, как слон могучий,
Помчал его, взметая прах сыпучий.
Рустам, увалы гор преодолев,
В Туран вступил, как горделивый лев.
Увидел рощу, травяное поле
И там — онагров, пасшихся на воле.
Зарделся лик дарителя корон
От радости. И рассмеялся он.
Погнал коня за дичью дорогою,
Ловил арканом, настигал стрелою.
И спешился, и пот с лица отер,
В тени деревьев разложил костер.
Ствол дерева сломил слоновотелый,
Огромный вертел вытесал умело.
И, насадив онагра целиком
На вертел тот, изжарил над костром.
И разорвал, и съел всего онагра,
Мозг выбил из костей того онагра.
Сошел к ручью, и жажду утолил,
И лег, и обо всем земном забыл.
Пока он спал в тени, под шум потока,
Рахш на лужайке пасся одиноко.
Пятнадцать конных тюрков той порой
Откуда-то скакали стороной.
Следы коня на травах различили
И долго вдоль ручья они бродили.
Потом, увидев Рахша одного,
Со всех сторон помчались на него.
Они свои арканы развернули
И Рахшу их на голову метнули.
Когда арканы тюрков увидал,
Рахш, словно лютый зверь, на них напал.
И голову он оторвал зубами
У одного, а двух убил ногами.
Лягнул, простер их насмерть на земле,
Но шея Рахша все ж была в петле.
И тюрки в город с пленником примчались.
Все горожане Рахшем любовались.
В табун коня-красавца отвели,
Чтоб жеребята от него пошли.
Я слышал: сорок кобылиц покрыл он,
Но что одну лишь оплодотворил он.
Проснулся наконец Рустам и встал.
И Рахш ему ретивый нужен стал.
Он берег обошел и дол окрестный;
Но нет коня, и где он — неизвестно.
Потерей огорченный Тахамтан
Пошел в растерянности в Саманган.
И думал горестно: «Теперь куда я
Отправлюсь пеший, от стыда сгорая,
Кольчугой этой грузной облачен,
Мечом, щитом и шлемом отягчен?
Как выдержу я тяжкий путь в пустыне?
Ведь радоваться будут на чужбине,
Враги смеяться будут, что Рустам
Проспал коня в степи и сгинул сам.
Вот мне пришлось в бессилии признаться!
Мне из печали этой не подняться.
Но все же препояшусь и пойду;
Быть может, хоть следы его найду…»
Седло и сбрую он взвалил на плечи,
Вздохнул: «О муж, непобедимый в сече!
Таков закон дворца, где правит зло:
То — ты в седле, то — на тебе седло».
Кипели мысли в нем, как волны моря.
Пошел и на следы напал он вскоре.
Он в Саманган пришел. Там — у ворот,
Узнав, его приветствовал народ.
Весть небывалая достигла шаха
И всех вельмож — носителей кулаха,
Что исполин Рустам пришел пешком,
Что по следам идет он за конем.
Столпились все, ему навстречу выйдя,
И изумились все, его увидя.
И восклицали; «Это кто? Рустам?
Иль это солнце утреннее там?»
Почетным строем воинство построя,
Рустама шах с поклоном встретил стоя.
Спросил: «Ответь нам, о вселенной цвет!
Кто нанести тебе решился вред?
Но здесь мы все добра тебе желаем,
Но все твоей лишь воли ожидаем.
Весь Саманган перед тобой открыт,
И все у нас тебе принадлежит!»
Рустам поверил, слыша это слово,
Что нет у шаха умышленья злого.
Ответил он: «В степи, пока я спал,
Неведомо куда мой Рахш пропал.
От той злосчастной речки безымянной
Следы ведут к воротам Самангана.
Дай повеленье разыскать коня.
Воздам я щедро, знаешь ты меня.
Но горе, если Рахш мой не найдется!
И слез и крови много здесь прольется».
Ответил шах: «О избранный судьбой!
Кто враждовать осмелится с тобой?
Будь нашим добрым гостем! Ты ведь знаешь—
Все будет свершено, как ты желаешь!
Сегодня пир тебя веселый ждет,
Сегодня отрешимся от забот.
Беду такую в гневе не исправить,
А лаской можно и змею заставить
Наружу выйти из норы своей.
Таких, как Рахш, в подлунной нет коней,
Его не спрячешь. Завтра, несомненно,
Найдем мы Рахша, пахлаван вселенной!»[21]
И радовался Тахамтан-Рустам,
Внемля точившим мед царя устам;
Счел, что на пир к царю пойти достойно,
И во дворец вошел с душой спокойной.
Надеялся, что Рахша царь найдет,
Поверил, что коня он обретет.
Был гость на возвышение златое
Посажен с честью в царственном покое.
Вельмож и полководцев шах позвал,
Чтоб гость в кругу достойных восседал.
И приготовили столы для пира,
Украсили для пахлавана мира.
Чредою виночерпии пришли,
Кувшины вин и чаши принесли.
Плясуньи черноглазые влетели,
И зазвучали чанги и свирели.
И звуки сладких струн, и пляски дев
В груди Рустама погасили гнев.
Вот упился вином Рустам усталый,
И встал он — ибо время сна настало.
Тут отвели его на ложе сна,
Благоухающее, как весна.
И благодатным сном без сновидений
Почил он от трудов и треволнений.
Лишь стража ночи первая сменилась[22]
И звездной песней в полночь огласилась,
Пред неким тайным словом отперлась
Дверь спальни и бесшумно подалась.
Рабыня со свечой благоуханной
Явилась там пред ложем Тахамтана.
За ней вошла прекрасная луна;
Как солнце дня, светла была она.
Два лука — брови, косы — два аркана,
В подлунной не было стройнее стана.
Пылали розы юного лица,
Как два прекрасных амбры продавца,
Ушные мочки, словно день, блистали,
В них серьги драгоценные играли.
Как роза с сахаром — ее уста:
Жемчужин полон ларчик нежный рта.
Она рубином перлы прикрывала,
Вся, как звезда любви, она сияла.
Безгрешна телом, мудрая душой —
Она казалась пери неземной.
Рустам, ее увидя, в удивленье
Вознес творцу молитву восхваленья.
Потом спросил он: «Как тебя зовут?
Чего ты темной ночью ищешь тут?»
«Я Тахмина, — красавица сказала.-
Мечом печаль мне сердце растерзала.
Я дочь царя. Мой благородный род
От львов и тигров древности идет.
Нет средь царей мне пары во вселенной,—
Средь жен и дев слыву я несравненной,
Хоть, кроме слуг ближайших и отца,
Никто не видел моего лица.
С младенчества я о тебе узнала,
С волнением рассказам я внимала,
Как пред могучею твоей рукой
Трепещут лев, и тигр, и кит морской;
Как темной ночью ты — и утром рано —
Охотишься один в степях Турана,
Онагров жаришь над своим костром,
Среди врагов проходишь белым днем,
В пустыне спишь, где хочешь, — крепким сном,
И небо стонет пред твоим мечом.
Когда ты палицей своей играешь,
Ты сердце льва в смятенье повергаешь.
Орел, увидев лук в руке твоей,
Добычу выпускает из когтей.
Твоей стрелою кит смертельно ранен,
И тигр твоей петлею заарканен.
Когда разит в бою твоя рука,
Рыдая, плачут кровью облака.
Такие речи с детства — то и дело —
Я слышала. И втайне я хотела
Увидеть эти плечи, этот стан,
И сам явился к нам ты в Саманган!
Коль пожелаешь ты — твоей я стану.
Всем существом стремлюсь я к Тахамтану.
Во-первых: вся я так полна тобой,
Что страсть моя затмила разум мой.
И во-вторых: прошу я — дай мне сына,
Такого же, как сам ты, исполина.
Пусть будет храбр он и силен, как ты,
И счастьем так же вознесен, как ты.
А в-третьих: Рахша твоего найду я;
Весь Саманган под жезл твой приведу я».
И тут к концу пришли ее слова,
Рустама потрясли ее слова.
Он, красотою пери пораженный,
Прозрел в ней дух и разум просветленный,
А обещаньем Рахша возвратить
Ей удалось совсем его пленить.
«Приди ко мне!» — сказал Рустам счастливый,
Приблизилась царевна горделиво.
И он послал мобеда-мудреца,
Чтоб испросил согласье у отца.
Мобед пришел к царю, сказал: «Для счастья
И славы нашей дай на брак согласье!»
Когда узнал об этом старый шах,
Как тень, исчез его томивший страх.
И, радуясь, веселый с ложа встал он,
С Рустамом быть в родстве и не мечтал он.
И тут же повелев созвать гостей,
Устроил свадьбу дочери своей.
По вере, по обычаям старинным,
Соединил он дочку с исполином.
Когда он дочь богатырю вручал,
Весь круг гостей вельможных ликовал.
И гости снова в честь Рустама пили,
И здравицу Рустаму возгласили:
«Будь счастлив с этой новою луной,
Взошедшей над стезей твоей земной!»
Когда царевна с ним уединилась,
Сказал бы ты, что ночь недолго длилась.
Обильною росою напоен —
В ночи раскрылся розовый бутон,
В жемчужницу по капле дождь струился,
И в раковине жемчуг появился.
Еще ночная не редела мгла,
Во чреве эта пери понесла.
Заветный, с камнем счастья талисман
Носил всегда с собою Тахамтан.
Жене он камень отдал: «Да хранится
Он у тебя. И если дочь родится —
Мой талисман надень на косы ей,
А если счастье над судьбой твоей
Блеснет звездою на высоком небе
И сына даст тебе чудесный жребий,
К его руке ты камень привяжи
И сыну об отце его скажи.
Пусть будет в Сама ростом и дородством,
В Нейрама мужеством и благородством,
Пусть будет мил он солнцу, пусть орла
Средь облаков пронзит его стрела.
Пусть он игрою битву львов считает,
Лица от битв слонов не отвращает».
Так с луноликой он провел всю ночь,
С ней сладкую беседу вел всю ночь.
Когда взошло, блистая, дня светило
И мир лучистой лаской одарило,
Прощаясь, он к груди жену прижал
И много раз ее поцеловал.
В слезах с Рустамом Тахмина простилась
И в скорбь с тех пор душою погрузилась.
Шах благородный к зятю подошел
И с ним беседу по сердцу повел,
Сказал, что ждет Рустама Рахш найденный.
Возликовал дарующий короны,
Он обнял саманганского царя,
За своего коня благодаря.
И Рахша оседлал и ускакал он,
О происшедшем часто вспоминал он.
Но никому об этом Тахамтан
Не рассказал, ушел в Забулистан.
Вот сорок семидневий миновало,
И время счастья матери настало.
Бог сына дал царевне Тахмине,
Прекрасного, подобного луне.
Так схож был сын с богатырем Рустамом,
Со львом Дастаном и могучим Самом,
Что радостью царевна расцвела
И первенца Сухрабом нарекла.
Был через месяц сын как годовалый,
Грудь широка, как у Рустама, стала.
Он в десять лет таким могучим был,
Что с ним на бой никто не выходил.
На всем скаку степных коней хватал он,
За гриву их рукой своей хватал он.
Пришел Сухраб однажды к Тахмине
И так спросил: «О мать, откройся мне!
Я из какого дома? Кто я родом?
Что об отце скажу перед народом?»
И вспомнила наказ богатыря,
Сказала мать, волнением горя:
«Дитя! Ты сын великого Рустама,
Ты отпрыск дома Сама и Нейрама,
Пусть радуют тебя мои слова,
Достичь небес должна твоя глава.
Ты цвет весенний ветви величавой.
Твой знаменитый род овеян славой.
От первых дней не создавал творец
Такого витязя, как твой отец.
Он сердцем — лев, слону подобен силой,
Он чудищ водяных изгнал из Нила.
И не бывало во вселенной всей
Таких, как древний Сам, богатырей».
Письмо Рустама Тахмина достала,
Тайник открыла, сыну показала
Клад золотой и три бесценных лала,
Чье пламя ярко в темноте сияло,—
Сокровища, хранившиеся там,
Что из Ирана ей прислал Рустам,—
Свой дар ей в честь Сухрабова рожденья,
С письмом любви, с письмом благоволенья.
«О сын мой, это твой отец прислал! —
Сказала мать, — взгляни на этот лал.
Я знаю, будешь ты великий воин,
Ты талисман отца носить достоин.
Признает по нему тебя отец,
Наденет на главу твою венец.
Когда тебе раскроет он объятья —
Утешусь, перестану тосковать я.
Но надо, чтоб никто о том не знал —
Чтоб царь Афрасиаб не разгадал,
Коварный враг Рустама Тахамтана,
Виновник горьких слез всего Турана.
О, как боюсь я, — вдруг узнает он,
Что от Рустама ты, мой сын, рожден!»
«Луч этой истины, как солнце, светел,
И скрыть его нельзя! — Сухраб ответил.
Гордиться мы должны с тобой, о мать,
Что я — Рустама сын, а не скрывать!
Ведь сложены не лживыми устами
Все песни и дастаны о Рустаме.
Теперь я, чтобы путь открыть добру,
Бесчисленное войско соберу
И на Иран пойду, во имя чести
Взметну до неба пыль суровой мести,
Я трон и власть Кавуса истреблю,
Я след и семя Туса истреблю.
И не оставлю я в живых Гударза,
Не пощажу у них ни льва, ни барса.
Побью вельмож, носителей корон,
Рустама возведу на Кеев трон.
Как море, на Туран потом я хлыну,
Оплот Афрасиаба опрокину,
Неверного низвергну я во тьму,
Венец его и трон себе возьму.
Дары я щедрою раздам десницей,
Тебя — иранской сделаю царицей.
Лишь я и мой прославленный отец
Достойны на земле носить венец.
Когда два солнца в мире заблистало,
Носить короны звездам не пристало!»
«О мать! — сказал Сухраб. — Развеселись!
Во всем теперь на сына положись!
Крыло орла окрепло для полета,—
Хочу в Иран я распахнуть ворота.
Теперь мне нужен богатырский конь,
Стальнокопытный, ярый, как огонь.
Чтобы за ним и сокол не угнался,
Чтоб силой он своей слону равнялся,
Чтобы легко он мог носить в бою
Мой стан и шею мощную мою.
В Иране я врагов надменных встречу,
Мне не к лицу пешком идти на сечу».
Обрадовали мать его слова,
Высоко поднялась ее глава.
Велела пастухам, чтобы скакали
И табуны с далеких пастбищ гнали,
Чтоб сын избрал достойного коня,
Могучего и стройного коня.
И сколько ни было коней отборных
В долинах и на пастбищах нагорных —
Всех пастухи согнали на майдан.
Сухраб, войдя в табун, бросал аркан,
И самых сильных с виду — крутошеих —
Ловил он и притягивал к себе их,
Клал руку на хребет и нажимал,
И каждый конь на брюхо припадал.
Коней могучих много испытал он,
И многим в этот день хребты сломал он,
Был конь любой для исполина слаб.
И впал в печаль душою лев-Сухраб.
Тут из толпы какой-то муж почтенный
Сказал Сухрабу: «Слушай, цвет вселенной!
Есть у меня в отгоне чудо-конь,
Потомок Рахша, быстрый как огонь.
Летает он, как вихрь в степи стремимый,
Не знающий преград, неутомимый.
И под ударами его копыт
Трепещет сам несущий землю кит.
Хоть может телом он с горой сравниться,
Он — молния в прыжке, в полете — птица.
Как черный ворон, он летит в горах,
Как рыба — плавает в морских волнах.
И как ни быстроноги вражьи кони,
Но не уйти им от его погони».
И просиял Сухраб, как утро дня,
Услыша весть про дивного коня.
И засмеялся он, как полдень ясный.
Тут приведен к нему был конь прекрасный.
Сухраб его всей силой испытал,
И конь пред ним могучий устоял.
И потрепал коня, и оседлал он,
И сел, и по майдану проскакал он.
Он был в седле, как Бисутун-гора,
Копье в его руке — как столб шатра.
Сказал Сухраб: «Вот я конем владею,
Теперь я медлить права не имею!
Пора пойти, как грозовая тень,
И омрачить Кавусу божий день».
Сухраб, не медля, воротясь с майдана,
Готовить стал поход против Ирана.
И лучшие воители земли —
Богатыри — на зов его пришли.
А деда — шаха — в трудном деле этом
Просил Сухраб помочь ему советом.
Шах перед ним хранилища открыл,
Всем снаряженьем бранным снарядил,
И золотой казною и жемчужной,
Верблюдов и коней дал, сколько нужно,
Для войск несметных — боевой доспех,
Чтоб всадникам сопутствовал успех.
Он расточил для внука складов недра,
Любимца одарил по-царски щедро.
Узнал Афрасиаб, что — полный сил —
Сухраб корабль свой на воду спустил.
Хоть молоко обсохнуть не успело
На подбородке — в бой он рвется смело.
Что меч его грозящий обнажен,
Что с Кей-Кавусом битвы ищет он.
Что войско он большое собирает,
Что старших над собою он не знает.
И больше: встала доблести звезда,
Не виданная в прежние года.
И, наконец, — везде толкуют прямо,
Что это сын великого Рустама.
Афрасиаб известьям этим внял
И смехом и весельем засиял.
Он из своих старейших приближенных
Двух выбрал, в ратном деле умудренных,
Бармана и Хумана — двух гонцов;
Три сотни тысяч дал он им бойцов
И наказал, к Сухрабу посылая:
«Пусть будет скрытой тайна роковая!..
Когда они сойдутся наконец —
Нельзя, чтоб сына вдруг узнал отец,
Чтоб даже чувства им не подсказали,
Чтоб по приметам правды не узнали…
Быть может, престарелый лев-Рустам
Убит рукой Сухраба будет там.
И мы тогда Иран возьмем без страха,
И тесен будет мир для Кавус-шаха.
Ну, а тогда уж средство мы найдем,
Как усыпить Сухраба вечным сном.
А если старый сына в ратном споре
Убьет — его душа сгорит от горя».
И подняли послы свой шумный стан,
И бодрые покинули Туран.
Вели они к Сухрабу в Саманган
С богатыми дарами караван.
Трон бирюзовый с золотой короной
И драгоценное подножье трона
Могучие верблюды понесли.
Гонцы посланье шахское везли:
«О лев! Бери Иран — источник споров!
Мир защити от смут и от раздоров!
Ведь Саманган, Иран, Туран давно
Должны бы слиться в целое одно.
Я дам войска — веди, распоряжайся,
Сядь на престол, короною венчайся!
Таких же, как Хуман и мой Барман,
Воинственных вождей не знал Туран.
И вот я шлю тебе их под начало.
Пусть погостят у вас они сначала.
А хочешь воевать — на бой пойдут,
Врагам твоим покоя не дадут!»
И в путь поднялся караван богатый,
Повез письмо, венец, и трон, и злато.
Когда Сухраб узнал о том, он сам
Навстречу славным поднялся послам.
Встречать Хумана в поле с дедом выйдя.
Возликовал он, море войск увидя.
Когда ж Сухраба увидал Хуман —
Плеча, и шею, и могучий стан,—
Он им залюбовался, пораженный,
И с головой почтительно склоненной,
Вручил ему, молитву сотворя,
Подарки и послание царя.
«Прочти, о лев, — сказал он, — строки эти
И не спеша подумай об ответе».
Прочел Сухраб. Он медлить не хотел,
В поход войска готовить он велел.
И войск вожди, что жаждой битв горели,
На скакунов, как ветер быстрых, сели,
Тимпаны и литавры загремели,
Пошли войска, как волны зашумели.
И не сдержали б их ни исполин,
Ни львы пустынь, ни кит морских пучин.
Вошел в Иран Сухраб, все сокрушая,
Дотла сжигая и опустошая.
На рубеже Ирана возведен
Был замок. «Белым замком» звался он.
Хаджир — начальник стражи, славный воин—
Был храб, силен, водить войска достоин.
И от Ирана был поставлен там
Правителем премудрый Гуждахам.
Имел он дочь. И не было ей равной,—
Всем хороша, но зла и своенравна.
Когда Сухраб пришел, нарушив мир,
Его увидел со стены Хаджир.
На быстром скакуне — любимце брани —
С копьем Хаджир явился на майдане.
Блистая в снаряженье боевом,
К войскам Турана он воззвал, как гром:
«У вас найдется ль воин искушенный,
В единоборстве конном закаленный?
Эй, кто у вас могуч, неустрашим?
Пусть выйдет, я хочу сразиться с ним!»
Один, другой и третий сбиты были,
Перед Хаджиром устоять не в силе.
Когда Хаджира увидал в бою,
Сухраб решил изведать мощь свою.
Он как стрела помчался грозовая,
Над полем вихри пыли подымая.
И весело Хаджиру крикнул он:
«Один ты вышел, гневом распален?
На что надеешься? Куда стремишься?
Или драконьей пасти не боишься?
И кто ты, предстоящий мне в бою,
Скажи, чтоб смерть оплакивать твою?»
И отвечал ему Хаджир: «Довольно!
Сам здесь падешь ты жертвою невольной
Себе я равных в битве не встречал,
Лев от меня уходит, как шакал…
Знай — я Хаджир. О юноша незрелый,
Я отсеку главу твою от тела
И Кей-Кавусу в дар ее пошлю.
Я труп твой под копыта повалю».
Сухраб в ответ Хаджиру рассмеялся,
И за копье свое стальное взялся.
И сшиблись, и в поднявшейся пыли
Едва друг друга различить могли.
Как молния, летящая по тучам,
Летел Сухраб на скакуне могучем.
Хаджир ударил, но огромный щит
Сухраба все же не был им пробит.
Тут на врага Сухраб занес десницу,
Копьем его ударил в поясницу.
Упал Хаджир, как будто бы с седла
Его внезапно буря сорвала;
Упал, как глыба горного обвала.
Так, что душа его затрепетала.
Сошел Сухраб, коленом придавил
Хаджиру грудь, кинжал свой обнажил.
Хаджир, увидя — льву попал он в когти,
Молил пощады, опершись на локти.
Могучий пощадил его Сухраб,
И в плен был взят Хаджир им, словно раб.
Связал он побежденного арканом,
Велел ему предстать перед Хуманом.
Хуман все видел. Был он потрясен
Тем, что Хаджир так быстро побежден.
Со стен за поединком наблюдали.
И в крепости вопили и рыдали,
Что пал с коня и в плен попал Хаджир —
Воитель, славой наполнявший мир.
Дочь Гуждахамова Гурдафарид,
Увидев, что Хаджир бесславно сбит,
От горя в исступленье застонала
И яростью и гневом запылала.
Хоть юной девушкой была она,
Как витязя, влекла ее война.
Грозна в бою, чужда душою мира,
Увидя поражение Хаджира,
Она такой вдруг ощутила стыд,
Что потемнели лепестки ланит.
Воительница медлить не хотела,
Кольчугу, налокотники надела
И, косы уложивши над челом,
Их под булатный спрятала шелом.
Как грозный всадник, дева красовалась
На скакуне: как вихрь, она помчалась,
И пыль над степью облаком взвила,
И так к войскам Турана воззвала:
«Кто в верховом бою у вас искусен?
Кто вождь у вас? Смелей выходит пусть он!
Пусть доведется испытать киту
Моих ударов мощь и быстроту!»
Смотри: никто из воинов Турана
Не вышел с ней на бой в простор майдана.
Ее Сухраб увидел издали,
Как в облаке, летящую в пыли.
Сказал он: «Вот еще онагр несется!..
В петлю мою сейчас он попадется!»
Кольчугу он и чинский шлем надел,
Навстречу ей, как ветер, полетел.
Гурдафарид свой лук тугой схватила
И молнией стрелу в него пустила.
Когда стрелу пускала в высоту,
Она орла сбивала на лету.
Хоть стрелы вихрем с тетивы летели,
Они задеть Сухраба не сумели,
Их отражал Сухраба щит стальной.
Позорным он почел подобный бой,
Сказал он: «Хватит! Кровь должна пролиться!»
И на врага помчался, словно птица,
Увидев — жаждой битвы он горит,—
Оставила свой лук Гурдафарид
И поскакала, по полю петляя,
Копьем своим Сухрабу угрожая.
Великим гневом возгорел Сухраб,
Бой сразу кончить захотел Сухраб.
Он мчался, издавая львиный рык,
И, как Азаргушасп, ее настиг,
Копьем ударил в стягивавший туго
Кушак, разорвалась ее кольчуга,—
И словно бы чоуганом — не копьем,
Как мяч, ее он вскинул над седлом.
Гурдафарид рукой в седло вцепилась,
Другой рукой за меч свой ухватилась,
И разрубила пополам копье,
И плотно села на седло свое,
И вихрем улетела в туче праха.
Ловка была она, не знала страха.
Сухраб за нею вслед погнал коня;
Он гневом омрачил сиянье дня.
Вот он настиг. И за ее спиною
Привстал и шлем сорвал с нее рукою.
Взметнулись косы, по ветру виясь,
От шлема тяжкого освободясь.
И понял витязь, полон изумленья,
Что с женщиною вышел он в сраженье.
Сказал: «Подобных девушек Иран
Сегодня шлет на боевой майдан!..
Их витязи, когда коней пускают,
Над степью пыль до облак подымают.
Но коль в Иране девы таковы,
То каковы у них мужчины-львы?»
Тут он аркан свой черный вслед метнул ей
И стан петлею туго захлестнул ей.
Сказал ей: «Луноликая, смирись
И не пытайся от меня спастись!
Хоть много дичи мне ловить случалось,
Такая лань впервые мне попалась!»
Увидев, что беда ей предстоит,
Открыла вдруг лицо Гурдафарид.
И молвила: «Не надо многих слов,
Ты — лев могучий среди храбрецов!
Подумай: с той и с этой стороны
На бой наш взгляды войск обращены…
Теперь с лицом открытым я предстала,
И разнотолков, знай, пойдет немало,
Что, мол, Сухраб до неба напылил —
В единоборство с женщиной вступил,
Копьем тяжелым с девушкою бился
Перед мужами — и не устыдился!
Я не хочу, чтобы из-за меня
Шла о Сухрабе славном болтовня.
Мир заключим, чтоб завязать язык их…
Ведь мудрость, знаешь сам, удел великих.
Теперь мой замок и мои войска —
Твои! Как клятва, речь моя крепка.
И крепость и сокровища Хаджира —
Твои. Зачем нам битва после мира?»
Сухраб, на лик прекрасный брося взгляд,
В цвету весны увидел райский сад.
Ее красой душа его пленилась
И в сердце, как в ларце, печаль укрылась.
Ответил он: «Тебя я отпущу,
Но помни: я обмана не прощу.
Не уповай на стены крепостные,
Они не выше неба, не стальные.
С землей сровняю эти стены я,
И нет против меня у вас копья».
Гурдафарид вперед — крылатым лётом —
Коня послала к крепостным воротам.
Сухраб за нею рысью ехал вслед,
Он верил, что ему преграды нет.
Тут крепости ворота заскрипели
И пропустить Гурдафарид успели.
И вновь захлопнулись и заперлись.
У осажденных слез ручьи лились,
В подавленных сердцах кипело горе,
Тонуло все в постигшем их позоре.
К Гурдафарид, со всею свитой, сам
Седобородый вышел Гуждахам,
Сказал: «О с благородным сердцем львица!
О дочь моя! Тобой Иран гордится!
Страдали мы, неравный видя бой,
Но не бесславен был поступок твой.
Ты выхода искала в честной битве,
Но враг силен. Внял бог моей молитве,—
В обмане ты спасенье обрела
И невредима от врага ушла».
Гурдафарид в ответ лишь засмеялась
И на стене высокой показалась.
Увидела Сухраба за стеной
И молвила: «Что ждешь ты, витязь мой?
Иль ожидать напрасно — твой обычай?
Увы, навек расстался ты с добычей!»
Сказал Сухраб: «О пери, пред тобой
Клянусь луной, и солнцем, и судьбой,—
Разрушу крепость! Выхода иного
Не вижу я. Тебя возьму я снова.
Как ты раскаешься в своих словах,
Когда в моих окажешься руках!
Как сожалеть ты будешь, что сначала
Ты не исполнила, что обещала!»
Гурдафарид ответила, смеясь:
«Я сожалею, о мой юный князь!
Неужто, витязь мой, не знал ты ране,
Что тюрки брать не могут жен в Иране?
Что ж, значит я тебе не суждена!
Но не печалься, то судьбы вина…
Но сам ты не из тюркского народа,
В тебе видна иранская порода.
С такою мощью, с красотой твоей
Ты был бы выше всех богатырей.
Но если скажет слово шах Ирана,
Что юный лев повел войска Турана —
Подымется Рустам из Сеистана,
Не устоишь ты против Тахамтана!
Беда тебе! — из войска твоего
В живых он не оставит никого.
Мне жаль, что этот стан и эти плечи
Поникнут и падут во прахе сечи.
Повиновался б лучше ты судьбе,
Вернулся бы скорей в Туран к себе.
А ты на мощь свою лишь уповаешь,
Как глупый бык, бока свои терзаешь!»
Сухраб, внимая, от стыда сгорал.
Что замок трудно взять, он это знал.
Невдалеке от крепости стояло
Село и над собой беды не знало.
Сухраб пошел и разорил село,
По локоть руки окунул во зло.
Сказал потом: «Ночь наступает, поздно…
Пора нам отдохнуть от сечи грозной.
А завтра здесь неслыханная быль
Свершится. Мы развеем стены в пыль».
И, повернув коня, погнал безмолвно,
Вернулся в стан, печалью смутной полный.
Когда Сухраб уехал, Гуждахам
Позвал писца и сел с ним рядом сам.
Свои несчастья шаху описал он,
И с опытным гонцом письмо послал он.
В письме сказал он: «Мы, твои рабы,
Здесь терпим гнев неведомой судьбы.
Туранцы, что напасть на нас не смели,
Пришли под крепость, морем зашумели.
Вождь этих войск, затмивших полдня свет,
Юнец, едва ль четырнадцати лет.
Но ростом он невиданно огромен,
Он силой исполинской неутомен.
Его, как дуб индийский, крепок стан.
Льва породил могучего Туран.
Он богатырской палицей играет,
Разящий меч в руке его сверкает.
Что кручи гор ему, что глубь морей?
Подобных в мире нет богатырей.
Как лев средь ланей, в ратной он ловитве,
Сильнейшего сразить он может в битве,
Он может демонам противостать.
Богатыря того Сухрабом звать.
Подобье он Рустама Тахамтана,
Похож на ветвь из дома Наримана.
Не знаю, кто отец его и мать,—
Как у Рустама, мощь его и стать.
Когда пришел он, ради бранной чести,
Привел к нам войско, жаждущее мести,
Хаджир, непобедимый богатырь,
С ним выехал на бой в степную ширь.
Ему навстречу, на коне могучем,
Сухраб летел, как молния по тучам,
Быстрей, чем запах розы — от ноздрей
До мозга, — мысли пламенной быстрей.
Хаджира сбил с седла с такой он силой,
Что это всех смотревших изумило.
Теперь Хаджир в оковах и в плену…
Кто горечи измерит глубину?
Видал я витязей туранских в деле,
Но о подобном не слыхал доселе.
Рустаму он подобен одному,—
Быть может, равен лишь Рустам ему.
На всей земле найдешь ему едва ли
Противоборца, кроме сына Заля.
Здесь, кто против него ни выступал,
Отважнейших он в плен арканом брал.
Хоть он могуч, но духом он не злобен,
Огромный конь его горе подобен.
Когда он скачет, до неба пыля,
Горам прощает тяжесть их земля.
Подумай о стране, миродержавный,
Чтоб не постиг и вас удел бесславный!
Пускай сюда твои войска идут,
Не то — столпы величия падут.
Теперь не время мир вкушать беспечный,
Он может обложить нас данью вечной.
Коль вовремя его не удержать,
Нам радости и счастья не видать.
Когда бы ты его увидел сам,
Сказал бы ты — он юный всадник Сам.
И если ты теперь нам не поможешь,
Всех нас погибшими считать ты можешь.
Не отсидимся мы в своих стенах,—
Сегодня, завтра рухнут стены в прах.
Поэтому мы ночью замок бросим,
Приют в Иране оказать нам просим.
Меня давно ты знаешь, я не лгу,
Но жертвовать я войском не могу.
Нас не укроют стены крепостные,
Ворота перед ним падут стальные».
Письмо он кончил, приложил печать,
Велел гонца надежного призвать.
Сказал: «Скачи быстрей, чтоб утром рано
Ты был далеко в глубине Ирана».
Посланье спрятал тот гонец на грудь,
Сел на коня, помчался в дальний путь.
Под крепостью был тайный свод подземный,
Вел из него далеко ход подземный.
Тем ходом, по неведомым путям,
В ночи ушел с семьею Гуждахам;
И войско все, по потайному ходу,
Из крепости он вывел на свободу.
Когда заря блеснула из-за гор,
Сияньем озарив земной простор,
Сухраб верхом — из алого тумана
Повел на приступ воинство Турана.
Чтоб всех, кто были в замке, наконец
Взять в плен, как стадо сбившихся овец.
Уже он был от замка недалеко,
Глядит: нет стражей на стене высокой.
И в гневе он к воротам подступил
И с петель их тараном медным сбил.
Вошли в пролом; но ни души в твердыне,—
Все пусто и безмолвно, как в пустыне…
И понял он, что Гуждахам ушел
И всех с собой защитников увел.
Лишь несколько, от страха оробелых,
Там пряталось забытых, престарелых.
Он все покои замка обыскал,
Но не нашел того, чего искал.
Гурдафарид, как пери, улетела…
Любовью, страстью кровь его кипела.
«Увы! — сказал, — увы мне!.. Где она?
За черной тучей спряталась луна!
Судьбой, как видно, горе суждено мне.
Владеть любимой, видно, не дано мне.
Попала в сети лань ко мне. И вот —
Ушла… Я сам в сетях ее тенёт.
На миг она лицо мне показала
И сердце мне навеки растерзала.
Увы, недостижимо далека
Теперь она. А мой удел — тоска.
Но это чародейство, не иначе,—
Оно, как яд, в крови моей горячей…
Вчера я думал, — в плен ее возьму,
Но сам я пленник, — видно по всему.
Не знаю я: меня околдовали —
Лицо ль ее, глаза ль ее, слова ли.
Но если я ее не отыщу.
Потери я ничем не возмещу.
Нет! Не в бою я встретил испытанье!
Как рана, мне о ней воспоминанье,
Мне доля — тайно плакать и стенать!
И кто она, не суждено мне знать…»
Так говорил Сухраб, и весь горел он.
Хоть никому открыться не хотел он,
Но мук любви не скроешь от людей,—
Их слезы выдадут волне морей.
Кто б ни был любящий — душевной боли
Не утаит он, — выдаст поневоле.
Так и любовью раненный Сухраб
Вдруг похудел, поблек лицом, ослаб.
Хуман не знал о том, что с ним случилось,
Но видел, как душа его томилась,
И сердцем проницательным своим
Он понял, что неладно что-то с ним
И что Сухраб, по гневной воле мира,
Попал в силки безвестного кумира,
Что он, паря мечтой, стоит без сил,
Как будто ноги в глине завязил.
Сухрабу мудрый так сказал Хуман:
«О гордый, с львиным сердцем пахлаван!
В былое время витязь лучшим другом
Себя считал. Постыдным он недугом
Почел бы жар, пылающий в крови,
И опьяненье от вина любви.
Брал в плен он сотни мускусных газелей,
Но сердца не терял в любовном хмеле.
В плен не сдается истинный герой
Царицам с неземною красотой.
Лишь та достойна властвовать десница,
Что солнце заставляет поклониться!
Ты — лев могучий, ты от льва рожден,—
И ты — о стыд! — любовью поражен?
Нет! От любви не плакал бы великий
Завоеватель мира и владыка!
Тебя царем Афрасиаб нарек,
Назвал владыкой гор, морей и рек.
Мы вышли из Турана ради славы,
Вброд перешли мы океан кровавый,
Теперь Иран зажали мы в тиски,
Но в будущем пути не так легки.
Нам предстоит борьба с самим Кавусом,
С его войсками и коварным Тусом.
Нам предстоят убийца львов — Рустам,
Гив-богатырь, Гударз и лев-Руххам,
Бахрам, Гургин — отважный внук Милада,
Мы встретим там могучего Фархада.
Богатыри — могучие слоны,
Нас повстречают на стезе войны.
В бою никто из них не отступает,
Чем кончится война — никто не знает…
А ты — о лев! — на грозный бой идешь
И сердце первой встречной отдаешь!
Будь мужем, отгони любовь от сердца,
Чтобы не пасть пред войском миродержца.
Цель у тебя великая одна:
Лишь начата — не кончена война.
Ты храбр, силен, взялся за труд опасный,
И цель свою ты должен видеть ясно.
Еще великий труд не завершен,
А ты душой к другому устремлен.
Свали твердыню древнюю Ирана
Всей мощью богатырского тарана!
Когда ты Кеев трон себе возьмешь,
Ты сам красавиц лучших изберешь.
Тогда к подножью нового владыки
Придут с поклоном малый и великий.
Не подобает от любви страдать
Тому, кто миром должен обладать!»
Преподнеся словесный этот дар,
Хуман избавил юношу от чар.
Сказал Сухраб: «Ты послан мне судьбой!
Прекрасно все, что сказано тобой.
Великому теперь отдам я душу,
Я завоюю мир — моря и сушу.
И дружба наша, как скала, тверда,
Отныне укрепилась навсегда».
Взялся за труд Сухраб неутомимый
И сердцем отвратился от любимой.
И он Афрасиабу написал,
Как шел поход, как Белый замок пал.
Обрадовался шах тому известью,
Сказал: «Сухраб нас озаряет честью!»
…Письмо от Гуждахама получив,
Сидел Кавус — угрюм и молчалив.
Призвал вельмож, опору шахской власти,
Поведал о постигшем их несчастье.
Пришли к владыке Тус, Бахрам, Фархад,
Пришел Гударз, чьим был отцом Кишвад.
Воскликнул шах: «Как нам беду поправить?
Кого туранцам противопоставить?»
В чертоге царском тут поднялся гул,
Сказали хором все: «Послать в Забул!
Послать гонца в пределы сына Сама,
Чтоб старый Заль уговорил Рустама
Скорей на поле битвы поспешить
И вновь Иран щитом своим укрыть!»
Решили так. И в круг вельможи сели,
Послание писать писцу велели.
И дали подписать письмо царю.
Вначале шла хвала богатырю:
«Пусть вечно бодрым разум твой пребудет!
Пусть в мире все тебе на радость будет!
Ты с древних лет опорой нашей был,—
Ты — столп страны, источник вечных сил,
Ты — мощь, и сердце, и хребет Ирана!
Ты — в подвигах великих неустанный,
Чудовищ истребил Мазандерана,
Оковы разрубил Хамаварана.
Ты, словно лань, берешь арканом льва,
Превыше снежных гор твоя глава.
Ты — щит Ирана, светоч божества.
Как море, о тебе шумит молва.
Хвала творцу! Хвала отцу Нейраму!
Хвала премудрому Дастани-Саму!
Пусть вечно над вселенною цветет
От миродержца твой идущий род!
И счастье шахское не потускнеет,
Пока Рустам своим мечом владеет.
Опять тебе прибыть к нам пробил час;
Нежданная беда постигла нас,—
Враг из Турана вышел небывалый,
Он катится на нас, грозней обвала.
Опасность велика, — ты сам поймешь,
Когда посланье до конца прочтешь.
И мы решили, о Рустам счастливый,
К тебе с письмом своим отправить Гива.
Коль он приедет ночью, ты вставай,
Для многословья уст не раскрывай.
А если днем, — охота ли, обед ли,—
Все брось и к нам скорей скачи, не медли.
А если спать собрался, не ложись,
Вооружись и к нам поторопись.
Возьми богатырей Забулистана,
Скачи, в пути не разбивая стана.
В своем письме нам пишет Гуждахам:
«Враг небывалый угрожает нам.
Прочтя мое письмо, без промедленья
Бери войска и выходи в сраженье!»
И черная, как мускус и смола,[23]
Печать Кавуса на письмо легла.
Шах молвил Гиву: «Дорого нам время,
Поторопись, вступи ногою в стремя!
Когда к Рустаму ты прискачешь, Гив,
Не вздумай пировать, про все забыв,
В Забуле отдыхать не оставайся,
А в тот же день с Рустамом возвращайся!»
Взял Гив письмо, и в путь пустился он,
Скакал в Забул, забыв покой и сон.
И прибыл он в предел Забулистана,
И стражей крик донесся до Дастана,
Что из Ирана конный к ним спешит,
Взметая вихрем пыль из-под копыт.
Весть эта до Рустама долетела,
И выехал встречать слоновотелый.
Он выехал с дружиною своей,
Со свитой братьев и богатырей.
И спешились, как честь велит, при встрече,—
Все — и гонец, прибывший издалече.
Сошел с коня и славный Тахамтан,
Спросил: «Здоров ли шах? Как жив Иран?»
Повел Рустам гонца в свои чертоги,
Гость за беседой отдыхал с дороги,
Потом письмо хозяину вручил
И о Сухрабе вести сообщил.
Рустам, прочтя посланье, изумился,
Все расспросил и в думу погрузился.
Потом, смеясь, сказал: «Неужто там —
В Туране, появился новый Сам?
Рождал богатырей Иран счастливый,
А там не вспомню я такого дива.
Есть, правда, у меня там сын… Хотя —
Он очень молод, он еще дитя!..
Есть сын мой у царевны Самангана! —
Но выступать ему в походы рано.
Еще не знает он, — мой дорогой,—
Как водят войско, как вступают в бой!
Сокровищ я послал ему немало,
И мать его ответ мне написала.
Еще не год, не два, не три пройдет,
Покамест милый сын мой подрастет.
Я терпеливо жду: пора настанет,
И миру новый богатырь предстанет.
Сейчас же лет тринадцати всего
Мой сын, богатство сердца моего!
Пока ему бросаться в битву рано.
Другой к нам воин вышел из Турана…
Теперь, мой гость, пойдем на наш айван
Рад будет престарелый муж — Дастан.
Подумаем, как быть нам в этом деле
И отчего так тюрки осмелели.
Пойдем, мой гость любезный, отдохнем,
Уста сухие освежим вином!
Потом последуем к престолу шаха,
Посмотрим — кто нагнал такого страха.
И коль не спит могучая судьба,
Врага возьмем арканом, как раба.
Коль на горящий берег хлынет море,
Не устоять огню с волнами в споре.
Как подыму я боевой свой стяг,
Падет от страха на колени враг.
Шах перепуган. Нам же было б низко
Весть эту к сердцу принимать так близко!»
Тут с гостем сел к вину за стол Рустам
И здравицу провозгласил войскам.
А после пира, утром, — еще в хмеле,—
Рустам могучий позабыл о деле.
Проугощал он гостя день второй,
Не вспомнил о походе на другой.
На третий день подать вина велел он,
О Кей-Кавусе вспомнить не хотел он.
Так с Гивом он пропировал три дня,
Не думая в поход седлать коня.
А утром — на четвертый — Гив поднялся.
Один обратно ехать он собрался.
Сказал он: «Гневен, неразумен шах,
Великий у него на сердце страх.
Явил он нетерпение большое,
Забыл о сне, о пище и покое.
Коль мы промедлим день еще с тобой,
Из-за вина оттянем ратный бой,
Разгневается шах. Увы, гневлив он,
И черен сердцем, и несправедлив он».
Сказал Рустам: «Забудь об этом зле,
Никто на нас не встанет на земле!»
Но все ж велел он Рахша выводить,
Седлать его и в медный ней трубить.
Услышали мужи призыв карная
И съехались, доспехами сверкая.
В поход Рустам пустился поутру,
Главою войск поставил Завару.
А уж князья встречать его скакали,—
За день пути в дороге повстречали.
Гударз и Тус — главы богатырей —
Почтительно сошли пред ним с коней.
Увидя их, сойдя с коня и сам,
С вождями поздоровался Рустам.
И вместе с ними воин знаменитый
Предстал царю царей с душой открытой.
Склонились пред царем Рустам и Гив,
Но шах сидел угрюм и молчалив.
Вспылил потом. И, в бешенстве постыдном,
Он Гива словом уязвил обидным:
«Кто он такой, Рустам, чтоб мой приказ
Откладывать не на день, а на час?
Да если бы со мною был мой меч,
Я голову Рустаму снес бы с плеч!
Схвати его, на виселицу вздерни!
Ни слова больше! Опостылел спор мне!»
И дрогнул Гив и шаху отвечал:
«Как? На Рустама руку ты подъял?»
Рассвирепел Кавус, насупил брови,
Привстал, как лютый лев, что жаждет крови.
От ярости, казалось, был он пьян,
В растерянность поверг он весь диван.
Вскричал: «Измена! Знаю я давно их!
Схвати их, Тус! Веди, повесь обоих».
Ужасен в гневе был Кавус и дик.
Он весь пылал, как вспыхнувший тростник.
Тус встал, Рустама за руку схватил,
Всех дерзостью потряс и удивил.
Хотел он — полн смущения и страха —
Рустама увести от гнева шаха.
Пред ним Рустам был как могучий слон —
Так по руке ударил Туса он,
Что рухнул Тус у трона помертвелый.
Рустам через поверженное тело
Шагнул и шаху в ярости сказал:
«Зря на меня ты гневом воспылал!
Безумен ты, твои поступки дики,
Ты недостоин звания владыки!
Ведь я — Рустам, а кто такой — твой Тус?
Когда я в гневе — что мне шах Кавус?
Владыка, не к лицу тебе корона!
Ей лучше быть бы на хвосте дракона,
Чем на такой ничтожной голове!
Не веришь сам себе, так верь молве:
Ведь я тебя возвел на трон, когда ты
Стонал в оковах, гибелью объятый.
Не раз тебя от смерти я спасал,—
И трон, и власть, и жизнь тебе я дал!
Все страны, от Египта до Ирана,
От степи Чина до Мазандерана,
Склоняются в пыли передо мной,
Перед моим мечом и булавой.
Благодари меня, что шахом стал ты!
Что ж на Рустама гневом воспылал ты?
Я — раб творца, тебе же я не раб!
Могучий на тебя идет Сухраб;
Коль ты такою силою владеешь,
Сам с ним сражайся, если ты сумеешь!
Вы больше не увидите меня,
В Иране не пробуду я ни дня.
Когда меня избрать хотели шахом
Богатыри, охваченные страхом,
Я даже не взглянул на шахский трон.
Был мной обычай древний соблюден.[24]
А ведь — когда бы взял венец и власть я,
Ты б не имел величия и счастья.
Достоин я всего, что ты сказал!
Ты за добро сторицей мне воздал!
На этот трон возвел я Кей-Кубада,—
И такова от сына мне награда!
Но если бы для твоего отца
Мечом своим не добыл я венца,
С горы Албурз Кубада не привез бы,
Его из небреженья не вознес бы —
И ты величьем бы не обладал.
Ты б оскорблять Рустама не дерзал!
Когда ты сам вовлек в беду Иран,
Спасать я вас пришел в Мазандеран.
И там я дива Белого убил,
И жизнь тебе и трон я возвратил.
Мой трон — седло, моя на поле слава,
Венец мой — шлем, весь мир моя держава.
Когда на вас туранец налетит,
Он никого из вас не пощадит…
Я ухожу, меня вы не ищите,
Пути спасенья сами находите!
Уйду. И впредь меня вам не видать,
Лежать вам в прахе здесь, а мне летать!»
На Рахша сел Рустам и прочь умчался,
На нем доспех от гнева разрывался.
У всех от скорби омрачился дух;
Они — лишь стадо, а Рустам — пастух.
Пришли к Гударзу, молвили: «Разбиты
Устои наши. Встань, Иран спаси ты!
Ступай ты к бесноватому царю,—
Пусть он поклонится богатырю.
Напомни кею плен Мазандерана,
Когда в цепях стенал он — шах Ирана.
И как Рустам царя от смерти спас,
И сколько мук он вынес из-за нас.
Потом, когда властитель бестолковый
В Хамаваране вновь попал в оковы —
Рустам ни перед кем не отступил,—
Владык в Хамаваране перебил,
Из плена вновь освободил Кавуса,
На трон Ирана возвратил Кавуса.
Коль смерть за это заслужил Рустам,
Куда ж деваться остается нам?
Иди! Беседуй с шахом терпеливо!
Восстановить должны мы мир счастливый.
Нам без Рустама счастья не видать,
Все бросить нам придется и бежать».
И вот Гударз — Кишвада сын суровый —
Пришел в чертоги гневного хосрова.
Спросил он шаха: «О владыка мой,
В чем виноват Рустам перед тобой?
Ты растоптал сегодня щит Ирана,
Забыл ты ужасы Хамаварана.
Мазандеран ты, видно, позабыл!
Рустама ты смертельно оскорбил.
Впадать во гнев владыке недостойно,
Добро и зло решает шах спокойно.
Ушел Рустам. На нас идут войска,
Ведет их богатырская рука.
И нет у нас надежды никакой,
И некого послать с туранцем в бой.
А Гуждахам богатырей своих
Всех знает, все он ведает о них.
Он пишет нам: «Безумье — бой с Сухрабом!
Пред ним и слон могучий будет слабым!»
Один Рустам его сразить бы мог,
Но он теперь, увы, от нас далек.
Лишь неразумный и, как вол, упрямый
Решиться мог бы оскорбить Рустама.
Ум просветленный должен шах иметь,
А не безумьем ярости гореть».
Кавус Гударза выслушал спокойно.
Он понял — мудр и верен муж достойный.
«Все правильно сказал ты, — молвил шах,—
Раскаиваюсь я в своих словах.
Скорее вслед Рустаму поспешите,
В его душе обиду потушите!
Вернется пусть! Скажите: «Как и встарь,
К тебе, Рустам, любовь питает царь!»
Гударз и с ним вожди от шаха прямо
Коней погнали по следам Рустама.
И там, где гасла темная заря,
Увидели в степи богатыря.
Они его настигли, окружили,
Сошли с коней и так его молили:
«Будь светел духом, разумом высок,
И мир весь у твоих да будет ног!
Пусть будет вся земля твоим престолом,
И да не будет твой венец тяжелым!
Ты знаешь, — у царя рассудка нет,
Он в гневе натворил немало бед.
Вспылит, потом к раскаянью склонится…
С тобой, Рустам, он жаждет помириться.
Твоя обида на царя сильна,
Но, Тахамтан, не наша в том вина!
За что Иран бросаешь ты на муки?
И шах сейчас сидит, кусает руки…»
И дал им Тахамтан такой ответ:
«Теперь мне дела до Кавуса нет!
Седло мне — трон, одежда мне — кольчуга,
Венец мой — шлем, и нет средь вас мне друга.
Мне все равно — что прах, что Кавус-шах!
Как может он меня повергнуть в страх?
Я не прощу обиды: царь, видать,
По малоумию забыл опять,
Как от врагов его освободил я,
Как жизнь ему и славу возвратил я.
Я сыт по горло! Что мне ваш Кавус?
Лишь светлого Йездана я боюсь».
Умолк Рустам, Гударз премудрый снова,
Открыв уста, сказал такое слово:
«Как речь твою мы перескажем там,—
Что бросил, мол, Иран в беде Рустам?
В народе, в войске — всяк бы усомнился,
Не впрямь ли ты туранца устрашился?
А нас предупреждает Гуждахам,
Что от врага не ждать пощады нам.
И коль Рустам на бой пойти страшится,
У нас непоправимое свершится!
Тревога в войске и в стране царит,
Всяк о Сухрабе только говорит.
Не отвращайся в этот час от шаха,
Пусть он ничтожен, пусть он ниже праха,
Но ведь природный шах Ирана — он,
А корень наш и столп наш — Кеев трон.
Как возликует враг наш, полный скверны,
Коль будет шах унижен правоверный!»
Так мужа наставлял Гударз-мудрец.
Рустам, подумав, молвил наконец:
«Я много ездил по земле широкой,
Я много знаю, вижу я далеко.
А если боя сердцем устрашусь,
Я от души и сердца отрекусь.
Ты знаешь сам: я незнаком со страхом,—
Пусть благодарность неизвестна шахам!»
И Тахамтан обратно прискакал,
И гордо перед шахом он предстал.
Ему навстречу встал с престола шах
И молвил со слезами на глазах:
«Я нравом одарен непостоянным,—
Прости! Так, видно, суждено Йезданом!..
Теперь перед напастями войны
Стеснился дух мой, словно серп луны.
Ты нам, Рустам, один теперь защита,
Опора наша, воин знаменитый!
Вседневно я, пред наступленьем сна,
Рустама славлю чашею вина.
О муж, забыта будет пусть обида!..
Пока мы вместе — выше мы Джамшида!
Мне в мире нужен только ты один,—
Помощник, друг мой, мощный исполин!
Я ждал тебя. Ты запоздал дорогой,
А я вспылил… Прости, во имя бога!
В раскаянье, увидев твой уход.
Наполнить прахом я хотел свой рот!»
Рустам ему: «Весь мир — твоя обитель.
Мы — под тобою, ты — наш повелитель.
Средь слуг твоих — я твой слуга седой.
Но я достоин быть твоим слугой.
Владыка ты, я — подчиненный твой.
Приказывай! Велишь — пойду на бой».
Царь молвил: «Как тобою я утешен!
Поход сегодня чересчур поспешен.
Мы лучше сядем нынче пировать!
Даст бог — уж после будем воевать!»
Поставили столы среди айвана,
Подобные весне благоуханной.
Вельмож созвал и приближенных кей,
Рассыпал жемчуг милости своей.
Здоровье Тахамтана гости пили
И о великом прошлом говорили.
И вот жасминоликие пришли,
Под чанг и флейту пляски завели.
Зажглись ночные на небе светила,
А пиру все конца не видно было.
Спать разошлись, когда густела мгла.
В чертогах только стража не спала.
Когда лучами солнце разорвало
Той ночи смоляное покрывало,
Восстал от сна и приказал Кавус,
Чтоб снаряжал слонов походных Тус,
Велел открыть сокровищницы недра
И одарил войска по-царски щедро.
Навьючили верблюдов и слонов
И сели воины на скакунов.
Сто тысяч было в шахском ополченье
Мужей могучих — грозных в нападенье.
А вскоре рать еще одна пришла
И тучей пыль над миром подняла.
Померкло небо от летящей пыли,
Копыта землю черную изрыли.
Гром барабанов огласил простор,
Колебля тяжкие подножья гор.
И так в походе войско напылило,
Что лик затмился вечного светила.
Лишь блеск щитов и копий на земле
Мерцал, как пламя, тускло в синей мгле.
И блеск убранств, и шлемов золоченых,
И золото, и пурпур на знаменах
Струились, как червонная река,
Сквозь черные густые облака.
И так был шахских войск поток огромен,
Что стал зенит, как в день затменья, темен.
До крепости из глины и камней
Дошли войска и стали перед ней,
Копытами поля окрест изрыли,
На десять верст шатры вокруг разбили.
Со стен их стража видела вдали.
«Идет Иран», — Сухрабу донесли.
И встал Сухраб, услыша весть такую,
И поднялся на башню крепостную.
И так Хуману он сказал, смеясь:
«Смотри, какая туча поднялась!..
Здесь наконец-то встретимся мы с шахом!»
Взглянул Хуман, вздохнул, исполнен страхом.
Сухраб воскликнул: «Полно, друг, вздыхать!
Сомненья прочь от сердца надо гнать.
Средь этих войск не вижу никого я,
Достойного меня на поле боя.
Я среди них не вижу мужа битв…
И не помогут им слова молитв!
Хоть велико иранских сил стеченье —
Прославленного нет средь ополченья.
Я строй их ратный разорву, как цепь,—
Рекой бегущей станет эта степь»,
Сухраб душою светлой не смутился,
Он радостный с высоких стен спустился.
Сказал: «Эй, кравчий, принеси вина!
Сегодня пир, а завтра — пусть война».
И в замке, за столом благоуханным,
Он сел с богатырями и Хуманом.
Встал в поле, золотой парчой горя,
Шатер миродержавного царя.
Повсюду были войск шатры разбиты,
Шатрами были склоны гор покрыты.
Когда склонилось солнце в свой чертог
И полумесяц озарил восток,
В кафтане тигровом Рустам великий
Вошел в шатер иранского владыки.
«Позволь в разведку мне пойти на час,
Взглянуть, кто ополчается на нас.
Проверю — правда ль, бич грозит нам божий?
Каков их вождь и кто его вельможи?»
«Твори как знаешь! — отвечал хосров,
Лишь был бы невредим ты и здоров.
Ступай, да сохранит тебя предвечный,
О мой разумный друг, чистосердечный!»
Надев одежду тюрков, Тахамтан
Пошел, в вечерний погрузясь туман.
Во тьме не узнан стражею ночною,
Проник он в крепость дверью потайною,
Вот так же — к стаду серн крадется лев;
Вошел в чертог, все тайно осмотрев,
И увидал, скрываясь за колонной,
Сухраба он на возвышенье трона.
Направо от него сидел Жанда,
Хуман премудрый — слева, как всегда.
Вокруг сидели — славный лев Барман
И мужи, что прославили Туран.
Огромен был Сухраб, как мощный слон,
Один он занимал просторный трон.
Подобны конским бедрам руки были,
Как кипарис, он — в свежести и силе —
Сиял красой за царственным столом,
Прекрасен ликом, схож с могучим львом.
Сто избранных вокруг него сидело,—
Любой из них, как лев, бесстрашно смелый.
И пятьдесят проворных, верных слуг
Служили им и двигались вокруг.
Пирующие славу возгласили
Сухраба мощи, храбрости и силе.
В тени скрываясь, видел их Рустам
И слышал все, что говорили там.
Беседа шумно, весело текла.
Тут вышел Жандаразм из-за стола,
Увидев за колонной Тахамтана;
Он знал в лицо всех витязей Турана,
Но им во тьме Рустам не узнан был.
«Ты кто такой? — Жанда его спросил,—
Поди сюда! Я гляну перед светом…» —
И за руку схватил его при этом.
Рустам его по шее кулаком
Ударил — и Жанда упал ничком.
Не охнув, на пол замертво упал он,
Отвоевал навек, отпировал он.
Когда в начале жизненной весны
Сухраб собрался на стезю войны,
Мать льва-Сухраба — Тахмина — призвала
К себе Жанду и так ему сказала:
«Когда Рустам у нас гостил, тогда
Его в лицо ты видел, мой Жанда.
Будь спутником возлюбленного сына,
А я живу надеждою единой;
Когда он, жаждой подвигов дыша,
Войдет в Иран, ты, светлая душа,
Укажешь сыну, в поле пред сраженьем,
Отца, что ждет Сухраба с нетерпеньем».
Сухраб за чашей вспомнил о Жанде
И у вельмож спросил: «А друг мой где?»
Пошли искать. И видят: за колонной
Ничком лежит он, кем-то умерщвленный.
Когда Сухраб об этом услыхал —
Ему напиток сладкий горьким стал.
Вскочили гости в страхе и печали,
Пошли и Жандаразма увидали.
В слезах вернулись, говоря: «Беда!
О государь, увы, убит Жанда».
И встал Сухраб, пошел туда, как дым,
Бедой над ними грянувшей томим.
Певцы сбежались, слуги со свечами.
«Вот он, — сказали, — мертвый перед нами».
Сухраб был удивлен и огорчен,
Советников созвал ближайших он.
Сказал: «Извечный враг насторожен,
Готовьтесь к бою, позабудьте сон.
Забрался в стадо волк в полночном мраке,
Увидел: спят и люди и собаки,
Барана в стаде лучшего схватил
И подло, втихомолку, умертвил.
Мы завтра — помоги, владыка мира,—
Утопчем степь для боевого пира!
Я за Жанду иранцем отомщу,
Я шаха на аркане притащу!»
И снова за столом он сел на ложе,
И воротились с ним его вельможи.
Сказал им лев-Сухраб: «О мудрецы,
Наставники, воители, бойцы,
Не стало старшего в беседе нашей…
Почтим же друга поминальной чашей!»
В свой стан вернулся той порой Рустам
И первого он Гива встретил там.
Гив-богатырь в ту ночь стоял на страже.
Он думал, что идет лазутчик вражий.
Схватил он меч, принять готовясь бой,
И поднял крепкий щит над головой.
Увидев, что отважный обознался,
Рустам в ответ негромко рассмеялся.
По голосу Рустама страж узнал,
Сбежал к нему за укрепленный вал.
Спросил: «Эй, витязь, в битвах неуемный,
Куда один ходил ты ночью темной?»
Ответил Гиву Заля славный сын,
Как в стан Турана он ходил один,
Как он проник в твердыню вражьих сил,
Как Жандаразма тайно поразил.
Ответил Гив: «О лев, бесстрашно смелый!
Что без тебя мы все, железнотелый?»
Оттуда к шаху Тахамтан пошел,
Подробный обо всем рассказ повел:
О пире, о Сухрабе-великане,
О дивном росте, о могучем стане;
«Нет, никогда не порождал Иран
Таких, как он! — добавил Тахамтан.—
И никогда такого исполина
Я не видал среди туранцев Чина.
Как будто это в прежней мощи сам
Возник передо мною всадник Сам!..»
Сказал, что там Жандой замечен был он,
Как насмерть кулаком его сразил он.
Был шах доволен, дать велел вина,
В беседе тайной ночь прошла без сна.
Как только солнце щит свой золотой
Приподняло над горною грядой,
Сухраб — в величье мощи, в блеске власти
Сел на коня-любимца темной масти.
Индийским препоясанный мечом,
Блистая царским шлемом над челом,
С арканом на луке седла крутого,
Он выехал — нахмуренный сурово —
На некий холм, чтобы издалека
Все осмотреть иранские войска.
Он привести велел к себе Хаджира,
Сказал ему: «Среди явлений мира
Стреле не подобает кривизна,
Кривая, — в цель не попадет она.
Во всем всегда правдивым будь со мною,
И милостивым буду я с тобою.
Что б ни спросил я — правду говори,
Не изворачивайся, не хитри.
За ложь в расправе короток я буду,
За правду будешь чтим у нас повсюду.
За правду, — я клянусь светилом дня,—
Добра увидишь много от меня.
Счастливейшим ты будешь из счастливых,
Богатство дам, почет, рабынь красивых.
А если ты от истины уйдешь,
Темницу, муки, цепи обретешь».
Хаджир ему сказал: «На все правдиво
Отвечу, что ни спросит царь счастливый,
Все расскажу я, что известно мне;
Душою чужд я лжи и кривизне.
Я жил и говорил всегда правдиво,
Поверь, что нет во мне и мысли лживой.
Душа достойных правдою сильна,
Мне ненавистны ложь и кривизна».
Сказал Сухраб: «Средь вражеского стана
Ты мне укажешь витязей Ирана,—
Богатырей могучих и вельмож —
Гударза, Туса, Гива назовешь.
Покажешь мне Бахрама и Рустама,
Что ни спрошу, — на все ответишь прямо,
Но знай — за ложь сурова будет месть,
Утратишь все — и голову и честь!
Чей там шатер стоит, парчой блистая,
Полами холм высокий осеняя?
Сто боевых слонов пред ним. Смотри —
Синеет бирюзовый трон внутри.
Над ним сверкает желтое, как пламя,
Серпом луны украшенное знамя.
Чья это ставка, что простерлась вширь
Так царственно? Кто этот богатырь?»
Хаджир ответил: «Это шах великий,
Богатырей, слонов и войск владыка».
Спросил Сухраб: «Там, справа, на крыле,
Толпится много войска в пыльной мгле,
Слоны ревут… Чей это там просторный
Средь гущи войск шатер раскинут черный?
Палаток белых ряд вокруг него,
Слоны и львы стоят вокруг него.
Над ним — слоном украшенное знамя,
Гонцы блестят расшитыми плащами.
На их конях попоны в серебре,
Кто отдыхает в черном том шатре?»
Хаджир ответил: «Со слоном на стяге,
Тус — предводитель войска, муж отваги.
Он родич падишаха, духом горд,
В бою, как слон, неустрашим и тверд».
Сухраб спросил: «Чей тот шатер багряный
Блестит, как день, парчою златотканой?
Чье голубое знамя над шатром,
Все в жемчуге, украшенное львом?
Чья рать вокруг шатра стоит большая,
Кольчугами и копьями сверкая?
Скажи мне, как вождя того зовут,
Смотри, не покриви душою тут».
Хаджир ответил: «Это — сын Кишвада,
Гударз, отец мой, щит наш и ограда.
С ним восемьдесят витязей — сынов,
Как восемьдесят тигров и слонов.
Пустыня перед ним полна покорства,
Лев с ним не выдержит единоборства».
Сухраб спросил: «А чей там тешит взор
Из шелка изумрудного шатер?
Как трон, у входа золотое ложе,
Пред ним стоят иранские вельможи.
Звезда Кавы над тем шатром горит.[25]
На троне в блеске царственном сидит
Могучий витязь. Средь мужей Ирана
Ни у кого нет плеч таких и стана.
Сидит — а выше на голову он
Стоящих, чьей толпой он окружен.
Конь перед ним едва ему по плечи,
Где ж конь такому витязю для сечи?
Я думаю, он на стезе войны
Неудержимей яростной волны.
Вокруг его шатра стоят слоны
Индийские, на бой снаряжены.
Я думаю, среди всего Ирана
Нет для него копья и нет аркана.
На знамени его — дракон и льва
Из золота литая голова.
Его я слышу голос, словно гром,
Кто этот воин? Расскажи о нем!»
И вся душа Сухрабова хотела
Услышать: «То Рустам — железнотелый!..»
Но иначе судил коварный мир,—
Трусливо правду утаил Хаджир.
Он думал: «Если все скажу я прямо,
Лев этот юный истребит Рустама.
Я скрою правду. Может быть, тогда
Иран минует страшная беда…»
Сказал Хаджир: «Приехал к нам из Чина
Посол, предстал к престолу властелина».
«А как зовут его?» — Сухраб спросил.
Хаджир в ответ: «Я имя позабыл».
Сухраб, чело нахмуривши сурово:
«Как звать его?» — спросил Хаджира снова.
Хаджир ответил: «О владыка львов,
О покоритель тигров и слонов!
Когда предстал он падишаха взору,
Я в Белый замок уезжал в ту пору.
Посла я видел, имя же его
До слуха не достигло моего».
Сухрабу сердце сжала скорбь тисками,
Хотел он слово слышать о Рустаме.
И хоть отец в сиянии венца
Сидел пред ним — он не узнал отца.
Он жаждал слов: «Рустам перед тобою!»
Иное было суждено судьбою.
Все совершится, как предрешено,
Что от рожденья нам судьбой дано.
Под крыльями судьбины роковыми
И зрячие становятся слепыми.
Опять спросил Сухраб: «А это кто ж
Разбил шатер из кеевых вельмож?
Слоны стоят там, всадники хлопочут,
Карнаи там взывают и грохочут.
С изображеньем волка пышный стяг
Под свежим ветром веет в облаках.
На троне муж сидит, а перед троном
И счета нет почтительно склоненным.
Кто этот славный муж, откуда он,
Кто столь великой властью облечен?»
Хаджир ответил: «Это ставка Гива,
Он — сын Гударза, витязь горделивый.
Он столь высокой властью облечен,
Военачальник кею близкий он,
Любимый зять Рустама Тахамтана,
Ему подобных нет в войсках Ирана».
Спросил Сухраб: «А белый чей шатер
Там, на востоке, у подножья гор?»
Пред ним, в парче румийской, муж могучий.
Вокруг войска теснятся, словно тучи.
Их шлемы словно белые цветы,
И серебром сверкают их щиты.
Парчой украшен белый свод шатровый,
И трон из кости перед ним слоновой.
И все его убранство — дня светлей.
Кто это — самый пышный из князей?»
Хаджир сказал: «То Фарибурз-воитель,
Сын падишаха, славный предводитель».
Сказал Сухраб: «Венец ему к лицу,
А войско поклоняется венцу.
Высок престол, и царственно обличье.
Подходит сыну шахскому величье.
Скажи теперь, кто в желтом том шатре?
Над ним — горя, как тучи на заре,—
Знамена алые и голубые
Полощутся, блестят значки цветные.
На шелке стяга булава видна,
На древке серебром горит луна.
Кто в том шатре? Ты назови мне имя
Богатыря меж львами боевыми!»
Хаджир сказал: «Зовут его Гураз,
Он храбростью прославлен среди нас.
Он старший сын воинственного Гива,
Неутомимый, быстрый, прозорливый».
Отца приметы лев-Сухраб искал,
Но правду от него Хаджир скрывал.
Что в мире смертного произволенье,
Где все предначертало провиденье,
Где тайным все венчается концом,
Заранее решенное творцом?
Отравлен миром, в муках ты изноешь,
Коль счастье в доме временном построишь.
И у Хаджира вновь Сухраб спросил
О том, чье имя в сердце он носил.
О том шатре зеленом на вершине
Холма, о том могучем исполине.
Сказал Хаджир: «Мне нечего скрывать,
Тебе я клялся правду отвечать.
Посол из Чина он, — я полагаю…
А имени его я, шах, не знаю».
«Ты не правдив со мной, — Сухраб сказал,—
Ведь ты Рустама мне не указал.
С войсками все иранские владыки
Здесь на виду, а где ж Рустам великий?
Как может в тайне оставаться тот,
Кого Иран защитником зовет?
Ведь если шах Ирана скажет слово
И тучей встанет воинство хосрова,
Не даст он знака в бой вступить войскам,
Пока не встанет впереди Рустам!»
И вновь открыл Хаджир уста ответа:
«Рустам могучий здесь, конечно, где-то.
Или в Забуле, у себя в горах,
Теперь ведь время пировать в садах».
Сказал Сухраб: «А поведет их кто же?
Нет, это на Рустама не похоже.
Подумай сам: все вышли воевать,
А вождь Рустам уехал пировать?
Нет, не поверю я такому чуду,
Я много говорить с тобой не буду.
Рустама ты покажешь мне сейчас,
И будешь возвеличен ты у нас.
Тебя я высшей чести удостою,
Сокровищницы пред тобой раскрою.
А если тайну будешь ты скрывать,
Хитрить и предо мной бесстыдно лгать —
То будет коротка с тобой расправа.
Сам выбирай: бесчестье или слава.
И притча есть: когда мобед открыл
Хосрову тайну — так он говорил:
«Несказанная истина таится,
Как жемчуг в перламутровой темнице.
И, только долгий плен покинув свой,
Она заблещет вечной красотой».
Хаджир ему ответил: «Если сам
Захочет боя исполин Рустам,
Противоборца ищет он такого,
Что ломит палицей хребет слоновый.
Ты видел бы, каков он — Тахамтан,—
Его драконью шею, плечи, стан.
Ты видел бы, как демоны и дивы,
Бегут, когда идет Рустам счастливый.
Он палицей скалу рассыплет в прах,
Он на войска один наводит страх.
Кто ни искал с Рустамом поединка,
Растоптан был могучим, как былинка.
А пыль из-под копыт его коня,
Как туча, заслоняет солнце дня.
Ведь он владеет силой ста могучих,
Велик он, как утес, чье темя в тучах.
Когда душой он в битве разъярен,
Бегут пред ним и тигр, и лев, и слон.
Гора не устоит пред ним. Пустыня —
У ног его покорная рабыня.
От Рума по Китайский океан
Прославлен в мире воин Тахамтан.
О юный шах, я искренен с тобой,—
С Рустамом грозным ты не рвись на бой!
Хоть видел ты мужей в степях Турана,
Афрасиаба знаешь и Хумана,
Но всех туранских витязей один
Развеет в пыль забульский исполин».
И отвечал Сухраб вольнолюбивый:
«Я вижу — под звездою несчастливой
Гударз тебя отважный породил,—
Отца и братьев честь ты омрачил.
Где видел ты мужей? Где слышал топот
Коней в бою? Где взял ты ратный опыт?
Ты только о Рустаме говоришь,
Ты, как на бога, на него глядишь.
Когда я встречусь с ним на поле боя,
Вся степь вскипит, как хлябище морское.
Тебе стихия пламени страшна,
Когда спокойно плещется волна.
Но океан зелеными валами,
Затопит землю и погасит пламя.
И мрака ночи голова падет,
Лишь солнца меч пылающий блеснет».
Смолк, отвернулся от него угрюмо
И загрустил Сухраб, объятый думой.
Хаджир подумал: «Если я скажу
Всю правду и Рустама покажу
Туранцу юному с могучей выей,
Тогда он соберет войска большие
И в бой погонит своего коня—
Он навсегда затмит нам солнце дня.
Могучий телом, яростный, упрямый —
Боюсь, что уничтожит он Рустама.
Кто выстоит против него из нас?
Рустам на бой с ним выйдет в грозный час.
А ведь учил мобед нас величавый:
«Чем жить в бесславье, лучше пасть со славой».
Пусть буду я рукой его убит,
Но смерть моя Рустама сохранит.
Кто я? — восьмидесятый сын Гударза,
Я младший сын прославленного барса.
Пусть будет круг богатырей счастлив,
Пусть будет жив завоеватель Гив,
Пусть вечно не увянет мощь Бахрама,
Пусть не падет вовек звезда Руххама!
Пусть я умру, они же устоят
И за меня туранцам отомстят.
Что жизнь мне, коль Иран постигнут беды?
Я помню, как учили нас мобеды:
«Коль кипарис поднимет к небу стан,
То на кустарник не глядит фазан».
И молвил он Сухрабу: «Ты упрямо
Меня расспрашиваешь про Рустама,—
Отколь такая ненависть к нему?
Зачем тебе он нужен, не пойму?
Зачем ты к неизвестному стремишься
И в гневе мне расправою грозишься?
А если хочешь голову мне снять —
Руби, не надо повода искать.
Не обольщай себя мечтой незрелой.
И если здесь Рустам слоновотелый,
Поверь — он пред тобою устоит,
И сам тебя во прах он превратит».
Как услыхал Сухраб ответ такой,
К Хаджиру повернулся он спиной.
Скрыл от него лицо свое сурово
И больше не сказал ему ни слова.
Ударил кисти тыльной стороной,
Сбил с ног его, в шатер вернулся свой.
Один там, ночи пасмурной угрюмей,
Он долго предавался некой думе.
И встал и препоясался на бой,
Снял с головы венец он золотой,
Надел взамен индийский шлем булатный,
Облек могучий стан кольчугой ратной.
Взял меч, копье и палицу свою,
Как тяжкий гром разящую в бою.
От ярости и гнева весь кипел он,
На скакуна играющего сел он,
И, кажущийся мчащейся горой,
Как опьяненный слон, помчался в бой.
Пыль до луны, как облако, всклубил он —
Ворвался в средоточье вражьих сил он.
Как стадо ланей перед ярым львом,
Войска бежали пред богатырем.
Бежали храбрые пред закаленным
Копьем, в скопленье войска устремленным.
Щит поникал, роняла меч рука,
Страх обуял иранские войска.
Средь боя на совет сошлись вельможи,
Сказали: «Если он не Сам, то кто же?
Вежд на него без ужаса поднять
Нельзя!.. Кто ж битву может с ним принять?»
Тут загремел Сухраб, как гром небесный:
«Эй, Кей-Кавус, коварный шах бесчестный!
За все грехи ответишь ты сейчас!
Как чувствуешь себя ты в этот час?
Увижу я теперь не льва, а труса,
Когда метну аркан на Кей-Кавуса!
Как в ход пущу я меч свой и копье,
Я истреблю все воинство твое.
Когда лазутчик твой в наш стан прокрался,
Убил Жанду, — я солнцем дня поклялся,
Что перебью вас всех своим копьем,
А шаха на аркан возьму живьем.
Так что ж хвалился ты богатырями?
Где львы твои с могучими когтями?
Где Фарибурз, где Гив, Гударз и Тус,
Где славный лев — Рустам твой, Кей-Кавус?
Где богатырь Занга — любимец битвы?
Пусть выйдут! Не помогут им молитвы!
Что прячутся они? Пускай в бою
Покажут мощь хваленую свою!»
Умолк Сухраб. Мгновенья миновали.
В ответ иранцы в ужасе молчали.
Тут молча лев-Сухраб на холм взошел.
Где был шатер Кавуса и престол.
Ударил. Кольев семьдесят опорных
Свалил под грудою ковров узорных!
Карная рев над войском загремел,
Но шах Кавус собою овладел.
И возгласил: «Эй вы, столпы Ирана,
Скачите в стан Рустама Тахамтана!
Скажите: несказанна мощь его,
И выйти некому против него!
Не выстоит никто против удара
Туранца, кроме сына Зали-Зара».
Помчался в стан Рустама старый Тус,
Все рассказал, что приказал Кавус.
Рустам в ответ: «Всегда, когда владыка
Меня зовет пред царственное лико,—
Я знаю — будет битва. Он всегда
Зовет меня туда, где ждет беда».
Велел Рустам, чтоб Рахша оседлали,
Чтоб воины в готовности стояли.
Взглянул он в поле, видит: полем Гив
Куда-то скачет, густо напылив.
Вот взял Рустам седло из серебра.
Сказал Гургин: «Поторопись, пора!..»
Вот крепко подтянул Рустам подпругу,
А Тус помог надеть ему кольчугу.
Покамест сборы их на битву шли,
Они карнай услышали вдали.
И дрогнула душа у Тахамтана,
Сказал он: «Это битва Ахримана!
Поистине в день Страшного суда
Не над одной душой висит беда!..»
Тут поясом злаченым Тахамтан
Свой препоясал тигровый кафтан.
На Рахша сел Рустам и в путь собрался.
В шатре с войсками Завара остался.
Сказал Рустам: «Здесь будешь ты внимать
Нам издали, как любящая мать».
И понесли знамена пред Рустамом,
Свирепым в гневе и в бою упрямым.
Когда Сухраба увидал Рустам,
Он дрогнул духом: «Впрямь — он воин Сам,
Ни у кого нет груди столь широкой,
Могучих плеч и выи столь жестокой…»
Сказал Рустам Сухрабу: «Отойдем,
В открытом поле ратный спор начнем».
Услыша слово честное такое,
Отъехал в степь Сухраб, взыскуя боя.
Потер ладони он, оружье взял
И так Рустаму весело сказал:
«Поедем, муж! И пусть толкуют люди
О нашем ратоборстве, как о чуде.
Иранцев и туранцев не возьмем,
Мы в поле выедем с тобой вдвоем».
Любуясь, как Сухраб взирает гордо,
Как на коне своем сидит он твердо,
Рустам сказал: «О юный витязь мой,
Над этой степью, хладной и сухой,
Как нынче тепел ветерок весенний!..
Я много на веку видал сражений.
Я не людей — драконов убивал,
И поражений в битве я не знал.
Чудовищ Нила клал я на лопатки,
Ты поглядишь — каков я буду в схватке.
В ущельях снежных гор, в волнах морей
Разил я дивов — не богатырей.
Мне звезд поток — свидетель неизменный,
Что мужеством потряс я круг вселенной.
И сколько видели боев моих,
Не меньше числят и пиров моих.
К тебе во мне вдруг жалость возгорелась,
Мне убивать тебя бы не хотелось.
Таких, как ты, не порождал Туран,
Тебе подобных не видал Иран.
В тебе мне солнце новое явилось!»
Сухраба сердце тут к нему склонилось.
Сказал Рустаму: «Молви правду мне
До основанья о твоей родне.
Скажи мне о Дастане и о Саме,
Порадуй сердце добрыми словами!
Мне кажется, что предо мной Рустам,
Заль-Зара сын, чей предок был Нейрам».
Рустам сказал: «Ты видишь не Рустама,
Я не из рода Сама и Нейрама.
Рустам ведь богатырь, Ирана свет,
А у меня венца и трона нет».
И от души Сухраба отлетела
Надежда, будто солнце потемнело.
Он молча в руку взял свое копье,
Хоть вспомнил мать и все слова ее.
Так в степь они решили отдалиться,
И на коротких копьях стали биться.
Разбились в щепы древки копий их.
Налево повернув коней своих,
Индийские мечи герои взяли
И сшиблись. Искры сыпались из стали.
Казалось, в мире Судный день настал,
Так пламень их мечей во мгле блистал.
Мечи их зазубрились, искрошились.
За палицы тогда они схватились
И сшиблись снова яростней судьбы.
Заржав, их кони встали на дыбы,
Заржали страшно в бешеном испуге,
Разорвались на витязях кольчуги.
Сломались палицы у них в руках,
Рассыпались доспехи на конях.
По телу кровь лилась. Так сшиблись дважды,
Их языки потрескались от жажды.
И стали — юноша и исполин.
Страдал отец, томился мукой сын.
О мир, как дивно круг ты совершаешь —
Ломаешь то, а это исправляешь!
В их душах не затеплилась любовь.
Далек был разум, и молчала кровь.
Онагр в степи детеныша узнает,
И рыба сердца голосу внимает,
Но человек, когда враждой кипит,
И сына от врага не отличит.
Сказал Рустам: «Я и в пучине Нила
Столь гневного не видел крокодила.
Как дивов я громил, весь знает свет,
Моя же слава здесь сошла на нет.
С юнцом каким-то сшибся я. И что же —
Он устоял против меня, — о, боже!
Устал я тяжко. В тягость мир мне стал.
Два войска смотрят, — а Рустам устал».
Когда немного отдохнули кони
От сшибок в нападенье и в погоне,
Мужи на вызов чести поднялись,
За луки медные они взялись.
Один — юнец, другой — седой и хмурый,
Они надели тигровые шкуры.
Пошли стрелять. От их пернатых стрел
Степной онагр укрыться б не успел.
Летели стрелы гуще листопада.
Скажи: «Стрелять друг в друга им отрада!»
Потом взялись они за пояса,
Рустам как будто за утес взялся.
Когда бы взял он каменную гору,
Он гору б в пыль развеял по простору.
Сухраба же за пояс потянул,
Но и в седле его не пошатнул.
Сухраб сидел в седле, как столп железный,
Рустама мощь была тут бесполезной.
И разошлись они — тот и другой,
Так утомил их долгий, тяжкий бой.
Увяла мощь Рустамовой десницы,
Пред мощью богатырской поясницы.
И вновь Сухраб могучий, полн огня,
В коленах крепко сжав бока коня,
В плечо ударил палицей Рустама,
Так, что Рустамово поникло рамо,
Так, что от боли извивался он,
Ударом богатырским потрясен.
«Эй, муж, — сказал Сухраб, — как не смеяться? —
Тебе передо мной не удержаться!
Вынослив, крепок конь могучий твой,
Тебе ж не устоять передо мной.
В моей груди ты жалость вызываешь,
Гляди — ты кровью землю обливаешь.
Ты — богатырь, ты станом — кипарис,
Но стар годами, так не молодись».
В ответ ни слова Тахамтан угрюмый.
Он промолчал, объятый тяжкой думой,
Им было горько. Мощь была равна.
И стала им — увы — земля тесна.
И оба друг от друга отвратились,
Умолкли, в размышленье погрузились.
Внезапно Тахамтан рассвирепел,
Как буря на туранцев налетел.
Сухраб же стал топтать войска Ирана,
Как разъяренный слон, от крови пьяный.
Рустам средь боя Рахша повернул,
Раскаявшись, он тяжело вздохнул.
Подумал, что в кровавом этом море
И шаха, может быть, постигло горе.
И, повернув коня, в пыли, в дыму
Рустам помчался к стану своему.
Созрело в сердце у него решенье,
Вернуться в стан и прекратить сраженье.
Сухраба грозного — в крови всего —
Он увидал средь стана своего.
И конь его — от гривы до копыт — —
Иранской красной кровью был облит.
Как лев, стоял он, кровью обагренный,
Сухраб могучий, битвой опьяненный.
И в ярости Рустам пред ним предстал
И, словно тигр взбешенный, зарычал:
«Эй ты, туранский выродок, убийца!
За что ты губишь слабых, кровопийца?
Ты здесь как в стаде волк, а не в бою,
На мне бы ты истратил мощь свою!»
Сухраб ответил: «Гневом был объят я.
В кровопролитии не виноват я.
Ты первый на туранцев налетел,
Ты сам со мною боя не хотел».
Рустам ему: «Уж поздно. Вечер стынет,
Когда заутра солнце меч свой вынет.
С тобой мы завтра снова выйдем в бой,
И пусть над чьей-то плачут головой.
Ночь мира нынче ляжет между нами,
День омрачен сегодня был мечами.
Но от души, хоть оба мы в крови,
Тебе желаю, — вечно ты живи!»
И разошлись они. И степь затмилась.
Сияньем звездным небо осветилось.
Сказал бы ты — из глины вечных сил
Творец миров Сухраба замесил.
В степи безводной, сколько б ни скакал
От верховой езды не уставал он.
Не ровня коням лучшим боевым,
Как из железа — был и конь под ним.
Неутомим в бою, могуч, беспечен,
Чист был душой Сухраб, добросердечен.
Во тьме ночной к войскам вернулся он,
Томимый жаждой, боем утомлен.
Сказал Хуману: «Вечное светило
Сегодня суматохой мир затмило.
Я думаю, достигла вас молва
О витязе, чья длань, как лапа льва.
С ним нынче стан иранский не бесславен;
Я удивлен был — мне он силой равен.
Побил он много войска моего,
Ему не знал я равных никого.
Он стар, но он как тигр в пылу ловитвы…
Он не насытился смятеньем битвы.
Коль рассказать о нем я захочу,
Я до утра, друзья, не замолчу.
Как юноша, он в бой стремится бодро.
А руки старца — как верблюжьи бедра.
Я не встречал сильнее никого
Богатыря безвестного того!»
Сухрабу отвечал мудрец Хуман:
«Здесь без тебя я охранял твой стан.
В степи я с войском под горой стоял,
Но битвы я, мой шах, не начинал.
Вдруг некий муж с мечом предстал пред нами,
Верхом, блистая грозными очами.
Напал на нас он, гневом разъярен,
Топтал и гнал он нас, как пьяный слон.
Но вдруг лицом от боя отвратился,
И вскачь к себе в обратный путь пустился».
Сухраб спросил: «Кто ж дал ему отпор?
Кто встал из вас ему наперекор?
Я сам убил их много. Степь полита
Их кровью, — как тюльпанами покрыта.
И знай, что если б — гневом разъярен —
Мне повстречался див или дракон,
Поверь — ни тот, ни этот не ушел бы,
Счет с ними палицей моей я свел бы.
Но что же вы — на бой мой издали
Смотрели и на помощь не пришли?
Какой нам прок в сраженье получился.
Когда один я на майдане бился?
Явись мне в поле тигр иль носорог,
Он от моей стрелы уйти б не мог.
Богатыри в смятенье предо мною,
Рассеялись, как птицы пред грозою.
Назавтра день проглянет из-за туч
И победит могучий, кто могуч.
Клянусь я тем, кто, вечный мир творя,
Дал жизнь мне — я свалю богатыря.
Вели, чтоб нам вина и пищи дали,
Пора изгнать из сердца все печали».
Рустам войска дозором обходил
И так с печальным Гивом говорил:
«Да, друг, устойчив был Сухраб сегодня,
Над ним, как видно, благодать господня».
Ответил Гив: «Благодаря судьбе
Не видели мы равного тебе.
Но тот юнец рассеял войско Туса
Прошел, как смерч, до ставки Кей-Кавуса.
Разя копьем, он к нам ворвался в стан,
Шатер царя свалил, как ураган.
Блеснул в его руке клинок индийский,
Сбил с головы он Туса шлем румийский.
Не выдержав с ним боя, Тус бежал,
Никто из нас пред ним не устоял.
Лишь ты один, Рустам железнотелый,
Ты устоял пред ним, бесстрашно смелый.
А я, как в древние велось века,
Ждал и не двинул на него войска.
Таков у нас закон единоборства,
Но мощь его, и ярость, и упорство
Всех устрашили. Он напал один,
На наше войско — этот исполин.
Никто на бой с ним выйти не решился,
На нас он, словно буря, устремился.
Ворвался в средоточье наших сил —
Ядро и правое крыло разбил.
Мы содрогнулись перед ним от страха.
Нас ужаснула участь падишаха».
Рустам молчал. Печалью омрачен,
Стопы направил к Кей-Кавусу он.
Царь Тахамтана ждал, навстречу встал он.
«Садись со мною рядом, друг!» — сказал он.
И сел Рустам и начал свой рассказ
«Нет, шах мой, ни в Туране, ни у нас
Ни дива я не знал, ни крокодила —
Столь храброго, с такою дивной силой.
Он молод, но искусно бой ведет,
Он так высок, что звездный небосвод,
Казалось, мне, плечами подпирает,
Так грузен он, что землю прогибает.
Как конское бедро, его рука.
Но более могуча и крепка.
Оружье от меча и до аркана
Все в ход пустил я против льва Турана.
Я вспомнил, скольких сбрасывал с седла,—
Ведь мощь моя былая не ушла.
И за кушак его со всею силой
Схватил, рванул я. Да не тут-то было.
Его с седла всей силой рук моих
Хотел я сбросить наземь, как других.
И понял я — ничто пред ним та сила,
Что мощь Мазандерана сокрушила.
Он был подобен каменной скале,
Не пошатнулся он в своем седле.
Стемнело уж, когда мы с ним расстались,
В высоком небе звезды загорались.
И мы уговорились меж собой,
Что завтра вступим в рукопашный бой.
А завтра, шах мой, только день наступит —
Бесчестье, может быть, Рустам искупит.
Кто победит? Не ведаю конца.
Судьба в руке предвечного творца…»
Сказал Кавус: «О муж, молю Йездана,
Чтоб истребил ты тигра из Турана.
Я наземь ныне упаду лицом,
Молиться буду я перед творцом.
Чтобы Йездан развеял наши беды,
Чтоб силу дал тебе он для победы.
Чтоб вновь звезда Рустамова зажглась,
Чтоб слава по вселенной пронеслась!»
Рустам ответил: «Внемлет пусть предвечный
Твоей молитве, шах чистосердечный!»
И встал он. И, печальный брося взор,
Ушел Рустам, вернулся в свой шатер.
Вернулся, полон горестных раздумий,
С душою, ночи пасмурной угрюмей.
Рустама встретив, Завара спросил:
«Добром ли день нас этот осенил?»
Еды спросил сперва Рустам. Насытясь,
От горьких дум освободился витязь.
И все он брату рассказал потом,
Что было с ним на поле боевом.
Хоть было два фарсанга меж войсками,
В ту ночь не спали люди под шатрами.
И так Рустам промолвил Заваре:
«Опять я в битву выйду на заре.
А ты меня спокойно ожидай,
Будь мужествен, в смятенье не впадай.
Веди мои войска, неси знамена,
Ставь золотое основанье трона.
Перед шатрами в поле жди меня,
Я отдохну до наступленья дня.
Чтоб в силе быть и духом укрепиться,
Не нужно мне на битву торопиться.
А если завтра свет затмится мой,
Не подымайте воплей надо мной.
Пусть я паду, ты — и во имя мщенья —
С туранцами не начинай сраженья.
В поход обратный собирай свой стан,
К Дастану поспеши в Забулистан.
Пусть ведает отец наш престарелый,
Что сила Тахамтана отлетела.
И, знать, угодно было небесам,
Чтоб юношей был побежден Рустам.
Утешь, о брат мой, сердце Рудабы!
Что слезы перед волею судьбы?
Скажи, чтоб воле неба покорилась,
Чтоб неутешной скорбью не томилась,
Я львов, и барсов, и слонов разил,
Меня страшились див и крокодил,
Тяжелой палицей крушил я стены,
Служило счастье мне без перемены.
Но тем, кто часто смерть привык встречать,
Придется в двери смерти постучать.
Хоть сотни лет мне счастье верно служит,
Но мир свое коварство обнаружит».
Так долго вел беседу с братом он,
И лег потом, и погрузился в сон.
Лишь, грифу ночи разорвавши горло,
Над миром солнце крылья распростерло,[26]
Встал с ложа сна могучий Тахамтан,
Надел кольчугу, тигровый кафтан
И, шишаком железным осененный,
Сел на коня, как на спину дракона.
Сухраб сидел беспечно за столом
С красавицами, с музыкой, с вином.
Сказал Хуману: «Этот лев Ирана,
Что выйдет в бой со мною утром рано,
Он равен ростом мне. Как я — силен,
В бою, как я, не знает страха он.
Так станом, шеей схожи меж собой мы,
Как будто в форме вылиты одной мы.
Внушил приязнь он сердцу моему.
И я вражды не чувствую к нему.
Все признаки, что мать мне называла,
Я вижу в нем. Душа моя вспылала,—
Поистине — он, как Рустам, на вид.
Уж не отец ли мой мне предстоит?
Томлюсь я тяжкой мукой и не знаю,
Не на отца ли руку подымаю?
Как буду жить я? Как перед творцом,
Предстану с черным от греха лицом?
Нет, и под страхом смертного конца,
Не подыму я руку на отца!
Иль светлый дух навек во мне затмится,
И мир весь от Сухраба отвратится.
Злодеем буду в мире наречен,
На вечные мученья обречен.
Душа в бою становится суровей,
Но зло, а не добро в пролитье крови».
И отвечал Хуман: «За жизнь свою
Рустама прежде я встречал в бою.
Ты слышал ли, как пахлаван Ирана
Твердыню сокрушил Мазандерана?
А этот старый муж? Хоть с Рахшем схож
Могучий конь его — не Рахш он все ж».
Весь мир уснул. Свалила всех усталость,
Лишь стража на стенах перекликалась.
Сухраб-завоеватель той порой
Встал с трона, удалился на покой.
Когда же солнце встало над землей,
Он поднялся от сна на новый бой.
Кольчугою стальной облек он плечи,
Надел доспехи, взял оружье сечи.
Витал он мыслью в поле боевом,
И сердце радостью кипело в нем.
И прискакал он в степь, щитом сверкая,
Своей тяжелой палицей играя.
Рустам был там. Как ночь, он мрачен бы
Сухраб его с улыбкою спросил:
«Как отдыхал ты ночью, лев могучий?
Что ты угрюм, как сумрачная туча?
Скажи мне правду, витязь, каково
Теперь желанье сердца твоего?
Отбросим прочь мечи свои и стрелы
И спешимся, мой ратоборец смелый.
Здесь за беседой посидим вдвоем,
С лица и сердца смоем хмурь вином.
Потом пойдем к иранскому владыке
И перед ним дадим обет великий.
Кто б на тебя ни вышел — мы на бой
Пойдем и вместе победим с тобой.
К тебе мое невольно сердце склонно,
Кто ты такой? — я думаю смущенно,—
Из рода славных ты богатырей?
О родословной расскажи своей.
Кто ты? — вопрос я многим задавал,
Но здесь тебя никто мне не назвал.
Но если вышел ты со мной на бой,
Ты имя мне теперь свое открой.
Не ты ли сын богатыря Дастана,
Рустам великий из Забулистана?»
«О славы ищущий! — сказал Рустам,—
Такие речи не пристали нам.
Вчера мы разошлись и дали слово,
Что рано утром бой начнем мы снова.
Зачем напрасно время нам тянуть?
Не тщись меня ты лестью обмануть.
Ты молод — я зато седоголовый.
Я опоясался на бой суровый.
Так выходи. И будет пусть конец
Такой, какой предначертал творец.
На поле боя — всякий это знает —
Мужам друг другу льстить не подобает.
Я многих на веку сразил врагов
И не люблю коварных льстивых слов».
Сухраб ответил: «Тщетны сожаленья,—
Отверг мои ты добрые стремленья.
А я хотел, о старый человек,
Пред тем как мир покинешь ты навек,
Хотел я, чтобы разум возвратился
К тебе, чтоб ты от злобы отрезвился
И чтобы мы могли тебя почтить
Пред тем, как в землю черную зарыть.
Ну что ж — я силой рук и волей бога
Твой разум нынче просветлю немного».
И вот бойцы, уже не тратя слов,
Сошли с железнотелых скакунов.
И пешие — на бой в открытом поле —
Сошлись они, полны душевной боли.
Как львы, схватились яростно. И вновь
По их телам струились пот и кровь.
И вот Сухраб, как слон от крови пьяный,
Всей мощью рук взялся за Тахамтана.
Он за кушак схватил его, рванул,
Сказал бы ты, что гору он свернул.
Как лютый зверь, он на Рустама прянул.
И вскинул вверх его, и наземь грянул.
Свалил он льва среди богатырей
И сел на грудь всей тяжестью своей,
К земле Рустама грузно придавивши,
Как лев, самца-онагра закогтивший.
Поверг спиной Рустама в прах земли,
И было все лицо его в пыли…
И вырвал из ножон кинжал блестящий,
И уж занес его рукой разящей.
Рустам сказал: «Послушай! Тайна есть,—
Ее открыть велят мне долг и честь.
О покоритель львов, о тигр Турана,
Искусен ты в метании аркана.
Искусством ты и силой наделен,
Но древний есть у нас один закон.
И от него нельзя нам отступиться,
Иначе светоч мира омрачится.
Вот слушай: «Кто благодаря судьбе
Врага повалит на землю в борьбе,
То есть такой закон для мужа чести,—
Не должен, и во имя правой мести,
Его булатом смертным он разить,
Хоть и сумел на землю повалить.
И только за исход второго боя
Венчается он славою героя.
И если дважды одолеет он,
То может убивать. Таков закон».
Чтобы спастись от смерти неминучей,
Прибег к коварству Тахамтан могучий.
Хотел он из драконьих лап уйти
И голову от гибели спасти.
Сухраб свирепый, с богатырским телом,
Был еще отрок с разумом незрелым.
Доверчиво он внял его словам —
Он думал, что не может лгать Рустам.
Хоть о таком обычае старинном
Он не слыхал, поверил он сединам.
И, по величью сердца своего,
Рустама поднял, отпустил его.
И поскакал Сухраб далеко в поле,
Где лани по холмам паслись на воле.
Ловил онагров, ланей он стрелял,
А о Рустаме и не вспоминал.
Темнело… И Хуман предстал пред ним,
Встревожен, как гонимый ветром дым.
И рассказал Сухраб, как победил он
И как живым Рустама отпустил он.
Сказал Хуман: «О витязь, вижу я,
Тебе постыла рано жизнь твоя!
О, горе мощной мышце и плечу,
Руке разящей, грозному мечу!
Ты тигра страшного поймал в тенёта
И отпустил, — напрасная охота!
Увы, беда нам завтра предстоит.
Возмездье за поступок твой грозит.
Страшней над нами не было удара,
Чем завтра от судьбы нам будет кара.
А есть завет: «Убей врага, хотя б
Он пред тобой ничтожен был и слаб!»
Умолк Хуман, и к стану поскакал он,
Надежду на Сухраба потерял он.
Ушел, непоправимым потрясен,
В тяжелое раздумье погружен.
«Эй, друг! — сказал Сухраб, догнав Хумана,
Утешься, ты увидишь завтра рано,
Лишь выйдет он на бой со мною тут,
Как я надену на него хомут!»
Рустам от вражьих рук освободился,
И, как гора, он духом укрепился.
Как будто вновь он жизнь вернул свою.
Поехал он к потайному ручью.
От жажды у него гортань горела.
Он напился. Омыл лицо и тело
И на колени пал перед творцом,
Перед Йезданом — сущего отцом.
И долго о победе он просил,
Упав перед владыкой вечных сил.
Душой своею небо заклинал он,
Что солнце принесет ему — не знал он.
Не знал он — даст победу небосвод
Или венец с главы его сорвет.
Я слышал — смолоду такою силой
Судьба Рустама щедро одарила,
Что если он на камень наступал,
То ногу в камень тяжко погружал.
И эта мощь, как тягостное бремя,
Томила дух его в былое время.
И он взмолился перед троном сил,
И кротко, со слезами он просил
Всех смертных одаряющего бога,
Чтоб сил убавил он ему немного.
Пречистый внял Йездан его мольбам,
И облегченье ощутил Рустам.
Теперь же, юным устрашен Сухрабом,
Представ пред ним в единоборстве слабым,
Взмолился он Йездану: «О творец!
Грозит мне пораженье и конец.
Верни всю мощь мне силы необъятной,
Что в юности ты дал мне невозвратной!»
И совершилось то, что он просил,
В нем море поднялось великих сил.
От места потаенного молитвы
Вернулся вновь Рустам на поле битвы.
Полно тревоги сердце у него,
Поблекло от забот лицо его.
Сухраб как слон примчался опьяненный,
Арканом и копьем вооруженный.
Онагра догоняя, мчался он,
Как дикий лев, охотой разъярен.
Был конь Сухраба, словно мир, огромен,
Вихрь пыли вился вслед, как туча, темен.
И снова с изумленьем перед ним
Встал Тахамтан, раздумием томим.
Сухраб, приблизясь, увидал Рустама,
Взыграл весельем дух его упрямый.
С улыбкой на врага он своего
Взглянул, увидел мощь и блеск его.
Сказал: «Ты здесь опять, старик бесстрашный,
Из львиных лап ушедший в рукопашной?
Ты счастье вновь решил пытать со мной,
Эй, муж, хоть ты идешь кривой стезей!
Что? Жизнь тебе, как видно, надоела?
Ты снова тигру в когти рвешься смело?
Вчера уважил старость я твою,
И жизнь твою я пощадил в бою».
И отвечал Рустам слоновотелый:
«Эй, лев Турана, муж бесстрашно смелый,
Что толку в битве от пустых речей?
Ты возгордился юностью своей.
Но, лев могучий, только небо знает,
Кого победа нынче увенчает.
А если счастье лик свой отвратит,
Как мягкий воск становится гранит».
Сойти с коней им время наступило,
Беда над головами их парила.
И в рукопашной вновь они сошлись,
За пояса всей силою взялись.
Сказал бы ты, что волей небосвода
Сухраб был связан — мощный воевода.
Рустам, стыдом за прошлое горя,
За плечи ухватил богатыря,
Согнул хребет ему со страшной силой.
Судьба звезду Сухрабову затмила.
Рустам его на землю повалил,
Но знал, что удержать не хватит сил.
Мгновенно он кинжал свой обнажил
И сыну в левый бок его вонзил.
И тяжко тот вздохнув перевернулся,
От зла и от добра он отвернулся.
Сказал: «Я виноват в своей судьбе,
Ключ времени я отдал сам тебе.
А ты — старик согбенный… И не диво,
Что ты убил меня так торопливо.
Еще играют сверстники мои,
А я — на ложе смерти здесь — в крови.
Мать от отца дала мне талисман,
Что ей Рустам оставил, Тахамтан.
Искал я долго своего отца,—
Умру, не увидав его лица.
Отца мне видеть не дано судьбою.
Любовь к нему я унесу с собою.
О, жаль, что жизнь так рано прожита,
Что не исполнилась моя мечта!
А ты, хоть скройся рыбой в глубь морскую,
Иль темной тенью спрячься в тьму ночную,
Иль поднимись на небо, как звезда,
Знай, на земле ты проклят навсегда.
Нигде тебе от мести не укрыться,
Весть об убийстве по земле промчится.
Ведь кто-нибудь, узнав, что я убит,
Поедет и Рустаму сообщит,
Что страшное случилось злодеянье.
И ты за все получишь воздаянье!»
Когда Рустам услышал речь его,
Сознанье омрачилось у него.
Весь мир померк. Утративши надежду,
Он бился оземь, рвал свою одежду.
Потом упал — без памяти, без сил.
Очнулся и, вопя, в слезах спросил:
«Скажи, какой ты носишь знак Рустама?
О, пусть покроет вечный мрак Рустама!
Пусть истребится он! Я — тот Рустам,
Пусть плачет надо мной Дастани-Сам».
Кипела кровь его, ревел, рыдал он,
И волосы свои седые рвал он.
Когда таким Рустама увидал
Сухраб — на миг сознанье потерял.
Сказал потом: «Когда ты впрямь отец мой,
Что ж злобно так ускорил ты конец мой?
«Кто ты?» — я речь с тобою заводил,
Но я любви в тебе не пробудил.
Теперь иди кольчугу расстегни мне,
Отец, на тело светлое взгляни мне.
Здесь, у плеча, — печать и талисман,
Что матерью моею был мне дан.
Когда войной пошел я на Иран
И загремел походный барабан,
Мать вслед за мной к воротам поспешила
И этот талисман твой мне вручила.
«Носи, сказала, в тайне! Лишь потом
Открой его, как встретишься с отцом».
Рустам свой знак на сыне увидал
И на себе кольчугу разодрал.
Сказал: «О сын, моей рукой убитый,
О храбрый лев мой, всюду знаменитый!»
Увы! — Рустам, стеная, говорил,
Рвал волосы и кровь, не слезы, лил.
Сказал Сухраб: «Крепись! Пускай ужасна
Моя судьба, что слезы лить напрасно?
Зачем ты убиваешь сам себя,
Что в этом для меня и для тебя?
Перевернулась бытия страница,
И, верно, было так должно случиться!..»
Меж тем стемнело. Пал в степи туман.
Рустам же с поля не вернулся в стан.
И двадцать знатных воинов в тревоге
Поехали по ратной той дороге,
Чтобы исход сражения узнать,
Пир начинать им нынче иль стенать.
Вот кони богатырские пред ними
В пыли, но оба — с седлами пустыми.
Рахш потрясает гривою во мгле,
Но только нет богатыря в седле…
Богатыри, подумав, что убили
Рустама, в горе головы склонили.
И поскакали шаху сообщить,
Что нет в живых Рустама, может быть.
Весть страшная, гонцы и конский топот…
Средь войска поднялись и шум и ропот.
Кавус велел скорей тревогу бить,
Велел в карнаи медные трубить.
Сбежались люди пред лицо Кавуса,
И шах призвал испытанного Туса.
Сказал: «На поле битвы поспешай,
Как обстоят дела у нас — узнай.
И если нет Рустама Тахамтана,
Оплачем судьбы нашего Ирана.
Ведь если щит мой — лев-Рустам — убит,
Уйду я на чужбину, как Джамшид.
Мне легче нищенствовать на чужбине,
Чем ваши трупы увидать в пустыне.
Все силы надо воедино свесть,
Врасплох сейчас врагу удар нанесть
И в час один расправиться с врагами,—
Иль бросить все, уйти!.. — Решайте сами!»
Когда над станом шум вои́нский встал,
Сухраб Рустаму скорбному сказал:
«Я умираю. Все переменилось.
Ты окажи моим туранцам милость.
О всем, что сталось, шаху возгласи,
Чтоб войск на нас не слал он — ты проси.
Я сам хотел завоевать Иран,
Из-за меня поднялся весь Туран.
Прошу — ты с ними обратись достойно,
И пусть они домой уйдут спокойно.
Туранских поднял я богатырей,
Пред ними клялся я душой своей,—
Я обещал им, что себя прославлю,
Кавуса же на троне не оставлю.
Но как я мог предвидеть, что в бою
Ты, мой отец, решишь судьбу мою?
Теперь, отец, внемли мое веленье:
Хаджира здесь держу я в заточенье.
Я тосковал душою о тебе,
Расспрашивал его я о тебе,
Но правды не услышал от Хаджира.
Его сотри ты со скрижали мира.
Он — лживый — нас с тобою разлучил,
Он жизнь мне и надежду омрачил.
Отцовским огражденный талисманом,
Я мчался, верил — встречусь с Тахамтаном.
Что ж, небосвод решил судьбу мою,
Что буду я отцом убит в бою.
Так, видно, суждено мне на роду:
Как молния приду, как вихрь уйду».
От скорби захватило дух в Рустаме,
Пылало сердце, тмился взор слезами.
Как пыль, взвился, вскочил он на коня.
Помчался, полон горя и огня.
Предстал он войску своему, рыдая,
Раскаянием горьким дух терзая.
Иранцы, увидав его живым,
Всем войском ниц склонились перед ним.
В слезах они творца благодарили,
Что жив Рустам вернулся, в прежней силе,
Но видят люди: разодрав кафтан,
Прах на голову сыплет Тахамтан,
Мужи спросили: «Что с тобой случилось?
О чем скорбишь? Скажи нам, сделай милость!»
И он, рыдая, войску возвестил,
Как дорогого сына он убил.
И в прах все пали и взрыдали разом,
Вновь у Рустама омрачился разум.
Богатырям Ирана молвил он:
«Вот — тела я и сердца я лишен.
Довольно войн! — не то нам месть господня!
Всем хватит зла, что я свершил сегодня».
В разодранной одежде из шатра,
Рыдая, вышел к брату Завара.
Рустам, увидя плачущего брата,
Поведал все ему, тоской объятый:
«Я страшное злодейство совершил!
Беду такую снесть не хватит сил…
Я поразил единственного сына,
Убил я молодого исполина,
Дитя свое убил на склоне лет,
Мне утешенья в этом мире нет!»
Послал гонца к Хуману: «Витязь чести,
Не вынимай меча из ножен мести.
Теперь ты сам, как вождь, войска веди,
Дабы не вспыхнул бой, ты сам гляди.
Причины нет теперь для битвы нам,
И места нет теперь иным словам».
И скорбный Тахамтан сказал: «О брат мой,
Ты проводи туранцев в путь обратный.
До берега Джейхуна проводи,
Чтоб целы все ушли, ты сам гляди».
Дав клятву все исполнить Тахамтану,
Как вихрь, помчался Завара к Хуману.
Поникнув головой, Хуман сказал:
«Увы! Сухраб напрасной жертвой пал!
Хаджир виновен. Меркнет светоч мира
По злобе вероломного Хаджира.
Сухраб не раз Хаджира вопрошал,
Рустама же Хаджир не указал.
Во лжи он потонул, во зле, в позоре,
И нас такое поразило горе…»
Тут Завара к Рустаму поспешил,
Ему слова Хумана сообщил.
Сказал, что из-за низкой лжи Хаджира
Погиб Сухраб, померк светильник мира.
Потрясся духом скорбный Тахамтан,
Кровавый встал в глазах его туман.
Он в крепость прискакал, к Хаджиру прянул,
Взял за ворот его и оземь грянул.
И, выхватив из ножен острый меч,
Он голову хотел ему отсечь.
Сбежались все, Рустама умолили,
От гибели Хаджира защитили.
И возвратился вновь туда Рустам,
Где умирал Сухраб его. И там
Все собрались войска. Там был Руххам,
Там были Тус, Гударз и Густахам.
Пришли почтить Сухраба дорогого,
Все сняли узы языка и слова:
«Йездан лишь может горе облегчить,
Йездан лишь может рану исцелить!»
И возопил Рустам. Взял в руки меч он,
И голову свою хотел отсечь он.
И бросились мужи к нему с мольбой,
И лили слезы перед ним рекой.
Сказал Гударз: «Всем нам погибель, сирым,
Коль ты решил расстаться с этим миром!
Себя мечом своим ты истребишь,
Но сыну жизни ты не возвратишь.
А коль Сухраба должен век продлиться,
Зачем звезда Рустамова затмится?
Никто не вечен. Хоть живи сто лет,
Всяк осужден покинуть этот свет.
И будь то воин или шах Ирана,
Мы — дичь неисследимого аркана.
Наступит время, всех нас уведут
На некий Страшный на безвестный суд.
Длинна иль коротка дорога наша —
Для всех равно, — дана нам смерти чаша.
Как поразмыслить, то сейчас навзрыд
Оплакать всех живущих надлежит!»
Тогда сказал Гударзу Тахамтан:
«Эй, светлый духом славный пахлаван!
Скачи скорей к Кавусу с просьбой слезной,
Скажи, что я бедой постигнут грозной,
Нанес я рану сыну своему
И что я сам за ним сойду во тьму.
И если шах добра не забывает,
Пусть он в беде моей посострадает.
У шаха — это всем известно нам —
Хранится чудодейственный бальзам.
Врачует раны он своею силой,
Дарует жизнь стоящим над могилой.
Так пусть же царь бальзама мне нальет
В кувшин с вином — и поскорей пришлет.
И станет сын мой, к жизни возвращенный,
Подобно мне — слугою вечным трона!»
Гударз коня, как ветер, устремил,
Кавусу то послание вручил.
Сказал Кавус: «Я равного не знаю
Рустаму. Лишь ему я доверяю.
Я не хочу, чтоб видел горе он,
Он мной любим и больше всех почтен.
Но не хочу казниться в укоризне:
Коль сын Рустама возвратится к жизни,
Рустама мощь удвоится — и он
Меня погубит — рухнет Кеев трон.
Рустам сказал мне: «Кто такой твой Тус?
Что для меня и сам ты, шах Кавус?»
Нам тесен мир с двумя богатырями,
С их фарром, палицами и плечами!
Ведь тот Сухраб напал на мой шатер,
Ко мне он лапу львиную простер.
Ведь головы меня лишить он клялся,
Мой череп на кол насадить он клялся.
Он клялся целый мир завоевать,
Ему ль у трона моего стоять?
Да стань он у дверей моих слугою,
К нему теперь я не склонюсь душою.
Когда на стан мой он, как тигр, напал,
Обидные слова он мне бросал.
Он осрамил меня перед глазами
Богатырей моих, перед войсками.
И если он останется в живых,
Останется лишь прах в руках моих.
Коль ты его не помнишь речи дикой,
Ты — не мудрец, Гударз, не муж великий!
Грозил он: «Всех убью, сожгу огнем,
А шаха, мол, повешу я живьем!»
Коль выживет он — от него, пожалуй,
Все разбегутся — и большой и малый.
А кто врага лелеет своего,
Безумцем в мире назовут того».
Гударз, услышав, духом омрачился,
Быстрей, чем вихрь, к Рустаму возвратился.
Сказал он: «Нрав владыки, полн вражды,
Приносит ядовитые плоды.
Нет равного ему в жестокосердье!
Что труд ему? Что верность? Что усердье?
Ты сам к нему не медля поспеши,
Не просветишь ли мрак его души!..»
Рустам велел страдавшего жестоко
Сухраба положить возле потока.
Стать близ него он верным приказал.
Сел на коня и к шаху поскакал.
Едва отъехал он — его догнали
Стенающие слуги и сказали,
Что лев-Сухраб покинул этот мир,
Что гроб ему потребен, а не пир.
Рустам свои ланиты в кровь терзал,
Бил в грудь себя, седые кудри рвал.
Он, спешась, прахом темя осыпал,
Согнулся, будто вдвое старше стал.
Все знатные — в смятенье и в печали —
Вокруг него вопили и рыдали;
«О юноша, о сын богатыря,
Не знавший мира, светлый, как заря!
Подобных не рождали времена,
Не озаряли солнце и луна».
Сказал Рустам: «О, грозная судьбина!
На склоне лет своих убил я сына…
Как дома мне предстать с моей бедой
Перед отцом, пред матерью седой?
Пусть мне они отрубят обе руки!
Умру, уйду от нестерпимой муки…
Я витязя великого убил.
Увы, не знал я, что он сын мне был.
Был Нариман и древний муж Нейрам,
Был воин Заль, и был могучий Сам;
Их слава наполняла круг вселенной.
Я сам был воин мира неизменный.
Но все мы — все ничтожны перед ним,
Перед Сухрабом дорогим моим!
Что я отвечу матери его?
Как я пошлю ей весть? Через кого?
Как объясню, что без вины убил я,
Что сам, увы, не ведал, что творил я?
Кто из отцов когда-либо свершил,
Подобное? Свой мир я сокрушил!»
И принесли покров золототканый,
Покрыли юношу парчой багряной.
Мужи Рустама на гору пошли,
И сделали табут, и принесли.
Сложили труп на ложе гробовое
И понесли, рыдая, с поля боя.
Шел впереди несчастный Тахамтан.
В смятенье был, вопил забульский стан.
Богатыри рыдали пред кострами.
С посыпанными прахом головами.
Трон золотой взложили на костер.
И вновь Рустам над степью вопль простер:
«Такого всадника на ратном поле
Ни мир, ни звезды не увидят боле!
Увы, твой свет и мощь твоя ушли!
Увы, твой светлый дух от нас вдали!
Увы, покинул ты предел земли,
А души наши скорбью изошли!»
Он кровь из глаз, не слезы, проливал,
И вновь свои одежды разрывал.
И сели все богатыри Ирана
Вокруг рыдающего Тахамтана.
Утешить словом всяк его хотел,
Рустам же мукой страшною горел.
Свод гневный сонмы жребиев вращает,
Глупца от мудреца не отличает.
Всем равно во вселенной смерть грозит,
И шаха и раба она разит.
Шах Кей-Кавус, узнав об этом горе,
Средь ночи сам к Рустаму прибыл вскоре.
Промолвил шах: «Эй, славный исполин,
Все в мире — от Албурзовых вершин
До слабенькой тростинки — сгинет в безднах.
Размолото вращеньем сфер небесных.
Когда я издалека увидал,
Какой нам новый исполин предстал,
Увидел мощный стан его и плечи,
Его копье и меч на поле сечи, —
Сказал я — он на тюрков не похож,
Из дома он прославленных вельмож.
Пришел он к нам с огромными войсками,
Увы — твоими он сражен руками!…
О муж, хоть сердцу твоему невмочь,
Чем можешь ты теперь ему помочь?
До коих пор ты убиваться будешь?
Его не оживишь ты, не разбудишь».
Рустам сказал: «Ушел он, мертв лежит,
Но с войском там, в степи, Хуман стоит.
Вельможи Чина, мужи чести с ним,
Ты отрешись от чувства мести к ним».
Ответил шах: «О богатырь, ты знаешь,
Все сделаю я, что ты пожелаешь.
Хоть много зла они мне принесли,
Селенья, города мои сожгли.
Но ты войны не хочешь. Я с тобою
Душой, — нет у меня стремленья к бою.
Чтоб скорбь твою хоть каплей облегчить,
Войскам Сухраба я не буду мстить».
И в степь свою ушли войска Турана…
И шах увел все войско в глубь Ирана.
Увел Кавус войска. Остался там
Над гробом сына плачущий Рустам.
Примчался Завара быстрее дыма,
Сказал; «Ушли туранцы невредимо».
И встал Рустам, в поход свой поднял стан,
За гробом войско шло в Забулистан.
Вельможи перед гробом шли, стеная,
Без шлемов, темя прахом посыпая.
О тяжком горе услыхал Дастан,
И весь навстречу вышел Сеистан.
Поехали за дальние заставы,—
Встречали поезд горя, а не славы.
Заль, гроб увидя, в скорби стан склоня,
Сошел с золотоуздого коня.
В разодранной одежде, в горе лютом,
Шел Тахамтан пешком перед табутом.
Шло войско, развязавши пояса,
От воплей их охрипли голоса.
Их лица от ударов посинели,
Одежд их клочья на плечах висели.
Великий стон и плач поднялись тут,
Как был поставлен на землю табут.
Смертельной мукой Тахамтан томился.
Рыдая, перед Залем он склонился.
Покров золототканый с гроба снял
И так отцу, рыдая, он сказал;
«Взгляни, кто предстоит в табуте нам!
Ведь это — будто новый всадник Сам!»
Настала мука горькая Дастану,
Рыдая, жаловался он Йездану:
«За что мне послан этот страшный час?
Зачем, о дети, пережил я вас?
Столь юный витязь пал. Войскам на диво,
Он был могуч… Померк венец счастливый.
Не родила в минувшем ни одна
Такого витязя, как Тахмина!»
И долго о Сухрабе вопрошал он,
Каков он был; и кровь с ресниц ронял он.
Когда внесли Сухраба на айван,
Опять, упав, заплакал Тахамтан.
Табут увидев, Рудаба, рыдая,
Упала — кровь, не слезы, проливая.
Взывала: «О мой львенок! О, беда!
Померкла радость наша навсегда!
Тебя сразила сфер летящих злоба…
О, хоть на миг один восстань из гроба!
Мой внук, неужто волей звездных сил
Ты мертвым в дом отцов своих вступил?»
Вновь понесли табут вслед Тахамтана.
Вновь плач и стон звучал средь Сеистана.
И сам Рустам парчою гроб закрыл,
Гвоздями золотыми гроб забил.
Сказал: «Создать из золота сумею
Хранилище — и мускусом овею.
Умру — в веках, как за единый час,
Развеется, что мыслю я сейчас.
Что ж прочное построю для него —
Достойное Сухраба моего?»
И он воздвиг гробницу из порфира,
Чтобы стояла до скончанья мира.
Устроил, сердце повергая в мрак,
Из дерева алоэ — саркофаг.
Забили гроб гвоздями золотыми,
Над миром пронеслось Сухраба имя…
И много дней над гробом сына там
Не ведал утешения Рустам.
Но наконец явилась неба милость,
Мук безысходных море умирилось.
Узнав, что в горе стонет Тахамтан,
Весь плакал и скорбел о нем Иран.
О том событье, воротясь в Туран,
Афрасиабу рассказал Хуман.
Та весть повергла шаха в изумленье,
Сказал он; «То не перст ли провиденья?..»
О том, что пал, убит отцом, Сухраб,
В Туране всяк узнал — и князь и раб.
Шах Самангана, — счастья и надежды
Лишенный, — разодрал свои одежды.
И к Тахмине пришло известье в дом,
Что умер сын, заколотый отцом.
От всех — в своем покое — в отдаленье,
Она рвала одежды в исступленье.
Бушуя, как небесная гроза,
Не слезы — лили кровь ее глаза.
Она вопила в муке, и стонала,
И волосы с корнями вырывала.
Она огонь велела разложить
И волосы свои на нем спалить.
«Ты, сын, сказал: «Иду на бой! Мне верь ты!»
И я надеялась. Но где теперь ты?
Мой дух, бессонный взор витал мой там
И вопрошал: «Где сын мой? Где Рустам?»
Я думала, что, счастлив неизменно,
Как солнце, ты проходишь над вселенной,
Что ты искал отца, нашел его…
Ждала, чтоб ты домой привел его!
Не чувствовала даже я, что там,
В степи чужой, тебя убьет Рустам.
Что он не дрогнет сердцем пред тобою,
Перед твоею светлой красотою.
День ясный мой померк, поник во тьму.
Кого теперь я, сын мой, обниму?
О, кто разделит скорбь мою со мною?
Ведь нет тебя! Я от тоски изною!
Увы, чертог пустынен, мертв мой сад…
О сын, поник мой дух, померк мой взгляд!
О богатырь, с какой пошел ты силой
Искать отца, а встретился с могилой.
Ты нес в душе любовь, надежду, честь,—
И мертв ты! Горя мне не перенесть.
Пред тем как обнажил Рустам кинжал,
Что ж ты мой знак ему не показал?
Что в руки талисман ему не вверил?
Быть может, ты, мой сын, в него не верил?
Что ж я с тобою не пошла тогда?
Всех нас тогда бы минула беда!
Меня Рустам бы издали заметил,
Узнал бы и с любовью нас бы встретил.
Не обнажил бы стали исполин
И не убил тебя бы, о мой сын!»
И так она стенала и рыдала,
Что всякая душа ей сострадала.
При виде исступленья Тахмины
Все были мукой за нее полны.
И были так сильны ее страданья,
Что рухнула царевна без сознанья.
И вот, едва в себя пришла, опять
Она о сыне начала рыдать.
Роняла слезы над убитым сыном
Кровавые, подобные рубинам.
К коню Сухраба подошла она,
Коня за шею обняла она
И в грудь его и в морду целовала.
Она, казалось, разум потеряла.
И слез ее кровавых ток стекал,
Возле копыт коня блестя, как лал.
И, обнимая, как дитя, одежды
Сыновние, взывала: «Нет надежды!»
Велела принести доспехи, меч,
И лук его, и украшенья плеч.
И, в кровь лицо ногтями раздирая,
Вновь причитала, сына вспоминая:
«Вот меч твой, шлем, кольчуга, вот твой щит!
А ты где, сын мой милый? Ты убит!»
Аркан его велела с булавою
Принесть и положить перед собою.
Мечом Сухраба в отблесках огня
Велела хвост отрезать у коня.
Все золото с коней сняла она,
И все дервишам раздала она.
Ворот не отпирать она велела,
Сухраба трон убрать она велела.
Разрушить приказала светлый зал,
Где он перед походом пировал.
И черные завесы, как туманы,
Царевна опустила на айваны.
Сама одеждой синей облеклась,[27]
От близких и от мира отрешась.
И день и ночь в тоске была она.
Едва лишь год и прожила она
И умерла, тоски снести не в силе.
И тут — конец печальной старой были.
Теперь, сказитель с разумом пытливым,
Сказанием обрадуй нас красивым.
Когда реченье разуму равно,
Душе певца возликовать дано.
Со слов дихкана повесть напишу я,
Одну из древних былей изложу я.
Я изложил их так, чтобы они
По-новому звучали в наши дни.
Я в год вступаю пятьдесят девятый,
Я много видел, опытом богатый,
Желания и в старости сильны.
Мне звезды прорицают с вышины.
Сказал мобед, чья слава не увянет:
«Вовеки старость юностью не станет».
Тус, и Гударз, и Гив, едва петух
Их разбудил, во весь помчались дух
С другими седоками на охоту,
В степи Дагуй развеяли заботу.
С борзыми соколы неслись вперед,
Ища добычи возле чистых вод.
Доехали до тюркского предела.
От множества шатров земля темнела.
Пред ними роща, зелена, свежа,
У тюркского предстала рубежа.
К ней Тус и Гив направились без страха,
За ними — всадники из войска шаха.
Едва им рощи довелось достичь,
Пустились вскачь, разыскивая дичь.
Красавицу нашли в чащобе дикой,
С улыбкой поспешили к луноликой.
Сказал ей Тус: «Прелестная луна,
Как в роще оказалась ты одна?»
А та: «Я землю бросила родную,
Отец меня избил, и я горюю».
Затем спросил, где род ее и дом.
Поведала подробно обо всем:
«Мой близкий родич — Гарсиваз почтенный,
Мой дальний предок — Фаридун блаженный».
Она внушила страсть богатырям.
Отважный Тус, утратив стыд и cpaм,
Воскликнул: «Я нашел ее сначала!
Мне первому она слова сказала!»
Заспорил Гив: «Решил, возглавив рать,
Что вправе ты себя со мной равнять?»
Тус возразил ему: «Пленен луною,
Сперва подъехал я, а ты за мною».
И в споре до того дошла их речь,
Что нужно деве голову отсечь.
Пошли меж ними ругань и попреки,
Сказал им некто, разумом высокий:
«К владыке отвезите вы звезду
И повинуйтесь царскому суду».
Совету подчиняясь, как приказу,
К царю Ирана поскакали сразу.
Когда узрел Кавус девичий лик,
Любовью загорелся царь владык.
Двум витязям сказал властитель строгий:
«С удачей возвратились вы с дороги».
А ей сказал: «Свой род мне назови,
О пери, созданная для любви!»
Сказала: «Мать к вельможам род возводит,
Отец от Фаридуна происходит».
А царь: «Зачем тебе губить в лесу
Свой знатный род, и юность, и красу?»
Она сказала: «С первого же взгляда
Я избрала тебя, других — не надо».
Царем был каждый витязь награжден,
Обоим дал коней, венец и трон,
А ту, что полюбилась властелину,
На женскую отправил половину.
Прошло немного времени с тех пор.
Весна оделась в радостный убор.
Так небо над красавицей вращалось,
Что ровно девять месяцев промчалось.
Пришли, предстали пред царем страны:
«Счастливый дар прими ты от жены.
Явилось дивное дитя с восходом,
Сравнялся твой престол с небесным сводом!»
И Сиявушем царь назвал дитя.
Он видел в нем вершину бытия.
Ему явило звезд круговращенье
Добро и зло, отраду и мученье.
Кавус увидел: сына ждет беда,
Увы, омрачена его звезда…
Сменялись дни в круженье постоянном.
К царю пришел Рустам, могучий станом:
«Мне своего ты львенка поручи,
Воспитывать ребенка поручи».
Царь долго думал, сидя на престоле,
Слова Рустама принял он без боли.
Вручил Рустаму, радость обретя,
Зеницу ока, витязя-дитя.
Рустам в Забул царевича доставил,
Для мальчика престол в саду поставил.
Учил его аркану и стреле,
Учил стоять в строю, сидеть в седле,
Собраний стал преподавать науку,
Учил его пирам, мечу и луку,
Как на охоту с кречетом скакать,
Как рассуждать и как идти на рать,
Как различать неправый путь и правый,
Как разрешать дела родной державы.
Уча, немало приложил труда
Рустам, пока не получил плода.
И стало так, что Сиявушу равных
На свете не было средь самых славных.
Предстал он пред Рустамом-храбрецом:
«Пришла пора свидания с отцом».
Дал мальчику согласье мощнотелый,
Гонцов он разослал во все пределы,
Велел он столько воинов собрать,
Чтоб Сиявуш сумел возглавить рать.
Сопровождал царевича воитель,
Иначе стал бы гневаться властитель.
Когда он царского дворца достиг,
Пред ним открылся путь, поднялся крик.
В честь Сиявуша раздались хваленья,
Рассыпались и злато и каменья.
Сидел Кавус на троне во дворце
В рубинами сверкающем венце.
Царевич пред отцом к земле склонился,
Как будто тайной он с землей делился,
Приблизился к владыке наконец —
В объятья заключил его отец.
И удивился царь его величью,
Воздал хвалу и стану, и обличью,
И вышине, и гордой мощи льва,
Предвидел, что пойдет о нем молва.
Похвал творцу провозгласил он много,
Упал на землю, прославляя бога…
Большое было пиршество дано.
Потребовали музыку, вино.
Так целую неделю веселились.
Затем врата сокровищниц раскрылись.
Собрал Кавус дары из всех вещей:
Из перстней, и престолов, и мечей,
Из скакунов арабских, седел ценных,
Из панцирей, кольчуг, одежд военных,
Из денег, из блестящих кошелей.
Из бархата, из дорогих камней.
Лишь для короны время не приспело:
Носить корону — не ребячье дело.
Сокровища он сыну подарил,
Надеждой, благом сына озарил.
Был Сиявуш семь лет на испытанье —
Являл он ветви царственной блистанье.
А год восьмой настал — велел отец
Державный пояс, золотой венец
Вручить ему по царскому уставу,—
О чем оповестили всю державу.
Дал сыну во владенье Кухистан,—
Был Сиявуш величьем осиян.
Знаком тебе Мавераннахр? Вначале
Ту землю Кухистаном величали.
Правленья он спешил принять дела,
Но мать у Сиявуша умерла.
Поднялся он с престола, потрясенный,
Он к небу вопли обратил и стоны,
Порвал одежды, плакал, как больной,
Главу посыпал темною землей.
Познал он месяц горя и смятенья,
Ни разу не вкусил успокоенья.
Из глаз Гударза слезы полились,
Когда взглянул на скорбный кипарис.
«Царевич, — он сказал с тоской во взоре,—
Послушай мой совет, забудь о горе.
От смерти не уйти, таков закон,
Умрет любой, кто матерью рожден».
Царевич внял моленьям и советам,
И сердце озарилось прежним светом.
Сидел с отцом царевич молодой.
Царица Судаба вошла в покой.
Она в глаза взглянула Сиявушу,
И сразу страсть в ее вселилась душу.
Отправили к царевичу раба,
Сказать велела тайно Судаба:
«Свободно приходи ко мне отныне,
Я жду тебя на женской половине».
Явился с этой вестью низкий муж.
Пришел в негодованье Сиявуш:
«Противно мне предательство такое,
Нельзя входить мне в женские покои!»
Спустилась на дворец ночная мгла,
К царю поспешно Судаба пришла,
Сказала так: «Владеющий страною,
Ты выше всех под солнцем и луною.
Твой сын да будет радостью земли,—
Нет ни вблизи подобных, ни вдали!
Прошу: пришли его в приют наш мирный,
К прелестным идолам твоей кумирни.
Мы воздадим ему такой почет,
Что древо поклоненья расцветет.
Он похвалы услышит и приветы,
Мы разбросаем в честь его монеты».
Царь молвил: «Хороши твои слова,
В тебе любовь ста матерей жива».
Царевича позвал, сказал: «Не в силах
Мы скрыть любовь и кровь, что льется в жилах,
Ты создан так, что, глядя на тебя,
Все люди тянутся к тебе, любя.
Сестер найдешь за пологом запретным,
Не Судабу, а мать с лицом приветным!
Ступай, затворниц посети приют,
И там тебе хваленья воздадут».
Но сын, услышав это повеленье,
Смотрел на государя в изумленье.
Не испытать ли хочет властелин,
Что втайне от него задумал сын?
«Царь, — Сиявуш сказал, — тебе я внемлю.
Ты мне вручил престол, венец и землю.
К ученым, к мудрецам направь мой путь,
У них я научусь чему-нибудь.
А могут ли на женской половине
Пути к Познанью указать мужчине?»
А царь: «Душа моя тобой горда.
Для разума опорой будь всегда!
Не надобно таить в уме дурное,
Убей печаль и радуйся в покое.
Ступай, на дочерей моих взгляни,
Быть может, счастье обретут они».
Ответствовал царевич: «Утром рано
Пойду, как приказал мне царь Ирана.
Вот я теперь стою перед тобой,
Готов исполнить твой приказ любой».
Жил некий человек с открытым взглядом,
С безгрешной плотью; звался он Хирбадом.
Когда явилась из-за гор заря,
Покорный сын предстал глазам царя,
Пришел к отцу с хваленьем и поклоном.
С ним поделившись словом потаенным,
Кавус призвал Хирбада и сперва
Сказал ему достойные слова.
«Ступай за ним, — велел он Сиявушу,—
Ты новым зрелищем украсишь душу».
Пошли вдвоем — тот праведник святой
И юноша, сиявший чистотой.
Хирбад завесу распахнул, и снова
Царевич опасаться стал дурного.
Пред ним открылась райская страна,
Красавиц, драгоценностей полна.
Сверканием, не виданным доныне,
Сверкал престол на женской половине.
На троне — повелителя жена,
Как райский сад, нарядна и нежна,
Явилась, как звезда Сухейль, блистая.
На голове корона золотая,
Трепещут, вьются завитки кудрей,
Коса — до пят и мускуса черней…
Едва лишь полог поднял он тяжелый,
Спустилась быстро Судаба с престола,
К нему с поклоном плавно подошла,
Объятьем долгим, страстным обняла.
Он понял: «Это грешные объятья,
Любовь такую не могу принять я!»
Чтобы не видеть мачехи своей,
Направился он к сестрам поскорей.
Хвалу воздали брату молодому,
Ведя его к престолу золотому.
Повел царевич с ними разговор,
И наконец покинул он сестер.
Пришел к отцу и молвил властелину:
«Я женскую увидел половину.
Есть у тебя вселенной благодать,
Не вправе ты на господа роптать.
Казной и войском, славой и удачей
Хушанга и Джамшида ты богаче».
От этих слов возликовал отец,
Как вешний сад, украсил он дворец,
И стали пировать, внимая сазу,—
О будущем не вспомнили ни разу.
Явилась ночь, настала тьма вокруг,
Пришел к царице государь-супруг.
Чтоб испытать жену, сказал он слово:
«Открой свою мне тайну без покрова.
Что можешь ты про ум, и вид, и стать,
И знания царевича сказать?»
«Вот мой совет, — ответила царица,—
С ним Сиявуш, быть может, согласится.
Не у вельмож, а в царственном роду
Ему я в жены девушку найду,
Чтоб сына принесла с таким же ликом,
Чтоб так же был, как Сиявуш, великим.
На чистой дочери женю его
От семени и дома твоего».
А царь: «Согласен я с твоим советом,
Мое величье и надежда — в этом».
Затем к владыке Сиявуш пришел,
Восславил он корону и престол.
С ним тайной поделился царь на троне,
Чтоб тайну не услышал посторонний:
«Хочу я, чтоб тебя запомнил свет,
Чтоб царствовал твой сын тебе вослед.
Я звездочетов расспросил, мобедов,
И я узнал, твою звезду изведав:
Из твоего потомства царь придет,
И память сохранит о нем народ.
Возьми жену из дома Кей-Пашина,
Достойную величья властелина».
Ответил Сиявуш: «Я — раб царю,
Твою, владыка, волю я творю.
Я одобряю выбор твой заране,
Над нами повелитель ты в Иране.
Не говори об этом Судабе:
Увидишь, воспротивится тебе.
Есть у нее желание другое,
Мне делать нечего в ее покое».
Смеялся царь, качая головой:
Не знал, что есть болото под травой.
Сказал: «Должна быть женщиною сваха,
Не думай дурно о супруге шаха.
В ее словах — любовь к тебе слышна,
И о тебе заботится она».
Царевич принял эту речь как милость,
От горьких дум душа освободилась.
Но втайне ждал удара от судьбы,
Он опасался козней Судабы.
Он понял: этот брак — ее затея,
Стонал он, телом и душой болея.
Так ночь прошла, и над землей опять
Светило утра начало сиять.
Воссела Судаба на трон старинный,
Пылали кровью на венце рубины.
Велела, чтоб нарядным цветником
Расположились дочери кругом.
Затем Хирбаду молвила царица:
«Царевичу вели ко мне явиться.
Для матери, — скажи ты, — потрудись,
Ей хочется взглянуть на кипарис».
Придя туда, где жил царевич славный,
Ему принес известье добронравный.
Впал Сиявуш в отчаянье, едва
Услышал он лукавые слова.
Он способов искал, чтоб уклониться,
Но опасался: в гнев придет царица.
Он величаво к Судабе вошел,
Ее венец увидел и престол.
Царица встретила его степенно,
Сложила руки на груди смиренно,
Красавиц к Сиявушу привела,—
Не знали те жемчужины сверла!
Между собою девушки шептались,
Не смели на него смотреть, смущались.
Они ушли, и каждая из них
Надеялась, что он — ее жених.
Когда ушли, воскликнула царица:
«Ты долго будешь предо мной таиться?
Скажи мне слово, помыслы открыв.
О богатырь, как пери, ты красив!
Едва лишь взглянет на тебя любая.
Сойдет с ума, любви твоей желая.
Внимательно взгляни на дочерей:
Какую хочешь ты назвать своей?»
Молчал царевич. Судаба сказала,
Освободив лицо от покрывала;
«О, если б юный месяц и заря
Могли увидеть нового царя!
О, если б ты в союз вступил со мною,
Ко мне пришел бы с легкою душою!
Мы клятвою скрепили б договор…
Но почему ты потупляешь взор?
Когда уйдет из мира царь великий.
Ты памятью мне будешь о владыке.
Перед тобой, красавец, я стою,
Тебе и плоть и душу отдаю.
Твои желанья выполню без счета,
Сама хочу попасть в твои тенёта».
Приблизила уста к его устам,
Бесстыжая, забыла всякий срам.
Не ожидал царевич поцелуя,
Он покраснел, стыдясь и негодуя.
«Меня, — подумал, — искушает бес,
Но мне поможет властелин небес.
Вовек не оскорблю отца обманом,
Не заключу союза с Ахриманом.
Но если буду холоден — вскипит
Ее душа, утратившая стыд.
Она тайком ловушку мне расставит,
Властителя поверить ей заставит.
Не лучше ль будет, если госпожу
Я мягкими словами ублажу?»
Тогда сказал царевич: «Несравненной,
Тебе подобных нет во всей вселенной.
Тебя сравнить возможно лишь с луной,
Ты только шаху можешь быть женой.
А для меня и дочь твоя — награда,
Иной супруги мне теперь не надо.
Об этом доложи царю страны,
А мы его решенья ждать должны.
Я дочь твою хочу, союз скрепляю,
Тебе в залог я слово оставляю;
Женюсь на ней — даю тебе обет,—
Лишь нынешних моих достигнет лет».
Сказав, ушел царевич светозарный,
Пылала страсть в ее душе коварной.
Когда явился царь в покой жены,
Взглянула на властителя страны,
Поклон ему отвесила сначала,
О деле Сиявуша рассказала;
«Я собрала месяцеликих дев,
А он, моих красавиц оглядев,
Сказал, что дочь мою возьмет он в жены,
Других не выбрал сын, тобой рожденный».
Возликовал от этих слов Кавус,
Как будто с небом он вступил в союз!
Раскрыл сокровищницы, кладовые,
Достал парчу и пояса златые,
Богатствами наполнил мир земной:
Любой подарок целой был казной.
Сказал жене: «Я слово не нарушу.
Сокровища вручишь ты Сиявушу.
«Их мало, — скажешь сыну в нужный час,—
Их надо увеличить в двести раз».
Взглянула мрачно на него царица
Подумала: «Мне надобно решиться.
Должна я хитрость применить и ложь,
Ведь каждый способ для меня хорош.
А если не понравлюсь Сиявушу,
То клевету я на него обрушу».
Воссев на трон, как только вышел шах,
В златом венце, с сережками в ушах,
Царевичу прийти велела снова,
Поведала ему такое слово:
«Тебе подарки сделал царь страны.
Парче, венцу, престолу — нет цены!
Тебе я в жены дочь отдать согласна…
Взгляни, как я в своем венце прекрасна!
Так почему не хочешь ты принять
Мою любовь, и страсть, и лик, и стать?
Семь лет тебя люблю я той любовью,
Что на моем лице пылает кровью.
Прошу немного сладости твоей:
Хотя бы день от младости твоей!
Отец тебе подарок дал бесценный,
А я тебе вручу венец вселенной!
Но если страсть мою не утолишь,
Но если боль мою не исцелишь,
Не допущу тебя к державной власти,
Я превращу твой светлый день в ненастье!»
А Сиявуш: «Не быть тому, чтоб в грязь
Я окунулся, страсти покорясь,
Чтоб я Кавуса обманул и предал,
Чтоб низости дорогу я изведал.
Жена царя, ты озаряешь всех,
Ты не должна такой содеять грех».
Царица с гневом поднялась, обруша
Проклятья, брань и злость на Снявуша.
Сказала: «Сердце пред тобой светло
Раскрыла я, а ты задумал зло».
Она разодрала ногтями щеки,
Разорвала одежды в час жестокий,
И до придворных донеслись мольбы,
И жалобы, и вопли Судабы.
Ушей царя достигли эти крики,
Оставил Кей-Кавус престол владыки,
Исполнен дум, покинул он престол,
На половину женскую прошел.
Сумятицу он во дворце увидел,
Кровь, слезы на ее лице увидел.
Не знал, он, омраченный, что грешна
Его каменносердая жена.
Царица волосы рвала, рыдая,
Вопила перед ним, полунагая:
«Твой сын пришел ко мне к исходу дня,
В своих объятьях крепко сжал меня,
Сказал. «Пылают плоть моя и разум,
Ужель мою любовь убьешь отказом?»
Он сбросил мой венец. О царь, гляди:
Одежду он сорвал с моей груди!»
Властитель погрузился в размышленья,
Желал узнать различные сужденья.
Он слуг своих, чьи преданны сердца
И ум высок, отправил из дворца.
Один сидел на троне властелина.
Потом позвал к себе жену и сына.
Спокойно, мудро начал говорить:
«Мой сын, ты должен тайну мне открыть.
Всю правду обнажи и покажи мне,
О том, что здесь случилось, расскажи мне».
Поведал Сиявуш о Судабе,
Всю правду изложил он о себе.
«Неправда! — вскрикнула царица гневно.—
Лишь я нужна ему, а не царевна!
«Мне, — он сказал, — не надобна казна,
Мне дочь твоя в супруги не нужна,
Лишь ты нужна мне, ты — моя отрада,
А без тебя мне ничего не надо!»
Я воспротивилась его любви,
И вот — он вырвал волосы мои».
Подумал царь: «Что предприму теперь я?
К речам обоих нет во мне доверья.
Не торопясь, мы к истине придем:
Непрочен ум, охваченный огнем».
Искал он средство, чтоб развеять муки,
Сперва обнюхал Сиявушу руки,
Обнюхал стан, и голову, и грудь,—
Ни в чем не мог он сына упрекнуть.
А Судаба благоухала пряным
Вином, душистым мускусом, шафраном.
Был сын от этих запахов далек,
И плоть его не охватил порок.
Кавус на Судабу взглянул с презреньем,
Душа его наполнилась мученьем.
Подумал он: «Поднять бы острый меч,
На мелкие куски ее рассечь!»
Увидел царь, что Сиявуш безгрешен.
И мудростью его он был утешен.
Царица поняла, познав позор,
Что муж ее не любит с этих пор,
Но гнусного не оставляла дела,
Чтоб древо злобы вновь зазеленело.
В ее покоях женщина жила,
Полна обмана, колдовства и зла.
Она была беременна в то время,
Уже с трудом свое носила бремя.
Царица, с ней в союз вступив сперва,
Открылась ей, просила колдовства,
Дала ей за согласье много злата,
Сказала: «Тайну сохраняй ты свято.
Свари ты зелье, выкини скорей,
Но только тайны не открой моей.
Скажу царю: «Беременна была я,
От Ахримана — эта участь злая».
И, Сиявуша в том грехе виня,
Скажу царю: «Он соблазнил меня».
Ответила колдунья: «Я готова
Исполнить каждый твой приказ и слово».
Сварив, вкусила зелья в ту же ночь,
И семя Ахримана вышло прочь;
Но так как семя было колдовское,
То вышло не одно дитя, а двое.
Услышал государь и плач и стон,
Он задрожал, его покинул сон.
Спросил, — предстали слуги пред владыкой,
Поведали о горе луноликой.
От подозрений стал Кавус угрюм,
И долго он молчал, исполнен дум.
Так размышлял он: «Будет ли достойно,
Чтоб я отнесся к этому спокойно?»
Затем решил он: «Пусть ко мне придет
Прославленный в науке звездочет».
Нашел в Иране, вызвал просвещенных,
Он усадил в своем дворце ученых.
Им рассказал властитель о войне
В Хамаваране, о своей жене,
Поведал им о выкинутых детях,
Просил не разглашать рассказов этих.
Пошли, прочли страницы звездных книг,
И были астролябии при них.
Семь дней мобеды, втайне от царицы,
Исследовали звездные таблицы.
Затем сказали: «Не ищи вина
В той чаше, что отравою полна.
Та двойня, — мы раскрыли вероломство,—
Не шаха, не жены его потомство».
Они сумели точно указать,
Кто близнецов злокозненная мать.
Поволокли охваченную страхом,
Обманщица склонилась перед шахом.
Добром поговорил владыка с ней,
Он посулил ей много светлых дней.
Но грешница ни в чем не сознавалась,
Помощницей царю не оказалась.
Тогда колдунью увели на двор,
Сулили ей тюрьму, кинжал, топор,
Но грешница твердила: «Я невинна,
Я правды не таю от господина».
Поведали царю ее слова.
То дело было тайной божества.
Велел властитель Судабе явиться.
Мобедам внемлет в трепете царица:
«Колдунья выкинула двух детей,
А произвел их Ахриман-злодей».
Сказала Судаба, силки сплетая:
«О царь! У двойни тайна есть другая.
Известно, что Рустам непобедим,
Что даже лев трепещет перед ним.
Боясь его, знаток науки звездной
То скажет, что Рустам прикажет грозный.[28]
Не плачешь ты, о дитятках скорбя,
А я осиротею без тебя»
От этих слов Кавус поник в печали.
Царь и царица вместе зарыдали.
Познав печаль, царицу отпустив,
Он пребывал угрюм и молчалив.
Владыке звездочет сказал: «Доколе
Терзаться будешь ты от скрытой боли?
Тебе любезен сын твой дорогой,
Но дорог и души твоей покой.
Возьмем другую сторону: царица
Заставила тебя в тоске томиться.
Мы правду одного из них найдем,
Подвергнув испытанию огнем!
Услышим небосвода приказанье:
Безгрешного минует наказанье».
Жену и сына вызвал царь к себе,
Сказал он Сиявушу, Судабе:
«Вы оба причинили мне мученье,
Узнаю лишь тогда успокоенье,
Когда огонь преступника найдет
И заклеймит его из рода в род».
Сказала Судаба: «Вот грех великий:
Я выкинула двух детей владыке.
Я эту правду повторю при всех.
Ужели есть на свете больший грех?
Ты сына испытай: в грехе виновен,
Не хочет он признаться, что греховен».
Владыка задал юноше вопрос:
«А ты какое слово мне принес?»
Сказал царевич, не потупя взгляда:
«Теперь я презираю муки ада.
Гора огня? И гору я пройду.
А не пройду — к позору я приду!»
Двумя горами высились поленья.
Где числа мы найдем для их счисленья?
Проехал бы с трудом один седок:
Так был проход меж ними неширок.
Велел Кавус, властитель непоборный,
Чтобы дрова облили нефтью черной.
Зажгли такое пламя двести слуг,
Что полночь в полдень превратилась вдруг.
Царевич, возвышаясь надо всеми,
К владыке в золотом подъехал шлеме.
Он прискакал на вороном коне,
Пыль от его копыт взвилась к луне.
Улыбка на устах, бела одежда,
И разум ясен, и светла надежда.
Всего себя осыпал камфарой,
Как бы готовясь лечь в земле сырой.
Казалось, что вступает он, сверкая,
Не в пламя жгучее, а в кущи рая!
Почтительно к отцу подъехал он,
И спешился, и сотворил поклон.
Лицо Кавуса от стыда горело.
Сказал он слово мягко и несмело.
Ответил Сиявуш: «Не сожалей,
Что таково круговращенье дней.
Меня снедают стыд и подозренье.
Когда безгрешен я — найду спасенье,
А если грешен я — тогда конец:
Не пощадит преступника творец».
Затем, входя в огонь многоязыкий,
Взмолился к вездесущему владыке:
«Дай мне пройти сквозь языки огня,
От злобы шаха защити меня!»
О милости прося творца благого,
Погнал, быстрее вихря, вороного.
В толпе людской тогда поднялся крик,
Сказал бы ты: весь мир в тоске поник.
Мир на царя смотрел, но с думой злою:
Уста полны речей, сердца — враждою.
Взметались к небу языки огня,
Не видно в них ни шлема, ни коня.
Вся степь ждала, что витязя увидит,
Рыдала: «Скоро ль из огня он выйдет?»
И вышел витязь, чья душа чиста.
Лицо румяно, радостны уста.
Он вышел из огня еще безгрешней,—
Был для него огонь, что ветер вешний.
Огня прошел он гору невредим,—
Все люди радовались вместе с ним.
Везде гремели радостные клики,
Возликовали малый и великий.
Передавалась весть из уст в уста
О том, что победила правота.
Невинный сын предстал пред очи шаха,
На нем — ни пепла, ни огня, ни праха.
Сошел с коня могучий царь земли,
Все воины его с коней сошли.
Приблизился царевич светлоликий,
Облобызал он землю пред владыкой.
«Ты благороден, юный мой храбрец,
Ты чист душой», — сказал ему отец.
Он обнял сына и не скрыл смущенья,
За свой проступок попросил прощенья,
Прошествовал властитель во дворец
И возложил на голову венец.
Певцов и кравчих он позвал для пира,
Царевича ласкал властитель мира.
Три дня сидели, пили без забот,
И был открыт в сокровищницы вход.
На трон воссел властитель с булавою,
Украшенною бычьей головою.
Позвал царицу, гневом обуян,
Припомнил ей коварство и обман:
«Бесстыжая, ты в сердце зло таила,
Меня отравой щедро напоила.
Нельзя, чтоб ты ходила по земле,
А надо, чтоб висела ты в петле!»
Велел он палачу: «Ей так пристало,—
На улице повесь без покрывала!»
Но сын к Кавусу обратил мольбу:
«Раскаешься, повесив Судабу.
Прости ей ради сына грех безмерный,
Быть может, вновь на путь наставишь верный».
Кавус любовь к жене забыть не мог,
Простил он грех, когда нашел предлог:
«Раз просишь ты, прощенье ей дарую,
Твою познал я правоту святую».
Встал Сиявуш, поцеловал престол,
Сошел с престола, к Судабе пошел,
Привел царицу в царские чертоги,
И грешницу простил властитель строгий…
Так, день за днем, прошло немало дней.
Стал относиться шах к жене теплей.
Вновь полюбил с такою силой страсти,
Что в ней одной свое он видел счастье.
Она же, вновь ему внушив любовь,
Его толкала на дурное вновь.
Дурное происходит от дурного,
О сыне дурно стал он думать снова.
Охвачен страстью, вдруг услышал шах
От приближенных, сведущих в делах:
Пришел Афрасиаб, готовый к бою,
Сто тысяч тюрков он привел с собою.
Стеснилось сердце у царя страны:
Пиры любви покинул для войны.
Иранцев он собрал, высоких саном,
Людей, что были преданы Кейанам.
Сказал: «Нагрянул туран-шах сейчас.
Но чем он отличается от нас?
Иль бог его не сотворил единый
Из ветра и огня, воды и глины?
С горящей местью выйду я к нему,
И день врага повергну я во тьму».
«Зачем тебе идти на поле брани,—
Сказал мобед, — иль нет других в Иране?
К сокровищницам движутся враги,—
Сокровища свои побереги.
Неосторожно ты сражался дважды —
И с троном и венцом прощался дважды.
Теперь отправь ты витязя на рать,
Достойного сражаться и карать».
А царь: «Не вижу в этом я собранье
Способного пойти на поле бранн,
Разбить врага, что угрожает нам,
А я пойду — как судно по волнам!»
Стал думу думать Сиявуш молчащий,
В душе метались мысли, словно в чаще:
«Я ласково с отцом поговорю,
«Хочу пойти на бой», — скажу царю.
А вдруг меня избавит бог великий
От мачехи, от ревности владыки?
К тому же я прославиться могу,
Когда я учиню разгром врагу».
Пришел к отцу, решителен, спокоен.
«Мне кажется, — сказал, — что я достоин
На тюркского царя пойти в поход,
Во прах повергнуть вражьих воевод».
Господь, как видно, предрешил заране,
Что душу он свою отдаст в Туране!
Согласье дал царевичу отец.
К отмщенью опоясался храбрец.
Рустама царь позвал; с могучим в сече
Повел властитель ласковые речи,
Сказал: «Слона ты силою затмил,
Рука твоя щедрей, чем щедрый Нил.
Мой Сиявуш пришел, готовый к бою,
Как лев бесстрашный, говорил со мною.
Он хочет на врага пойти войной,
Ты будь ему защитой и броней.
Засну, когда ты будешь недреманным,
Заснешь — я буду в страхе постоянном».
«Я — раб царю, — ответствовал Рустам,—
Я подчиняюсь всем твоим словам.
Твой Сиявуш — моя душа и око,
Венец его — мой светоч без порока».
Открыл Кавус для воинов страны
Врата сокровищ и врата казны.
Из всадников, воителей умелых,
Избрал двенадцать тысяч самых смелых.
Сказал властитель: «Ваша цель светла,
Славнейшим вашим именам — хвала!
Пусть вам сопутствует повсюду счастье,
Пусть на врага обрушится ненастье.
Идите, будьте радостны в пути,
Желаю вам с победою прийти!»
Заплакал царь, исполненный тревоги,
С царевичем провел он день в дороге.
Вот обнялись они в последний раз,
И кровь, ты скажешь, хлынула из глаз,—
Так дождь из облаков весенних льется.
Расстались, плача, оба полководца,
Предчувствовало сердце, что черед
Свиданья за разлукой не придет…
Кавус вернулся во дворец обратно,
А Сиявуш с могучей силой ратной
Направился в Забул: к родным местам,
К Дастану витязя привел Рустам.
У Заля Сиявуш познал отраду,
Он песен и вина вкушал усладу.
Порой на троне восседал, как шах,
Охотился порою в камышах.
А через месяц в путь войска пустились,
С Дастаном сын и Сиявуш простились.
Царевич прибыл вскоре в Мерверуд.
Был небесам угоден ратный труд!
Дошел до Балха, жителей увидел
И никого речами не обидел.
Меж тем навстречу в этот грозный час
Вели войска Барман и Гарсиваз,
А замыкал их Сипахрам суровый.
Пришла к ним весть, что полководец новый
Собрал в Иране мощные полки,
Бойцы — прославленные смельчаки.
Нет выбора: вступить в сраженье сразу
Пришлось воинственному Гарсивазу.
Произошли две битвы за три дня.
Воитель Сиявуш погнал коня.
Закрыть велел он пешим все проходы.
Столкнулись перед Балхом воеводы.
Увидел Сипахрам: беда близка,—
И за реку погнал свои войска…
Затем к Афрасиабу, туран-шаху,
Примчался Гарсиваз, подобный праху.
Предстал он с речью горькой и дурной:
«Воитель Сиявуш пришел с войной,
С ним витязи, готовые сразиться,
Большая рать, Рустам-войскоубийда!»
Пришел Афрасиаб в ужасный гнев,
Как пламя взвился, ликом потемнев.
На Гарсиваза так взглянул он, будто
Рассечь его хотел он в злобе лютой.
Прогнал его, готов судьбу проклясть,
Над буйным гневом потерял он власть.
Он тысячу созвал высоких званьем,
Хотел развеять горе пированьем,
Велел украсить степь из края в край,
Чтоб Согдиана превратилась в рай.
В смущенье день провел за чашей пира,
И не сиял владыке светоч мира.
Афрасиаб, не раздеваясь, лег,
Ворочался, вздыхал, заснуть не мог.
Едва лишь треть минула ночи краткой,—
Как человек, что болен лихорадкой,
Внезапно возопил Афрасиаб,—
Дрожал, метался, жалок был и слаб.
Проснулись приближенные и слуги,
Стенанья, крики подняли в испуге.
Когда от слуг услышал Гарсиваз
О горе неожиданном рассказ,
К царю Турана поспешил он в страхе,
Увидел: царь валяется во прахе.
К владыке обратился он с мольбой:
«Раскрой уста, поведай, что с тобой?»
Афрасиаб с тоскою молвил слово:
«О, пусть никто не видит сна такого!
В пустыне змеи полчищем ползли,
Орлы — на небе и земля — в пыли.
Поднялся ветер, тучи праха двинул,
Моей державы знамя опрокинул.
Потоки крови залили простор
И потопили царский мой шатер.
Тогда в одеждах черных верховые,
Сто тысяч, вскинув копья боевые,
Примчались, бросили меня во прах,
С позором повели меня в цепях.
Привел меня к Кавусу витязь некий,
Чью гордость не забуду я вовеки.
Увидел трон, достигший до луны,
Кавус на троне — государь страны.
Сидел с Кавусом рядом юный воин,
Который был месяцелик и строен,
Не более четырнадцати лет.
В глазах его зарницы вспыхнул свет,
Он загорелся ненавистью жгучей,
И стал он громовержащею тучей:
Едва лишь я предстал его глазам,
Меня мечом рассек он пополам.
От страшной боли закричал я дико,
Проснулся я от боли и от крика».
А Гарсиваз: «Да будет этот сон
Добросердечным мужем разъяснен.
Нам нужен толкователь сновидений,
Не знающий в науках заблуждений».
Рассеянные по лицу земли
И при дворе живущие — пришли
К царю снотолкователи-мобеды:
Узнать, зачем позвал их для беседы.
Без меры золота вручил им шах,
Чтоб мудрецы забыли всякий страх.
Затем поведал им о сне тяжелом.
Когда мобед, стоявший пред престолом,
Рассказ из уст царя услышал вдруг,
Взмолился он, почувствовав испуг:
«Тогда лишь правду я тебе открою,
Когда ты вступишь в договор со мною.
Ты дай мне слово милости в залог,
Чтоб истину тебе сказать я мог».
Пообещал пощаду царь Турана:
Мол, все, что скажешь, будет невозбранно.
«О падишах! — ответствовал мобед.-
Пролью на то, что скрыто, ясный свет.
Пойдешь на Сиявуша силой бранной —
От крови станет мир парчой багряной.
Погибнут все туранские войска,
Из-за войны придет к тебе тоска.
А если Сиявуша уничтожишь,
От мести ты спасти себя не сможешь».
Смутилась повелителя душа,
Затосковал он, к битве не спеша…
Сказал такое слово Гарсивазу:
«Отправься в путь по моему приказу.
Возьми из войска двести верховых,
Не делай остановок никаких.
Дарами Сиявуша ты обрадуй,
Да будет каждый дар ему усладой:
Арабских скакунов ему вручи,
В златых ножнах индийские мечи,
Златой венец, обильный жемчугами,
Сто вьюков, полных пышными коврами,
Рабов, рабынь, и деньги, и парчу.
Скажи; «Войны с тобою не хочу».
Посол приехал, и царевич сразу
Велел открыть дорогу Гарсивазу.
Царевич, чья судьба была светла,
С престола встал и обласкал посла.
Устами Гарсиваз коснулся праха,
Лицо полно стыда, а сердце — страха.
Царевич приказал, чтоб подошел
И у подножья трона сел посол.
О туран-шахе он спросил сурово.
Увидел Гарсиваз, что все здесь ново:
И трон, и повелитель, и венец…
«Афрасиаб, — ответствовал гонец,—
Известье получив, тебя восславил,
Дары со мною он тебе отправил».
Велел дары поднять, за кладью кладь,
Богатства Сиявушу показать.
Из городских в дворцовые ворота
Текли дары туранские без счета.
В восторг пришел царевич от даров,
И с Гарсивазом не был он суров.
Сказал Рустам: «Неделя — для веселий.
Ответ получишь ты в конце недели».
Его слова понравились послу,
Поцеловал он прах, воздал хвалу.
Чертог посла украсили коврами,
Пришли к туранцу слуги с поварами.
Царевич и Рустам ушли в покой,
Уединились от толпы людской.
Сказал царевич опытному мужу:
«Давай-ка тайну извлечем наружу.
Зачем о мире враг прислал нам весть?
В ней спрятан яд? От яда средство есть!
Пусть нам пришлет сто родичей бесценных,
Сто знатных — как заложников, как пленных.
Пусть прояснит немедленно для нас
То, что неясным кажется сейчас.
Пусть он рассеет наши подозренья,
Когда он вправду ищет примиренья.
А будет так: усердному гонцу
Я прикажу отправиться к отцу.
Пусть эту весть гонец отцу доложит,—
От гнева царь избавится, быть может».
Рустам сказал: «Ты прав. Твой ум остер.
Без этого немыслим договор».
Явился поутру посол-туранец,
В парче и золоте пришел туранец,
У трона распростерся на земле,
Восславил он царевича в хвале.
«Как почивал средь воинов владыки?
Тебе не помешали шум и клики?» —
Спросил царевич и сказал потом:
«О деле долго думал я твоем.
Мне и Рустаму — ясно нам обоим,—
Что ныне от вражды сердца омоем.
Ответ Афрасиабу напиши:
«Вражду изгнать из сердца поспеши.
Чтоб соблюсти наш договор открытый,
Сто кровных родичей ко мне пришли ты,—
Из тех, которых знает наш Рустам
И назовет тебе по именам.
Пришли их как заложников, и в этом
Поруку я найду твоим обетам.
Затем: захваченные города
Ирану возвратишь ты навсегда,
Уйдешь в Туран, чтоб стали мы спокойны,
От мести отдохнешь, забудешь войны.
Письмо Кавусу должен я послать;
Захочет мира — отзовет он рать».
Тотчас же Гарсиваз гонца отправил,
Подобно ветру полететь заставил,
Сказал: «Ни разу сна не пожелав,
К Афрасиабу ты скачи стремглав.
Скажи, что скоро Гарсиваз вернется:
То, что искал, нашел у полководца.
Заложники царевичу нужны,—
Тогда он отвратится от войны».
К Афрасиабу прискакал посланец,
Царю поведал обо всем туранец.
Из близких сотню царь собрал сполна,
Когда Рустам назвал их имена.
Он родичей послал в Иран с надеждой,
С сокровищами, с царскою одеждой.
Затем покинул Самарканд и Чач,
Согд, Бухару и Сепинджаб, — и вскачь
Пустился к Гангу вместе с войском царства
Обмана не желая и коварства.
Слоновой кости — и венец и трон.
Взошел царевич, счастьем озарен.
Велел: пусть на коня воитель сядет,—
С Кавусом, может быть, гонец поладит.
Сказал Рустам: «Кого мы изберем?
Кто сможет смело говорить с царем?
Помчусь, предстану пред царем державным
И то, что было тайным, станет явным.
Живет во мне отвага — для тебя.
Моя поездка — благо для тебя».
Был Сиявуш обрадован словами,
Сравнил Рустама с древними послами.
Затем он приказал прийти писцу,
Письмо на шелке написал отцу:
«Я прибыл в Балх весною с силой ратной,
Доволен был судьбой благоприятной,
А в кубке у противника тогда
Вдруг почернела светлая вода.
Ко мне приехал брат его с дарами,
С красивыми рабынями, с коврами.
Пощады просит царь Афрасиаб,
Свой трон тебе приносит, словно раб.
Сто родичей он мне в залог оставил,
К тебе Рустама с просьбой я отправил;
Прости врага, затем, что ты велик,
Свидетельство добра — твой светлый лик»
К царю со знаменем, с дружиной смелой,
Как подобает, прибыл мощнотелый.
Приезд нежданный объяснив сперва,
О Сиявуше он повел слова,
Воздал ему обильно восхваленья,
Письмо вручил царю без промедленья.
Посланье сына прочитал писец,—
Черней смолы от гнева стал отец.
Сказал Рустаму: «Сын мой, предположим,
Незрел и юн, — его понять мы можем.
Но ты-то, человек, видавший свет,
Не мог ли разве добрый дать совет?
Я не пошел на бой, услышав слово:
«Отправим полководца молодого».
С дороги враг сбивает вас хитро,
Суля вернуть нам наше же добро.
Сто тюрков нам прислал он, сто негодных
Происхожденья темного, безродных.
Заложников отдаст он без труда:
Они ему — что в ручейке вода.
Отправлю к Сиявушу я посланца,
Бывалого и хитрого иранца.
«Ты разведи огонь, — я дам наказ,—
Цепями тюрков ты свяжи сейчас.
Дары врага низвергни в пламень чистый,—
Хотя б одну присвоить вещь страшись ты!
А пленников — пришлешь: хочу от плеч
Их головы презренные отсечь.
Афрасиаба смело ты преследуй,
Вплоть до его дворца иди с победой.
Афрасиаб начнет с тобой войну —
Почует отвращение ко сну».
«О государь, — ответил мощнотелый,—
Не омрачай ты сердца, зла не делай.
Будь милосерд, моим словам внемля:
О царь, тебе подвластна вся земля!
Ты мне велел: «Веди войска, но к бою
Ты двигайся неспешною стопою.
Афрасиаб желает воевать,—
Ты жди, пусть первым двинет в битву рать».
Мы ждали, чтоб война забушевала,
Но двери мира враг открыл сначала.
К тому же ляжет на тебя позор,
Когда ты, шах, нарушишь договор.
Не требуй этого от Сиявуша,—
Чтоб согрешил он, договор наруша.
Гони обман и правду обнаружь.
От слова не отступит Сиявуш».
Кавусом гнев и ярость овладели,
Когда услышал он об этом деле.
Он крикнул: «Всем открою речь мою!
Тебя в поступках сына узнаю!
Ему внушил ты: мир — нужнее чести,
Из сердца сына вырвал корень мести.
Покоя жаждешь ты и тишины,
А не величья трона и страны.
Я верхового ныне в Балх отправлю,
Из горьких, едких слов письмо составлю.
Когда забыл царевич о войне,
Когда не хочет подчиниться мне,
Назначу я другого полководца,
Войска возглавит Тус, а сын вернется.
Что следует, получит он от нас
За то, что нарушает наш приказ.
А ты отныне нам не будешь другом,
Мы не прибегнем впредь к твоим услугам».
Воскликнул, омрачась душой, Рустам:
«Я повинуюсь вечным небесам.
Когда Рустам труслив, а Тус — отважен,
То я на этом свете маловажен».
Сказал и вышел, тяжело дыша.
Чело — в морщинах, в ярости — душа.
С дружиною помчался мощнотелый,
Отправился в систанские пределы.
Тотчас же Туса шах велел позвать
И приказал ему идти на рать.
Позвал писца владыка разъяренный.
Сиденье предложил ему у трона,
Письмо составил: весть его была
Остра, как тополевая стрела.
Сначала богу он воздал хваленья,
Властителю покоя и сраженья;
«О юный сын, будь счастлив, невредим
С твоим венцом, с престолом золотым!
Заложников пришли в мои чертоги,
Сперва им руки заковав и ноги.
Со мной о мире говорить не смей,
От воли отвернулся ты моей.
С красавицами, видно, ты связался,
Из-за любви от битвы отказался,
Венец врага на голову надел
И головою к битве охладел.
Узнали мы, внимая небосводу,
Что этот мир тебе несет невзгоду.
Когда ты ценишь общество вельмож
И на разрыв со мною не идешь —
Вернись назад, отдай дружины Тусу,—
Сражаться не дано такому трусу!»
Когда письмо к царевичу пришло,
От горьких слов нахмурил он чело.
Стал думать он о тюрках, о сраженье,
И об отце, и о его решенье,
Так о туранцах знатных говоря:
«Сто родичей могучего царя
Безгрешны, благородны, светлолики,
Но если я отправлю их владыке —
Не станет слушать их, ожесточась,
На виселице вздернет их тотчас,—
Какую милость выпрошу у бога?
За грех отца меня накажет строго!
А если я без повода начну
С туранцами неправую войну,
Ко мне всевышний милостив не будет,
Тогда народный глас меня осудит.
А если к шахским я вернусь вратам,
Военачальство Тусу передам,
Мне злом отец воздаст, исполнен гнева:
Дурное — справа, спереди и слева!»
О помощи воззвал он к двум мужам,
Один из них Занга, другой Бахрам.
Без посторонних пожелал он встречи
И тайные повел с мужами речи;
«Такое злое счастье у меня:
Со всех сторон — напасти на меня!
Мы ныне сердцем ненависти чужды,
К чему же кровь нам проливать без нужды?
Мои дела у шаха не в чести,
Он мне обиду хочет нанести:
Мне воевать велит он без причины,
Нарушить клятву, бросить в бой дружины.
О, если б не родился я на свет,
Родившись, умер бы во цвете лет!
Затем, что столько претерпеть мне надо,
Изведать в этом мире столько яда!
Пойду я, заберусь в такую глушь,
Чтоб царь не знал, где ныне Сиявуш.
Прими, Занга, непобедимый в сече,
Тяжелую обязанность на плечи:
К Афрасиабу ты отправься в путь,
О сне забудь, медлительным не будь.
Заложников, динары и каменья,
Венец, престол и прочие даренья
Верни ему обратно в добрый час
И все скажи, что знаешь ты о нас».
Затем сказал Бахраму юнолицый:
«О славный воин, славный страж границы!
Тебе я свой шатер передаю,
Слона, и барабан, и власть мою.[29]
До появленья Туса-полководца
Тебе возглавить воинов придется.
Ты войско передашь ему с казной
И все исполнишь, сказанное мной».
У славного Бахрама сердце сжалось,
К царевичу почувствовал он жалость.
Занга заплакал кровью горьких слез,
Он Судабе проклятье произнес.
Сидели оба, полные печали,
Несчастью Сиявуша сострадали.
При расставанье плакали о нем,
Как будто жгли их медленным огнем.
Сказал Занга: «Верны мы Сиявушу,
Тебе приносим в жертву плоть и душу,
Вовеки не нарушим наш обет!»
Услышав от Занги такой ответ,
Царевич молвил, полный благодати!
«Ступай, скажи вождю туранской рати:
Такая доля мне предрешена,—
Хотел я мира, но пришла война.
Напиток мира дал ты мне в отраду,—
Судьба дала мне вдоволь выпить яду.
Но клятве буду верен до конца,
Хотя лишусь престола и венца.
Теперь у бога мой приют безвестный,
Мой трон — земля, корона — свод небесный.
К пристанищу открой мне верный путь,
Чтоб угол я нашел какой-нибудь.
Хочу найти приют сокрытый некий,
Чтоб скрылся от Кавуса я навеки».
Занга пустился в путь степной тропой,
И взял он сто заложников с собой,
И все дары Турана взял он разом,
Доставленные прежде Гарсивазом.
Когда достиг он городских ворот,
Пришли в волненье стража и народ.
С престола встал туранский предводитель,
Когда вступил Занга в его обитель.
Афрасиаб прижал его к груди,
Велел, чтоб сел знатнейших впереди,
Занга вручил письмо царю Турана,
О том, что было, рассказал пространно.
И царь пришел в смятенье от письма,—
Поспешность — в мыслях, в сердце — боль и тьма.
Писцу к себе явиться приказал он,
Раскрыл уста и речи разбросал он:
«Мне весть принес твой бдительный слуга,
Мне передал твое письмо Занга.
Скорблю о том, что государь вселенной
К тебе пылает злобой сокровенной.
Тебе Туран сердечный шлет поклон,
И я к тебе любовью вдохновлен.
Мне сыном будь, отцом тебе я буду,
Готов тебе служить везде и всюду.
Такой любви — всем сердцем я клянусь! —
Ни разу не явил тебе Кавус.
И сердце и престол тебе отдам я,
И все, что приобрел, тебе отдам я.
Ты сыном будешь мне: в моей стране
Останешься как память обо мне».
Туранский шах письмо скрепил печатью,
Велел Занге, что прибыл с благодатью,
В обратный путь отправиться с утра,
Дал золота ему и серебра,
Почетную одежду дорогую,
И скакуна, и золотую сбрую.
Занга вернулся, молвил без прикрас
О том, что слышал слух и видел глаз.
Два чувства Сиявуша взволновали,
Он полон был и счастья и печали:
Как можно в дружбу с недругом вступить?
Холодный ветер из огня добыть?
С какой бы ни пришел ты добротою,
Вовеки будет враг дышать враждою
С письмом отправил Сиявуш гонца,
О всем, что было, известил отца:
«Обрел я разум с молодостью вместе,
Мне с детства опротивело бесчестье;
От ярости всесильного царя
Я вспыхнул, тайным пламенем горя;
Мне сердце болью тяжкою вначале
На женской половине истерзали;
Прошел я гору грозного огня,
И лань в степи оплакала меня;
Ушел на битву от стыда и срама,
Дракону в лапы угодил я прямо;
Я миром осчастливил две страны,
Но ищет царь, как гневный меч, войны;
Пресытился ты мной? Ну что ж, покину
Пресыщенного, что враждебен сыну!»
Сказал Бахраму: «Радостно живи,
Свое ты имя в мире обнови.
Возьми шатер, казну и снаряженье,
Венец, престол, и царское сиденье,
И войско, и сокровищ наших груз.
Когда сюда приедет славный Тус,
Ему вручишь ты отданное мною,
Будь сердцем трезв, обласканный судьбою».
Затем избрал он триста верховых,
Отважных, благородных, молодых.
Все знатные мужи с единодушьем
Поцеловали прах пред Сиявушем.
Лишь солнце повернулось к ним спиной,
Земля остыла, мрак упал ночной,
Пошел к Джейхуну Сиявуш с друзьями,—
Лицо покрылось жаркими слезами.
А в это время в Балх приехал Тус.
Слова услышал, горькие на вкус:
Наследник царский, не желая брани,
Пошел искать прибежища в Туране.
Тус приказал всех воинов собрать
И ко дворцу Кавуса двинул рать.
У Кей-Кавуса щеки пожелтели,
Он зарыдал, узнав об этом деле.
Пылал и плакал, в буйный гнев придя
На сына, на туранского вождя…
Узнал Афрасиаб: из-за Джейхуна
Явился Сиявуш, царевич юный.
Собрал вельмож на радостном пути,
Велел он всем с литаврами прийти,
Он войско светлой вестью осчастливил
И четырех слонов на площадь вывел.
Сказал бы ты, взглянув на эту рать:
Решило небо землю разубрать!
Все войско Сиявуш окинул взглядом,
Ему навстречу поскакал с отрядом.
И витязи, и кони, и слоны
Под знаменем Пирана сплочены.
Царевич обнял славного Пирана,
Спросил про город и царя Турана.
Пиран поцеловал его чело,
Его лицо, что было так светло
И сердца сделалось живописаньем,
Затем к ногам припал он с лобызаньем.
Отправились, беседуя, вдвоем,
Путем веселым следуя вдвоем.
А в городе рубаб и чанг звенели
И поднимали спящего с постели.
У гостя слезы хлынули из глаз,
В душе с обидой ярость поднялась!
Предстал пред ним Иран, земля родная,
И помрачнел он, тяжело вздыхая.
Он вспомнил об иранской стороне,—
Душа зажглась, чтобы сгореть в огне.
Он отвернул лицо от полководца,
Тот понял: против воли расстается
С родной землей навеки Сиявуш,
И губы прикусил туранский муж.
Сказал Пиран: «Не думай об Иране,
Покинул ты страну своих страданий.
Любви Афрасиаба не беги,
Не слушай, что о нем твердят враги,—
Хотя о нем идет дурная слава,
Он не таков; он муж благого нрава.
Я у него в чести, при нем обрел
Сокровища, и войско, и престол,—
Их в жертву принесу тебе охотно,
Когда ты здесь осядешь беззаботно,
Тебя от сердца чистого приму,
Служить я буду сердцу твоему».
Царевича слова его ласкали,
Душа освободилась от печали.
Они воссели за еду вдвоем.
Стал сыном Сиявуш, Пиран — отцом.
Пустились в путь, не ведая тревоги,
Стоянки не искали по дороге.
И так достигли Ганга наконец,
Где был отдохновения дворец.
Узнал Афрасиаб, глава державы,
Что Сиявуш приехал величавый.
На площадь пешим выбежал, спеша
К тому, кого ждала его душа.
Царевич спешился, когда нежданно
Увидел пешего царя Турана.
В глаза один другого целовал,
И обнимал, и снова целовал.
Сказал Афрасиаб: «Мы видим оба,
Что погрузилась в сон земная злоба.
Не будет войн, и общею тропой
Олень и барс придут на водопой.
Мы пребывали в страхе постоянном:
Война грозила двум соседним странам,
Покоя не было в душе людской,
Но ты пришел и дал земле покой.
Еще такого не было событья!
Мы отдохнем от войн, кровопролитья.
Туран — твой друг. Спокойно в нем живи,
К тебе сердца исполнены любви.
Пребуду я тебе отцом отныне,
В тебе я счастье обрету, как в сыне».
Вознес его царевич в похвале:
«О царь, будь вечно счастлив на земле!
От господа произошло творенье,
Война и мир, вражда и примиренье».
Рука в руке, Афрасиаб повел
Царевича; воссел он на престол,
Сказал, окинув Сиявуша взглядом:
«Кого могу с тобой поставить рядом?
Среди великих не могу сыскать
Лицо такое и такую стать».
И выбрал он чертог — приют желанный,
Что устлан был парчою златотканой.
Просил он гостя горести забыть,
В чертог, ему назначенный, вступить,
Чтоб он располагался там свободно
И занимался чем душе угодно.
Увидел Сиявуш: дворец велик,
Сатурна куполом своим достиг!
На трон взошел он, устланный парчою,
Предался думам трезвою душою.
Когда накрыли у владыки стол,
Посланец за изгнанником пришел.
И царь и гость за трапезу воссели,
Пошли у них беседа и веселье.
Вино хмельное пили дотемна,
Их головы вскружились от вина.
Ушел царевич в радостном тумане,
В вине исчезла память об Иране…
Афрасиаб, царевичем пленен,
В беседах долгих забывал про сон.
Грустил ли он, душой ли веселился,
Он к Сиявушу одному стремился.
Забыты были Джахн и Гарсиваз,
С кем тайнами делился он не раз.
Без юноши и дня не проводил он,
Отраду в Сиявуше находил он.
Так провели два друга целый год,
Деля и счастья дни, и дни невзгод.
Однажды Сиявуш с Пираном знатным
Вели беседу вечером приятным.
Сказал Пиран: «Со странником ты схож:
Сегодня — здесь, а завтра ты уйдешь.
Не вижу близкого тебе по крови,
Не помышляешь о семейном крове.
Нет брата у тебя, сестры, жены,
Ты — куст, растущий где-то у стены.
Грусть об Иране приведет к недугу:
Найди себе достойную супругу.
Умрет Кавус: Иран великий — твой,
Твоя — корона, трон владыки — твой!
В покоях туран-шаха, посмотри ты,
Красой блистая, три луны сокрыты.
У Гарсиваза — тоже три луны;
Он знатен; древен род его жены.
А у меня на женской половине —
Четыре девочки, твои рабыни.
Всех старше Джарира, во цвете лет,
Красавиц, равных ей, не знает свет.
Лишь согласись, и юная тюрчанка —
Твоя рабыня и твоя служанка».
Ответил Сиявуш: «Благодарю.
Теперь, как сын, с тобою говорю.
Жена из дома твоего нужна мне,
И Джарира твоя — теперь жена мне».
Такую речь вели наедине.
Пошел Пиран к Гульшахр, своей жене.
Сказал ей: «Счастью Джариры послужим,
Царевич Сиявуш ей будет мужем.
Мы разве можем не торжествовать,
Когда Кубада внук — теперь наш зять?»
Гульшахр пришла с невестою смущенной,
Красавицу украсила короной.
На Джариру царевич бросил взгляд —
И рассмеялся, радостью объят.
Он днем и ночью счастлив был с женою,
Забыл Кавуса, не болел душою.
Он жил, не зная никаких забот…
Так время шло, кружился небосвод.
Честь витязя и слава непрестанно
Приумножались пред царем Турана.
Сказал однажды сдержанный Пиран:
«Ты, Сиявуш, рожден владыкой стран!
Хотя твоя жена — мне дочь родная,
Тревожусь о тебе я, сна не зная.
Хотя твоя опора — Джарира,
Хотя она красива и добра —
Жемчужину, твоей достойно доле,
Ищи ты в государевом подоле.
Затмила всех красавиц Фарангис,
Она стройней, чем стройный кипарис.
Прекрасен лик и мускусные косы,
Венец на голове темноволосый.
Проси царя, чтоб стал твоим кумир:
Таких не знал Кабул, не знал Кашмир.
В родство вступив с властителем державы,
Свой блеск ты увеличишь величавый.
Прикажешь мне — с царем поговорю,
Взыску я чести, я пойду к царю».
А Сиявуш: «Трудна моя дорога,
Но кто противостанет воле бога?
В Иран, быть может, не вернусь я вновь,
И не увижу я Кавуса вновь.
Быть может, Заля снова не увижу,
Рустама, мне родного, не увижу.
Быть может, не вернусь к богатырям,
К таким, как Гив, Шапур, Занга, Бахрам.
От сладких отрешусь воспоминаний,
Обосноваться надо мне в Туране.
А если так, начни ты сватовство,
Не посвящая в тайну никого».
Так говорил он и вздыхал в печали,
А на ресницах капли слез блистали.
Сказал Пиран: «Доволен тот судьбой,
Кто шествует разумною тропой.
Уйдешь ли от кружащихся созвездий?[30]
От них война, и милость и возмездье».
Пиран, узнав о помыслах его,
Встал, и пошел, и начал сватовство.
Пошел к царю с веселым нетерпеньем,
К владыке он поднялся по ступеням,
Немного постоял перед царем.
Сказал Афрасиаб, влеком добром:
«Чего желаешь ты, водитель рати:
Меча, короны, трона иль печати?»
Царю ответил мудрый человек:
«Да будешь миру нужен ты вовек!
Хочу поговорить о Сиявуше,
Пусть лишь твои меня услышат уши.
Он мне сказал: «Поведай ты царю,
Что путь к величью ныне я торю.
Есть у тебя такая дочь, которой
Хочу я стать достойною опорой.
Красавицу нашел я наконец,
Что трон украсит мой и мой венец.
Ей имя Фарангис дала царица,
С тобой сочту за счастье породниться».
Тогда, с глазами, влажными от слез,
Афрасиаб, подумав, произнес:
«Предсказывал мне сведущий в науке.
Чудес немало говорил о внуке:
Казна, войска, венец есть у меня,
Страна, престол, дворец есть у меня,
Но внук мое величье уничтожит,
Ничто меня тогда спасти не сможет.
Захватит внук мою страну и трон,
И буду я с лица земли сметен».
Сказал Пиран: «О государь Турана,
Пускай тебя не мучит эта рана.
Кто Сиявуша назовет отцом,
Тот будет мирным, честным мудрецом.
Ты звездочета, государь, не слушай,
Устрой разумно дело Сиявуша,—
К счастливому концу тогда придешь,
Что от судьбы ты просишь — обретешь».
Афрасиаб сказал слуге седому:
«Твой разум нас не приведет к худому.
Твою дорогу ныне изберу:
Надеюсь, что с тобой приду к добру».
Пиран перед царем склонился вдвое,
Его решенье восхвалил благое,
К царевичу отправился тотчас
И радостный принес ему рассказ.
Сидели оба допоздна с весельем
И горечь жизни обмывали хмелем.
Едва лишь солнце в блеске золотом
На небе обозначилось щитом,
Пиран перепоясал стан могучий,
Помчался на коне быстрее тучи,
Явился к Сиявушу и воздал
Его величью тысячу похвал,
Сказал ему: «Устрой дела по дому,
Придет царевна, будь готов к приему».
Тут покраснел царевич от стыда,
Смутился пред Пираном он тогда:
Он был Пирану самым близким другом,
Он дочери Пирана был супругом!
Сказал: «Ступай и дело доверши,—
Все тайны знаешь ты моей души».
Тотчас Пиран занялся этим делом,
Ему предавшись и душой и телом.
Он выбрал лучшие из жемчугов,
Парчи китайской тысячу кусков,
Сережки, два венца и ожерелье,
Запястья два, что как огни горели,
Ковры, обилье тканей дорогих,
Три пары одеяний дорогих;
Держали двести слуг златые чаши,
Как взглянешь — ничего нет в мире краше!
В златых нарядах было триста слуг,
Сто близких родичей — семейный круг.
Вот Фарангис, царевна молодая,
Явилась к жениху, луной блистая.
Светла их радость, свадьба весела,
И с каждым мигом их любовь росла.
Вот время на неделю удлинилось,—
От тестя Сиявуш увидел милость.
Однажды к Сиявушу как посол
Доброжелатель от царя пришел.
«Тебя, — сказал он, — кличет царь державный
И говорит: «Великий, добронравный!
Отселе до Китая царства часть
Даю тебе, возьми над нею власть,
Поезди, посмотри на край обширный,
Для счастья избери ты город мирный.
Останься в нем, с отрадою живи,
Довольством сердце радуя, живи!»
Те речи были Сиявушу любы.
Он приказал, чтоб заиграли трубы,
Он приказал сокровища собрать,
Венец и перстень взял и двинул рать.
Вот Фарангис уселась в паланкине,
Пошло с обозом войско по долине,
С весельем именитые пошли,
Xотанская земля была вдали.
Достигли места, что цветущим было,
Основой счастья, раем сущим было!
Вон там — река, а здесь — гора видна,
Охотникам — раздолье, тишина,
Журчанье родников, дерев цветенье,—
Старик второе здесь найдет рожденье!
Пирану Сиявуш сказал: «Страна,
Что видишь ты, для счастья создана.
На этом месте город я воздвигну,
Блаженство мира сердцем я постигну.
Создам я город, приложив труды,
А в нем — дворцы, чертоги и сады.
Такой построю город несказанный,
Что удивятся племена и страны».
Теперь слова я повести начну,
Которые звучали в старину.
О городе преданье изложу я,
О Ганге Сиявуша расскажу я.
Весь мир пройдешь, на землю поглядишь
Все царства и края затмил Гангдиж!
Тот город Сиявуша был твореньем,
Над каждым потрудился он строеньем.
Пройдешь ты степь, увидишь за рекой
Пустынный прах, бесплодный и сухой.
Высокая гора предстанет взору,—
Нет меры, чтоб измерить эту гору,
Гангдиж — в горах. Об этом знай: вреда
От знаний не получишь никогда.
Он окружен кирпичною стеною
Фарсангов свыше тридцати длиною.
Обширный город за стеной возник.
Куда ни глянь — дворец, чертог, цветник,
Горячие купальни, водопады,
Везде веселье, яркие наряды;
В ущельях — серны, дичью полон дол,
Взглянул бы — ни за что бы не ушел!
Не зноен зной, не холоден там холод,
То — счастья город, изобилья город.
Там ни больных не встретишь, ни калек,
Там райский сад, там счастлив человек!
Однажды, объезжая край счастливый,
Скакал царевич — скорбный, молчаливый.
Сказал Пиран: «Ты с грустью смотришь вдаль.
Откуда, государь, твоя печаль?»
А тот: «О добродетелью богатый,
Стремишься к добродетели всегда ты!
Ты, богатырь, отважен и умен,—
Узнай, каким я горем удручен:
Я времени провижу ход поспешный,—
Убит я буду, слабый и безгрешный,
Афрасиаба грозною рукой,—
Мой трон и мой венец возьмет другой.
Злосчастье, клевета тому причина,
Что я погибну, пострадав невинно,
И на Иран и на Туран тогда
Обрушит беды мрачная вражда.
Земля наполнится тоской и смутой,
Мир обнажит оружье мести лютой.
Тогда настанет грабежей пора,
И гибель и хищение добра.
Затопчут кони многие державы,
Вода в ручьях исполнится отравы.
Иран, Туран от горя возопят,
Умру — и мир вскипит, огнем объят».
Пиран внимал богатырю и горе
Почувствовал при этом разговоре.
Такую речь вели они в пути,
Не зная, где спасение найти,
Сошли с коней, чтобы в тенистой сени
Забыться от тревожных опасений.
Накрыли скатерть, в песнях и вине
Топя заботу о грядущем дне.
Семь дней весельем сердце услаждали,
О древних миродержцах рассуждали.
Пирану-полководцу в день восьмой
Прислал письмо владеющий страной:
«Из войска самых сильных возглавляя,
Ступай отсюда к берегам Китая,
Затем до Хиндустана ты пройди,
На берег Синда войско приведи.
Получишь дань в Китае, в Хиндустане,
Затем иди к хазарам, требуй дани».
Пиран возглавил и направил рать,
Как царь ему изволил приказать.
Огня быстрее прибыл утром рано
Гонец от повелителя Турана.
Царь Сиявушу написал письмо,—
Сама любовь и счастье в нем само:
«С тех пор как ты ушел, познал я муки,
Тоскую постоянно от разлуки.
Узнай же ныне радостную весть:
Тебя достойный край в Туране есть.
Дарю тебе его: он благодатен,
Быть может, будет он тебе приятен,—
Отправься и взгляни на этот край,
И царствуй славно, и врагов карай!»
Афрасиаба подчинясь приказу,
В дорогу Сиявуш пустился сразу.
Как только витязь прибыл в ту страну,
Он в два фарсанга в ширину, в длину
Построил дивный город с площадями,
Дворцами, цветниками и садами.
Дворец украсил, вызвав мастеров,
Изображеньем битв, царей, пиров,
Он купола возвел, что возвышались
Над городом и облаков касались.
Сиявушгирдом город нарекли,
И люди в нем довольство обрели.
Когда Пиран вернулся с войском вместе,
О городе везде гремели вести.
Отправился военачальник в путь,
Чтобы на город радостный взглянуть.
Пиран подъехал к городским воротам,
И встретил Сиявуш его с почетом.
Неделю пировали допоздна,
И веселы, и пьяны от вина.
На день восьмой, утешенный пирами,
Пришел Пиран с достойными дарами:
Здесь были яхонт, жемчуг и алмаз,
Венцы блистаньем радовали глаз,
Здесь было много седел тополевых,
Коней с попонами из шкур тигровых,
И серьги и венец для Фарангис,
А на браслетах жемчуга зажглись!
Вручив дары, пуститься в путь решил он.
К царю Афрасиабу поспешил он.
Пришел, предстал, поведал обо всем;
О дани, собранной за рубежом,
О Сиявуше рассказал правдиво,
О городе, построенном на диво.
И царь от мысли той повеселел,
Что Сиявуш рожден для славных дел.
Властитель поделился с Гарсивазом
Из тайника исторгнутым рассказом:
«В Сиявушгирд с отрадою ступай,
Внимательно исследуй этот край;
Когда хозяин весел — две недели
Ты оставайся в городе веселий».
Взглянул на войско храбрый Гарсиваз,
Избрал отборных всадников тотчас.
В Сиявушгирд, чтобы вкусить отраду,
Велел скакать он своему отряду.
Когда о нем услышал Сиявуш,
Навстречу с войском вышел Сиявуш.
В объятья заключил один другого;
Спросив о шахе гостя дорогого,
Хозяин в город с ним вступил и тут
Отвел ему для отдыха приют.
Явился Гарсиваз к нему с рассветом,
Пришел с дарами от царя, с приветом.
Внезапно к Сиявушу во дворец
Примчался с вестью радостный гонец:
«От Джариры, от дочери вельможи,
Родился мальчик, на луну похожий,—
Фарудом светлым нарекли дитя!
Пиран, такую радость обретя,
Немедленно меня к тебе отправил,
Чтоб весть о сыне я тебе доставил.
А мать младенца, полного добра,—
Прислужницам велела Джарира,
Чтоб окунули руку мальчугана,
Когда он крепко спал, в раствор шафрана,
И, приложив ладонь его к письму,
Письмо послала мужу своему».
А Сиявуш: «Рожден для высшей доли,
Пусть мальчик вечно будет на престоле!»
Воскликнул именитый Гарсиваз,
Когда услышал радостный рассказ:
«Поскольку внук родился у Пирана,
Он равным государю стал нежданно!»
Пошли с отрадной вестью к Фарангис,
В чертогах клики счастья раздались.
Все на престолах золотых воссели,
Не знали радости такой доселе.
Как только солнце яркое взошло,
Явило всей земле свое чело,
Примчался Сиявуш на луг зеленый —
Потешиться мячом, забавой конной.
Чоуганом он ударил — мяч исчез,
Скажи: сокрылся в тайниках небес!
Тут молвил Гарсиваз: «Скажу заране,—
Ты всех затмил в Иране и Туране.
Давай-ка на ристалище пойдем,
Поскачем перед воинством вдвоем,
Как два бойца, на середине круга,
Давай возьмем за пояса друг друга.
Ты знаешь: всех туранцев я сильней,
А мой скакун — сильнее всех коней.
Ты, витязь, всех иранцев превосходишь.
Соперников и равных не находишь.
Когда я подниму тебя с седла,
На землю сброшу, — значит, мне хвала,
Тогда ты знай, что я тебя храбрее,
Богаче силой, ловкостью быстрее.
А если ты с коня сорвешь меня,—
Я больше в битву не пущу коня».
А Сиявуш: «К чему такие речи?
Известно, что, как лев, ты грозен в сече,
Ты — брат царя, ты выше всех похвал,
Копытами луну ты растоптал.
Богатыря, кого-нибудь из свиты,
На скакуна для битвы посади ты:
Хочу перед тобой на этот раз
Не осрамиться, славный Гарсиваз!»
Тут рассмеялся Гарсиваз беспечно,—
Ответ ему понравился, конечно.
Сказал туранцам: «Гордецы мои.
Хотите славы, храбрецы мои?
Хотите с Сиявушем побороться,
Надменного унизить полководца?»
Молчали тюрки, на устах — запрет.
Гуруй бесстрашный выступил в ответ.
«Я, — молвил, — состязаться с ним достоин,
Когда другой не хочет выйти воин».
Услышав, что сказал туранский муж,
Чело свое нахмурил Сиявуш.
Воскликнул Гарсиваз: «Скажу царю я,—
Никто не может одолеть Гуруя».
А Сиявуш: «С любым вступлю я в бой,—
Мне не пристало биться лишь с тобой.
Готов я и с двумя вступить в сраженье,
Вели, — пусть выйдут в полном снаряженье».
Тогда Дамур, другой из гордецов,
Сильнейший из туранских удальцов,—
Помчался на коне быстрее дыма,
Он поединка ждал неукротимо.
С Гуруем вместе двинулся Дамур,
Навстречу — Сиявуш, суров и хмур.
Рукой за пояс он схватил Гуруя,
Потом за пояс дернул, торжествуя,
И сбросил, вырвав из седла сперва,—
К чему ему аркан и булава?
Затем рукою мощною своею
Дамура взял за грудь, схватил за шею.
С позором поднял, вырвал из седла,—
Толпа кругом в смятение пришла.
Был Гарсиваз повергнут в стыд глубокий,
Вскипело сердце, пожелтели щеки.
Богатыри отправились домой,
Сказал бы ты: сошли во мрак ночной.
Семь дней с вином и музыкой сидели,
Так веселились до конца недели.
Но вот гостям в обратный путь пора.
И Сиявуш, исполненный добра,
Афрасиабу написал посланье, —
В нем были дружба, кротость, почитанье.
Он Гарсивазу много дал даров.
Отряд покинул мирный, светлый кров.
Промолвил Гарсиваз, желая мести:
«Иран унизил нас на этом месте.
Дамур с Гуруем, два свирепых льва,
Чью силу всюду славила молва,
Обижены иранским черноверцем,[31]
Унижены борцом с нечистым сердцем».
Так, в раздраженье, завершил он путь,
Не мог он успокоиться, уснуть.
К Афрасиабу поспешил воитель.
Спросил о путешествии властитель.
Вручил письмо, поведал о делах.
Прочтя письмо, возрадовался шах.
Воскликнул Гарсиваз: «Письму не верь ты,
Владыка, зятю своему не верь ты!
Иранский шах Кавус, тайком от нас,
К нему посланца присылал не раз.
Он ждет вестей из Рума, из Китая,
Он пьет вино, Кавуса поминая».
Тогда, тоскою горькою томим,
Стал государь печальным и больным.
Сказал: «Мой брат, со мной ты связан кровью,
Пришел ко мне, руководим любовью.
Подумай глубже о моей судьбе,
Вглядись в нее: что вспомнится тебе?
Ужасный сон — моей тоски основа,
Мой разум потемнел от сна дурного.
На Сиявуша не пошел войной,
Он тоже мира пожелал со мной.
Покинув родину, ко мне пришел он,
И честности и верности мне полон.
Он чтил меня, я стал ему царем,
Дарил его лишь благом и добром.
Я дал ему страну, сокровищ груду,
Решил: печаль и ненависть забуду.
Я перестал с Ираном враждовать,
Отныне Сиявуш — мой друг, мой зять.
И после всех дарений, всех усилий,
Когда мы трон, венец ему вручили,
Могу ли на него низвергнуть зло,
Чтоб столько толков по земле пошло?
Что скажет бог, когда мы гнев обрушим,
Расправимся с безгрешным Сиявушем?
Не лучше ль Сиявуша с глаз долой
Отправить поскорей к отцу домой?»
Пылая местью, Гарсиваз ответил:
«Правдолюбивый царь, что сердцем светел!
С таким мечом и с булавой такой,
С благословенной господом рукой,
Без войска Сиявуш не возвратится,
Твои померкнут месяц и денница,
И рать твоя к иранцу перейдет,—
Пастух, лишенный стада, пропадет».
Афрасиаб на мир взглянул угрюмо.
Он мучился, в нем зрела злая дума.
К нему и в ранний час, и в поздний час
Входил в покои злобный Гарсиваз.
Хулитель вероломный и лукавый,
Он сердце шаха наполнял отравой.
Так время над властителем прошло.
Проникли в сердце шаха боль и зло…
Однажды повелел он Гарсивазу!
«Скачи, — пусть внемлет Сиявуш приказу,
Ко мне пусть быстро соберется в путь,
При нем ты неусыпным стражем будь».
У Гарсиваза, хитрого и злого,
Готовы были сети зверолова.
Приехав, сразу в город не вошел,—
Красноречивый послан был посол.
Пред Сиявушем прах облобызал он,
Царю о Гарсивазе рассказал он.
Услышал царь, что прибыл Гарсиваз,
В тревоге свет в его глазах погас.
Он думал, поражен необычайно:
«Здесь кроется неведомая тайна.
Что говорил с царем наедине
Вельможа добронравный обо мне?»
Но вот подъехал Гарсиваз, и сразу
Царевич пешим вышел к Гарсивазу,
Спросил: «Хорош ли путь? Здоров ли шах?»
Спросил о государственных делах.
Тот передал приказ царя Турана.
Был осчастливлен витязь несказанно,
Воскликнул: «С мыслью о царе, клянусь.
Я даже от меча не отвернусь!
Смотри, мы в путь готовы, мы уходим,
Поводья привязав к твоим поводьям».
Злокозненный смутился клеветник,
От мудрой речи головой поник.
Подумал: «Если с Сиявушем вместе
Мы выступим — я не исполню мести:
Не попадет иранец в мой капкан,
Увидит шах, что речь моя — обман.
Теперь нужны мне хитрость и сноровка,
Чтоб Сиявуша сбил с пути я ловко».
Он пролил слезы жаркие из глаз,—
И обманул иранца Гарсиваз.
И возмущенье и негодованье
Услышал Сиявуш в его рыданье.
Спросил он мягко: «Что случилось, брат?
Какою тайной скорбью ты объят?
Когда туранский царь тому виною,
Что плачешь ты сейчас передо мною,
То выйду я с тобою в путь, начну
С Афрасиабом грозную войну.
Откройся мне, доверься мне вначале,
Чтоб я тебя избавил от печали».
Ответил Гарсиваз: «Я речь веду
Не про свою обиду и беду.
О споре меж Ираном и Тураном,
О горе, что грозит соседним странам,
О сущности вражды я полон дум,
Мне мудрые слова пришли на ум:
«С тех пор как Тура бог покинул правый,
Настало зло, воюют две державы».[32]
Не Тур — Афрасиаб царит теперь,
Но он такой же бык, такой же зверь.
Пройдет немного времени, — владыки
Узнаешь нрав коварный, злобный, дикий.
К тебе пылает злобой туран-шах,—
Судьба людей сокрыта в небесах.
Ты знаешь — я твой друг во всем и всюду,
Всегда тебе товарищем я буду.
О шахе я сказал, добро любя,—
Грешно таить мне правду от тебя».
Ответил Сиявуш: «Гони тревогу,
Затем, что я иду, внимая богу.
Афрасиаб, — о нем я думал так,—
Стал светом для меня, развеял мрак.
Когда б решил он, что ищу я брани,
Меня бы не возвысил он в Туране,
Не дал бы мне страну, венец, престол,
Свое дитя ко мне бы не привел.
К его дворцу пойду с тобой теперь я,
Рассею мрак, добьюсь его доверья.
Где правда проступает сквозь туман,
Там терпит поражение обман».
Ответил Гарсиваз: «Он зверя хуже,
Он не таков внутри, каков снаружи
Тебя он предал, обманул, злодей,
Зашил он очи мудрости твоей.
Покинул ты отца, незрел и молод,
Пришел в Туран, воздвиг огромный город.
Так обольстил тебя Афрасиаб,
Что служишь ты ему, как верный раб».
Он говорил, а в голосе — рыданье,
В душе — коварство, на устах — страданье.
Тут Сиявуш в него вперил глаза,—
Из них катились за слезой слеза.
У Сиявуша пожелтели щеки,
Издал он вздох, тяжелый и глубокий,
Сказал: «Не вижу, в глубь вещей смотря,
Чтоб заслужил я ненависть царя.
Пусть я познаю муку и обиду —
Из подчинения царю не выйду.
Без войска я пойду с тобой к нему,
Причину гнева царского пойму».
А Гарсиваз: «Не вижу в этом смысла,
Чтоб ты пошел, когда беда нависла.
Заступник твой, спасу я жизнь твою,
Огонь, быть может, я водой залью.
Афрасиабу изложи в посланье
Все доводы, все речи в оправданье.
Когда увижу: царь не хочет зла,
Настал хороший день, заря взошла,
Немедленно гонца к тебе отправлю,
От мрака и тоски тебя избавлю.
А если царь коварен, гневен, зол,
То и тогда примчится мой посол.
Ты действуй быстро, чтоб достигнуть цели,
Ты долго не раздумывай; отселе
В ста двадцати фарсангах есть Китай.
А в триста сорока — иранский край.
Там у тебя и войско и держава,
Там у тебя отец, закон и право.
Во все концы отправь своих послов,
Не медли, будь к сражению готов».
И Сиявуш совету внял дурному,
Душой беспечной погруженный в дрему.
Затем позвал он мудрого писца,
Слова рассыпал, помянув творца,
Предвечного создателя восславил
За то, что от грехов его избавил.
Он разум начал мудро восхвалять,
Призвал на туран-шаха благодать.
«О царь счастливый, царь победоносный,
Живи, пока цветут, ликуя, вёсны!
Я рад: мне встреча суждена с тобой,
Моя душа озарена тобой».
Он приложил к письму печать, и сразу
Вручил свое посланье Гарсивазу.
Потребовал вельможа трех коней,
Скакал, не различая дней, ночей.
За трое суток путь покрыл он длинный —
Подъемы, спуски, горы и равнины.
Он прибыл во дворец, к царю спеша,—
Ложь на устах, грехов полна душа.
«Ты мчался быстро, — молвил царь Турана,—
Ты почему приехал так нежданно?»
Ответил тот: «Когда, судьбе грозя,
Стремится время — медлить нам нельзя.
Навстречу мне твой Сиявуш не вышел,
Меня как бы не видел и не слышал,
Он твоего письма не стал читать,
Меня принудил на колени стать.
Закрыв пред нами двери, постоянно
Он получает письма из Ирана.
Промедлишь ты — он двинется в поход
И все, чем ты владеешь, отберет.
О вероломном я тебе поведал,
Смотри же, чтобы он тебя не предал».
Когда его слова услышал царь,
Он снова запылал враждой, как встарь.
Он приказал, чтоб грянул голос трубный,
Чтоб зазвенели колокольцы, бубны.
В тот самый миг, когда, содеяв зло,
Вскочил хулитель Гарсиваз в седло,
Вошел царевич в свой шатер высокий,
Дрожало тело, желты были щеки.
Спросила Фарангис: «Мой гордый лев,
О чем скорбишь ты, ликом потемнев?»
«Красавица! — сказал он. — Черным цветом
Покрылась честь моя в Туране этом».
Она: «О царь мой, тайну мне доверь,
Скажи, что делать будешь ты теперь?
В ком ты найдешь прибежище, подмогу?
Ища приюта, обращайся к богу».
Сказал жене: «Надеюсь я сейчас,
Что весть пришлет мне добрый Гарсиваз
О том, что шах простил меня, смягчился,
Раскаявшись, от мести отрешился».
Он горько плакал три тяжелых дня,
Свою судьбу коварную кляня,
А на четвертый день, в тоске великой,
Заснул на ложе рядом с луноликой.
Проснулся он, увидев страшный сон,
Внезапно заревел, как буйный слон.
Сказала Фарангис: «О, сделай милость.
Мой царь, скажи мне, что тебе приснилось?»
Ответил Сиявуш: «О сне моем
Не говори ни с другом, ни с врагом.
Я был во сне, о кипарис мой нежный,
Казалось, окружен рекой безбрежной.
Из-за реки огонь пошел ко мне,
И запылал Сиявушгирд в огне.
Смерть — в пламени, и смерть — в речной пучине,
Афрасиаб могучий — посредине.
Властитель злобно глянул на меня.
Сильней раздул он языки огня».
А та: «Теперь заснешь. Огонь и влага —
Хороший сон; они даруют благо.
Убит бесславно будет в некий час
Румийским полководцем Гарсиваз».
Царевич вызвал воинов бывалых
И на дворе и во дворце собрал их,
С мечом в руке, в одеждах боевых,
Он сел и в степь отправил верховых.
Минуло два часа той ночи черной.
Вернулся всадник, доложил дозорный:
«За туран-шахом, за царем земли,
Большое войско движется вдали».
От Гарсиваза вестник прибыл вскоре:
«Ищи спасенья, наступило горе.
Тебе я словом не помог своим,
Как прежде, гневом туран-шах палим».
Не распознал царевич лицемерья,
Не потерял к его речам доверья.
«О мой супруг, — сказала Фарангис,—
О нас не думай, должен ты спастись.
Помчись на скакуне в другое царство,
В Туране ты погибнешь от коварства».
Сказал он: «Сон исполнился дурной,
Померкла честь моя, как свет дневной.
Кончается мое существованье,
И наступает горькое страданье.
Пять месяцев несешь ты в чреве плод.
Пускай для славы мальчик мой растет.
Младенцу Кей-Хосрова дай ты имя,
Утешь его заботами своими.
Мой близок час: прикажет твой отец,
Чтоб счастью моему пришел конец,—
Я буду, неповинный, обезглавлен,
Венец мой царский будет окровавлен.
Ни савана, ни гроба не найду,
Лишь вас, хула и злоба, я найду!
Прикажет шах — палач с надменным взором
Тебя, нагую, выведет с позором.
Придет Пиран, отважен и велик,
Тебя у шаха вымолит старик.
Ты в доме благодетеля седого
Родишь на свет младенца Кей-Хосрова.
Прибудет из Ирана мститель ваш —
Ведомый господом спаситель ваш,
И поведет он, тайно и нежданно,
К реке Джейхун тебя и мальчугана.
Твой сын на троне станет знаменит,
Себе и птиц и рыб он подчинит.
Начнет Иран войну, Туран карая,
Земля от края забурлит до края.
Туран поднимет вопль, поднимет стон,
Делами Кей-Хосрова потрясет.
Услышав завещание супруга,
Повисла Фарангис на шее друга.
Заплакал он, — и стала боль сильней
Вошел в конюшню, выбрал из коней
Шабранга, скакуна породы знатной,
Что был быстрее ветра в битве ратной.
Он обнял голову его, стеня,
Узду и недоуздок снял с коня.
И на ухо шепнул ему с тоскою:
«Ты моему врагу не будь слугою.
Когда для мести выйдет Кей-Хосров,
Ты помоги ему разбить врагов.
Скачи под ним, копытом бей сердито,
Врагов да втопчет в прах твое копыто.
Он в путь собрался; думал он, дивясь:
Злосчастье с ним порвать не хочет связь!
Повел он войско в сторону Ирана,
В его душе кровоточила рана.
Он полфарсанга проскакал в степях,
Когда его настиг туранский шак.
Но помнил Сиявуш о договоре,
Меча не поднял на степном просторе.
Остановил он тысячную рать,
Иранцам запретил он в бой вступать.
Но, дик и злобен, договор наруша,
Напал Афрасиаб на Сиявуша,
Крича: «Крушите недругов страны,
Пусть в море крови поплывут челны!»
Их было тысяча, бойцов бесстрашных,
Прославленных в сраженьях рукопашных,
В крови на поле все они легли,
И цвет тюльпана цветом стал земли,
Враг ликовал, побоище устроя.
Был ранен Сиявуш во время боя.
Упал на землю витязь, как хмельной,
Связал его Гуруй в пыли степной.
Погнали Сиявуша кровопийцы,
Пешком погнали палачи-убийцы.
В Сиявушгирд побрел он, окружен
Туранским полчищем со всех сторон.
Сказал Афрасиаб, исполнен злости:
«Его подальше от дороги бросьте,
Пусть отпадет от тела голова,
Пусть на земле, где не растет трава,
Прольется кровь его горячим током;
Бесстрашны будьте в мщении жестоком!»
Все воины вскричали как один:
«В чем пред тобой он грешен, властелин?
Царя страны ты убивать не вправе,—
Тем самым вред наносишь всей державе!»
Был некий богатырь, вельможи брат,—
Пирана-старца был моложе брат.
Пилсамом звался витязь благородный,
С душою чистой, от греха свободной.
Пилсам сказал царю: «Произрастет
От этой ветви горький, страшный плод.
Ты эту голову отсечь не должен,
Поднять кровопролитья меч не должен.
В цепях его держи, за часом час,
За годом год у времени учась.
Не лучше ль сердце разумом наставить?
Успеешь Сиявуша обезглавить.
Ты не спеши казнить его мечом:
Спешишь теперь — раскаешься потом.
Невинного казнив, лишишься чести,
Придет Кавус, придет Рустам для мести.
Не торопись: Туран погубишь ты,
Коль эту голову отрубишь ты!»
От этих слов Афрасиаб смягчился,
А низкий Гарсиваз ожесточился.
Сказал: «Мой царь! Неопытен Пилсам,
И не склоняйся ты к его словам:
Когда врага помилуешь ты ныне,
Уйду, не буду жить при властелине».
Дамур с Гуруем, возмутясь, пришли
И молвили царю своей земли;
«Ты недруга поймал, силки расставив.
Раскаешься, его не обезглавив.
Мы лучшего решенья не найдем:
Убей его, чтоб мир забыл о нем!»
Ответил шах: «Меня он не обидел,
Ни разу от него я зла не видел,
Однако предсказал мне звездочет,
Что от него беда ко мне придет.
Когда его казню я, месть свершая,
Поднимется в Туране пыль такая,
Что солнце потемнеет в той пыли,
И мудрых изумят дела земли.
Простив его, узнаем боль и горе,
А казнь — бедою горшей станет вскоре».
Разодрала ланиты Фарангис,
По стану струи крови полились,
Пошла к отцу, главу посыпав прахом,
Пред ним предстала с трепетом и страхом.
Сказала! «Почему, великий шах,
Меня ты хочешь обратить во прах?
Обманут хитрецом, ужель отличья
Ничтожества не видишь от величья?
О, не казни ты мужа без вины,
Побойся бога солнца и луны!
Когда мой муж иранский край оставил,
К тебе пришел он и тебя восславил,
Из-за тебя покинул он отца,
Лишился он престола и венца.
Хулитель Гарсиваз тому виною,
Что славой ты покроешься дурною.
Вскипят при этой казни глади вод,
Афрасиаба небо проклянет.
Ты государя похищаешь с трона,
Ты будешь проклят светом небосклона!»
Едва на мужа глянула жена,
Ланиты расцарапала она,
Заплакала: «Мой витязь! Мой воителы
Мой гордый лев! Мой храбрый повелитель!
Покинул ты Иран с тоской в очах,
Решил ты, что отец твой — туран-шах.
Где клятвы шаха? Люди ужаснулись,
Сатурн, луна и солнце содрогнулись!
Пускай умрут коварный Гарсиваз,
Дамур, Гуруй, что разлучают нас!
Да будет каждый обречен на муку,
Кто, низкий, на тебя поднимет руку!»
Услышал шах, что говорила дочь.
Стал темен день в его глазах, как ночь.
«Ступай к себе, — он крикнул, негодуя,—
Откуда знаешь ты, что предприму я?»
Была в чертогах, мрачная, как ночь,
Темница, — и о ней не знала дочь.
Ее, как обезумевшую, сразу
Поволокли по царскому приказу,
Столкнули палачи царевну вниз,
И заперли в темнице Фарангис.
Тут Гарсиваз вперил глаза в Гуруя.
Тот отвернулся, в сердце гнев почуя,
Пошел он, к Сиявушу подошел,
Забыл он стыд и честь, жесток и зол,
За бороду царевича рванул он,—
О, грех какой! — к земле его пригнул он.
Из сердца Сиявуш исторгнул стон:
«О бог, ты выше, чем круги времен!
Из семени явиться дай дитяти,
Исполненному царской благодати!
Я месть свою младенцу передам,—
Пусть отомстит мой сын моим врагам!»
Сквозь город, мимо войска, в гуще пыли,
С позором Сиявуша потащили.
В степи Гуруй у Гарсиваза взял
Блестящий, смертью дышащий кинжал.
Бесчестный бросил наземь полководца,
Не трепетал, что кровь его прольется.
Он таз поставил золотой и льву
Назад откинул, как овце, главу.
Он обезглавил витязя кинжалом,
Кровь побежала в таз потоком алым.
Исполнив повелителя приказ,
Он опрокинул с теплой кровью таз.
Кровь потекла бестравною равниной,—
Взошел цветок из крови той невинной…
Поднялся вихрь, взметнулся черный прах,
Затмив луну и солнце в небесах.
Во мраке люди плакали, горюя,
Посыпались проклятья на Гуруя.
Чертоги Сиявуша крик потряс,
Был проклят всей землею Гарсиваз.
Все слуги плакали, тоской убиты,
Ногтями Фарангис впилась в ланиты,
Она косою обвила свой стан;
Отрезав косу — мускусный аркан,—
Затворница рыдала молодая,
Афрасиаба громко проклиная.
Проклятья, вопли, стоны Фарангис
До слуха властелина донеслись.
Он Гарсивазу приказал и страже;
«Вам надо вывести ее сейчас же,
За волосы схватить и потащить,
Сорвать одежды, тело обнажить,
Бить палками негодную все время,
Пока не выпадет из чрева семя».
Славнейшие вельможи той земли
Проклятья на владыку изрекли:
Где слыхано, чтоб казни столь греховной
Желали воин, царь иль маг верховный?
Тогда сказал рыдающий Пилсам
Лаххаку, Фаршидварду — двум друзьям:
«Афрасиаб черней, чем силы ада.
При шахе оставаться нам не надо.
К Пирану двинемся, ища пути,
Как Фарангис от гибели спасти».
Три всадника к Пирану поскакали,
В крови лицо, душа в шипах печали.
Поведали о ярости слепой,
О бедствии, содеянном судьбой.
Пиран, услышав их повествованье,
На площадь выбежал в негодованье.
Скакал два дня, две ночи, — наконец
К насильникам он прибыл во дворец.
Увидел Фарангис: она — в бессилье:
Ее, как сумасшедшую, схватили.
Сердца людей в крови, глаза в слезах
Проклятья туран-шаху на устах.
Когда Пиран предстал перед царевной,
Заплакала она в тоске душевной:
«Зачем навлек ты на меня позор?
Зачем живую бросил ты в костер?»
Пиран упал с коня, лишась надежды,
Он боевые разорвал одежды,
Он отдал царским палачам приказ
Повременить один хотя бы час.
К Афрасиабу он пошел поспешно,
Глаза в слезах, а сердце безутешно.
Сказал: «О туран-шах, живи светло,
Тебя вовек да не коснется зло!
Как ты свершил дурное, добронравный?
Кто, кто тебя толкнул на путь бесславный?
Воистину дела твои черны:
Убил ты Сиявуша без вины,
Теперь на дочь свою ты поднял руку,
Дитя родное ты обрек на муку.
Ты обезумел, честного казня,
Теперь ты дожил до дурного дня.
О шах, меня от скорби ты избавишь,
Когда ко мне ты Фарангис отправишь.
Боишься ты: с войною внук придет?
Но внук тебе не причинит забот:
Ты подожди, пока дитя родится,
Я с ним вернусь, — и действуй как убийца».
Ответил шах: «Ты с миром воротись,
Я не желаю крови Фарангис».
Душа Пирана благом озарилась,
Когда от шаха он увидел милость.
Увез прекрасноликую в Хотан,
Возликовали двор и царский стан.
Сказал жене Пиран: «От злого взгляда
Несчастную царевну спрятать надо.
Родится мальчик, чтобы стать царем.
Тогда-то хитрость мы изобретем.
Будь перед ней послушною рабою,
Смотри, ей много суждено судьбою».
Афрасиаб опасался, что Кей-Хосров, когда вырастет, отомстит за смерть своего отца, и туранский царь решил казнить юного сына Сиявуша, но мудрый Пиран отговорил Афрасиаба от такого злодейского поступка.
Когда в Иран пришла весть о гибели Сиявуша, Рустам ворвался во дворец царя Кей-Кавуса, выволок за косы его жену Судабу и обезглавил ее. Затем Рустам вторгся во главе иранского войска в Туран, предал страну огню и мечу, изгнал Афрасиаба и некоторое время сам правил Тураном. Но когда Рустам возвратился в Иран, Афрасиаб вновь овладел своей державой.
Знатный иранский богатырь Гударз увидел вещий сон. Открылось ему, что в Туране томится в плену сын Сиявуша Кей-Хосров. Гударз отправил в Туран своего храброго сына Гива, и тот вывез из вражеской страны Кей-Хосрова и его мать Фарангис.
Кей-Кавус, с одобрения Гударза, уступил престол внуку — Кей-Хосрову, минуя своего сына Фарибурза, притязания которого на престол поддерживал Тус.
Вступив на престол Ирана, Кей-Хосров отправил в Туран под водительством Туса иранскую рать, чтобы она отомстила Афрасиабу за смерть Сиявуша.
Лишь солнце показалось в вышине
Верхом на быстроногом скакуне,—
Овен сокрылся за его спиною
И вся земля оделась желтизною.
Тус поднял ратоборцев для борьбы,
Раздался звон литавров, клич трубы.
Земля заволновалась без предела,
Иранская держава загудела.
Рать к облакам такую пыль взвила,
Что солнце, месяц стали как смола.
Слоны ревут, ржут кони — забурлило
Все мироздание, как волны Нила.
От шахских стягов, что вознес Иран,
Стал воздух красен, зелен, желт, багрян.
Гударза род с отвагой молодою
Примчался под кавейскою звездою.
Воителей глава надел венец,
Покинул повелителя дворец.
Была у Туса обувь золотая,—
Скакал, под знаменем Кавы блистая.
Богатыри, чьим предком был Ноузар,
С венцами, булавами, млад и стар,
Совместно, перед воинством державы,
Скакали, словно месяц, величавы.
Задело знамя Туса небосклон,
На знамени был нарисован слон,
Из рода Манучихра все вельможи
С могучей черною горою схожи,
Блистали ярче солнца и луны,—
Любовью к Тусу их сердца полны.
Когда, со стягами, свиреполики,
Бойцы предстали пред лицом владыки.
Был дан приказ, и Тус к царю царей
Прославленных привел богатырей.
Премудрый шах воителей наставил:
«Велел я, чтобы войско Тус возглавил,
Чтоб водрузил он знамя в добрый час.
Для вас его желание — приказ.
Дорогу указующий вожатый
Вас поведет, чтоб сгинул враг заклятый.
Так поступайте, как прикажет он:
Все трудные узлы развяжет он».
А Тусу повелел: «Как страж всеправый,
Храни мои приказы и уставы.
Ты никого не обижай в пути,
Законы царства должен ты блюсти.
Тех, кто не служит в войске, — земледельцев,
Ремесленников мирных и умельцев,—
Да не коснется пагубная длань:
Вступай ты только с воинами в брань.
В сей бренный дом войдя, мы скоро выйдем,—
Ужели безобидных в нем обидим?
Лишь так ты делай, как тебе велят:
Не должен ты идти через Калат!
Дух Сиявуша, чистотой сверкая,
Да обретет надежду в кущах рая.
От дочери Пирана сын его
Во всем явил с отцом свое родство,
Он брат мой, на меня похож он тоже,
Он образован, сверстник мой пригожий.
Знай: с матерью в Калате он живет,
Как царь, властитель рати, он живет.
Мой брат иранцев не видал ни разу,—
Так не иди в Калат, внемли приказу!
Есть крепость у него и ратный строй
За труднопроходимою горой.
А сам он — воин знатный, светлоликий,
Отменный всадник, богатырь великий.
Иди пустыней, хоть она мертва,
Но обойди ты логовище льва».
Ответил Тус, глава на ратном поле:
«Судьба твоей да подчинится воле!
Тот путь, что ты назвал, я изберу,
Кто стал твоим слугой, придет к добру».
Умчался Тус, а шах, блюститель чести,
Вернулся во дворец с Рустамом вместе.
Они жрецов собрали, мудрецов,
И, речь начав, упомянул Хосров
Афрасиаба, вспомнил он мученья
Отца, и собственные злоключенья,
И горе доброй матери своей:
«Как мучил, как терзал нас тот злодей!
Мне домом стала хижина пастушья,
Никто не знал, что сын я Сиявуша.
Я Туса в бой отправил, но вдвоем
За Тусом вслед и мы с тобой пойдем.
Туранского царя мы уничтожим,
Мы гибель принесем его вельможам!»
«Ты не печалься, — отвечал Рустам,—
Способствует судьба твоим мечтам».
А войско, долом двигаясь, горою,
Достигло перепутья той порою.
Направо — степи мертвые лежат,
Налево — путь ведет в Чарам, в Калат.
Средь поля ратный стан остановился,
Все ждали, чтобы Тус к бойцам явился,
Чтоб выбрал он одну из двух дорог,
Чтоб войско от беды он уберег.
Прибег к уловкам вождь высокородный,
Он стал бранить пустынный край безводный!
Сказал Гударзу: «В тех сухих степях,—
Хотя бы амброй там песок пропах,—
Как побредем весь день в палящем зное,
Нуждаясь в капле влаги и в покое?
Не лучше ль нам пойти в Калат, в Чарам
И у Майама отдохнуть бойцам?
Там — цветники, прохлада вод текучих,—
Зачем же нам блуждать в песках сыпучих?
В войсках Гуждахма был однажды я,
И в той степи страдал от жажды я.
Хоть оказалась гладкою дорога,
Мы горестей на ней познали много».
Сказал Гударз: «Над ратью боевой
Тебя назначил мудрый шах главой.
Он указал, какой пойти дорогой,
Так выполняй приказ владыки строгий.
Не следует Хосрова огорчать,
От гнева шаха пострадает рать».
Ответил Тус: «О витязь именитый,
Из сердца беспокойство прогони ты.
Не огорчится этим делом шах,—
Да слез не будет на твоих очах!
К чему блуждать в степи безводной, жгучей,
А не идти дорогой наилучшей?»
Все войско эти приняло слова,
Так поступило, как велел глава.
Слонов погнали в сторону Калата,
Дорога та водой была богата…
К Фаруду с вестью прибыл верховой:
«В пыли сокрылся солнца лик живой.
Слоны и мулы топчут мир зеленый,
Земля как Нил бушует разъяренный».
Фаруд, неопытный и молодой,
Был омрачен нежданною бедой.
Он приказал собрать животных вьючных,
Коней военных и овец курдючных,
Загнать их в Сафид-кух, замкнуть врата,
Чтобы окрестность сделалась пуста.
Смотрели все, царевичу послушны,
Как наполнялись хлевы и конюшни.
Фаруда мать, страдала Джарира:
О Сиявуше боль ее остра.
К ней сын явился, юностью пленяя.
Сказал: «Послушай, матушка родная!
Пришли сюда иранские войска,
Ведет их Тус, их сила велика.
Вдруг нападут на нас? Так посоветуй,
Как поступить нам с бранной силой этой?»
Сказала Джарира: «Мой сын, мой свет,
Причины для твоей тревоги нет.
Твой брат в Иране — миродержец новый,
Нам Кей-Хосров открыл добра основы.
Ваш род един, и кровь у вас одна,
От одного отца вы семена.
И если он возмездием пылает,—
За Сиявуша отомстить желает,—
Тогда и ты скорей исполни месть:
Всему ты должен битву предпочесть!
Для мщения надень кафтан из Рума,
Да будет пылким сердце, гневной дума.
Иди ты к войску, что направил брат.
Он — шах, ты — жаждой мщения объят.
Пусть барсов напугает наше горе,
Пусть чудища, дрожа, покинут море,
Пусть будет проклят туран-шах везде —
Орлами в небе, рыбами в воде.
Кто силою, кто доблестью военной
Был равен Сиявушу во вселенной?
Его бесстрашье, мудрость, честь познав,
И царственность, и благородный нрав,
Пиран велел мне стать его женою.
Он счастлив был в Туране лишь со мною.
Ты по отцу, по матери своей,
Мой мальчик, происходишь от царей.
Стоишь ты, царской благодатью вея,
Ты — сын властителя из рода Кея.
Будь предан славным предкам до конца,
Ты отомсти с оружьем за отца».
Фаруд сказал: «Та месть — моя услада!
С кем из иранцев говорить мне надо,
Из тех отважных — верною тропой
Кто поведет меня на правый бой?
Не знаю их имен, примет не знаю.
Как я пошлю им свой привет? Не знаю!»
Сказала мать: «Обиды ты забудь,
С Тухаром вместе отправляйся в путь.
Он знает всех, он скажет без лукавства:
Вот это, мол, пастух, а это — паства.
Узнаешь ты Бахрма и Зангу:
Им благодарность в сердце берегу.
Тебе опорой будут эти двое,
Мы помним их служенье боевое,
Был неразлучен с ними твой отец.
Он преданнее не знавал сердец.
Те двое принесут тебе удачу,
Я тайны ни одной от них не прячу.
Ты знатных пригласи и стол накрой.
Подарки принеси и пир устрой.
Свое сокровище нашел ты в брате,
А гнев свой береги для вражьей рати!
Теперь обязан ты возглавить рать,
За молодого шаха воевать.
Ты, чтобы мстить, вперед скакать обязан,
Вперед скакать, для мести опоясан».
Сказал Фаруд: «О львица, твой совет
Семейству нашему дарует свет!»
Когда раздался рев трубы в Чараме,
Пыль высоко взметнулась над полями,
Дозорный прискакал во весь опор
И начал об иранцах разговор:
«В степи, в горах, в ущельях нет им счета,
Попало солнце, скажешь ты, в тенета!
Отселе до пустыни Ганг видны
Лишь воины, лишь кони и слоны».
Фаруд покинул крепость и на гору
Взошел, и воинство предстало взору.
Сошел, ворота запер на замок,
Чтобы проникнуть в крепость враг не мог,
С Тухаром поскакал, исполнен рвенья,—
Несчастье он обрел с того мгновенья…
Затмится наверху твоя звезда,—
Что для тебя любовь и что вражда?
Фаруд с Тухаром глянули с вершины,
Как движутся иранские дружины.
«Ты должен, — юный витязь произнес,—
Ответить мне на каждый мой вопрос
О всех владельцах булавы и стяга,
Чья обувь — золото, чья цель — отвага.
В лицо ты знаешь витязей-вельмож,
И мне их имена ты назовешь».
А воинство, отдельными полками,
Вздымалось в гору вровень с облаками.
Там тридцать тысяч было смельчаков,
Копейщиков, воинственных стрелков.
У каждого — будь пеший он иль конный —
Копье, и меч, и пояс золоченый.
Шлем, знамя, обувь, щит и булава —
Сплошь золото: уместны тут слова,
Что злата в рудниках теперь не стало,
Жемчужин в облаках теперь не стало!
Гул воинства был так сильноголос,
Что сердце коршуна разорвалось.
Сказал Фаруд: «Все назови знамена,
Всех славных перечисли поименно.
Чей это стяг, где слон изображен?
Здесь каждый хорошо вооружен.
Кто скачет впереди, грозя очами,
Ведя отважных с синими мечами?»
Ответствовал Тухар: «О господин,
Ты видишь предводителя дружин,
Стремительного Туса-полководца,
Который насмерть в грозных битвах бьется.
Чуть дальше — стяг другой горит огнем,
И солнце нарисовано на нем.
Под знаменем, светло и гордо глядя,
Несется славный Фарибурз, твой дядя,
За ним Густахм, и витязи видны,
И стяг с изображением луны.
Могуч Густахм, опора шаханшаха,
Его увидев, лев дрожит от страха.
Воинственный он возглавляет полк,
На длинном стяге нарисован волк.
Здесь всадники, чьи подвиги известны,
А среди них — Занга, отважный, честный.
Рабыня, как жемчужина светла,
Чьи шелковые косы — как смола,
На стяге нарисована красиво,
То — ратный стяг Бижана, сына Гива,
Смотри, на стяге — барса голова,
Что заставляет трепетать и льва.
То стяг Шидуша, воина-вельможи,
Что шествует, на горный кряж похожий.
Вот Гураза, в руке его — аркан,
На знамени изображен кабан.
Вот скачут люди, полные отваги,
С изображеньем буйвола на стяге.
Из копьеносцев состоит отряд,
Их предводитель — доблестный Фархад.
А вот — военачальник Гив, который
Вздымает стяг, на стяге — волк матерый.
А вот — Гударз, Кишвада сын седой.
На стяге — лев сверкает золотой.
А вот на стяге — тигр, что смотрит дико,
Ривниз-воитель — знамени владыка.
Настух, Гударза сын, вступает в брань
Со знаменем, где вычерчена лань.
Бахрам, Гударза сын, воюет яро,
Изображает стяг его архара.
О каждом говорить — не хватит дня,
Не хватит слов достойных у меня!»
Богатырей, исполненных величья,
Назвал он все приметы и различья.
И мир Фаруду засиял светло,
Лицо его как роза расцвело.
Иранцы, подойдя к горе, оттуда
Увидели Тухара и Фаруда.
Стал полководец гневен и суров,
Остановил и войско и слонов.
Воскликнул Тус: «Друзья, повремените.
Один боец из войска должен выйти.
Бесстрашно, время дорого ценя,
Пусть на вершину он помчит коня,
Узнает, кто они, те смелых двое,
Зачем глядят на войско боевое.
Узнает в них кого-нибудь из нас,
Пусть плетью их огреет двести раз,
А если в них узнает он туранцев,—
Пусть свяжет, нам доставит чужестранцев.
А если он убьет их, — не беда,
Пусть их тела притащит он сюда.
А если соглядатаи пред нами,
Лазутчики проклятые пред нами,—
Пусть рассечет их сразу пополам,
Достойно им воздаст по их делам!»
Бахрам, Гударза сын, сказал: «Загадку
Я разгадаю, мигом кончу схватку.
Я поскачу, исполню твой приказ,
Я растопчу все то, что против нас».
На кряж горы скалистою дорогой
Помчался он, охваченный тревогой.
Сказал Фаруд: «Тухар, ответствуй мне,
Кто так отважно скачет на коне,
С лицом открытым и могучим станом,
С привязанным к луке седла арканом?»
Сказал Тухар: «Он, видно, смел в бою,
Но сразу я его не узнаю,
Хоть всадника знакомы мне приметы.
Иль то Гударза сын, в броню одетый?
Я помню шлем, в котором Кей-Хосров
Бежал в Иран, спасаясь от врагов.
Не тем ли шлемом, думаю, украшен
Сей богатырь, что с виду так бесстрашен?
Да, родич он Гударза по всему.
Вопрос ему задай ты самому!»
Бахрам над горной показался кручей,
И загремел он громоносной тучей:
«Эй, кто ты, муж, там, на горе крутой?
Иль рати здесь не видишь ты густой?
Иль ты не слышишь, как земля трясется?
Иль не боишься Туса-полководца?»
Сказал Фаруд: «Мы слышим звуки труб,
Мы не грубим, — не будь и с нами груб.
Будь вежливым, о муж, познавший сечи,
Ты рта не открывай для дерзкой речи.
Знай: ты не лев, я — не онагр степной,
Нельзя так разговаривать со мной!
Не превосходишь ты меня бесстрашьем,
Поверь, что сила есть и в теле нашем.
У нас есть разум, есть отважный дух,
Есть красноречье, зоркость, острый слух.
Поскольку я всем этим обладаю,
То я твои угрозы презираю!
Ответишь, так вопрос тебе задам,
Но только добрым буду рад речам».
Сказал Бахрам: «Отвечу. Говори же,
Хотя повыше ты, а я пониже».
Спросил Фаруд: «Кто возглавляет рать?
Кто из великих жаждет воевать?»
«Под знаменем Кавы, — Бахрам ответил,—
Ведет нас храбрый Тус, что ликом светел.
Здесь — грозный Гив, Густахм, Руххам, Гударз,
Гургин, Шидуш, Фархад — в сраженье барс,
Занга — он отпрыск Шаварана львиный,
Отважный Гураза, глава дружины».
Сказал Фаруд: «Достойного похвал,
Ты почему Бахрама не назвал?
Для нас Бахрам — не на последнем месте
Так почему о нем не скажешь вести?»
Сказал Бахрам: «О ты, с обличьем льва.
Где о Бахраме услыхал слова?»
А тот: «Я испытал судьбы суровость,
От матери услышал эту повесть.
Она сказала мне: «Скачи вперед,
Найди Бахрама, если рать придет.
Найди ты и воителя другого —
Зангу, что для тебя родней родного.
Как брат, любил обоих твой отец.
Ты должен их увидеть наконец!»
Спросил Бахрам: «О, где тебя взрастили?
Ветвь царственного дерева — не ты ли?
Не ты ли — юный государь Фаруд?
Пусть бесконечно дни твои цветут!»
«О да, Фаруд я, — был ответ суровый,—
Ствола, что срублен был, побег я новый».
Бахрам воскликнул: «Руку обнажи,
Знак Сиявуша ты мне покажи!»
И что же? На руке пятно чернело,
Ты скажешь — на цветке оно чернело!
Китайским циркулем — и то никак
Не мог быть выведен подобный знак!
И стало ясно: отпрыск он Кубада,
Он Сиявуша истинное чадо.
Бахрам хвалу царевичу вознес,
К нему взобрался быстро на утес,
Фаруд сошел с коня, присел на камень,
Пылал в душе открытой чистый пламень.
Сказал: «О богатырь, о храбрый лев,
Ты славен, супостатов одолев!
Я счастлив, что тебя таким увидел!
Как будто я отца живым увидел!
Передо мною — доблестный мудрец,
Воинственный, удачливый храбрец.
Наверно, ты желаешь знать причину!
Зачем взошел я ныне на вершину?
Пришел я, чтоб взглянуть на вашу рать,
О витязях иранских разузнать.
Устрою пир, — веселье пусть начнется,
Хочу взглянуть на Туса-полководца,
Затем хочу как всадник битвы сесть
И на Туран свою обрушить месть.
В бою огнем возмездья пламенею,
Святым огнем, — и отомщу злодею!
Ты полководцу, чья светла звезда,
Скажи, чтоб он пришел ко мне сюда.
Неделю вместе у меня побудем,
Мы все пред нашей битвою обсудим.
А день восьмой для нас взойдет светло,—
И сядет полководец Тус в седло.
Для мести опояшусь, бой начну я,
Побоище такое учиню я,
Что львы взглянуть на битву захотят,
Что коршуны на небе подтвердят:
«Еще земля и древние созвездья
Не видели подобного возмездья!»
«О государь, — сказал ему Бахрам,—
Ты подаешь пример богатырям.
Я с просьбой руки Тусу поцелую,
Ему поведав речь твою прямую.
Но разума у полководца нет,
Не входит в голову его совет.
Он царской кровью, доблестью гордится,
Но не спешит для шаха потрудиться.
Гударз и шах с ним спорят с давних пор:
Из-за венца и Фарибурза спор.[33]
Он утверждает: «Я — Ноузара семя,
Чтоб царствовать, мое настало время!»
Быть может, богатырь придет во гнев,
Не станет мне внимать, рассвирепев,
Пошлет сюда кого-нибудь другого,—
Так берегись ты всадника дурного.
Он самодур, мужлан, чья мысль темна,
В его рассудке — бестолочь одна.
У нас доверья не завоевал он:
Ведь Фарибурзу царство добывал он.
«Взойди на гору, — был его приказ,—
Ты не беседуй с тем бойцом сейчас,
А пригрози кинжалом, чтоб на гору
Не смел взбираться он в такую пору».
Свое согласье даст воитель Тус,—
К тебе я с вестью доброю вернусь.
А если всадника пришлет другого,—
Не очень полагайся на такого.
Тебе пришлет не больше одного:
Известны мне порядки у него.
Подумай, — у тебя одна забота:
Не дать проходу, запереть ворота».
Тут золотую палицу Фаруд
(А рукоять — бесценный изумруд)
Вручил Бахраму: «Воин именитый,
Мой дар возьми на память, сохрани ты.
А если Тус, как должно, примет нас,
Обрадует сердца, обнимет нас,—
От нас еще получит, благосклонный,
Коней военных, седла и попоны».
Заране радуясь таким дарам,
Вернулся к Тусу доблестный Бахрам.
Сказал он Тусу с гордой чистотою:
«Душе да будет разум твой четою!
Фаруд, сын шаха, этот юный муж,
Его отец — страдалец Сиявуш.
Я видел знак, не отрывал я взгляда!
То знак их рода, рода Кей-Кубада!»
Воскликнул Тус, ответ сорвался с губ:
«Не я ль глава полков, держатель труб.
Я приказал его ко мне доставить,
А не пустые с ним беседы править,
Он сын царя… А я не сын царя?
Иль воинство сюда привел я зря?
И что ж? Туранец, словно ворон черный,
Воссел пред нами на вершине горной!
Как своеволен весь Гударза род,
От вас войскам один лишь вред идет!
Тот всадник одинок, — ты струсил ныне,
Как будто льва увидел на вершине!
Заметив нас, он стал хитрить с тобой…
Напрасно горной ты скакал тропой!»
Он к знатным обратил свои призывы:
«Мне нужен лишь один честолюбивый.
Пускай туранца обезглавит он,
Мне голову его доставит он!»
Сказал ему Бахрам: «О муж могучий,
Себя напрасной злобою не мучай.
Побойся бога солнца и луны,
Пред шахом ты не совершай вины.
Тот богатырь — Фаруд, он брат владыки.
Воитель знатный, всадник светлоликий,
И если из иранцев кто-нибудь
Захочет юношу к земле пригнуть,
Один пойдет, — он в битве не спасется,
Лишь опечалит сердце полководца».
Но с гневом Тус внимал его речам,
Отверг совет, что дал ему Бахрам.
Велел он ратоборцам именитым
На гору поскакать путем открытым.
Для битвы с отпрыском царя царей
Помчалось несколько богатырей.
Бахрам сказал им: «Не считайте ложно,
Что с братом государя биться можно.
Ресница витязя того стократ
Дороже ста мужей, он — шаха брат.
Кто Сиявуша не видал, — воспрянет
От радости, лишь на Фаруда взглянет!
Вы будете в почете у него:
Венцы вы обретете у него!»
Услышав речь Бахрама про Фаруда,
Воители не тронулись оттуда.
Заранее оплаканный судьбой,
Зять полководца Туса мчался в бой,
Исполненный воинственного духа,
Направился к твердыне Сафид-куха.
Увидев на горе богатыря,
Достал Фаруд старинный лук царя,
Сказал Тухару: «Видно, в деле этом
Тус пренебрег Бахрамовым советом.
Бахрама нет, другой теперь пришел,
Но знаешь ты, что сердцем я не зол.
Взгляни-ка, вспомни: кто же он, стальною
Одетый с ног до головы бронею?»
Сказал Тухар: «То полководца зять,
Бесстрашный муж, его Ривнизом звать.
Он — сын единственный, умен и зорок,
Есть у него сестер прекрасных сорок.
Он применяет хитрость, лесть и ложь,
Но витязя отважней на найдешь».
Фаруд ему сказал: «Во время сечи
Ужели надобны такие речи?
Пусть он слезами сорока сестер
Оплакан будет: мой кинжал остер!
Его сразит полет стрелы с вершины,—
Иль званья недостоин я мужчины.
Теперь, о мудрый муж, наставь меня:
Убить богатыря или коня?»
А тот: «Срази наездника стрелою,
Чтоб сердце Туса сделалось золою.
Пусть знает он, что мира ты хотел,
Что вышел к войску не для бранных дел,
А он по дурости с тобою спорит,
Тем самым брата твоего позорит».
Ривниз все ближе, путь гористый крут.
Стал тетиву натягивать Фаруд.
Стрела с горы к Ривнизу поспешила
И к голове шлем витязя пришила.
Конь, сбросив тело, взвился, и, мертва,
Ударилась о камень голова.
При виде в прах повергнутого тела
В глазах у Туса разом потемнело.
Сказал мудрец, дела людей познав!
«Наказан будет муж за злобный нрав».
Военачальник приказал Зараспу:
«Гори, подобен будь Азаргушаспу!
Надеть доспехи боя поспеши,
Собрав все силы тела и души.
За витязя ты отомсти сурово!
Я здесь не вижу мстителя другого».
Сел на коня Зарасп, броню надев.
Стенанья на устах, а в сердце — гнев.
К вершине устремился конь крылатый,—
Казалось, двигался огонь крылатый.
Фаруд сказал Тухару: «Погляди,
Еще один воитель впереди.
Скажи мне: он моей стрелы достоин?
Он государь или обычный воин?»
Тухар сказал: «Времен круговорот,
Увы, безостановочно идет.
Тот муж — Зарасп, сын Туса-полководца.
Нагрянет слон, — Зарасп не отвернется.
Сестры Ривниза старшей он супруг,
Как мститель, он теперь натянет лук.
Едва лишь на тебя воитель взглянет,
Пускай твоя стрела из лука прянет,
Чтоб он скатился головой к земле,
Чтоб туловища не было в седле;
Безумный Тус уразумеет ясно,
Что мы сюда явились не напрасно!»
Прицелился царевич молодой,
В кушак Зараспа угодил стрелой.
Он плоть его пришил к луке седельной,
И душу он извлек стрелой смертельной.
Примчался ветроногий конь назад,
Испугом и безумием объят.
Воители Ирана застонали,
В отчаянье, в печали шлемы сняли.
У Туса очи и душа — в огне.
Предстал он перед воинством в броне.
Двух витязей оплакал, полный гнева,
Как листья расшумевшегося древа.
Сел на коня, помчался на коне,—
Скажи: гора помчалась на слоне!
К царевичу он поскакал нагорьем,
Охвачен злобой, ненавистью, горем.
Сказал Тухар: «Теперь не жди добра,
Идет к горе свирепая гора.
Летит на битву Тус по горным склонам,
Тебе не справиться с таким драконом.
Замкнем покрепче крепость за собой.
Узнаем, что нам суждено судьбой.
Тобою сын и зять его убиты,—
Дороги к миру для тебя закрыты».
Разгневался Фаруд, разгорячась:
«Когда настал великой битвы час,
Что для меня — твой Тус, твой лев рычащий,
Иль слон, иль барс, что выскочил из чащи?
В бойце поддерживают бранный дух,
Не гасят прахом, чтоб огонь потух!»
Сказал Тухар: «Внимательны к советам
Цари, не видя униженья в этом.
Пусть горы от подножья до вершин
Срываешь ты, и все же ты — один.
Иранцев — тридцать тысяч в грозной рати,
Они придут, мечтая о расплате,
Разрушат крепость на лице земном,
Все, что кругом, перевернут вверх дном.
А если Тус погибнет в бранном споре,
То шаха вдвое горше станет горе.
Неотомщенным будет твой отец,
Наступит нашим замыслам конец.
Из лука не стреляй, вернись ты в крепость,
Запрись, и схватки ты пойми нелепость».
То слово, что умом озарено,
Тухар обязан был сказать давно,
Но глупо он советовал вначале,
Его слова Фаруда распаляли.
…Владел царевич лучшей из твердынь.
В ней пребывало семьдесят рабынь,—
Сверкали, как рисунки из Китая,
За ходом битвы с кровли наблюдая.
Царевич отступить не мог: тогда
Сгорел бы он пред ними от стыда.
Сказал Тухар, наставник без удачи:
«Уж если хочешь в бой вступить горячий,
То полководца Туса пощади:
Стрелой в его коня ты угоди.
Притом, когда внезапно горе грянет.
То не одна стрела из лука прянет,
За Тусом вслед придут его войска,
А это означает: смерть близка.
Ты видел их отвагу, мощь, сложенье,
Не устоишь ты против них в сраженье».
Тогда Фаруд в воинственном пылу
Лук натянул и выпустил стрелу.
Стрела не зря смерть нанести грозилась!
В коня военачальника вонзилась.
Расстался с жизнью конь богатыря.
Тус разъярился, злобою горя.
Щит — на плечах, а сам — в пыли, расстроен,
Пешком вернулся к войску знатный воин.
Фаруд смеялся весело и зло:
«Что с этим витязем произошло?
Как этот старец с целым войском бьется,
Коль я один осилил полководца?»
Паденье Туса удивило всех.
На кровле разбирал служанок смех:
«С горы скатился воин именитый,
От юноши бежал, ища защиты!»
Когда вернулся Тус пешком, в пыли,
К нему в унынье витязи пришли.
«Ты жив, и это хорошо, — сказали,—
Не нужно слезы источать в печали».
Но Гив сказал: «Обида жжет меня,—
Вождь всадников вернулся без коня!
Всему должна быть мера и граница,
Не может войско с этим примириться.
Он сын царя, но разве нашу рать
Он вправе так жестоко унижать?
Иль мы должны принять подобострастно
Все то, что он сказать захочет властно?
Был в гневе храбрый Тус один лишь раз,
Фаруд же столько раз унизил нас!
За Сиявуша мы хотим отмщенья,
Но сыну Сиявуша нет прощенья!
Сражен его стрелой, обрел конец
Зарасп, из рода царского храбрец.
В крови утоплено Ривниза тело,—
Ужели униженыо нет предела?
Хотя он Кей-Кубада кровь и плоть,—
Он глуп, а глупость надо побороть!»
В одежды брани облачил он тело,
И яростью его душа кипела.
Гив на коня-дракона сел верхом,
Помчался в гору, битвою влеком.
Когда Фаруд увидел верхового,
С печальным вздохом произнес он слово:
«Для этой смелой рати нет преград,
Воители отвагою горят,
Один другого доблестней и лучше,
Как солнце, непоборны и могучи.
Но Тус — глупец, а знают и в глуши,
Что мозг без мысли — тело без души.
Боюсь я, он победы не добудет.
Пусть лучше сам Хосров сюда прибудет,
Тогда совместно битву поведем,
Туранской рати учиним разгром…
Кто этот всадник, что надменно мчится,
Чья скоро будет мертвою десница?»
Сказал Тухар: «Перед тобой — дракон,
Дыханьем птицу в небе губит он.
Связал он деда твоего Пирана,
Развеял в прах два полчища Турана.
Осиротил он маленьких детей,
Оставил он отцов без сыновей.
Он ярых львов сильней. В Иран когда-то
Отважно твоего увез он брата.
Он переплыл Джейхун без корабля,
Гордится им иранская земля.
Он — это Гив, он — сила, скажем кратко,
В бою — грознее Нила, скажем кратко!
Стрелу из лука пустишь ты в полет,
Она его кольчугу не пробьет.
В доспехи Сиявуша облачится,—
Ни копий, ни мечей не устрашится.
Пусти стрелу: как надо, прянет вдруг,
Тяжелого коня поранит вдруг,
А Гив, не хуже Туса-полководца,
Щит за плечами волоча, вернется».
И натянул царевич тетиву,
Воинственному уподобясь льву,—
Упал скакун, стрелою пораженный,
А Гив с него свалился, пристыженный.
Со стен посыпался насмешек град,
С позором возвратился Гив назад.
Сказали воины, тая тревогу:
«О богатырь, благодаренье богу!
Твой конь в крови, но сам ты невредим,
Сразись опять с туранцем молодым».
Тут выступил храбрец Бижан, сын Гива,
О битве он сказал красноречиво:
«Отец, ты надо львами вознесен,
Вступить с тобой в борьбу робеет слон,
Так почему ж, взобравшись на вершину,
Ничтожный муж твою увидел спину?
С истерзанным конем на поводу
Пришел ты от туранца, как в бреду!»
А Гив: «Мой конь свалился, окровавлен,
Печалью о коне я был подавлен».
Осыпал сына бранью площадной,
И повернулся сын к нему спиной.
Такая дерзость так была нежданна,
Что плетью грозный Гив огрел Бижана.
Сказал: «Иль ты забыл, идя на рать,
Что в битве разума нельзя терять.
А ты — безмозглый, безрассудный воин,
За дерзость наказанья ты достоин».
Бижан в печали головой поник,
Поклялся богом, господом владык:
«Пусть я умру, — не возвращусь к друзьям я,
Пока за смерть Зараспа не воздам я!»
Пришел к Густахму, тяжело дыша,—
Пылает разум и скорбит душа:
«Дай мне коня, что был в бою испытан,
Чтоб знал я: даже на небо взлетит он!
На нем, в броне, я докажу сейчас:
Не вывелись богатыри у нас!
Туранец жалкий доблестью не блещет,
А войско целое пред ним трепещет!»
Густахм ответил: «Речь твоя глупа,
Не для тебя та горная тропа.
Зарасп, Ривниз, что воинов возглавил
И ни во что вселенную не ставил,
Гив, твой отец, что смерть слонам несет
И презирает дней круговорот,—
Никто не воевал с горой-гранитом,
Хоть каждый был героем знаменитым.
В ту крепость не проникнем никогда,
Лишь коршун может прилететь туда».
Сказал Бижан: «Мне хватит этой муки!
Я волю напрягу свою и руки.
Поклялся я луною и творцом,
Престолом шаханшаха и венцом,
Что, если, как Зарасп, в крови не лягу,
Убью туранца, выкажу отвагу».
Густахм ему ответил: «Ты не прав,
С умом враждует твой горячий нрав,
Таков сей мир: в нем есть хребты и долы
И надо быть спокойным в день тяжелый…
Знай: в табунах есть только два коня
Для битвы богатырской у меня.
Один погибнет, — равных не достану
По масти, силе, быстроте и стану».
Сказал Бижан: «Чтоб отомстить врагу,
Пешком на битву я пойти могу!»
А тот: «Моя душа бы раскололась,
Когда б с твоей главы упал хоть волос.
Будь десять тысяч у меня коней,
Чей каждый волос жемчуга ценней,
Не пожалел бы для такого дела
Мечей и скакунов, души и тела.
Иди, моих коней ты осмотри
И лучшего для битвы отбери.
Вскочи в седло, на поединок выйди.
Погибнет конь, — не буду я в обиде!»
Был в табуне широкогрудый конь,
Большой, свиреп, как волк, а масть — огонь.
Когда он избран был для грозной цели,
Его в броню военную одели.
За сына своего боялся Гив,
И, доблести Фаруда не забыв,
К себе Густахма он призвал безгневно,
С ним говорил он мудро, задушевно,
Велел он сыну передать затем
Доспехи Сиявуша, царский шлем.
Бижан, одетый в панцирь, шлем и латы,
Помчался на коне, как вихрь крылатый,
Туда, где башни поднял Сафид-кух,—
Был в этом всаднике отважный дух.
Воскликнул юный шах, к борьбе готовый:
«Смотри, Тухар, примчался всадник новый,
Так ты скажи мне, как зовут борца,
Кто этого оплачет храбреца?»
Сказал Тухар: «Средь созданных для брани
Ему не сыщешь равного в Иране.
Сын Гива, он в бою храбрее льва,
Всегда он достигает торжества.
Он сын возлюбленный того вельможи,
Он всех сокровищ витязю дороже.
Чтобы не стала жизнь царя мрачна,
Ты целься не в него, а в скакуна.
Воюет он бесстрашно, горделиво,
Он облачен к тому же в панцирь Гива,
Для стрел непроницаема броня,
Он может биться даже без коня.
Ты с ним не совладаешь, с быстроглазым,
В сраженье меч его блестит алмазом!»
Скакун Бижана пал, стрелой сражен,
Сказал бы ты, что не был он рожден!
С коня свалился богатырь в лощине,
Но с поднятым мечом пошел к вершине.
Он крикнул: «Ты, владеющий конем,
Не уходи, сейчас борьбу начнем!
Узнай, что муж, отвагой наделенный,
Вступает в бой и без коня и конный.
Не уходи, я поднимусь к тебе,—
Охоту потеряешь ты к борьбе!»
Как только стало юноше понятно,
Что не уйдет храбрец Бижан обратно,
Он вылететь велел стреле второй,
Но поднял витязь щит над головой.
Стрела пробила щит, но панцирь бранный
Тогда Бижана спас от страшной раны.
Бижан вершины наконец достиг,
Из ножен меч он вынул в тот же миг.
Тогда Фаруд отпрянул, отступая,—
Дрожит от воплей кровля крепостная.
С мечом подъятым, распален врагом,
За ним иранец бросился бегом.
Рассек мечом коня, рассек кольчугу,
И конь Фаруда пал, порвав подпругу.
Фаруд к вратам помчался крепостным,
Их быстро слуги заперли за ним.
Посыпались обильно с кровли камни.
Бижан подумал: «Медлить здесь нельзя мне».
Он крикнул: «Как тебя теперь назвать?
От пешего бойца пустился вспять!
Где честь твоя? Ужель тебе не стыдно?
Мне жаль тебя, мне за тебя обидно!»
Бижан вернулся на закате дня.
Сказал он Тусу: «Выслушай меня.
С таким героем в бой вступив кровавый,
Погибнет лев, что был увенчан славой.
И если стрелами он превратит
В моря и реки этих гор гранит,
То не дивись, взглянув на это чудо:
Нет воина отважнее Фаруда!»
И Тус поклялся богу своему:
«Я к солнцу пыль от крепости вздыму.
За милого Зарасна отомщу я,
Живых врагов в убитых превращу я.
Туранца непотребного убью,
Я камни гнусной кровью напою!»
Когда дневное спряталось светило
И войско ночи небо окружило,
Чтоб крепость защитить, вступил в Калат
На скакунах трехтысячный отряд.
Вступил он в крепость грозно и сурово,
И заперли за ним ворота снова…
В ту ночь, тоски и горечи сестра,
Спала на пышном ложе Джарира.
Ей снилось: пламя в крепости горело,
Увы, пожару не было предела,
Горели слуги, все в огне вокруг,
И становился пеплом Сафид-кух.
Она проснулась в ужасе, в печали,
И крики у нее в ушах звучали.
На башню поднялась, глядит на мир,—
Кругом полно кольчуг, мечей, секир.
Сошла, а сердце обливалось кровью.
К Фаруду наклонилась, к изголовью,
Воскликнула: «Проснись, проснись, сыпок,
Я вижу, — снова мой удел жесток.
Смотри, гора захвачена врагами,
Полно кольчуг и копий пред вратами».
Сказал в ответ воинственный Фаруд:
«Зачем тебя печаль и боль гнетут?
Пойми же: если гибель недалеко,—
Не избежать назначенного срока.
Был молод мой отец — и был убит,
И мне конец такой же предстоит.
Погиб отец мой от руки Гуруя,—
В бою с Бижаном, может быть, умру я,
Умру с достоинством, не сдамся в плен,
Пред Тусом я не преклоню колен».
Он роздал воинам мечи и латы,
А сам надел румийский шлем богатый.
Явился он в кольчуге дорогой,
Он древний царский лук сжимал рукой.
Когда блистающего дня светило
На свод небес торжественно вступило,
Внезапно раздались со всех сторон
Литавров гром, и колокольцев звон,
И трубный рев, и говор торопливый,
И главарей воинственных призывы.
Вот выступил из крепости Фаруд.
Туранцы-храбрецы за ним идут.
Взметнулась пыль пад жаркою землею,
Гора кипящей сделалась смолою.
Утесы, камни, скалы на пути,
Здесь ровного местечка не найти.
Достигло солнце своего зенита,—
Туранцев было множество убито.
Валялись мертвецы повсюду там,
Удачи не было Фаруду там.
Он бился с копьеносною лавиной,
Иранцев удивляя мощью львиной.
Когда туранцы пали все кругом,
Фаруд один остался пред врагом.
Пустился вспять, войны познав свирепость,
Стремительно направился он в крепость.
Помчались, чтоб поймать его в капкан,
Руххам — горою, понизу — Бижан.
Бижан в теснине мчался по обрыву,
К коню пригнулся он, склонясь на гриву,
Но увидал Фаруд его шишак,
И меч индийский вытащил смельчак.
Тут, выскочив неведомо откуда,
Руххам отсек мечом плечо Фаруда,
Без сил повисла правая рука,
Кровь хлынула из раны смельчака.
Фаруд, вскричав, помчался по долине.
Настиг Бижан Фаруда у твердыни,
Его коня он обезножил вдруг,—
Упал Фаруд на плечи верных слуг,
И те, чтоб не попасть врагу в тенёта,
Вступили в крепость, заперли ворота.
Прислужницы пришли, явилась мать,
Чтоб сына на руках своих поднять.
Фаруда уложили на престоле:
Не станет сын царем по божьей воле!
Прислужницы и мученица-мать
Заплакали и косы стали рвать.
Фаруд прощался с жизнью дорогою,
Рыдал дворец, охваченный тоскою.
Сказал Фаруд чуть слышно: «Мне вас жаль.
Увы, понятна ваша мне печаль.
Придут иранцы, гнева не ослабят,
Жилище наше начисто разграбят.
Слуг превратят в рабов, развеют в прах
И гору эту, и дворец в горах.
Все до единого, без отговорок,
С кем сердцем связан я, кому я дорог,
Взойти на кровлю вы теперь должны,
Низринуться на землю с вышины.
Пусть не достанется никто Бижану,
А я задерживаться здесь не стану,—
Убийце моему и палачу
Свое добро оставить не хочу».
Сказал и побледнел, и улетела,
Стеная и вопя, душа из тела…
О, свод небесный, в чем твой жалкий дар?
Показываешь фокусы, фигляр!
То мечешь стрелы, то грозишь кинжалом,
То — вихрями, то — градом небывалым,
То — подлостью, а то, в тяжелый час,
Ты от опасности спасаешь нас.
Даришь престол и царскую столицу,
А то — позор, и горе, и темницу.
Свое добро беречь мы не должны.
Я обеднел, и дни мои черны.
Зачем родился я, зачем был молод,
Зачем познал сей жизни зной и холод?
Мы на земле страдаем без вины,—
Такую жизнь оплакать мы должны.
Что сердце, разум, чести голос гневный?
Постель из праха — вот итог плачевный!..
Все слуги, проклиная жребий свой,
Низверглись в бездну с крыши крепостной.
А Джарира огонь зажгла, рыдая,
Сожгла сокровища дотла, рыдая.
В конюшни, меч подняв, она вошла
И двери за собою заперла,
Коням арабским распорола чрева
И плакала, полна тоски и гнева.
Затем пришла туда, где сын лежал,
А был под платьем у нее кинжал.
Живот себе вспоров, припала к сыну,
В его объятьях обрела кончину.
Тус пребывал еще три дня в Чараме.
Но трубный рев раздался над шатрами.
Он двинул рать. Литавров грянул гром.
Темно от пыли сделалось кругом.
Туранских воинов уничтожал он,
Дома, поля, сады опустошал он,
Топтал их в пограничных областях,
Над Касерудом утвердил свой стяг.
Так много войска там расположилось,
Что под шатрами вся земля сокрылась.
Пришла в столицу весть: враги идут,
Их войско там, где блещет Касеруд.
Тогда отправлен был туранским станом
Отважный муж, что звался Палашаном,
Чтоб он разведал, чьи мечи остры,
Чтоб сосчитал знамена и шатры.
…Вдали от войск иранских, от дороги
Был виден холм, высокий, но пологий.
Сидели на холме Бижан и Гив,
Делам войны беседу посвятив.
Военный стяг туранца Палашана
Они вдали увидели нежданно.
Гив, приготовясь к схватке боевой,
Взмахнул тяжеловесной булавой.
«Пойду, — сказал, — туранца обезглавлю
Или свяжу и воинству доставлю».
Сын возразил: «За доблесть на войне
Уже халат пожаловали мне,
Теперь на ту награду я отвечу,
Начну с бесстрашным Палашаном сечу».
Сказал Бижану Гив, его отец:
«Твой недруг — лев, а ты еще юнец,
И если ты потерпишь неудачу,
Я мир отвергну, в горести заплачу.
Да, Палашан в жестокой битве — лев:
Отважных ищет на ловитве лев!»
Сказал Бижан: «О мужеством богатый,
Пред миродержцем не срами меня ты.
Доспехи Сиявуша дай ты мне,
Взгляни, как побеждает барс в броне!»
Бижан от Гива получил кольчугу.
Связал застежки, подтянул подпругу,
Сел на коня, зажал копье в руке
И поскакал от рати вдалеке.
А враг, сразив газель стрелой искусной,
Развел костер, кебаб зажарил вкусный.
Так ел он, сидя с луком за плечом,
А рядом конь стоял перед ключом.
Коня Бижана он вдали заметил,
На грозный топот ржаньем он ответил.
Тут понял Палашан, что для войны
Примчался всадник вражьей стороны.
Бижану крикнул: «Эй, повремени ты,
Я — покоритель дивов знаменитый.
А ты-то кто? Ужель ты вступишь в бой,
Чтоб звезды зарыдали над тобой?»
«Бижан я, — произнес воитель смелый,—
А в час борьбы я — слон железнотелый.
Мой дед — Гударз, отец мой — витязь Гив,
Тебя сражу я, доблесть проявив.
Здесь, на горе, пред встречею военной,
Ты пожираешь падаль, как гиена,
Наелся дыма, крови и золы,—
Готов ли ты для пики и стрелы?»
Но тот в ответ не проронил ни слова,
А вскачь пустил он дива боевого.
Наездники пустили копья в ход,
Взметнувшись, пыль затмила небосвод,
Но в крошево те копья превратились,
И за мечи противники схватились.
Мечи сломались, новых не найдешь,
И, как листву, их охватила дрожь.
Два славных ратоборца приуныли,
А кони притомились, кони в мыле.
Не прекратили поединка львы,
Две подняли тяжелых булавы.
Бижан обрушил с булавой десницу.
Ударил Палашана в поясницу,
И был таков удар его руки,
Что у врага сломались позвонки.
С коня свалилось Палашана тело,
Скатился шлем, кольчуга зазвенела.
Как быстрый дым, сошел с коня Бижан,—
Был обезглавлен воин Палашан.
С его конем, кольчугой, головою
Бижан помчался горною тропою.
Был храбрый Гив тревогою объят:
«Любимый сын вернется ли назад?»
Он волновался на холме высоком:
«А вдруг Бижан погибнет ненароком?»
Но юный сын пришел, пришел живой,
С конем врага, с кольчугой, с головой!
Принес добычу, пред отцом поставил,—
Героя-сына Гив седой восславил.
Затем к Гударзу старому вдвоем
Они счастливым двинулись путем.
С конем, с кольчугой, одержав победу,
С той головой Бижан явился к деду.
Была Гударза радость велика:
Чуть не лишила жизни старика!
Сказал: «О славный внук, живи всегда ты,
Венец державы, храбрецов вожатый!
Да будет сердце у тебя светло,
Вовек тебя да не коснется зло!»
Узнал Афрасиаб: земля Турана
Бурлит, подобно волнам океана,
Иранцы к Касеруду подошли,
И черный день настал для той земли.
Пирану повелитель молвил слово:
«Теперь открылись замыслы Хосрова.
Нам этот вызов следует принять,
Поднять знамена битвы, двинуть рать,
Иначе войско из Ирана хлынет,
Затмит луну и солнце опрокинет.
Ты собери полки, иди войной,
Не время заниматься болтовней».
Вдруг резкое дыхание бурана
Повеяло на воинов Ирана.
С вершин снега катились по тропам,
И губы стали примерзать к зубам.
Стал грозным и холодным мрак ущелий,
И ставки и шатры обледенели.
Снег за неделю белой пеленой
Простерся на поверхности земной.
Ни сна, ни пищи, страждут дух и тело,
И мягкая земля окаменела.
Бойцы страдали семь ужасных дней
И поедали боевых коней.
Бойцы и кони гибли в страшной муке,
У воинов окоченели руки.
Но солнцем озарился день восьмой,
Земное лоно залилось водой.
Собрал отряды полководец снова,
Повел о будущих сраженьях слово:
«На войско здесь низринулась напасть.
Края такие следует проклясть!
Калата, Сафид-куха, Касеруда
Не видеть бы вовек, — уйдем отсюда!»
Сказал Бахрам главе богатырей:
«Теперь не скрою от царя царей,
Что ты пошел, приказ его наруша,
Затеял битву с сыном Сиявуша.
Я говорил: «Уйди, не делай зла!
Смотри, как гибельны твои дела,
А сколько бед накликать можно сдуру:
Еще мы с буйвола не сняли шкуру!»
Ответил витязь Тус: «Азаргушасп
И тот славнее не был, чем Зарасп.
Кого мы, как Ривниза, возвеличим?
Кто б с ним сравнился мужеством, обличьем?
Царевич был убит не без вины:
Так в книге предначертано войны.
Здесь ворошить былое неуместно,—
Он был убит бесчестно или честно.
Когда-то Гиву были вручены
Подарки за сожжение стены.
Пришла пора поджечь заслон древесный
И осветить огнем простор небесный.
Избавимся, быть может, от невзгод,
Для воинства откроется проход».
Ответил Гив: «Не так трудна задача,
А потружусь, — где труд, там и удача».
С тоской внимал Бижан его словам:
«На это я согласия не дам.
Не следует беречься молодому,
А опоясаться на бой — седому.
Меня взрастил ты, не жалел труда,
Не обижал и словом никогда,
Не подобает, чтобы ты трудился,
А я в покое сладком находился».
«Поскольку, — молвил Гив ему, — я стар,
Мне надлежит устроить сей пожар,
Еще, сынок, я покрасуюсь малость,
Еще моя не ослабела старость.
Не бойся, что судьба меня сразит,—
Еще способен я спалить гранит!»
С трудом он к цели прискакал, усталый:
Был мир отягощен водою талой.
Древесный вал увидел богатырь,—
Простерся этот вал и ввысь и вширь.
Он лезвием копейным высек пламя —
И древо вспыхнуло под облаками.
Пылала три недели та гора,
Иранцам в лица веял жар костра.
Но вот костер погас и спали воды,
Открылся путь для войск и воеводы.
Воители, когда костер погас,
Достигли Гировгарда в добрый час.
Остановились после дней тяжелых,
Шатры разбили на холмах и в долах.
Затем отправились во все концы
Передовых отрядов храбрецы.
Был Гировгард стоянкою Тажава:
Сражал он львов, о нем гремела слава.
Там, где трава в горах вкусней, сочней,
Перегонял он табуны коней,
Услышав об иранском войске вести,
Укрыл он табуны в укромном месте
И вестника, достойного похвал,
Он к царскому табунщику послал.
Тот звался Кабуда, был верным стражем,
И скромность он соединял с бесстрашьем.
Сказал ему Тажав: «Когда кругом
Погаснет мир, ты в путь помчись тайком.
Узнай, число иранцев велико ли,
Кто из прославленных — на ратном поле.
На них во тьме ночной мы налетим,
Сражаясь, горы в бездны превратим».
Вот Кабуда, как некий див нечистый,
Приблизился к иранцам ночью мглистой.
В дозоре в эту ночь стоял Бахрам:
Его аркан внушил бы страх слонам!
Конь Кабуды на близком расстоянье
Заржал; Бахрам услышал это ржанье.
Смельчак, за тетиву повесив лук,
Погнал коня, врага ища вокруг.
Стрелу пустил, уста не размыкая,—
Лазутчика скрывала тьма ночная.
Но в Кабуду стрела впилась тогда,
И почернел от боли Кабуда.
Упав с коня, он попросил пощады.
Сказал Бахрам: «Кого же из засады
Ты вознамерился сразить стрелой?
Чей ты слуга? Всю правду мне открой!»
Взмолился тот: «Меня губить не надо,
Я все скажу, да будет мне пощада.
Меня Тажав отправил в стан врага,
Он — господин, а я при нем слуга.
Не надо убивать меня, воитель,
Я приведу тебя в его обитель».
Сказал Бахрам: «Хитрить я не привык,
Я — лев, Тажав передо мною — бык».
Лазутчика с презреньем обезглавил
И голову в иранский стан доставил,
С пренебреженьем выбросил в овраг,
Затем, что не был знатен этот враг.
Едва заря сразила ночь кинжалом,
Как только знамя солнца стало алым,
Узнал Тажав, что Кабуда сражен.
Был этой смертью витязь огорчен.
Едва лишь песню жаворонки спели,—
Погиб лазутчик, не достигнув цели.
Вооруженных всадников созвав,
Поспешно двинул воинство Тажав.
Врагов увидев средь лощины горной,
Иранцам сразу возвестил дозорный;
«Туранцами наполнен Гировгард,
На стяге полководца — леопард!»
Вот Гив помчался с видом горделивым.
Помчалось несколько отважных с Гивом.
Гив крикнул с гневом: «Кто ты, храбрый муж?
Ты хочешь боя? Доблесть обнаружь!
Ты с малой горсткой двинулся на сечу,—
Драконьей пасти двинулся навстречу!»
Тажав ответил: «Вот мои слова:
Владею сердцем и десницей льва.
Известен я под именем Тажава,
И чтит меня туранская держава.
Знай: из Ирана я свой род веду,
Одни лишь витязи в моем роду.
А ныне воевода я в Туране,
Зять шаха, украшение собраний».
Ответил Гив: «Сказав такую ложь,
Ты витязям бесчестье нанесешь.
Какой иранец может поселиться
В Туране, если он не кровопийца?
Как может воевода, шаха зять,
Вести такую небольшую рать?
Не будь же дерзким: эта рать ничтожна|
Сраженье с храбрецами безнадежно.
Вождь наших воинов — страны оплот,
Врагу любому голову снесет.
Но если войско биться не принудишь,
Но если ты назад в Иран прибудешь,
Но если к Тусу ты придешь сперва
И скажешь и послушаешь слова,
То попрошу я для тебя награды,
Коней — для битв, невольниц — для отрады».
Тажав сказал: «В Туране я богат,
Меня вовек враги не сокрушат.
Есть троны и венцы в моей твердыне,
Есть воины, и деньги, и рабыни.
Мой царь Афрасиаб — опора мне,
Ты не увидишь это и во сне.
Мои луга не ведают границы,
В моих степях пасутся кобылицы.
Ты не гляди, что рать невелика,
Ты на меня гляди, на смельчака.
Такое учиню кровопролитье,
Что вы раскаетесь в своем прибытье!»
Тогда сказал отцу храбрец Бижан:
«О муж, украсивший иранский стан!
О гордый витязь в боевой одежде,
Ты в старости уже не тот, что прежде!
Зачем к туранцу обратил ты речь,
Стремясь его от смерти уберечь?
Злодеев уничтожим не речами,
А палицами, острыми мечами!»
И на Тажава налетел храбрец,
Как барс, что нападает на овец.
Как жаворонка — сокол дерзновенный,
Схватил венец Тажава драгоценный:
От туран-шаха тот венец приняв,
Его и ночью не снимал Тажав.
Лишь в крепости — спасенье для вельможи!
За ним летел Бижан, как пламень божий.
Тажав увидел в крепости жену:
К нему пришла, рыдая, Испану.
Сказала: «Ты бежал, стыдом покрытый,
Меня лишил ты в крепости защиты.
Так посади меня в седло коня,
Чтоб не оставить недругу меня».
Как пламя, вспыхнуло лицо Тажава,
Проникла в сердце горечи отрава.
Он глянул сверху вниз, познав беду,
Одно ей подал стремя на ходу.
Он усадил подругу за собою,
И конь крутою поскакал тропою.
Помчался вместе с Испану Тажав,
В Туран дорогу краткую избрав.
Еще немало им пути осталось,—
Конь и ездок почуяли усталость.
Сказал Тажав подруге: «О луна,
Тяжелые настали времена.
Скакун устал, мы далеки от цели,
За нами — враг, а впереди — ущелье.
А стоит мне или коню упасть,
Я сразу попаду Бижану в пасть.
Ты можешь недругов не опасаться:
Дозволь мне дальше одному помчаться».
Сошла с коня прекрасная жена.
Душа Тажава скорбью сожжена.
Свой бег без этой ноши конь ускорил,
За ним спешил Бижан и с ветром спорил.
Когда Бижан увидел Испану,
Ту мускусноволосую луну,—
Он быстро подскакал к прекрасноликой,
Ее он встретил с ласкою великой.
Он дал ей место на коне своем,
Направился к иранцам с ней вдвоем.
Как только в ставку прибыл конь Бижана!
Там загремели звуки барабана,
Гласившие: «Добычей завладев,
Приехал храбрый воин, всадник-лев!»
Военачальник с витязями вместе
Обрушили на крепость ярость мести.
Затем они помчались к табунам,
К прославленным туранским скакунам.
Взял в руки по аркану каждый воин,
Как муж, что на коне скакать достоин.
Пленив коней, отправились вперед.
Так продолжало войско свой поход.
Тажав скакал степями и лесами,
К Афрасиабу прибыл со слезами.
Сказал он: «Тус явился для войны,
С ним войско, барабаны и слоны.
Все кони угнаны, пылает область,
Нет больше храбрецов, являвших доблесть».
Стал мрачен шах Афрасиаб, как ночь,
Стал думу думать: как беде помочь?
Сказал Пирану: «Ты не внял приказу,—
Собрать войска и в битву двинуть сразу.
Но, страх и старость в сердце ощутив,
Увы, ты оказался нерадив.
А наши родичи теперь в неволе,
Кто счастлив был, теперь поник от боли.
Не время медлить. Храбрых ждет война.
Смотри, земля теперь для нас тесна».
Пиран дворец властителя покинул,
Во все края своих гонцов он двинул,
Воителей созвал со всех сторон,
Им деньги и оружье выдал он.
Как только свой дворец Пиран оставил,
Он по местам богатырей расставил.
Барман, Тажав, чья мощь страшна была,
Вели отряды правого крыла.
Был слева Настахин: подняв десницу,
Он превращал в ягняток льва и львицу.
Звон колокольцев, барабанов гром
И трубный рев послышались кругом.
Сказал Пиран: «Помчимся бездорожьем,
Наикратчайший путь себе проложим,
Чтоб враг о войске не услышал весть:
Всему внезапность надо предпочесть.
Быть может, войско наше, как лавину.
На скопище иранцев я низрину».
Он выбрал тридцать тысяч храбрецов,
И меченосцы собрались на зов.
Без шума, без трубы и барабана
Во мраке ночи двинулись нежданно.
Вот перед ними — пастбища, луга,
Осталось семь фарсангов до врага.
Они коней увидели вначале,
И на коней воители напали.
Поймали и погнали те стада,
Была всех бед ужасней та беда.
Всех пастухов, табунщиков убили,
Помчались дальше тучей черной пыли.
Увидели иранцев пред собой,
Покинутых изменчивой судьбой.
Иранцы, погруженные в безделье
И пьянство, распоясавшись, сидели.
Не спал в шатре один разумный Гив,
Был сын Гударза смел и прозорлив.
В то время растерялся он, однако,
Услышав грохот, звон мечей средь мрака.
Стоял скакун перед шатром в броне,
Внимая неожиданной войне.
Подумал Гив: «Позор всей рати нашей!
Зачем сидел я с пиршественной чашей?»
Вскочив, подобно вихрю, на коня,
Гив поскакал, доспехами звеня.
Узрел, достигнув ставки полководца:
Мир потонул в пыли, земля трясется!
Сказал он: «Тус, вставай, враги пришли,
Под ними поле бранное в пыли!»
Оттуда с палицей быкоголовой
Он поскакал к отцу, к борьбе готовый.
Как дым кружился, объезжая рать,
Он всех, кто не был пьян, заставил встать.
Бижана обругал на поле брани:
То место битв иль место пирований?
Взяв несколько воителей с собой,
Решил туранцам дать неравный бой.
Как саранча, что завладела степью,
Пришли туранцы, выстроились цепью.
Смотрел Гударз по сторонам: число
Бойцов Турана что ни миг росло.
Шла туча с ливнем стрел, и в беспорядке
Проснулись спящие от шума схватки.
Мягка постель под пьяной головой,
Над нею — меч с тяжелой булавой!
Когда в созвездье Льва взошло светило,
Оно пред Гивом войско озарило.
Увидел: счастье стало к ним спиной,
Усеян мертвецами дол степной,
Разорваны знамена боевые
И почернели, как эбен, живые.
Полным-полно иранских мертвецов,—
Не видно витязей и храбрецов.
Погибшим в битве нет конца и края,
Лежат, в крови горячей утопая.
Своих отцов утратили сыны,
Отцы — сынов: таков удел войны!
Увы, иранцы повернули спины,
Шатры оставив посреди равнины,
Оставив барабаны и обоз:
Все войско тканью ветхой расползлось.
Остатки войск, теснимых отовсюду,
Бессильно отступили к Касеруду.
Бойцы устали, жар в сердцах потух.
Где сила, разум, смелость, стойкий дух?
Спасаясь от губительной погони,
Изнемогали всадники и кони.
От битвы убежав, покинув дол,
В ущелье Тус воителей привел.
Измученное войско застонало:
Из витязей в живых осталось мало,
А тот, кто жив, — иль ранен, иль в плену.
Оплачем их, пошедших на войну!
Где скакуны, где седла и попоны?
Где воеводы, где венцы и троны?
Кругом безлюдье, над землею ночь,
Никто не хочет раненым помочь.
О, сколько старцев стонут со слезами
Над храбрыми, но мертвыми сынами!
Две трети войска потеряв в бою,
Иранцы прокляли судьбу свою.
Военачальник обезумел в горе,
Была его душа с рассудком в ссоре:
«Мы залили вином свои шатры,
Мы предпочли сражениям пиры!»
Гударз остался без сынов и внуков,
Лишился он и скакунов и вьюков.
Для раненых — ни пищи, ни врача,
Блуждает горе, плача и крича.
Кто в войске был в чести, пришли к Гударзу,
Чтоб воинов спасти, пришли к Гударзу.
Старик, познавший муку и позор,
Лицом к туранцам выставил дозор.
Разведчиков отправил вниз, в долину,
Ища лекарства в трудную годину.
Гонцу на скакуна велел он сесть,
Помчаться к шаху и доставить весть
О Тусе, потерпевшем пораженье:
Мол, принял он неверное решенье,
Довел иранцев до большой беды,
И воинов расстроились ряды.
Узнав о гибели Фаруда, Кей-Хосров отстранил от командования Туса. Вскоре вернулись и остатки разбитого иранского воинства.
По просьбе Рустама Кей-Хосров освободил Туса из заточения, назначил вновь главнокомандующим и отправил в поход на Туран.
В разгоревшемся сражении туранцы были близки к поражению, и тогда чародей Базур поднялся на гору и напустил на иранцев снежную бурю. Но витязь Руххам обнаружил волшебника и убил его. Когда после этого небо прояснилось, битва разгорелась снова, но на этот раз счастье изменило иранцам, они были разбиты. Тус и Гив собрали остатки войска, укрылись на горе Хамаван и отправили гонца к шаху с вестью о постигшем их поражении.
Получив печальное известие шах Кей-Хосров вызвал из Систана Рустама и приказал спешить на выручку осажденному воинству.
С другой стороны к туранцам прибыли на помощь союзники Афрасиаба, среди них такие богатыри-великаны, как Ашкабус, Камус, Шангул, Кундур, хакан Чина и многие другие.
В первый день Рустам пешим сразился с Ашкабусом, так как его конь Рахш разбил копыта. Рустам пронзил великана стрелой, которая была больше добротного копья.
Затем он убил еще нескольких богатырей, в том числе самого мощного союзника Афрасиаба — Камуса-кушанца. Шангул позорно бежал, а сам хакан Чина попал в плен.
Затем Рустам сокрушил людоеда Кафура, обратил в бегство могущественного союзника Афрасиаба по имени Пуладванд. Затем он вторгся в Согд. Афрасиаб снова потерпел поражение и в смятении покинул страну, а иранцы с победой возвратились в столицу.
Властителю души, отцу творенья
Произнеси живое восхваленье.
Помысли, светлый разумом мудрец,
Как прославляем должен быть творец.
Увы! Беспомощны все наши знанья
Перед великой тайной мирозданья!
Признай единого, в нем — жизнь и свет,
Душе твоей пути другого нет.
О муж философ, предо мной стезя,
По коей, ты сказал, ходить нельзя.
Всего, что в мире взор твой созерцает,
Мысль не объемлет, сердце не вмещает.
Смолчишь иль скажешь слово, все равно —
Коль не о боге истинном оно.
Ты — человек и строгой мерой слово
Пред тем, как молвить, взвешивай толково.
Ты вмиг возник — и телом и душой,
А думаешь, что век бессмертен твой.
Наступит срок: земли трехдневный житель,—
В неведомую ты уйдешь обитель.
Сперва творца вселенной помяни,
Чело пред ним смиренно преклони.
Бегущий свод он держит над землею,
Судьбою правит доброю и злою.
Мир удивителен; и нет ни в ком
Из смертных разуменья обо всем.
Душа и плоть достойны изумленья,
Сперва о них ты возымей сужденье.
И радуйся, покамест небосвод
Тебя дарит хоть каплею щедрот.
Предвижу: разум твой не согласится
С тем, что в преданье древнем говорится.
Иной, дослушав повесть до конца,
Заспорит, скажет: выдумка лжеца!
Но возмущенье спора успокоит
Тот, кто в рассказе смысл ему раскроет.
Теперь дошедшим из седой дали
Словам сказанья старого внемли.
Так мне рассказывал дихкан почтенный:
Однажды Кей-Xocpов благословенный
С утра велел украсить свой айван
И знатных посадил за дастархан.
Густахм, Гударз воссели близ Рустама,
Бурзин — Гершаспа сын — из рода Джама,
Руххам — возлюбленный Гударза сын,
Гив, и Хуррад премудрый, и Гургин.
В беседе славной, час прошел, не боле,
И вот пастух верхом примчался с поля.
Сказал: «Онагр степной явился тут!
Он словно тигр, что вырвался из пут.
Он — словно вымыт золотой водою,—
Как солнце, блещет шкурой золотою.
Лишь — от загривка до хвоста — одна
На нем, как мускус, полоса черна.
То не онагр, а диво-конь явился;
Его увидев, ты бы изумился!
Копыта палиц боевых грозней;
Бьет он, пугает табуны коней».
Хосров промолвил, вняв чудесной были:
«Онагр коня не превзойдет по силе.
Рустам, ты подвиг на себя прими!
Убей его иль на аркан возьми.
Будь осторожен, бог тебе поможет.
То не онагр, то Ахриман, быть может».
Рустам сказал: «Останусь невредим
Я — озаренный счастием твоим!
Дракона встречу, льва иль Ахримана,
Он не уйдет от моего аркаца».
Оружье взял, на Рахша сел Рустам,
Погнал коня к заветным табунам,
Где степь травой весенней зеленела,
Где пастухам онагр являлся смелый.
Три дня Рустам вкруг табунов скакал,
Три дня того онагра он искал,
Лишь на четвертый день он показался,
В степи, как ветер северный, промчался.
То был могучий, ярый, как огонь
Сверкающий, золотогривый конь.
Погнал Рустам, почти настиг он зверя
И молвил, расстоянье соразмеря:
«Мне тварь такую жалко убивать.
Его петлей аркана надо взять.
Кто б ни был он — метну аркан без страха
И пригоню живым пред очи шаха».
Рустам аркан блестящий развернул
И сильною рукой его метнул.
Одагр аркан летящий увидал —
И вмиг пропал, как будто не бывал.
Рустама это диво поразило.
Он понял: хитрость надобна, не сила,
Что это — оборотень Акван-див,
Что он и от копья уходит жив,
Что против дива надо исхитриться,
Мечом заветным Сама с ним сразиться.
«Слыхал я прежде, — размышлял Рустам,—
Что он онагром рыщет по степям».
В тот миг онагр опять вдали явился,
Рустам, как вихрь, в погоню устремился.
Склонившись на седельную луку,
Пустил стрелу в онагра на скаку.
Но только лук свой бронзовый он вскинул,
Онагр мгновенно, как виденье, сгинул.
Три дня, три ночи по его следам
Скакал в степи без отдыха Рустам.
Так изнемог могучий, что порою
Дремал в седле, поникши головою.
От жажды пересох его язык;
В степи он чистый отыскал родник
И спешился, и жажду утолил он.
Водою свежей Рахша напоил он,
От сбруи бранной облегчил его,
Не сняв с себя оружья своего.
Коня тугую распустил подпругу,
Потник намокший расстелил по лугу.
Седло под изголовье подмостил,
Лег отдыхать, коня пастись пустил.
И, утомлен трудом перенесенным,
Почил, окован обаяньем сонным.
Увидев, — спит могучий Тахамтан,—
Как ветер подлетел к нему Акван.
Подрыл вокруг лужок и к небу прямо
На глыбе земляной понес Рустама.
Рустам проснулся, поглядел кругом;
Душа тревогой омрачилась в нем.
Он в высоте летит, за тучей белой.
Сказал Акван: «Эй, муж слоновотелый!
Желание мне последнее скажи:
Куда тебя мне сбросить, укажи.
Куда б ни сбросил — на гору иль в воду
Весть не подашь ты своему народу!»
Рустам его слова уразумел
И понял: див им злобный овладел.
И сам себе сказал Рустам могучий:
«Меня занес он высоко за тучи…
Коль сбросить на горы меня решит,
Он кости мне и тело сокрушит.
Пусть лучше в море им я брошен буду,
Авось не дамся я морскому чуду.
Но если молвлю: «В море брось меня»,—
То не видать мне больше света дня.
На кручи гор меня он сбросит живо:
Наоборот все делать — свойство дива».
Сказал Рустам: «Отшельник в Чине жил;
Он тайну мне великую открыл:
Суруш не пустит в рай небесный души
Погибших в море — далеко от суши.
Удел утопленников: пребывать
В печали вечной, рая не видать.
Сбрось на горы меня, где серны скачут,
Пусть львы и барсы там меня оплачут».
Злорадно див заржал, захохотал;
Как буря, к морю мужа он помчал.
Взревел он: «Кину я тебя в пучину,
От неба и земли навек отрину!»
И, жертвой рыбам темной глубины,
Он бросил мужа в хлябь морской волны.
Вот погрузился вглубь Рустам, и всплыл
И острый меч мгновенно обнажил.
К нему акулы стаей устремились,
Но пред мечом Рустама отступились.
Плыл, выгребал он левою рукой,
Акулам угрожал рукой другой.
Таков Рустам, таким всегда бывал он,
Медлительности в бедах не являл он.
Коль не страшна отважному борьба,
Его не опрокинет и судьба.
Но все ж времен круговорот сокрытый
То сладкий плод несет, то ядовитый.
Рустам могучий, мужеством велик,
Плыл, плыл и суши наконец достиг.
Вознес молитву божьей благостыне,
Что сберегла его в морской пучине.
Кафтан тигровый снял и расстелил,
В ручье омылся, жажду утолил.
Когда убор свой бранный просушил он,
Опять кольчугой плечи облачил он.
Достиг он вскоре родника того,
Откуда див во сне унес его.
Вот сбруя Рахша, но коня не видно,—
Рустаму горько стало и обидно.
Седло он хмуро на плечи взвалил,
По следу Рахша целый день бродил.
Он шел, броней и сбруей отягченный,
И вот пришел на некий луг зеленый.
Бегут ручьи, вокруг шумят леса,
Слышны фазанов, горлиц голоса.
Афрасиаба кони там гуляли,
Табунщики в лесной прохладе спали.
А Рахш за кобылицами, как див,
Гоняется и ржет, здоров и жив.
Рустам блистающим взмахнул арканом
И шею Рахша захлестнул арканом,
Отер попоной, оседлал, взнуздал,
Йездану благодарностью воздал.
На Рахша прянул, полный прежних сил он,
На меч заветный руку положил он.
Сбил всех коней в один табун большой,
Погнал, добыче радуясь душой.
Табунщик, слыша ржанье и смятенье,
Проснулся, оглянулся в изумленье.
И разбудил, он всадников своих,
Крича: «Разбой!» — послал в погоню их.
Они, схватив оружье, в седла сели,
Сердца их нетерпением кипели
Взглянуть, кто дерзкий на табун напал,
Коней у них из-под носа угнал.
И полетели, словно гончих свора,
Мол, спустим шкуру со спины у вора!
Рустам, увидев их из-за плеча,
Блеснул в глаза им молнией меча.
Он зарычал им: «Я — Рустам, сын Заля.
Беда вам, что меня вы не узнали!»
Мечом он половину их побил,
А прочих ужас в бегство обратил.
Как ветер, нетерпеньем окрыленный,
Афрасиаб скакал на луг отгонный,
Где косяки отборных скакунов
Паслись весной у чистых родников.
Афрасиаб — с двухтысячною свитой —
Приехал в этот дол, лесами скрытый,
Приехал он с певцами и вином
Попировать, забывши обо всем.
Глядит он: ни души в долине свежей
Где стражи табунов? И кони где же?
Вдруг с поля крик ужасный долетел,
И страх сердцами храбрых овладел.
Табунщик прискакал, пред шахом пал он,
В слезах о небывалом рассказал он:
«Рустам один напал, табун угнал,
Побил мечом нас и в степи пропал».
Поднялся говор средь мужей Турана:
«Как дерзок стал он, славный сын Дастана!
Какие с нами шутки шутит он!
Пойдем! Убьем! Возьмем его в полон!
Иль мы ничтожны, жалки и презренны,
Что не боится нас Рустам надменный?!
Спешить нам нужно — табуны отбить,
Не то вовек позора не избыть!»
И царь с дружиной, с четырьмя слонами
Пошел за угнанными табунами.
Рустам увидел их средь пыльной мглы
На расстоянье пущенной стрелы.
Погоне он навстречу устремился,
Осыпал стрелами, за меч схватился.
Когда убил он шестьдесят мужей,
Меч кинул, палицей взмахнул своей.
Лишь треск пошел от шишаков булатных.
Не стало многим тут путей обратных.
Афрасиаб, увидя сей ypон,
Вспять обратился, тяжко огорчен.
Бежал, забыв о мести и о славе,
Слонов Рустаму и шатер оставя.
За ним — остатки войска. А Рустам
Грозой весенней гнался по пятам.
Спасли, как вихри унесли их кони…
А сам Рустам вернулся из погони.
Добычу он навьючил на слонов,
Погнал их сзади шахских табунов.
Он двигался в степи неторопливо
И вдруг опять увидел Акван-дива.
Див молвил: «Видно, боем ты не сыт?
Не поглотил тебя пучинный кит?
Душа твоя в волнах не охладела?»
Услышал речь его слоновотелый.
Метнул он свой аркан волосяной —
И шею дива захлестнул петлей.
Поверг он сердце дива в смертный холод,
И палицей тяжелой, словно молот,
Аквана грянул он по голове
И мозг его разбрызгал по траве.
Рустам, схватив убитого за гриву,
Отсек главу воинственному диву;
И восхвалил дарующего свет,
Кто держит жребий ратей и побед.
Но хуже дива злой, кто полн изъяна,
Неблагодарен милости Йездана,
Кто света человечности лишен;
Не человек, а див породой он!
Пусть этих слов твой ум не понимает;
Им чутко разум доброго внимает.
Но если воин, как Рустам, силен
И мощью в преизбытке наделен,—
Его не называй ты Акван-дивом,
Не уязвляй судом несправедливым.
О древний старец, что мне скажешь ты,
О мире, о смятении тщеты?
Кому победу, взлет, кому паденье
Сулит в грядущем времени стремленье?
Но бесконечность времени для нас
На сей земле дарит всего лишь час.
Кто знает, сколько битв, пиров в грядущем
Скрывается под куполом бегущим?
Рустам главу Аквану сокрушил
И к трону Кей-Хосрова поспешил.
Гнал табуны туранской степью дикой,
Гнал караван с добычею великой.
Он гнал Афрасиабовых слонов,
Чтоб ликовал великий Кей-Хосров.
Хосрову донесли: «Владыка, ведай:
Рустам идет с добычей и победой!»
Царь понял: славный пахлаван, земли
Не упустил онагра из петли.
Сказал: «С Рустамом встреча — дивам горе.
Рустам на суше — барс, акула — в море.
Льву от Рустама ног не унести;
Не встанет войско на его пути!»
Увидев тучу пыли издалече,
Царь приказал айван готовить к встрече.
Велел трубить в карнаи славный шах,
Пошел встречать с дружиной на слонах.
Рустам увидел стяг, карнай услышал
И нонял, что Хосров навстречу вышел.
Сошел с коня, склонился пред царем
Под клики войска и карнаев гром.
И повелел дарящему короны —
Сесть на коня властитель благосклонный.
Поехал радом с шахом Тахамтан;
Взошли с открытым сердцем на айван.
Иранцам в дар коней Рустам отправил.
Себе он Рахша своего оставил.
Слонов к царю велел он отвести.
Слонам со львом степным не по пути.
Айван просторный стал для званых тесен
Потребовали вин, и струн, и песен.
Рустам по просьбе шаха за вином
Рассказывал о подвиге своем:
«Когда Акван онагром мне явился,
Я красоте онагра изумился.
Но ужаснулся б каждый человек,
Когда у дива шкуру я рассек.
Слоновья голова с косматой гривой…
Клыками пасть оскалилась у дива.
Глаза — железо, черногубый рот.
Взглянуть — от омерзенья дух займет.
Он был сильней верблюда-исполина.
Вскипела кровью дива вся долина.
Я голову Аквану отрубил,
Кровавый ключ из жил его забил».
Царь чашу в изумление оставил,
И восхвалил Рустама, и прославил:
«Хвала тебе, Рустам! Хвала судьбе!
Кто видел чудо, равное тебе?
Кто из людей подобен Тахамтану
По мужеству, и облику, и стану?
Избыточно меня дождем щедрот
Осыпал тот, кто создал небосвод,
Коль между царскими богатырями
Сидит Рустам, охотник за слонами!»
Так две недели царь пропировал
И почести Рустаму воздавал.
В начале третьей богатырь великий
Сказал: «Позволь уехать мне, владыка.
Хочу в Забулистане побывать,
Порадовать хочу отца и мать.
Я скоро снова пред тобой предстану,
Готовить месть великую Турану.
Не месть за Сиявуша — табуны,
И крови Сиявуша нет цены».
Хосров раскрыл врата казны Ирана
И одарил Рустама Тахамтана.
Дал десять чаш каменьев дорогих,
Парчовых пять кафтанов с плеч своих,
И в поясах златых рабов румийских,
И в ценных ожерельях слуг индийских.
Корону бирюзовую и трон
Слоновой кости дал Рустаму он.
Сказал: «Дарю от сердца, хоть немного.
Прими, Рустам, мой дар во имя бога!
Сегодня днем ты нашим гостем будь,
Наступит вечер, отправляйся в путь».
День пировать Рустам с царем остался,
А к вечеру он встал и распрощался.
Царь два фарсанга провожал его.
Прощаясь, обнял друга своего.
Рустам с дружиной скрылся в отдаленье..
Шах обратился вновь к трудам правленья.
Он правил так, как лучше находил,
И справедливость в мире утвердил.
Так древний свод кружится над землею —
То луком обернется, то стрелою.
Покрыла ночь лицо свое смелой,
Сатурн, Меркурий, Марс оделись мглой.
Луна как будто собралась в дорогу,
Но, двигаясь по своему чертогу,
Увидела: вселенная темна,—
Ей стало страшно, съежилась она,
Почти погас венец ее державы,—
И стынет воздух ночи, пыльный, ржавый.
Ночь, двинув войско, с пологом пришла,
Что был черней вороньего крыла.
Как сталь, заржавел свод небес просторный,
Лицо измазал он смолою черной.
Куда ни гляну — Ахриман-злодей
С разъятой пастью движется, как змей.
Холодный вихрь на черном взвился лоне,
Как будто негр сдувает пыль с ладони!
Вскипели волны мрака, клокоча,—
Темно в саду и около ключа.
Для жизни сил у солнца не осталось,
Небесный свод почувствовал усталость.
Казалось, в сон земля погружена,
Над ней шатром восходит тишина.
Самим собой напуган мир, и даже
Звонков не слышит он полночной стражи.
Не свищет птица, и не воет зверь,
Добро и зло немотствуют теперь.
Не видно ни подъема, ни обрыва,
На сердце от бездействия тоскливо.
Я с места встал и обратился к той,
Что украшала мой приют простой.
Сказал я: «Выйди в сад, моя отрада,
Свечу поставь среди ночного сада».
Она: «К чему тебе огонь свечи?
Ужель заснуть не можешь ты в ночи?»
«Не спится мне, — подруге я ответил, —
Да будет сад ночной, как солнце, светел.
Вина мне принеси, устроим пир,
На чанге заиграй, о мой кумир!»
Она пришла, мой идол, собутыльник,
В ее руках — сияющий светильник,
Вино, айва, гранаты и лимон
И кубок, что для шаха сотворен.
Играла, пела и пила, как будто
Меня пленяла чарами Харута,
Мир озарила силой колдовской,
Вернула сердцу моему покой.
Послушай, что подруга мне сказала,
Меня вином обрадовав сначала.
Сказала мне прелестная луна:
«На благо людям жизнь тебе дана!
Одно сказанье, наслажденья ради,
Тебе из древней я прочту тетради.
Когда мою услышишь быль, — стократ
Превратности судьбы тебя смутят:
Быль о любви, о битвах, хитрыx чарах,
О знатных людях, о чертогах старых».
Сказал я так: «О юный кипарис,
Со мной сказаньем древним поделись».
Она в ответ: «А ты, о друг мой близкий,
В стихах рассказ поведай пехлевийский».
Возлюбленную попросил я вновь:
«Начни — и нашу ты умножь любовь.
Быть может, в это окрылишь мгновенье
Мое мятущееся вдохновенье,
Уйдя от смуты, отдых обрету,
Твою благословляя доброту.
Сказанье это я в стихи оправлю,
Ни слова не прибавлю, не убавлю,
И буду я вознагражден творцом,
О нежный идол с ласковым лицом!»
Подруга, прекратив мое терзанье,
Прочла из свитка древнего сказанье.
Ее рассказ в стихах я передам:
Внимай же всей душой моим словам!
Когда Хосров пришел на бой суровый,[34]
Чтоб в мире утвердить порядок новый,
Померк Туран, исчез его престол,
Величье солнца Кей-Хосров обрел.
Был дружен светлый небосвод с Ираном,
Он обласкал мужей, высоких саном,
Сей мир, иранцам милости даря,
Водою верности омыл царя.
Мудрец не станет отдыхать вовеки
В тех руслах, где когда-то были реки.
Две трети мира захватив, Хосров
За Сиявуша стал карать врагов.
Воссел однажды весело властитель,
Воителей призвал в свою обитель.
Престол велел украсить он светло,
Надел венец жемчужный на чело.
Он пил вино из чаши — из рубина,
И пело сердце с чангом воедино.
Богатыри сидели по бокам:
Здесь были Фарибурз и Густахам,
Гударз, Фархад и Гив, отважный воин,
Гургин, Шапур, что ловок был и строен,
Могучий Тус, гроза царей и стран,
Смельчак Хуррад, воинственный Бижан.
Вино, достойное царя такого,
Пьют витязи — сторонники Хосрова.
Пред ними розы белые блестят,
Вино играет в чаше, как агат.
Красавицы стоят пред властелином,
Благоухая мускусом, жасмином,
Они, подобны пери на пиру,
Явились, как рабыни, ко двору.
Вдруг вышел из-за полога привратник,
Начальнику поведал этот латник:
«Посланцы из Армении пришли,
Хотят узреть властителя земли.
За помощью к царю пришли армяне.
Что ищут правосудия в Иране».
Обдумав эти важные слова,
Пришел к царю служителей глава.
Велел владыка, чтоб начальник стражи
Тех страждущих привел к нему тотчас же.
Армяне, поднимая вопль и крик,
Вошли, предстали пред царем владык
С руками на груди с земным поклоном,
С рыданием, и жалобой, и стоном.
Сказали: «Вечно, властелин, живи,
Достоин ты бессмертья и любви.
Ты помоги страдальцам чужестранным,
Чье царство — меж Ираном и Тураном.
Арменией зовутся те места,
А наша просьба, о Хосров, чиста.
Ты царствуй вечно в радости, в покое,
Всей мощью подавляя все дурное.
Ты — царь семи частей земли; везде,
Всем странам помогаешь ты в беде.
С Тураном через нас идет граница,
Не можем там спокойно мы трудиться.
На рубежах иранских лес растет —
Источник беспокойства и забот.
Мы там работали, трудолюбивы,
Цвели сады, и колосились нивы.
Опора наша, там стада паслись…
О шах, на эту просьбу отзовись!
Явились кабаны невесть отколе
И захватили лес, луга и поле.
Клыки слоновьи, телом — крепче гор,
От них армянам горе и разор.
Кабанье стадо топчет наши пашни,
Оно уничтожает скот домашний.
Деревья, что для счастья взращены,
Зубами разорвали кабаны.
Перегрызут и камни эти зубы…
Ужель судьбе отныне мы не любы?»
Услышав скорбь и слезы в тех речах,
Расстроился всем сердцем шаханшах.
В нем состраданье вызвали армяне,
Он кликнул смелых, созданных для брани».
Сказал им: «Тот из витязей моих,
Кто ищет славы в схватках боевых,
Пусть двинется на битву с кабанами,—
Да будет возвеличен всеми нами.
Пусть обезглавит кабанов мечом,—
Героя наградим и вознесем».
Велел Хосров, не тратя слов впустую,
Чтоб разостлали скатерть золотую,
Чтоб на нее насыпал-казначей
И золота, и дорогих камней.
Вот привели, в уздечках и попонах,
Коней, Кавуса именем клейменных,
Украшенных румийскою парчой.
Не где же всадник с гордою душой?
Затем сказал властитель величавый:
«Герои, удостоенные славы!
Кто хочет боль мою делить со мной,
С тем поделюсь я царскою казной»
Богатыри стояли молчаливо.
Один Бижан, сын доблестного Гива,
Вдруг вышел из толпы богатырей
И начал восхвалять царя царей:
«Да в мире без тебя дворца не будет,
Да в мире дням твоим конца не будет!
Пойду — и в бой вступлю в стране чужой,
Тебе я предан телом и душой».
Смутился Гив, услышав речь Бижана:
Увы, беда обрушилась нежданно!
Восславил Гив и шаха и престол,
Затем, вздыхая, к сыну подошел.
Сказал: «К чему намеренье пустое,
Бахвальство, безрассудство молодое.
Пусть юноша разумен, именит,—
Без опыта в бою не победит.
Сперва спознайся с добротой и злобой,
Соленое и горькое испробуй.
Оставь неверный путь и не срами
Себя пред шаханшахом и людьми».
Бижан, добру и разуму привержен,
Словами Гива крепко был рассержен.
Сказал: «Отец, непобедимый Гив!
С чего ты взял, что слаб я и труслив?
На речь твою отвечу я отказом:
Я молод по трудам, но стар мой разум.
Бижан, сын Гива, победит в лесу:
Всем кабанам я головы снесу!»
Речь витязя, не знающего страха»
Обрадовала молодого шаха.
Сказал он: «Доблести твоей хвала,
Ты — щит, который нас хранит от зла.
Мужами, равными тебе, владея
Безумен шах, боящийся-злодея».
Затем Гургину приказал: «Бижан
Не знает, как идти в страну армян.
С ним поезжай на скакуне крылатом,
Бижану будешь другом и вожатым».
Бижан, готовясь в путь, для бранных дел
Преопоясался и шлем надел.
Он двинулся на бой вдвоем с Гургином,
Помчался по нагорьям и равнинам.
С воителем — гепарды, сокола:
Охота тяжела, но весела!
Как лев, он рыскал но дорогам края,
Онагров и газелей, истребляя.
Напав на ланей — самку иль самца,—
Гепарды вырывали их сердца.
Как бесов — Тахмурас на поле бранном,
Бижан онагров уловлял арканом.
Фазанов настигали сокола,
Кровь на кусты жасминные текла.
Так проскакал Бижан с Гургином рядом,—
Им показался путь прелестным садом.
Но вот и край, где лес издревле рос,
Что ныне людям столько зла принес!
Когда Бижан взглянул на ту чащобу,
Он вспыхнул, и почуял в сердце злобу.
Не знали кабаны в краю лесном,
Что прискакал Бижан на вороном.
Он въехал в лес, горя одним желаньем:
Сразиться с диким полчищем кабаньим!
Сказал Гургину: «Хочешь — ринься в бой,
А нет — за темной притаись листвой:
У озера — удачная засада.
Лишь стрелы я пущу в кабанье стадо,—
Забота будет у тебя одна:
Взять булаву, услышав кабана.
Я промахнусь, — взмахнешь ты булавою,
Зверь со своей простится головою!»
Сказал Гургин: «С властителем земли
Мы по-иному разговор вели.
Тебе дана богатая награда,
Чтоб уничтожил ты кабанье стадо.
Я за других сражаться не привык,
Я не соратник твой, а проводник!»
Остолбенел Бижан широкоплечий.
Когда услышал он такие речи.
Вступил он в лес, уподобляясь льву,
Натягивая лука тетиву.
Как вешний гром, пугал лесные сени,
Листву с дерев сметал, как вихрь осенний,
Пошел на кабанов, как пьяный слон,
В руке — булат, что в битвах закален.
Но кабаны, друг друга призывая,
Вдруг ринулись, клыками прах взрывая.
На витязя напал один кабан,
Кольчугу разорвал, как Ахриман.
О щит свои клыки, широкомордый,
Он тер, как сталь острят о камень твердый.
И вепрь и витязь бешенства полны,
И вся поляна — в пламени войны.
Бижан ударил вепря в грудь булатом,
Покончил с этим чудищем проклятым!
Все кабаны в испуге затряслись,
И сделались они смирнее лис.
Их головы Бижан рубил как мститель,
Вязал их к торокам коня воитель.
Разбрасывая туши на пути,
Клыки решил он шаху привезти,
Чтоб витязя отвагу и дерзанье
Явили знатным головы кабаньи.
Горою взгромоздились торока:
Свалила б ноша буйвола, быка!
Гургин, исполнен злобы и досады,
В смущенье появился из засады.
Синел вдали необозримый лес…
Он превознес Бижана до небес.
Почувствовал он в сердце боль и горе,
Со страхом думал о своем позоре.
Ему внушил нечистый Ахриман
Предать Бижана, совершив обман!
Такой Гургину был начертан жребий,
Что он забыл о господе на небе:
Кто роет яму для другого, тот
Сам в эту яму, низкий, попадет!
Гургин с отважным юношей слукавил:
Тенёта на пути его расставил.
Сказал Бижану: «Витязь молодой,
Ты смел, умен, сияешь красотой,
И происшествий множество с тобою
Случится: так предписано судьбою.
Послушай, что скажу тебе сейчас.
Бывал я в этой местности не раз,
Я с Гивом здесь бывал на поле чести,
С Ноузаром, Тусом и Рустамом вместе.
Здесь много одержали мы побед,
И много с той поры промчалось лет,
Когда себе мы добывали славу,
А властелину юному — державу.
В двух днях пути отсель, ты должен знать,
Есть место, где всегда пирует знать.
Земля одета в зелень и багрянец,
Привольем наслаждается туранец.
Цветник пылает, и звенит ручей
В прибежище туранских силачей.
Земля — атлас, а воздух — мускус томный,
И соком роз наполнен ключ укромный.
Цветы — кумиры — дышат в забытьи,
Язычниками стали соловьи.[35]
Их пеньем оглашается долина,
Красуются фазаны вкруг жасмина.
А скоро дни за днями пролетят,—
То место расцветет, как райский сад.
В садах, в горах, и днем, и в полнолунье,
Там будут периликие колдуньи.
Там дочь Афрасиаба, Манижа,
Взойдет, как солнце, — как весна, свежа.
В ее шатре — сто девушек-служанок,
Сто идолов, сто молодых тюрчанок,
Ланиты их завешены, а стан
У каждой из красавиц — как платан!
Венчают их цветы, глаза — чуть пьяны,
А губы их даруют сок багряный.
Здесь предаются девушки пирам,
Кумирню здесь найдешь — китайский храм,
И если путь в Туран тебе отраден,
То к месту празднеств мы прибудем за день.
Из луноликих лучших отберем,
Затем предстанем с ними, пред царем».
Был очарован и взволнован разом
Доверчивый Бижан таким рассказом.
Был молод, сладострастием томим
И поступил, как должно молодым.
Они в далекий путь помчались оба:
В одном — восторг, в другом — пылает злоба.
Воитель, что отважно воевал,
Устроил между двух лесов привал.
Два дня, с гепардами и соколами,
Охотничьими тешились делами.
Был пестрым лес, как петушиный глаз,
Когда туда царевна собралась.
Бижан услышал от Гургина вести
О празднествах, о девушке-невесте.
Сказал Бижан: «Взгляну, пойдя вперед,
Как веселится тамошний народ,
Увидеть я хочу на той поляне,
Как празднуются праздники в Туране,
Затеюм коня обратно наверну,—
Своим копьем задену я луну.
Начну с тобою после этой встречи
Иные, рассудительные речи».
Потом сказал ему: «Достань венец,
Что надевал на пиршестве отец
И праздничную озарял беседу,—
Затем, что я теперь на праздник еду.
Ты серьги, мне на счастье, дай сейчас.
Мне царское запястье дай сейчас».
Венец, запястье, серьги — все, что надо,
Богатырю вручил хранитель клада.
Украсив перьями Хумы венец,[36]
Надел парчу румийскую храбрец.
Велел коня седлать, как перед схваткой,
Достал ремень с наследственной печаткой.
Он перебросил ногу чрез коня,
Помчался, к Маниже его гоня.
Едва Бижан приблизился к поляне,
Почувствовал томленье и пыланье.
То зноем, то желанием палим,
Под кипарисом скрылся молодым.
Стоял он пред шатром красиволикой,
И сердце страстью обожглось великой.
Красавицы, как куколки нежны,
Сверкали всеми красками весны.
Земля, наполненная пеньем, звоном,
Как бы встречала витязя с поклоном.
Увидела царевна пред шатром
Воителя, что был богатырем.
Йеменскою звездой горят ланиты, — [37]
Иль то жасмин, фиалкою обвитый?
Блестят венец и рукоять меча,
И на груди — румийская парча.
Откинула царевна покрывало,
К влюбленному любовью воспылала.
Сказала мамке: «Ты поторопись,
Ступай туда, где виден кипарис.
Узнай, кто этот витязь неизвестный:
То Сиявуш воскрес? То дух небесный?
Спроси пришельца: «Кто твой проводник?
Зачем сюда ты прибыл, в наш тайник?
Ты Сиявуш иль ты пришел из рая,
Сердца своей красой испепеляя?
Иль как предвестник Страшного суда
С огнем возмездья ты пришел сюда?
Здесь я пирую каждою весною,
Окружена прохладою лесною.
Никто не знал, где заповедник мой,
Но ты пришел, о собеседник мой!
Ты человек иль пери отпрыск чудный,—
Любовь принес ты в этот край безлюдный!
Войди, о луноликий, в мой приют,
Скажи мне, витязь, как тебя зовут?»
Кормилица предстала пред влюбленным,
Приветствовала витязя с поклоном,
Вопросы повторила госпожи,—
Расцвел Бижан от речи Манижи!
Ответил богатырь с душою властной:
«Послушай, посланная сладкогласной.
Не Сиявуш, не дух я неземной,
Мой знатный род высок в стране родной.
Бижан, сын Гива, я рожден в Иране,
Я вепрей уничтожил силой длани,
Кабаньи туши разбросал в лесу,
Теперь клыки царю преподнесу.
Лишь я узнал про сей приют приятный,
К отцу я не пустился в путь обратный,
Помчался я неведомым путем,
Надеждой беспокойною ведом:
Быть может, мне судьба дарует милость,
Чтоб дочь Афрасиаба мне приснилась.
Я здесь с душою пламенной стою:
Как пред китайской храминой стою!
Мне должное воздай ты без пристрастья,—
Венец получишь, серьги и запястья.
Меня к месяцеликой проводи,—
Да вспыхнет страсть ко мне в ее груди».
Та речь была кормилице желанна,—
Царевне принесла ответ Бижана.
«Вот так, — сказала, — создан он творцом,
Таков он ростом и таков лицом».
И был ответ царевны: «Ненароком
Нашел ты, что искал в лесу далеком.
Ко мне походкой гордой поспеши
И сумрак озари моей души.
Прозрею, лишь тебя окину взглядом,
Сухая степь цветущим станет садом».
Блеснул Бижану путеводный свет,
Как только мамка принесла ответ.
Он вышел из-под кипарисной тени,
За мамкой вслед пошел в тайник весенний,
Направился, судьбу благодаря,
Он к дочери туранского царя.
Бижан вступил в щатер, высок и строен.
Был в золотой кушак затянут воин.
Царевна подошла, как день светла,
Обняв его, кушак с него сняла.
Спросила: «Хороша ль была дорога?
Была ли в битве у тебя подмога?
Зачем ты свой красивый лик и стать
Привык на поле боя изнурять?»
И мускусом, и розовой водою
Ему помыли ноги пред едою.
На скатерти была обильца снедь,
Служанки не давали ей скудеть!
От музыки бежали все печали,
Вином и пеньем гостя услаждали,
Напев рабынь был нежен и крылат,
И чанг звенел, и не смолкал барбат.
Парча блестела, как наряд павлиний,
Казалось, — шкура барса на долине!
Шатер пленял резьбою золотой,
Благоухал он амброю густой.
Вдвоем с Бижаном из хрустальной чары
Пила царевна сок хмельной и старый.
Три дня, три ночи было им дано
Спать, обниматься, петь и пить вино!
Настал для двух счастливцев час прощальный,
И головой поник Бижан печальный.
Любимым, как душою, дорожа,
Служанкам приказала Манижа
Смешать с вином, что пил Бижан доселе,
Сознания лишающее зелье.
Он выпил — и свалился, погружен
В забвение, беспамятство и сон.
С тем спящим, что ей близок стал отныне,
Отправилась царевна в паланкине:
Удобно было в паланкине том
Лежать вдвоем и отдыхать вдвоем!
Был паланкин сработан из сандала,
И ложе мускусом благоухало.
У городских ворот, ночной порой,
Богатыря завесила чадрой.
Чтоб не заметил их никто случайно,
Царевна во дворец вступила тайно.
Лег на айване юноша в постель,—
Владели им беспамятство и хмель,
И вот ему впустили в уши зелье,
Чтобы вернуть сознанье и веселье.
Бижан проснулся, голова свежа,
В объятьях — трепетная Манижа.
Сюда попав таинственно и странно,
Лежит он с дочерью царя Турана!
Бижан взмолился, чтоб ему господь
Помог владыку мрака побороть:
«О боже, если я отсель не выйду,
Узнай мою печаль, мою обиду.
Быть может, за содеянное зло
Гургина покараешь тяжело:
Дурной вожатый сотней заклинаний
Привел к тому, что я теперь в капкане!»
А Манижа: «Не плачь и пей вино,
Все — прах, чему свершиться суждено.
Для витязя всему приходят сроки:
Сегодня — праздник, завтра — бой жестокий».
И пиршествовать принялись опять,
Не зная, смерти или счастья ждать.
Красавиц созывали, украшая
Тех девушек парчою из Китая,
И звонкий руд, и песни — день и ночь,
Прошли, как сон чудесный, день и ночь!
Так миновали сутки, и в охране
Один слуга проведал о Бижане:
Пустой хвастун всегда приносит вред,
Всегда раскачивает древо бед!
Сперва тайком, обдуманно, умело
Исследовать решил он это дело.
Кто сей пришелец? Из каких земель?
Какую здесь преследует он цель?
Чтобы спасти себя, исполнен страха,
Осведомить решил он туран-шаха.
Вот опустил он полог за собой,
Пошел к владыке быстрою стопой.
Сказал он шаху: «Весть моя плачевна,—
С иранцем тешится твоя царевна».
«О боже!» — возопил Афрасиаб,
Подобно иве в бурю, стал он слаб,
Слезами окровавились ресницы,
Сказал, не зная бешенству границы:
«Несчастлив тот, на чьем челе венец,
Кто в то же время — дочери отец!»
Туранский шах царевной был расстроен.
Был призван Карахан — почтенный воин.
Шах молвил: «Дочь моя низверглась в грязь.
Как поступить? Увы, беда стряслась!»
Ответил Карахан царю державы:
«И в этом деле нужен разум здравый.
Ты время попусту не трать сейчас:
Не все, что слышал слух, увидит глаз!»
Афрасиаб согласен был с ответом,
Он внял вельможи знатного советам.
Сказал он Гарсивазу: «Сколько ран
Еще готов нам нанести Иран!
Найдется ль выход в нашем долгом споре?
Убьем юнца, — Иран повергнем в горе!
Пусть двинутся с тобой богатыри,
Дворец ты снизу, сверху осмотри,
И если есть там обитатель новый,—
Сюда приволоки, закуй в оковы!»
Подъехав ко дворцу в вечерний час,
Шум пиршества услышал Гарсиваз.
Томленье чанга, звучный стон рубаба
Звенели во дворце Афрасиаба.
Был сразу же дворец со всех сторон
Отрядом Гарсиваза окружен.
Хоть заперты ворота были глухо,
А бульканье вина дошло до слуха.
Снял Гарсиваз руками с петель дверь
И прянул во дворец, как дикий зверь.
Затем в покои двинулся туранец,
Где, понял он, скрывался чужестранец.
Когда предстал пред ним незваный гость,
В душе вельможи закипела злость.
Рабынь-красавиц в доме было триста:
Играли, пели, пили сок искристый.
В кругу красавиц восседал Бижан,
Полунагой, он весел был и пьян.
Воскликнул Гарсиваз! «Эй, отпрыск блуда,
Куда ты душу унесешь отсюда?
В когтях у льва погибнешь ты в борьбе,
Неведом станешь самому себе!»
Бижан ответил в этот миг тяжелый:
«Как я начну сраженье, полуголый?
Со мною вороного нет коня,
И счастье отвернулось от меня.
О, где ты, Гив, Гударза сын бесстрашный?
Ужель умру не в битве рукопашной?
Из родичей не вижу никого,
Надеюсь лишь на бога моего!»
За мягким голенищем из сафьяна
Всегда кинжал хранился у Бижана.
Из ножен быстро вынул он кинжал
И, подбежав к дверям, себя назвал:
«Из рода я Кишвада-полководца,
Зовусь Бижаном и готов бороться!
Никто с Бижана шкуры не сдерет,
А кто содрать задумает — умрет.
Хоть мир погибни — боя не покину,
Вовек врагам не покажу я спину!»
Он крикнул Гарсивазу: «Пред тобой
Стою сейчас, обманутый судьбой.
Ты знаешь, кто я, из какого дома,
Тебе мое прозвание знакомо.
Ты хочешь боя? Что же, я в бою
Омою вражьей кровью длань свою!
Ты хочешь крови? Меч я окровавлю,
Я множество туранцев обезглавлю.
Но если к шаху ты со мной пойдешь,—
Всю правду расскажу, развею ложь.
Ступай же к шаху с просьбой в каждом слове,—
Чтоб шах не проливал невинной крови».
Подумав, Гарсиваз взглянул опять
На остроту его когтей и стать.
Увидел, что воитель жаждет брани,
Что жаркой кровью умывает длани,—
И клятву дал, что, движимый добром,
Он защитит Бижана пред царем.
Он отобрал кинжал у сына Гива,
Затем словами, сказанными льстиво,
Связал Бижана, как цепного пса…
Что слава, если лживы небеса?
Тому, кто мягок, небосвод горбатый
Являет грубость, злобою объятый!
В слезах и в смуте, в путах и в пыли
Бижана к туран-шаху повели.
Так, в путах, с головою непокрытой,
Предстал пред шахом витязь именитый.
Воскликнул он с достоинством в очах:
«Ты вправе правды требовать, о шах!
Здесь не найдешь виновных: право слово,
Сюда без умысла попал я злого.
Я с кабанами встретился в бою,
В туранском оказался я краю:
Сюда мой сокол залетел в то время,
А я — за ним, забыв свой дом и племя.
Блуждал в лесу, вдали от всех дорог,
В тени под кипарисом я прилег.
Я стал добычей сонного бессилья.
Явилась пери, распростерла крылья
И унесла меня до рубежа,
Где двигалась со свитой Манижа.
Бежали слуги, караван покинув.
Охраны не нашлось у паланкинов.
Но, вдруг, раздвинув зелени навес,
Вступили всадники-туранцы в лес.
Я паланкин увидел посредине,
Был полог шелковый на паланкине.
В шатре красавица, как день светла,
Венец на ложе положив, спала.
В союз вступила пери с Ахриманом.
Он всадников развеял, став бураном.
Заколдовал царевну враг добра,
Низринул он меня под сень шатра.
Я спал, не слыша говора лесного,
Лишь во дворце пришел в сознанье снова.
Я чист перед тобой, о царь страны,
На дочери владыки нет вины.
Познал я муки плена в полной мере:
Я — жертва колдовства коварной пери».
Афрасиаб сказал ему в ответ:
«Настал твой горький день, погас твой свет!
Иранец, ты за славой боевою
С арканом поскакал и булавою,
Теперь, подобен связанной жене,
Как пьяница, болтаешь ты о сне.
Чтобы спастись, хитришь передо мною?
Мол, колдовской обман всему виною!»
Сказал Бижан: «О государь, сперва
Спокойно выслушай мои слова.
По-разному сражаются с врагами:
Когтями лев силен, кабан — клыками,
Чтоб недругов насмешливых рассечь,
Отважному нужны стрела и меч.
Но голый пленник победит едва ли
Противника, на ком наряд из стали.
Пусть в сердце льва — победоносный гнев,
Но без когтей что может сделать лев?
О, если хочет шах, стремясь ко благу,
Чтоб выказал я здесь свою отвагу,—
Коня и меч подай мне поскорей,
На тюркских двинусь я богатырей.
Коль всех не уничтожу до едина,
То я готов признать: я не мужчина!»
Властитель на Бижана бросил взгляд,—
Стал темен ликом, яростью объят.
Затем он бросил взгляд на Гарсиваза
И гневно вымолвил слова приказа:
«Сей Ахриман, что в мерзости погряз,
Смотри, злоумышляет против нас.
Того, что натворил, мерзавцу мало,—
Он бранной славы жаждет для кинжала!
Вот так, в цепях, злодея уведи,
Ты землю от него освободи.
Ты виселицу у ворот построишь,
Со всех сторон ты к ней проход откроешь.
Знай, что излишни разговоры здесь:
Преступника ты сразу же повесь.
Иранцы устрашатся этой кары,
Не подойдет к нам близко недруг старый!»
Увел назад Бижана Гарсиваз.
У пленника текла вода из глаз,
Смешалась со слезами пыль дороги,
И в той грязи его увязли ноги.
Сказал он: «Если суждено творцом,
Чтоб в день печальный стал я мертвецом,
То не боюсь, что я погибну рано,—
Боюсь насмешек витязей Ирана:
«Как труса, заарканили его,
Повесили, не ранили его!»
Пред шахом, предками, везде и всюду
Я после смерти опозорен буду.
Перед отцом исполненный стыда,
Куда мой дух сокроется, куда?
Увы, обрадуется враг в Туране,
Увы, умру я, не свершив желаний,
Увы, далек я от царя царей.
От Гива, от друзей-богатырей…
Помчись в Иран, о ветер быстроногий,
Скажи владыке в царственном чертоге,—
Скажи: «Бижан уже едва-едва
Трепещет в лапах яростного льва.
Скажи Гударзу, что я мир покину,—
Проклятие бесчестному Гургину:
Меня в такую он поверг беду,
Что я уже защиты не найду».
Скажи Гургину: «Витязь безрассудный,
Бижану что ты в день ответишь Судный?»
Но сжалился над молодостью бог,
От гибели страдальца уберег.
Вбивали в землю два столба глубоко,—
Как вдруг Пиран примчался издалека.
Увидел в землю врытые столбы,
Услышал на дороге шум толпы:
То виселица высится сурово,
Петля на перекладине готова.
Спросил Пиран: «Кого сейчас казнят?
Кто перед нашим шахом виноват?»
Ответил Гарсиваз: «Бижан лукавый!
Он к нам попал из вражеской державы».
К Бижану скакуна погнал старик.
Был пленник наг, он головой поник,
Закован в цепи, за спиною — руки,
Рот пересох, и взор исполнен муки.
Спросил Пиран: «Как в наш попал предел?
Иль ты кровопролитья захотел?»
Бижан правдиво старику поведал,
Как спутник обманул его и предал.
Заплакал старец, витязей глава,
Когда Бижана выслушал слова.
«Повремени, — сказал он Гарсивазу,—
Ты пленника не должен вешать сразу.
Поговорю с царем. Уверен будь,
Наставлю я царя на добрый путь».
Чтобы спасти Бижана от расправы,
Отправился Пиран к царю державы.
Вошел, потупив перед шахом лик,
И руки на груди скрестил старик,
Приблизился, почтительность являя,
Афрасиаба громко восхваляя.
Не сел пред шахом богатырь седой,
А простоял, как долг велит святой.
Шах понял, что, рожденный для свободы,
Недаром не присел седобородый.
Спросил, смеясь: «Ты с чем сюда пришел?
Мне честь твоя дороже, чем престол!
О царстве ты мечтаешь? Иль о злате?
О дорогих камнях? О грозной рати?
Мне для тебя моих богатств не жаль:
Они дешевле, чем твоя печаль!»
Когда Пиран услышал слово шаха,
Устами сей мудрец коснулся праха:
«Вовеки троном золотым владей,
Вовеки будь счастливей всех людей!
Ты внемлешь государей славословью,
И солнце о тебе поет с любовью.
Благодаря тебе я всем богат:
Есть кони, люди и в руке — булат.
Не о себе прошу с тоской глубокой,
Нет бедных под рукой твоей высокой,
Мне больно, шах, из-за твоей страны
И знатных, что для счастья рождены,
Мне больно, что меня ты не тревожишь,
Мое, пожалуй, имя уничтожишь!
Не я ли шаху в прежние года,
Как поступить, советовал всегда?
Но ты отверг, о шах, совет мой правый,
И удалился я от дел державы…
Надеясь на твою любовь, пришел
К нам Сиявуш, чей жребий был тяжел.
Сказал я: «Сиявуша ты не трогай,
Не то Рустам воздаст нам карой строгой,
Настанет для туранцев смертный час,
Иранские слоны растопчут нас!
Но, влагу жизни напитав отравой,
Убил ты Сиявуша в день кровавый.[38]
Иль ты забыл, свой трепет притаив,
Что доблестен Рустам и грозен Гив?
Иль ты забыл о той несчастной брани,
Когда Иран торжествовал в Туране,
Когда стонали нивы и луга,
Растоптанные конницей врага?
Опомнись, шах, твои надежды ложны
На то, что меч Дастана спрятан в ножны.
С мечом отца нагрянет вновь Рустам,
И кровь туранцев брызнет к небесам.
О царь, покоем жертвовать не надо,—
Ты нюхаешь цветок, что полон яда!
Убьешь Бижана — сразу хлынет рать,
Чтоб за него туранцев покарать.
Ты — царь, покорны мы твоим приказам.
Так поступай, как наставляет разум.
Ты вспомни: пострадал ты, зло творя,
Ты месть познал иранского царя.
Живешь покуда мирно с ним в соседстве,
Но станет плодоносным древо бедствий.
О государь, глаза свои открой:
Грозит нам гибель от войны второй!
Ты знаешь лучше всех, как бьются в сече
Отважный Гив, Рустам широкоплечий.
Могучий, грозный, прянув, словно барс,
За внука отомстит тебе Гударз!»
Пытался пламя погасить вельможа,
Но шах ему ответил, гнев умножа:
«Не знаешь ты, что мой позор глубок,
Что на меня Бижан его навлек.
Смотри, я стар, а ныне обесчещен
Я дочерью, презреннейшей из женщин!
На поруганье отдала она
Тюрчанок непорочных имена!
Престол мой опозорен, и повсюду
Страной и войском я осмеян буду.
Когда Бижана смерти не предам,—
Весть грянет по селеньям, городам,
Тогда я кончу дни свои в позоре,
Я буду слезы лить в тоске и горе».
Сказал Пиран, владыку восхвалив:
«О шах, ты счастлив, мудр и справедлив.
Согласен я с реченьями твоими:
Лишь доброе ты защищаешь имя.
Но все-таки разумен мой совет.
Подумай прежде, чем ты дашь ответ.
Да, приговор ты изреки суровый,
Но виселице предпочти оковы:
Иранцам ты урок хороший дашь,
Не будут больше край тревожить наш.
Тот в книге дней исчезнет со страницы,
Кто попадет на дно твоей темницы!»
С той речью разум шаха был един,
Совет Пирана принял властелин…
Исполнился престол туранский света
От мудрого и доброго совета.
Властитель Гарсиваза вызвал вновь:
«Оковы и темницу приготовь.
Ты нечестивца с этого мгновенья
Держи в наручниках, чьи тяжки звенья,
Их заклепай, и друга Манижи
Цепями с головы до ног свяжи,
И брось вниз головою в подземелье,—
Да позабудет счастье, свет, веселье!
За камнем, что зиждителем небес
Из моря брошен был в китайский лес,[39]
Ты на слонах отправься с караваном
И привези: мы счет сведем с Бижаном!
Избавит нас тот камень от невзгод,—
В пещеру дива закрывал он вход.
Ты камнем завали нору темницы,
Да сохнет в ней иранец юнолицый!
Оттуда поспеши к блуднице в дом,
Покрывшей своего отца стыдом.
Лиши ее дворца, нарядов, свиты,
Венец у недостойной отними ты.
Скажи: «Такой ли ждал тебя конец?
Ты осквернила царство и венец!»
Пред всеми опозорен, я тоскую,
Склоняя голову свою седую.
Босую к яме ты приволоки:
Птенец попал не в гнездышко — в силки!
Скажи: «Была ты для него отрадой,
Теперь как сторож узника порадуй!»
От шаха удалился Гарсиваз,
Чтоб этот злобный выполнить приказ.
Богатыря, связав его цепями,
Поволокли от виселицы к яме.
Наручники надели на него,
И сталь цепей на теле у него.
Оковы заклепал кузнечный молот.
Несчастного, что был красив и молод,
Вниз головою бросили во тьму
И камнем завалили вход в тюрьму.
Затем с дружиною, как ветер гневный,
Ворвался Гарсиваз в чертог царевны.
Ее чертог разграблен был вконец,
Тот захватил кошель, а тот — венец.
В чадре, простоволосая, босая,
Царевна появилась молодая.
В пустыню Манижу поволокли,
И слезы по лицу ее текли.
Сказал ей Гарсиваз: «Живи в пустыне,
Ухаживай за узником отныне».
И вот осталась девушка одна.
Печали собеседница она.
Пустыней побрела в слезах и горе.
День миновал, и ночь минула вскоре,—
Она пришла к темнице поутру,
Отверстие прорыла в ту нору,
Ушла, когда заря зажгла все небо…
Как нищенка, просила всюду хлеба,
И, накопив за долгий день запас,
К темнице возвращалась в поздний час,
И опускала хлеб на дно, рыдая…
Так стала жить царевна молодая.
Семь дней в лесу Бижана ждал Гургин,
Семь дней в лесу он пребывал один,
Везде его искал, блуждал дубравой,
Лицо свое омыл водой кровавой.
Где друг его? Расстраивался он,
В предательстве раскаивался он.
Гургина конь доставил быстроногий
В лесную глушь, где сбился друг с дороги.
Воитель обошел безмолвный лес,—
Нет никого, исчез Бижан, исчез!
Вот перед ним — зеленая поляна.
Быть может, здесь найдет Гургин Бижана?
Как вдруг увидел он издалека
Коня Бижана возле родника.
Седло свалилось набок, сбруя сбита,
Уздечка сорвана, в грязи копыта.
Он понял, что Бижан попал в капкан,
Что не вернется он теперь в Иран.
Где он теперь? В тюрьме? Петлей удавлен?
Мечом Афрасиаба обезглавлен?
Раскаиваясь, он искал пути,
Не знал Гургин, как честь свою спасти.
К шатру погнал он скакуна Бижана,
Всю ночь не спал и вышел утром рано,
Пустился в путь, домой, в Иран спеша,
Утратила покой его душа.
Дошли до шаха о Гургине вести:
Мол, сына Гива не было с ним вместе,
Но шах от Гива эти скрыл слова,
Решив с Гургином встретиться сперва.
Услышал Гив, — шумели повсеместно,—
Что храбрый сын его пропал безвестно.
Гив зарыдал и головой поник,
Из дома раздавались плач и крик.
Стонал он: «Где Бижан? Что с ним случилось?
В лесу, в стране армян, что с ним случилось?»
Седлать велел он, горем удручен,
Коня, что был вскормлен для похорон.
Скакун Кишвада убран был на диво,
И ярость клокотала в сердце Гива.
Вот богатырь вскочил в седло, и конь
Помчался, точно ветер и огонь.
Подумал Гив: «Увижусь я с Гургином,
Узнаю от него, что стало с сыном.
А вдруг, враждой иль завистью влеком,
Он зло Бижану причинил тайком?
Всю правду рассказать его заставлю,
А если предал сына — обезглавлю!»
Гургин скакал, чело в тоске склоня.
Увидев Гива, он сошел с коня,
Приблизился к нему с земным поклоном,
С лицом, в тоске истерзанным, смятенным.
Сказал: «О ты, что храброго храбрей,
Советник шаха, вождь богатырей!
Ты вышел со слезами мне навстречу.
Что я тебе скажу и что отвечу?
К чему мне жизнь, хотя она сладка?
Она сильна? Сильней моя тоска!
Как без стыда в глаза тебе я гляну?
Я плачу, я тоскую по Бижану!
Но будь спокоен, сын твой невредим,
Я расскажу тебе, что стало с ним».
Стоял в поту, в грязи, с потухшим взглядом,
С конем Гургина конь Бижана рядом.
Его увидев, Гив упал с седла,
Окутала его сознанье мгла.
Приник воитель головою к праху,
Порвал он богатырскую рубаху.
Он вырвал волосы из бороды,
Казалось, обезумел от беды!
Он говорил: «Создавший хлябь и сушу,
Любовь и разум ты вселил мне в душу.
Тебе назад я душу отдаю:
Пропал мой сын в глухом лесном краю!
Ты знаешь лучше всех, как я горюю,
Ты душу унеси мою больную:
Любви и горя, брани и похвал
На сей земле с избытком я познал.
Но сын сокрылся в месте потаенном,
И я теперь захвачен в плен драконом!»
Затем сказал Гургину: «Расскажи,
Как было дело, но чуждайся лжи.
Убит ли он на поединке бранном,
Иль призраком он был похищен странным?
Скажи: он умер от смертельных ран
Иль задушил его судьбы аркан?
Ответь мне словом ясным и правдивым:
Быть может, сын мой уничтожен дивом?
Где ты без всадника нашел коня?
Скажи мне: где Бижан? Не мучь меня!»
Сказал Гургин: «Вот речь моя прямая.
Себя возьми ты в руки, мне внимая.
Сейчас о том слова произнесу,
Как с кабанами бились мы в лесу.
Узнай о происшествии тяжелом,
О, богатырь, владеющий престолом!
Достигли мы армянской стороны,
Где буйствовали эти кабаны.
Растоптанных полей, побитых пашен
И рощ поваленных был облик страшен.
Здесь превратились кабаны в господ,
Постигло злое бедствие народ.
Когда мы копья подняли и с криком
Вступили в битву в этом месте диком,
Предстал кабан, огромный, как скала,
За ним — другие, злобным нет числа.
Как львы, чьей доблести чужда пощада,
Громили мы вдвоем кабанье стадо,
Свалив их к кучу, мощны и крепки,
Мы вырвали у кабанов клыки.
Оттуда мы в Иран коней помчали,
Охотились, не ведая печали.
Онагр из чащи выбежал на луг,
Как дивный идол, появился вдруг.
Сед, как Гударз, он мчался — беломастный,
Казалось, это сам Фархад прекрасный!
Иль то коня Бижана был собрат?
При этом, как Симург, он был крылат!
С ногами, как у ветра, с гривой львиной,—
Как будто с Рахшем крови был единой!
Он встал, как слон, пред нами, а Бижан
Тотчас накинул на него аркан.
Онагр-красавец вырвался из плена,
Бижан вдогонку ринулся мгновенно.
Бежит онагр, а верховой — за ним.
От бега на лугу вздымался дым,
И волны праха друг на друга лезли,
И тот онагр и твой Бижан исчезли,
В их поисках прошел я сто дорог,
Мой конь от долгих странствий изнемог,—
Простыл Бижана след, лишь вороного
Я встретил, изнуренного, больного.
«Но где Бижан, — я думал в этот миг,—
Онагра он догнал иль не настиг?»
Я поисков не прекратил, однако,
Я пробыл там до наступленья мрака.
Я понял: нам дорогу преградив,
В онагра обратился Белый див!»
Внимал отец, внимал, утратив сына,
И усомнился в чистоте Гургина.
Рассказ, хотя и полон был прикрас,
До глубины души его потряс.
Смущенье скрыть стараясь безуспешно,
Гургин дрожал, а сердце было грешно.
Подумал Гив, что речь его — обман,
Что глупо так не мог пропасть Бижан.
Старался Ахриман, исчадье скверны,
Чтоб Гив, озлоблен, выбрал путь неверный,
Внушал ему: «За сына отомсти,
Те, кто врагам прощает, — не в чести!»
Терзался Гив, тоскуя и пылая,
Не сразу появилась мысль благая:
«Враг мира цель преследует свою.
Что пользы, коль Гургина я убью?
Что пользы, если я убийцей стану?
Иначе надобно помочь Бижану!
Лжецу могу я голову рассечь,
И даже стену рассечет мой меч.
Пойду, предстану взорам властелина,
Пускай вину он выявит Гургина».
Сказал Гургину: «Вижу твой обман,
Воистину ты злобный Ахриман!
О, где мой сын, мой шах, моя денница?
Бижану ты помог с дороги сбиться!
Меня поверг ты в страшную беду,
Я выхода, несчастный, не найду.
О, где мой сон и отдых, где лекарство
От твоего обмана и коварства!
Вступить я должен с шахом в разговор:
Тебе не дам покоя до тех пор.
Затем прибегну к верному булату:
За сына, за себя начну расплату».
Явился к шаху Гив, не пряча слез.
Желанье мести он с собой принес.
Приблизился к властителю с приветом:
«Будь вечно счастлив, осиянный светом!
О ты, юдолью правящий земной,
Не видишь разве, что стряслось со мной?
Был сын возлюбленный моим оплотом,
Он жил, отцовским радуясь заботам.
Я знал, что жизнь его полна тревог,
Боялся разлучиться с ним, берег.
Теперь Гургин вернулся в наше царство:
Вздор на его устах, в душе — коварство.
Явился он с известием дурным
О том, кто был советчиком моим.
Лишь скакуна, лишь друга боевого,—
От сына знака не привез иного.
Суди Гургина, правящий в стране:
Я стал несчастным по его вине!»
Сочувствовал Хосров отцовской боли,
Надев венец, сияя на престоле,
Он ощутил в душе тоску и гнев,
И вопросил он Гива, побледнев:
«Что говорит Гургин? Какое слово?
Где спутника покинул молодого?»
Пред шахом речь Гургина повторив,
О храбром сыне вновь заплакал Гив.
Воскликнул шаханшах: «Рыдать не надо,
Верь и надейся: ждет тебя отрада.
Да будет снова твой удел хорош:
Потерянного сына обретешь!
Беседовал я долго с мудрецами,
Советовался с нашими жрецами.
С Тураном, ради чести и добра,
Мне начинать сражение пора.
За смерть отца, в долгу пред Сиявушем,
Мы отомстим, мы весь Туран разрушим,
Бижан пойдет на битву с тем врагом,
Туранской рати учинит разгром.
А ты не плачь, будь твердым: ты — мужчина.
На правый суд я вызову Гургина!»
В тоске, в слезах покинул Гив дворец.
О милом сыне тосковал отец.
Гургин пришел, приказ услышав строгий.
Отважных в царском не было чертоге:
Ушли богатыри за Гивом вслед
С тоской: Бижан пропал во цвете лет!
Он во дворец вступил, как виноватый,
Приблизился к царю, стыдом объятый.
Он землю пред царем поцеловал,
Сказал реченья, полные похвал,
И преподнес, восславив царский разум,
Клыки, ценою равные алмазам:
«С победой ты навек вступил в союз,
Все дни твои да будут как Ноуруз,
Да всех врагов ты в пламени расплавишь,
Как этих кабанов, их обезглавишь!»
Шах на клыки взглянул и произнес:
«Какую весть сегодня ты принес?
Скажи мне, где оставил ты Бижана?
Ужели стал он жертвой Ахримана?»
Пытливый взгляд вонзил в него Хосров.
Гургин застыл столбом от этих слов.
Потом он побледнел, охвачен дрожью.
Рассказ наполнен вздором, сердце — ложью.
Он про онагра бормотал и луг,
Бессвязные слова терзали слух,
Не порождала следствия причина,—
Разгневался Хосров, прогнал Гургина,
Воителя, чья совесть не чиста,
Но не раскрыл для ругани уста!
Спросил: «Тебе известно изреченье?
Сказал Дастан отважным в поученье:
«Погибнет лев, наказанный судьбой,
Вступив с потомками Гударза в бой!»
Когда б дурной я не боялся славы
И кары, что пошлет господь всеправый,
Я палачу поднять велел бы меч,
Как птице, голову тебе отсечь!»
Велел, чтоб кузнецы пред ним предстали:
«Оковы сделайте из крепкой стали!»
Пошел Гургин и кандалы повлек:
От них да будет грешнику урок!
А Гиву шах сказал: «Мужайся ныне,
Ищи его у нас и на чужбине,
А я пошлю во все концы земли
Бойцов, что в битвах славу обрели.
Поверь, я много приложу стараний,
Ловить я буду вести о Бижане.
А если весть не прилетит сама,—
Не торопись и не сходи с ума.
Пусть только фарвардин придет весенний,
Пора благоуханных дуновений,
Пора, когда цветы цветут в садах,
Когда и наши головы в цветах,
Земля в парчу зеленую одета,
Цветы росою плачут до рассвета,
Когда сверкает каждый лист и куст,
Когда благословляет нас Ормузд!
Тогда предстану перед богом с чашей,
Где отражение вселенной нашей.
Увижу в этой чаше семь планет,[40]
Все царства мира, весь подлунный свет.
Я восхвалю и праотцев и бога,
Который судит праведно и строго.
Тогда-то, светом чаши осиян,
Скажу я, где находится Бижан!»
И Гив освободился от печали,
Когда слова такие прозвучали.
Сказал, царя за доброту хваля:
«О шах, живи, пока живет земля!
Ты покори судьбу, дружи с победой,
От злого глаза ты вреда не ведай.
Ты трон возвысил, царскую печать,
Тебя всегда мы будем величать!»
Покинул Гив дворец, вкусив отрады.
Во все концы отправил он отряды.
Объехали воители весь свет,
Чтоб отыскать хоть признак или след,
По всей земле искали неустанно,
А не нашли пропавшего Бижана.
Пришла весна, весь мир животворя,
И Гив спросил о чаше у царя:
Явился он с поникшей головою,
Но все-таки с надеждою живою.
Увидел шах, что он тоской объят,
Что горших не знавал еще утрат.
Тогда Хосров надел наряд, в котором
Он представал перед господним взором.
Молясь творцу, что вечен и един,
Воспламенился гневом властелин;
О помощи взывал к творцу вселенной,—
Да будет попран Ахриман презренный!
Из храма шах вернулся в свой чертог,
Надел венец, не ведая тревог,
Взял чашу, глянул в светлом напряженье,—
Семи планет увидел отраженье.
Узнал он — что, и сколько, и когда
Ему пошлют грядущие года.
Блистали в дивной чаше все созвездья,
День милости вставал и день возмездья,
Сатурн, Юпитер, Марс, чей страшен гнев,
Венера, Солнце, и Луна, и Лев.
Все, что свершится, все надежды наши
Волшебник-шах увидел в этой чаше.
Он посмотрел на семь подлунных стран,—
Нигде, нигде не виден был Бижан!
Лишь на земле Гургсара, в темной яме,
Узрел Бижана вещими глазами:
Он в кандалах, он стал добычей зла,
Он просит, чтобы смерть скорей пришла,
Но девушка, по облику — царевна,
Заботится о бедном каждодневно.
Воскликнул шах с весельем: «Сын твой жив!
Будь счастлив, горе в сердце сокрушив!
Он в кандалах, а дом его — темница,
Но ты не должен за него страшиться.
В Туране твой Бижан, воитель наш,
Красавица — при нем прилежный страж.
Увы, я вижу, болью отягченный,
Как мучается в яме заключенный.
Они скорбят, печаль их глубока,
И плачут, как весною облака.
Он смотрит безнадежно и тоскливо,
Трепещет, как беспомощная ива,
А мысль его в Иран устремлена,
Он произносит ближних имена.
Как облако в дождливую погоду,
Он смерти ждет, он рад ее приходу.
Но кто помочь несчастному готов?
Кто пленника избавит от оков?
К дракону кто пойдет по доброй воле?
Кто вызволит Бижана из неволи?
Один Рустам, Рустам, чья длань сильна:
Поднимет он кита с морского дна!
Помчись в Нимруз, о воин именитый,
Но в тайне этот замысел храни ты.
Ни днем не отдыхая, ни в ночи,
Мое письмо Рустаму ты вручи.
Я расскажу ему об этом деле,
Прогонишь ты печаль, достигнув цели!»
Затем Хосров писца призвал к себе,
Поведал о Бижановой судьбе.
Послание Рустаму он составил,
В котором предводителя восславил:
«О ты, что всех сильнее и храбрей,
О богатырь — глава богатырей!
От предков ты достался мне в наследство,
Ты для сражений препоясан с детства.
Ты — сердце шахов, ты — царей оплот,
Твой меч всегда спасение несет.
Погибнет леопард с тобою в споре,
Ты страхом устрашил всех чудищ в море,
Бесовских войск развеял ты дурман,
Освободил от них Мазандеран.
О, сколько венценосных властелинов
Ты уничтожил, в пыль и прах низринув!
Ты недругов коварство прекратил,
В развалины ты царства превратил.
Ты воинов вожатый величавый,
Защита и могущество державы.
Ты палицей низвергнул силы зла,
Царей твоя десница вознесла.
Твое читаем имя на печати
Хакана и главы туранской рати.
Узлы ты завязал: кто захотел
Их развязать, — познал дурной удел.
Лишь ты один то, что связал, развяжешь,
Лишь ты царям к величью путь укажешь.
Тебе господь немало дал щедрот:
И мощь слона, и знатный, славный род,
Дал для того, чтоб силою десницы
Ты вызволял несчастных из темницы.
Возникла цель, достойная тебя:
Приди на помощь, благо возлюбя.
На весь Гударза род, кознелюбивы,
Низринулись туранцы, точно дивы!
Седой Гударз и Гив перед тобой
Теперь стоят с надеждой и мольбой.
Ты знаешь, как ценю я их уроки,
Их доблесть, ясный ум и сан высокий.
Ты нам во имя дружбы послужи,
Есть для тебя оружье и мужи.
Подобные удары роковые
Низверглись на старинный род впервые.
Бижан для Гива правой был рукой,
У старика опоры нет другой.
Нам предан Гив, он окружен почетом,
Моей семье он был всегда оплотом,
Придут напасти — он всегда со мной,
В беде иль в счастье — он всегда со мной!
Едва получишь от меня известье,
Сюда примчись поспешно с Гивом вместе.
Начнем немедленно с тобой вдвоем
Держать совет о малом и большом.
Не пожалеем ни бойцов, ни денег,
Но только бы на волю вышел пленник.
Иди в Туран, иди путем побед,
Да счастье движется тебе вослед!
Получишь все, что нужно, что желанно,
Иди в Туран, освободи Бижана!»
Лишь на письмо поставил шах печать,
Стал богатырь Хосрова восхвалять.
Для Гива было то письмо утешно,
Он в Сеистан отправился поспешно.
С собою взял он двадцать верховых,
Творца в молитвах поминал своих.
Он вдоль Хирманда рысью по пустыне
Скакал, как вестник, думая о сыне.
Он сокола затмил бы мощью крыл,
Двухдневный путь за сутки он покрыл.
Он мчался по тропам долин и взгорий,
А в сердце, словно меч, вонзалось горе.
Дозорный страж на всадника взглянул
И закричал, чтоб услыхал Забул:
«Какой-то витязь, конных возглавляя,
Примчался из неведомого края,
Рукою меч сжимает боевой,
И реет бранный стяг над головой».
Дастан, услышав донесенье стражи,
Сел на коня проворного тотчас же,
Навстречу поскакал смельчак седой:
«Быть может, люди прибыли с враждой?»
Но посмотрел Дастан — увидел Гива:
В тоске, в слезах, он ехал торопливо.
Подумал: «Новая стряслась беда,
Затем-то Гива шах послал сюда».
Казался Гив бессильным от недуга.
Приветствовали витязи друг друга.
Спросил Дастан, как поживает шах,
Затем спросил о доблестных мужах.
Воскликнул Гив: «Тебе, о седоглавый,
Поклон от шаха и вельмож державы!»
Он о своей кручине рассказал,
Об узнике, о сыне рассказал.
«Ты видишь, как лицо мое увяло?
От слез, как шкура барса, пестрым стало!»
Внимал ему с волненьем старый Заль,
В душе почуяв ярость и печаль.
Несчастный Гив спросил о слонотелом,
Сказал: «К нему я прибыл с важным делом».
Ответил Заль: «Охотится Рустам,
Но близится конец его трудам».
Промолвил Гив: «Коня к нему направлю.
Ему письмо Хосрова я доставлю,
А ты Рустама жди в жилье своем,
Вернемся — побеседуем втроем».
А Заль: «Останься здесь, гони заботы,
Вернется скоро мой Рустам с охоты».
Они пошли к Дастану во дворец,
В пути с отцом беседовал отец.
Вдруг топот Гив услышал поседелый:
С охоты возвратился мощнотелый!
Прибытием Рустама просветлен,
Сойдя с коня, отвесил Гив поклон.
Лицо его в слезах, в пыли одежда,
А в сердце с горечью слилась надежда.
Рустам увидел, что беда стряслась,
Что лик его омыт водою глаз.
Подумал: «Видно, горькая година
Настала для страны, для господина».
И, Гива к сердцу своему прижав,
Спросил он о властителе держав,
О Тусе, о Гударзе, Густахаме,
О воинах, что были смельчаками,
О храбрых, как Руххам, Шапур, Фархад,
Бижан, Гургин, что знатностью богат.
В душе у Гива запылала рана,
Когда он имя услыхал Бижана.
Стонал, и плакал, и стонал опять.
В слезах Рустама начал восхвалять:
«Привет тебе, вожатый исполинов,
Оплот земли, избранник властелинов!
Обрадовался я тебе, Рустам,
Твоим расспросам и твоим речам.
Погибшему вернешь ты душу снова,
И превратишь ты старца в молодого.
У тех, кого назвал ты, жизнь светла,
От них тебе привет, поклон, хвала.
Один Бижан томится в темной яме,
Он, сказывают, скован кандалами.
О богатырь, ты посмотри, я стар,
А принял от судьбы такой удар!
Я был отцом возлюбленного сына,
Из-за него гнетет меня кручина,—
Он с глаз моих исчез: у нас в роду
Кто испытал подобную беду?
Вот почему на долю мне досталось,
Как солнце, мчаться, позабыв усталость.
В безумии влачу печаль свою
И всем вопрос о сыне задаю.
Но чашу поднял щах благословенный,
В той чаше — отражение вселенной.
Молясь творцу, восславил властелин
Добро Ормузда, месяц фарвардин.
Покинув храм и думая о боге,
Венец надел он в царственном чертоге,
Взглянул на чашу, словно чаровник,—
Весь мир в ее сиянии возник!
Увидел шах, что мой Бижан в Туране
Скорбит в цепях под бременем страданий.
Тогда Хосров послал меня скорей
К тебе, вожатому богатырей.
Я пожелтел, в тоске смыкаю вежды,
А все же не утратил я надежды:
Поможешь мне, избавишь от беды,—
Ведут ко благу все твои труды!»
Сказав, замолк и вздох издал глубокий,
Кровавой влагой оросились щеки.
Письмо вручив, прибавил он к письму,
Что шах Гургина заключил в тюрьму.
Взял богатырь письмо, огнем пылая,
В нем ненависть к врагам зажглась былая,
К Афрасиабу ненависть зажглась,
Из-за Бижана кровь текла из глаз.
Рустам с семейством Гива породнился.
На дочери Рустама Гив женился,
Был на его сестре Рустам женат,
Был Фарамурз, их сын, умом богат.
Бижан — отваги, доблести вершина —
От дочери родился исполина…
Сказал он Гиву: «Не горюй теперь.
Я с Рахша не сниму седла, поверь,
Пока спастись не помогу Бижану!
Как божий гнев, я на врагов нагряну,
Разрушу я оковы и тюрьму,
Верну свободу сыну твоему».
Затем в чертог Рустама поспешили,
Во всем совместно действовать решили.
Рустам письмо Хосрова прочитал,—
Остолбенел от множества похвал,
Которые вознес глава державы
Богатырю, чей славен меч всеправый.
Сказал Рустам: «О Гив, спокоен будь.
Слова Хосрова указуют путь.
Узнал я боль твою, твою кручину,
Узнал я горя твоего причину.
Я высоко тебя ценю, и есть
Там, где злодейство, — мстители и месть.
За Сиявуша и в Мазандеране
Я с местью вел бойцов на поле брани.
Пустился в путь, приехал ты сюда,
Забыв про старые свои года.
О Гив, мне твой приезд принес веселье,
Но плачу я, что сын твой в подземелье.
Мне больно, что печаль тебя гнетет,
Что ты придавлен тяжестью невзгод.
Но, как велел Хосров, я месть взлелею,
Я головы своей не пожалею,
Пойду, Бижана вызволить спеша:
Из-за него скорбит моя душа.
Пусть только мне господь оставит душу,—
Пойду и подземелье я разрушу,
Я все богатства, и себя, и рать
Готов за сына твоего отдать!
Я силой опояшусь богоданной,
Мой шах светить мне будет в битве бранной.
Пойду, свободу пленнику верну,
Приеду с ним в иранскую страну.
А ты три дня побудь в моем жилище,
Познай отраду от вина и пищи.
Мой дом принадлежит тебе — со мной,
С моей душой, и телом, и казной.
Три дня мы проведем за чашей пира
В честь витязей и властелина мира,
А на четвертый день, в рассветный час,
Помчимся к шаху, как гласит приказ».
Тогда поднялся Гив, прогнал тревоги,
Поцеловал Рустама в руки, в ноги,
Вознес хвалу: «Ты, всепобедный вождь,
Явил величье, славу, доблесть, мощь.
В тебе одном смогли соединиться
Могущество слона и ум провидца.
С тобой да будут свет и торжество,
Смыл ржавчину ты с сердца моего!»
Когда он успокоил душу Гива,
То сам уверовал в конец счастливый.
Сказал слуге: «Всех мудрых позови,
Отважных, седокудрых позови».
Гив, Завара и Фарамурз с Дастаном
Воссели за столом благоуханным.
Красавица, сияя, как кумир,
Игрой и пеньем радовала пир.
Вином пылала чаша круговая,
А чанг звенел, сердца и слух лаская.
Так пировал Рустам три светлых дня
И сесть не торопился на коня.
Четвертый день пришел, настало время,
Чтоб оба друга вдели ногу в стремя.
Велел Рустам в столицу двинуть рать,
Все нужное для воинов собрать.
Богатыри стояли у твердыни,
Загородив дорогу на равнине.
Рустам, в парче из Рума и в броне,
Мгновенно оказался на коне.
Он сел на Рахша с палицею деда,
А цель его — над силой зла победа.
Пронзило ржанье Рахша небосклон,
А сам Рустам — над солнцем вознесен!
Что нужно — взял, а лишнее отправил,
В Забуле Фарамурза он оставил.
Он вместе с Гивом отобрал бойцов —
Сто тысяч сеистанских храбрецов.
Отправились в иранскую столицу,
Для битвы приготовили десницу.
Лишь к городу приблизился Рустам —
Чертог царя предстал его глазам.
Казалось, благодатный ветер жизни
Воителя приветствовал в отчизне.
Сказал Рустаму Гив: «Помчусь вперед,
Пусть от меня к владыке весть придет,
Что в это утро счастье нам блеснуло,
Что прибыл ты на Рахше из Забула».
«Будь радостен, — сказал Рустам в ответ
Да никогда Хосров не знает бед!»
Покинул Гив и войско и Рустама,
К властителю страны помчался прямо.
Он шаху поклонился до земли,
Его уста привет произнесли.
Спросил Хосров: «Скажи, страдавший много,
Где Тахамтан? Трудна ль была дорога?»
А Гив: «Звезда Хосрова так светла,
Что все его свершаются дела.
Внимает наш Рустам твоим приказам,
Тебе он сердце посвятил и разум.
К письму, что написал глава владык,
Рустам глазами и лицом приник.
Свои поводья сблизил он с моими,
Твое, о шах, благословляет имя.
Я прибыл раньше, чтоб сказать: «Рустам
Покорен, как слуга, твоим словам!»
Воскликнул шах: «Но где же тот, который
Стал для меня и для страны опорой?
Он любит нас, он добрых дел творец,
Его с почетом примет наш дворец».
Ответил Гив: «О шах, глава народа!
Опередил я на два перехода
Рустама и его богатырей.
Чтоб эту весть доставить поскорей».
Шах приказал жрецам и ратоборцам,
Всем родичам своим и царедворцам
Сесть на коней, встречать богатыря:
Он прибыл, волю шахскую творя.
Гударз, насупивший седые брови,
Фархад и Тус — воитель царской крови,
Две трети войскоборцев-силачей,
Владетелей и палиц и мечей,
Пошли, как завещал Кавус когда-то,
Встречать Рустама, что сильней булата.
И все слилось: и пыль, и небосклон,
И ржание коней, и блеск знамен.
Приблизившись к Рустаму в день погожий,
Сошли с коней воители-вельможи.
Сошел с коня и тот, кто всех сильней.
Он радостно приветствовал друзей,
О государе он спросил великом,
О солнцеликом и месяцеликом.
Вновь сели в седла, двинулись вперед.
Азаргушасп, казалось, их ведет!
Приблизился к царю могучий воин
И, кланяясь, подумал, что достоин
Сей государь и славы и похвал,
Что по заслугам он любовь снискал.
«Вовеки, — он сказал, — по божьей воле
Ты восседай на золотом престоле.
Да будешь ты Ормуздом осиян,
К тебе да будет милостив Бахман,
А в месяце урдибихишт — в лазури
Пусть Марс тебе сияет и Меркурий.
Настанет шахривар — веди войска,
О государь, чья доблесть высока.
В счастливом спандармузде всей душою
Ты радостью возрадуйся большою.
С тобой да будут Дей и Фарвардин,
Чтоб ты печальных не знавал годин.
Да будешь, наделенный светлым даром,
О царь, обласкан месяцем азаром.
Пусть в месяце абан твоя судьба
Тебе покорной станет, как раба.
Пусть каждое твое умножит стадо
Свет благодатный месяца мурдада.
Сын славных предков, чья держава — сад,
Пусть радует твою страну Хурдад!»
Рустам замолк, и всех обвел он взглядом.
Шах посадил его с собою рядом.
Сказал Хосров: «Злодейская рука
Пусть от тебя пребудет далека.
Все тайны мира ты постиг чудесно,
Твоя лишь тайна миру неизвестна!
Царей избранник, родины броня,
Ты охраняешь войско и меня.
Рустам, тебя увидев, я ликую,
Как будто душу я обрел другую.
Здоровы ли — желаю им добра —
Дастан, и Фарамурз, и Завара?»
Рустам сказал, склоняясь: «Царь Ирана,
Ты, чья судьба вовеки недреманна!
Они живут, не ведая обид:
Бессмертен тот, кто шахом не забыт!»
В цветник царя пришел слуга придворный,
Украсил он для пира сад просторный,
Под ветвью цветоносной и густой
Велел престол поставить золотой.
Коврами устлан и в парчу одетый,
Сад засверкал сверканием планеты.
Так осенило дерево престол,
Что тень бросал на трон могучий ствол.
Ствол — серебро; на яхонтовых ветках —
Не ягод гроздья, а жемчужин редких.
Не лист на ветке и не плод блестит:
Как серьги — сердолик и хризолит.
На ветках апельсины золотые:
Снаружи — золото, внутри — пустые,
Но, как тростник внутри просверлены,
Они вина и мускуса полны.
Кто сядет на престол в саду лучистом,
Обрызган будет мускусом душистым.
Пришел и на престол воссел Хосров.
На шаха лился мускус из плодов.
Увидел всех, с кем сердцем был он дружен,
Украшенных венцами из жемчужин.
Звенели весело их голоса,
На всех — запястья, серьги, пояса,
Они стояли, золотом блистая,
На всех — парча из Рума, из Китая.
У всех пылают лица, как тюльпан,
Все пьют из чаши, а никто не пьян.
Объяло всех веселье удалое,
Играли, громко пели, жгли алоэ.
К престолу соизволил шах позвать
Гударза, Туса и другую знать.
Решил он побеседовать с могучим,
И сел Рустам под деревом пахучим.
Рустаму государь сказал тогда:
«О благородный, чья светла звезда!
Ты — наш оплот. Иран тебя восславил:
Ты крылья, как Симург, над ним расправил.
В столице иль на дальнем рубеже
В дни бедствий ты всегда настороже.
Ты знаешь, каковы Гударза дети:
Им царь царей дороже всех на свете,
Их службу, их советы я ценю,
Я вижу в них надежную броню.
Я мучился, но моего призыва
Никто, никто не слышал, кроме Гива!
Беда низверглась на моих друзей:
Потерян сын, — что может быть страшней?
Откажешься, — мы не найдем другого,
Чтоб вызволил из бедствия такого!
Бижан — в Туране, где кругом — враги.
Подумай и Бижану помоги.
Казну, коней, людей, вооруженье
Я отдаю в твое распоряженье».
Рустам пред шахом прах поцеловал,
И встал, и много произнес похвал:
«Как солнце, ты распространил пыланье,
Чтоб каждое исполнилось желанье.
Ни гнева, ни нужды не знай, о шах,
Твои враги да превратятся в прах!
Ты — царь Ирана, мудрый и нетленный,
И прах у ног твоих — цари вселенной.
Вовек тебе подобного царя
Не видели ни месяц, ни заря.
Ты злых от добрых отделил законом,
Ты победил, ведя борьбу с драконом.
Лишь для того, чтоб ты не ведал бед,
Родился я от матери на свет!
Я подчиняюсь шахскому приказу,
Куда пошлешь, туда помчусь я сразу.
И палица, и свет, царя земли
Бесовский край разбить мне помогли.
Пусть воздух превратится в пламень ярый,
Во имя Гива нанесу удары.
Пусть враг вонзит в мои глаза копье,—
Продолжу я сражение мое.
Во славу шаха буду я бороться,—
Не надо ни бойцов, ни полководца».
Гударз и Фарибурз, Шапур и Гив
И прочие, Рустама восхвалив,
Удачи пожелали перед битвой
И обратились к господу с молитвой.
Вино лилось, и каждый стал румян,
И в здравице помянут был Дастан.
Пил государь, перед весною ранней
Раскрыв с весельем все врата в Иране.
Узнав, что прибыл славный исполин,
Ключ от своей беды нашел Гургин.
Послание Рустаму он отправил:
«О ты, кто трепетать врагов заставил!
Ты — древо славы, милостей врата,
Броня от бед и мира доброта!
Боюсь, что я тебя побеспокою,
Но поделюсь с тобой моей тоскою.
Горбатая судьба на этот раз[41]
Решила, чтобы светоч мой погас.
Свершилось, что должно было свершиться,
Моим жилищем сделалась темница.
Готов я стать добычею огня,
Но лишь бы шах помиловал меня!
Избавит он меня от доли черной,
От старости ненужной и позорной,
И ты мне разрешишь помчаться в бой,—
Архаром диким двинусь за тобой!
Найду Бижана, обойдя всю землю,
Я голосу добра отныне внемлю».
К Рустаму слово узника пришло.
Прочтя письмо, вздохнул он тяжело.
Он знал: Гургин заслуживает кары,—
И все ж его жалел воитель старый.
«Вернись назад! — он приказал гонцу,—
Скажи тому злодею, наглецу:
«Иль ты забыл рассказ, как победила
Коварная пантера крокодила?
Над разумом восторжествует страсть,—
И ты погибнешь, должен будешь пасть,
Но если страсть твою поборет разум,
Тебя, как льва, прославят гордым сказом.
Коварство ты свершил, как старый лис,
Не видел, что силки тебе плелись.
Не заслужил ты, низкий и презренный,
Чтоб я тебя назвал царю вселенной,
Но вижу я: настал твой тяжкий миг,
Отчаянья предела ты достиг.
Зажгу твою звезду, что омрачилась,—
Да государь тебе дарует милость.
Как только покарает бог врагов,
Бижан освободится от оков,—
На волю будешь выпущен ты сразу,
Помилован по шахскому указу.
Но если не найду его следа,
То откажись от жизни навсегда.
Я первый, чтоб врагов карать сурово,
Пойду по воле бога и Хосрова,
Но если я погибну в той борьбе,
То Гив за сына отомстит тебе».
С царем, — а сутки пролетели скоро,—
Не начинал воитель разговора.
Но снова день сияющий взошел,
Воссел Хосров на золотой престол.
Рустам-воитель с просьбою великой
Предстал пред миродержцем и владыкой:
О бедном, о Гургине он скорбел,
Об узнике, чей горестен удел.
Ответил шах: «Не будь к нему пристрастен.
Иль я карать и миловать не властен?
Поклялся я престолом и страной,
Венерой, Марсом, Солнцем и Луной,
Что, если к нам Бижан не возвратится,
Сразит Гургина царская десница.
Проси, что хочешь, — трон, венец, печать,
А в этом вынужден я отказать».
Сказал Рустам: «О царь, царей потомок,
Ты правду вывел к свету из потемок,
Подумай сам: раскаялся злодей,
Готов он жизнью жертвовать своей,
И если будешь с ним суров без меры,
То отвратишь его от чистой веры.
Кто разума не следует путем,
Наказан будет за грехи потом.
Гургин, ты вспомни, воевал с бесстрашьем,
Твоих границ всегда был верным стражем,
Тебе и предкам честным был слугой,
Он охранял страну и твой покой.
Прости его ради меня, подумай,—
И так наказан он судьбой угрюмой».
Рустама ради был Гургин прощен,
Хосровом на свободу возвращен.
Спросил Рустама властелин державы:
«С какою ратью в бой пойдешь ты правый?
Что хочешь, из казны и войск, — бери,
Да победят твои богатыри.
Боюсь: Афрасиаб, чье сердце грешно,
Бижана гибели предаст поспешно.
Душа туранца хитростей полна,
Учился он у дива-колдуна.
Его внезапно ненависть ужалит,—
И пленника он с ног секирой свалит».
Сказал Рустам: «Под обликом чужим,
Мы втайне это дело совершим.
Перехитрим туранцев и обманем,
Противника запугивать не станем.
Мы снарядим торговый караван,
Мы вступим тихо, как купцы, в Туран,
Не будем торопиться в этом деле,
Сейчас не время, чтоб мечи блестели,
С камнями, золотом и серебром,
С опаской путь надежды изберем.
Дай ткани мне, ковры, что блещут ярко,—
Как для продажи, так и для подарка».
Тогда призвал властитель слуг своих,
Велел достать из древних кладовых
Поболее казны и одеяний,
Вручить Рустаму золото и ткани.
Принес казнохранитель кошели
И развязал их пред царем земли.
Рустам взглянул на жемчуга, динары,
И, сколько нужно, взял воитель старый,
На сто верблюдов нагрузил добро,
На десять — жемчуг, злато, серебро.
Из тех стрелков, что закалились в войнах,
Он выбрал только тысячу достойных.
Сказал: «Из витязей и воевод,
Кого упомяну, со мной пойдет:
Гургин, Занга, — им равных мы не встретим,
Льва-Густахама назову я третьим.
Четвертым будет грозный Гураза,
Воюя, смерти смотрит он в глаза.
Руххам, Фархад, что стал оплотом нашим,
Пойдут совместно с витязем Ашкашем.
Я выбрал этих славных семерых —
И войска и казны сторожевых».
Навьючили казну, товаров груды,—
Готовы в путь и люди и верблюды.
Отважным, независимым, Рустам,
Сказал своим семи богатырям:
«Как только сторожей наступит смена,
В ночной поход отправимся мгновенно».
Запели петухи в рассветной мгле.
Вот у слона — литавры на седле.
Рустам явился с палицей, с арканом:
Могущественным высился платаном.
Проехал через царские врата,
Хвалу царю произнесли уста.
Богатыри — пред ним, а войско — сзади,
Готовы жизнь отдать победы ради.
У каждого — копье, стрела, булат,
Чтоб кровь пролить, они вперед летят.
Вот наконец туранская граница.
Рустам велел стрелкам остановиться.
Сказал: «Спокойно, с разумом дружа,
У этого останьтесь рубежа.
Пусть даже я умру на поле чести,—
Должны вы пребывать на этом месте,
Но копья заостряйте и мечи,
Готовьтесь к битве утром и в ночи».
Вступил в Туран, семь витязей возглавил,
А на границе тысячу оставил.
Оделись по-купечески они,
Достали домодельные ремни,
И, вместо серебра, парчи, атласа,
В одежду облачились из паласа.
Они в туранский двинулись предел.
И караван благоухал, блестел.
Коней скакало восемь в караване,
Семь — хороши, а Рахш — венец мечтаний.
На ста верблюдах — ткань, что дорога,
На десяти верблюдах — жемчуга.
Рожок напоминая Тахмураса,
Звонки звенели, дол гудел и трясся.
Так двигался, так прибыл караван
В Хотан, которым управлял Пиран.
Был этот город близко от границы,
Дворец виднелся, крепость и бойницы.
В тот день Пиран, воитель и мудрец,
Охотился, был пуст его дворец.
Он возвращался, радостен и светел.
Издалека Рустам его заметил.
Насыпал жемчуг в кубок золотой,
Прикрыл его румийскою парчой,
Двух дорогих коней украсив златом,
И серебром, и жемчугом богатым,
Посыльным их вручил и, как купец,
Отправился к Пирану во дворец.
Сказал: «Ты доблестью на поле брани
Прославился в Туране и в Иране.
Ты — богатырь, ты царственно велик,
И на земле немыслим твой двойник!»
Хотя Пиран Рустама видел прежде,—
В купеческой не распознал одежде.
«Что ты за человек? — спросил Пиран,—
В наш город из каких ты прибыл стран?»
А витязь: «Твой слуга перед тобою.
Стоянку в городе твоем устрою.
Проделал из Ирана тяжкий путь,
Чтоб у тебя торговлю развернуть.
Любую вещь куплю, продам любую,
Увидишь ты, как бойко я торгую.
Я шел к тебе и уповал светло:
Меня возьмешь ты под свое крыло!
Жемчужины я распродам бессчетно,
Четвероногих я куплю охотно.
Хочу, — пусть мне твоя поможет мощь,—
Из тучи дружбы лить жемчужный дождь!»
Затем из кубка, что царя достоин,
Рассыпал жемчуг пред Пираном воин.
Вручил дары — уладились дела:
Понравились и жемчуг и хвала.
Вручил коней, что зренье ослепили:
Их гривы и следа не знали пыли!
Пиран взглянул на кубок золотой,
На жемчуг, удивлявший красотой,
Торговцу ласковым ответил словом,
Дал место на сиденье бирюзовом,
Сказал: «Тебя устроим возле нас.
Пойди, вернись без страха в добрый час.
Ты за свое имущество не бойся,
Никто не отберет, не беспокойся.
Пойди и ценный привези товар,
Где пожелаешь, там устрой базар.
У сына моего остановись ты,
Как родич ты мне будешь, сердцем чистый!»
Сказал Рустам: «Для славных горожан
Мы приведем сюда наш караван.
Твоим словам доверившись всецело,
Займусь я куплей и продажей смело.
Найдешь у нас, — поклясться я готов,—
Ты жемчуга всех видов и родов,
И если ты не дашь купца в обиду,
Из города с душой спокойной выйду».
Сказал Пиран: «Доставь сюда всю кладь,
Ты будешь под охраной торговать».
Рустам доставил ценную поклажу
И, в дом вступив, решил начать продажу.
Узнали горожане, что в Хотан
Явился из Ирана караван.
Был весь Хотан взволнован и разбужен
Известием о продавце жемчужин.
Стекались люди под приютный кров
Для купли жемчуга, парчи, ковров.
Рассвет взошел над миром светозарный.
Так начался в том доме торг базарный.
Узнав о караване, Манижа
Явилась в город, плача и дрожа.
Перед купцом, прославленным молвою,
Предстала с непокрытой головою.
С ресниц смахнула слезы рукавом,
Сказала о событье роковом:
«Трудись, безгрешною стезею следуй
И разочарования не ведай.
Судьбой да будешь взыскан в добрый час
Пускай тебя дурной не сглазит глаз.
Осуществи желанья в полной мере,
Вовек не знай убытка и потери.
Всегда урокам разума внимай,
Да будет счастлив твой иранский край.
Какие вести об иранском войске?
Где Гив, Гударз? Где знатный род геройский?
Известно ль, что Бижан попал в тюрьму?
Помогут ли сородичи ему?
Ужель таких богатырей потомок
Умрет в цепях, не выйдет из потемок?
Железом скован с головы до ног,
Бижан в цепях тяжелых изнемог,
В его оковы гвозди крепко вбиты,
Лохмотья кровью жаркою покрыты.
Из-за него забыла я о сне,
Я плачу, скоро слез не хватит мне».
Рустама испугала речь такая,
Царевну грубо он прогнал, ругая:
«Прочь от меня ступай, да побыстрей,
Не знаю никаких богатырей,
До Гива и Гударза нет мне дела,
А болтовня твоя мне надоела!»
Взглянула с укоризною тогда,
Заплакала от горя и стыда,
Сказала: «Я пришла с душой больною,
Зачем ты грубо говоришь со мною?
Не хочешь отвечать? Так не гони!
В тоске и горе провожу я дни.
Кто в жалости отказывает нищим?
Ужель в Иране мы таких отыщем?»
Сказал Рустам: «Эй, Ахримана дочь,
Эй, женщина, ступай из лавки прочь!
Я грубо говорю с тобой недаром,
Ты мне мешаешь, занят я базаром.
Твой день уныл, суров ли, — не мешай,
Иди, моей торговле не мешай!
Я даже и не думал там селиться,
Где Кей-Хосрова гордая столица.
Мне эта неизвестна сторона
И Гива и Гударза имена».
Велел Рустам помочь несчастной нищей,
И слуги перед ней предстали с пищей.
Затем остался с ней наедине,
Сказал: «Свою печаль поведай мне.
Зачем ты спрашиваешь об Иране?
О шахе? О бойцах? О поле брани?»
А Манижа: «Купец, не будь жесток!
Поймешь ли горя моего исток?
От пленника сейчас я удалилась,
К тебе пришла, с надеждою на милость,
Спросить о том, что замышляет шах,
О Гиве, о Гударзе, о бойцах.
Но ты меня, как стражник, встретил криком.
Иль ты забыл о господе великом?
Я — Манижа, Афрасиаба дочь.
Еще не видели ни день, ни ночь,
Ни люди моего нагого тела,
А ныне в нищенстве я пожелтела,
Лепешек я прошу из ячменя…
За что же бог так покарал меня?
Скажи, чей на земле печальней жребий?
Услышит ли меня господь на небе?
Бижан — в темнице, он лежит на дне,
Забыл о блеске звезд, о светлом дне.
Закованы в железо ноги, руки,
С ничтожной жизнью жаждет он разлуки.
Вот почему тоска в меня впилась,
Вот почему я слезы лью из глаз.
Когда вернешься, — может быть, в Иране
Гударза встретишь ты — главу собраний,
Иль к шаху во дворец войдешь, и там
Тебе предстанут Гив или Рустам,—
Так передай им, что Бижан — в неволе,
Что он умрет, пускай не медлят боле,
Что смерть к нему все ближе с каждым днем,
Что камень есть над ним, а цепь — на нем».
Сказал Рустам: «Царевна, ты прекрасна,
Не проливай же слез любви напрасно.
Зачем к отцу ты с просьбой не пошлешь
Великодушных родичей, вельмож?
Быть может, дочери своей в угоду,
Смягчится, пленнику вернет свободу?
Боюсь, обижен будет твой отец,
Не то бы одарил тебя купец».
Он поваров призвал в свое жилище,—
Да принесут побольше всякой пищи.
Велел он птицу подогреть чуть-чуть
И в мягкую лепешку завернуть.
Как дух, что внемлет властному заклятью,
Он быстро спрятал там кольцо с печатью.
Сказал: «Ступай ты к пленнику с едой:
Ты стала для беспомощных звездой».
Пришла к темнице, где томился пленный.
За пазухой — платок с едой отменной.
Вот опустила сквозь нору платок
Тому, чей жребий жалок и жесток.
Был изумлен Бижан печальнолицый.
Воззвал к царевне из своей темницы:
«Любовь моя, откуда ты пришла?
О, где такие блюда ты нашла?
Я стал причиной твоего недуга,
О любящая, нежная подруга!»
А Манижа: «К нам прибыл караван,
Пришел купец, чья родина — Иран,
Привез в Туран товары для продажи,
Его богатства не опишешь даже,
На нем печать ума, добра, трудов,
Он жемчугом торгует всех родов,
Он блещет сердцем, разумом, нарядом,
Он свой базар с дворцом устроил рядом.
Сей праведник мне дал платок с едой,
Сказал: «Во имя благости святой
Ты накорми страдальца молодого,
Поест, — вернись ко мне за пищей снова».
Бижан лепешку развернул, и вдруг
Как бы светлее сделалось вокруг.
Он руку протянул к вареной птице,—
Кольцо с печатью вспыхнуло в темнице.
Улыбка засияла на лице:
«Рустам», — прочел Бижан на том кольце.
Казались буквы тонкими, как волос,
От счастья сердце чуть не раскололось:
То дерево надежды расцвело,
То ключ от радости блеснул светло!
Раздался смех, он был могуч и громок,
Дошел он до царевны из потемок.
Уж не рехнулся ли Бижан в уме?
Как может узник хохотать в тюрьме?
Решила Манижа: «На дне колодца
Лишь тот, кто разума лишен, смеется».
Спросила удивленно: «Что за смех?
Тебе смеяться грех, — спроси у всех!
Как можешь хохотать в колодце этом?
Иль ночь ты спутал с днем и мрак со светом?
Открой мне тайну: иль увидел ты
Судьбы счастливой светлые черты?»
Бижан ответил: «Будет перемена!
Надежда есть, что вырвусь я из плена!
И если дашь мне верности обет,
Чтоб жертвою не стал я новых бед,
Я расскажу об этом человеке,
Но только клятвы не нарушь вовеки,
Известно всем, что женщины язык
Узды не знает и болтать привык».
С обидою воскликнула царевна:
«За что судьба меня карает гневно?
Зачем в печали жизнь моя прошла,
Не ведая страданиям числа?
Я всем пожертвовала для Бижана,
А он не верит мне, боясь обмана!
Отец, друзья и вся моя родня
С презреньем отвернулись от меня.
Я золотом, дворцом, венцом владела,—
На разграбленье отдала всецело.
Я на тебя надеялась, любя,—
Надежду потеряла на тебя.
Да видит бог, что мерой правды мерит:
Возлюбленный возлюбленной не верит!»
Сказал Бижан: «Права ты, Манижа.
Ты потеряла все, любви служа.
Нет, не должна печалиться подруга!
Услышь меня, страдалица-подруга!
В тюрьме я разума утратил свет,—
Поможет мне разумный твой совет.
Сей благодетель, продавец жемчужин,
Который с добротой и лаской дружен,
Пришел в Туран из-за моей беды:
В делах торговых нет ему нужды.
Быть может, бог узрел мою обиду —
И на простор земли я скоро выйду.
Тебя, когда свободу мне вернет,
Избавит он от ласковых забот.
К нему пойди ты с речью сокровенной:
«О богатырь, о друг царей вселенной!
Помочь страдальцу в силах ты один.
Скажи, не ты ли Рахша господин?»
Как ветер понеслась, покинув яму,
Слова Бижана принесла Рустаму.
Узнав, что, жизнью друга дорожа,
О помощи взывает Манижа,
Что ей, своей возлюбленной прекрасной,
Доверил тайну пленник тот несчастный,
Рустам сказал: «Красавица, живи,
К любимому всегда полна любви.
Из-за него ты вынесла немало,
Из-за него такой печальной стала.
Скажи ему: «Так пожелал творец,—
Владелец Рахша прибыл наконец.
Он много приложил трудов, стараний
В Забуле, и в Иране, и в Туране».
Но тайну лишь Бижану ты открой
И будь настороже ночной порой.
Днем собери дрова, а ночью темной,
Царевна, разведи костер огромный».
Его ответ отраду ей принес,
И сразу высохли глаза от слез.
Она отправилась на то нагорье,
Где пленник пребывал во тьме и в горе.
Сказала: «Речь твою передала
Тому, чей ум высок, душа светла.
Он молвил мне: «Да, верно, я тот самый,
К кому Бижан взывал из темной ямы.
А ты, что плачешь кровью слез, а ты,
Что сделалась добычей нищеты,—
Скажи ему: «Ты не сгниешь в могиле,—
Мы, словно барсы, когти заострили.
Теперь, когда твой отыскался след,
Мечам разящим удивится свет.
Разрою прах своими я когтями,
Я брошу камень в небо, прянув к яме».
Еще сказал: «Как станет потемней,
Ночь вырвется из солнечных когтей,—
Ты разведи костер, чтобы темница
Могла, как днем, сверканьем озариться,
Чтоб видно было, как пройти к тюрьме,
Чтобы с пути не сбился я во тьме».
Слова, что прозвучали в подземелье,
Душе Бижана принесли веселье.
Воззвал он к богу, счастья не тая:
«О чистый, всепрощающий судья!
В беде ты мне помог, добром владея.
Стрелою праведной пронзи злодея,
От подлых защити меня, как щит,—
Ты знаешь, сколько я познал обид.
Быть может, я вернусь в страну родную,
Покину край, где плачу и тоскую…
А ты, подруга, нищей стала вдруг,
Из-за меня познала столько мук.
Ты отдала мне душу, сердце, тело,
Из-за меня так много претерпела.
Из-за меня решила потерять
Венец, престол, родных, отца и мать.
Но если вырвусь из драконьей пасти
И юности мне улыбнется счастье,—
Как бог велит, достигну торжества,
Я засучу для битвы рукава,
Тебе служить, как самодержцу, буду,
Я за тобой последую повсюду.
Вновь ношу подними. Она трудна,
Но верю, будешь ты награждена».
…Вот за дровами в лес она стремится,
Порхает по сухим ветвям, как птица.
Ей светит солнце, а в руках — дрова.
В лесу вступает ночь в свои права.
Уходит солнце за гористый выступ,
А войско ночи движется на приступ.
Уже объемлет землю тишина
И в тайну явь земли превращена.
День обращает в бегство рать ночная
И солнце угасает, отступая.
Пошла царевна, пламя развела.
Ночь, — скажешь, — загорелась, как смола!
Вдруг слышит, — не кувшин звенит ли медный?
То Рахша топот, звон копыт победный!
Рустам облек в кольчугу мощный стан,
Стянул ее завязки Тахамтан.
Он обратил к Йездану взор открытый,
Он попросил опоры и защиты.
Сказал: «Бижана я хочу спасти,—
Да слепнет недруг на моем пути!»
Семь витязей своих собрал он вместе,
Велел им опоясаться для мести.
Помчались, чтобы уничтожить зло,
Под каждым — тополевое седло.
Был впереди Рустам, пред ними — пламень,
Который озарял Аквана камень.[42]
Когда они подъехали к костру,
Увидели и камень и нору,
Сказал Рустам блистательной дружине:
«Лицо земли топтать мы будем ныне.
За труд возьмемся с пылом боевым,
От камня вход в тюрьму освободим».
Семь витязей сошли на землю живо,
Чтоб камень отвалить морского дива.
Изнемогли в поту, в грязи, в пыли,
А камень с места сдвинуть не могли.
В бессилье задыхался каждый воин,
И только этот камень был спокоен.
Рустам сошел с коня и сделал шаг,
Заткнул подол кольчуги за кушак,
Молясь творцу, чтоб силу зла низринул.
Уверенно он камень с места сдвинул,
Забросил в лес китайский, далеко,—
Земля, дрожа, вздохнула глубоко.
Воззвал к Бижану, что познал мученье:
«Как чувствуешь себя ты в заточенье?
Ты мог от мира столько взять услад,
Но кубок взял, в который налит яд!»
Бижан ему ответил из колодца:
«Был труден путь в Туран для полководца?
Явился ты, — расстался я с бедой:
Весь яд вселенной стал живой водой!
А я живу, почти не видя хлеба,
Земля железом стала, камнем — небо.
Уже я смерти ждал, я изнемог
Из-за обилья горя и тревог».
Сказал Рустам: «Страдать не будешь боле,
Тебя всевышний вырвал из неволи.
Теперь, безгрешный, чья душа честна,
Есть просьба у меня к тебе одна.
Даруй Гургину светлое прощенье,
Да не живет в твоей душе отмщенье».
Сказал Бижан: «Ты разумом богат,—
Узнай, как предо мной он виноват!
Не знаешь ты, всесильный, величавый,
Какой вкусил я от него отравы!
Пусть попадет мне в руки прежний друг,—
Не вырвется Гургин из этих рук!»
Рустам воскликнул: «Если, злоедушен,
Моим словам не будешь ты послушен,
Оставлю я тебя, вернусь домой,
А ты сгниешь, замученный тюрьмой»,
Услышав речь Рустама, заключенный
Издал из глубины темницы стоны:
«Забыл я, каково сиянье дня,
Нет витязя несчастнее меня:
Я должен даже в этот день безвинно
Стерпеть коварство и простить Гургина!
Ну что ж, его прощаю навсегда,
Ушла из сердца моего вражда».
Тогда Рустам аркан закинул в яму,
И вот Бижан, в цепях, предстал Рустаму:
Он грязен, как дикарь, и волосат,
И гол, и ногти длинные торчат.
Все тело в язвах гнойных и кровавых
От кандалов — железных, острых, ржавых.
В оковах тело с головы до пят,—
И закричал Рустам, тоской объят.
Он разорвал оковы заточенья,
Рассыпались цепей железных звенья.
К Рустаму, продавцу жемчужин, в дом
Бижан и Манижа пошли вдвоем,
Еще не смея радоваться встрече,
Рустама восхваляя в каждой речи.
Рустам велел подать Бижану снедь,
Богатыря помыть, переодеть.
Припал к ногам Бижана сын Милада,
Сказал Гургин: «Да будет мне пощада!»
Он попросил прощения при всех
За то, что совершил тяжелый грех.
Бижан к нему почуял в сердце жалость,
И сердце от возмездья отказалось.
Навьючили верблюдов в добрый час
И сели на коней, вооружась.
Рустам — на Рахше, за Рустамом следом —
Воители, привыкшие к победам.
Отправил груз, устроил все дела,
Теперь стезя к сражению вела.
Послал вперед Ашкаша, верхового,
Что был ушами войска боевого.
Велел Бижану: «Вместе с Манижой
С Ашкашем ты покинешь край чужой,
А я о сне и отдыхе забуду,
С Афрасиабом ночью биться буду.
Такой в его чертогах бой пойдет,
Что завтра высмеет его народ!
А ты, познавший беды и несчастья,
Не принимай в сражении участья».
Сказал Бижан: «Уехать я могу,—
Вы отомстите за меня врагу».
С заботой о вернувшихся с дороги
Спокойно шах воссел в своем чертоге,
Бижану приказал прийти к нему,
Поведать про оковы и тюрьму.
Бижан повел рассказ о темной яме,
О тяжких путах с острыми гвоздями,
О камне, о превратностях судьбы,
О войске, поскакавшем для борьбы.
Внимал властитель повести ужасной,
Сочувствуя той девушке несчастной.
Сто платьев, ослеплявших красотой,
Жемчужин редких, ткани золотой,
Венец, рабыню, кольца и браслеты,
Ковер и в десяти мешках монеты
Вручил ему, сказал богатырю:
«Я все твоей страдалице дарю.
С ней обращайся ласково, не строго,
Из-за тебя она страдала много.
Будь предан ей и думай лишь о ней…
Ты видишь ли круговращенье дней?
Оно одних на самый верх поставит,
От горестей и тяжестей избавит,
Других низвергнет вниз, в непрочный прах.
Где сплошь и рядом — горе, смута, страх.
Того, кого лелеяло на воле,
Вдруг бросит в яму нищеты и боли,
Другого из темницы до высот
Престола и короны вознесет.
Судьба кознелюбива и упряма,
Ни перед кем она не знает срама.
Она сильна в хорошем и в плохом,
Заботиться не хочет ни о ком.
Добра и зла вожатый постоянный,—
Таков сей мир и все его обманы.
Из-за дирхемов горестным не будь,
Ты избери великодушья путь.
Где тот, кто смотрит на казну с презреньем,
Кто жизни рад и всем ее твореньям?!»
Я передал правдиво этот сказ:
Таким он с древности дошел до нас.
Бижану много посвятив стараний,
Расскажем о Гударзе и Пиране.
Оправившись от поражения, нанесенного ему Рустамом, Афрасиаб решил вновь вторгнуться в Иран и отомстить за причиненные унижения.
Навстречу туранцам Кей-Хосров выслал свою рать. На поле брани произошло двенадцать поединков, из которых вышли победителями иранские богатыри. Среди погибших туранцев были такие именитые витязи, как Пиран, Барман, Хуман, Кахрам, убийца Сиявуша Гуруй и другие.
Затем повествуется о большой войне Кей-Хосрова против Афрасиаба. Сначала туранский правитель пытался обманным путем склонить Кей-Хосрова к мирным переговорам, но тот отклонил его предложения. Произошла битва, в которой Афрасиаб потерпел поражение, бежал и укрылся в крепости, но Рустам взял ее штурмом. Афрасиаб вынужден был скитаться по разным странам в поисках помощи. Его преследовали иранские войска, а правители соседних стран отказали ему в помощи, опасаясь гнева Кей-Хосрова. Юный шах в погоне за своим противником исколесил много стран и городов.
Наконец спрятавшийся в пещере Афрасиаб был пойман отшельником по имени Хум и вместе со своим братом Гарсивазом казнен.
Отомстив за отца, Кей-Хосров перестал заниматься государственными делами и всецело отдался молитвам. Недовольные вельможи пожаловались на это Залю и Рустаму, которые стремились уговорить шаха вновь заниматься мирскими делами, но он уступил трон мало известному Лухраспу, дальнему потомку царей.
У Лухраспа было два сына: Гуштасп и Зарир. Гуштасп стал требовать, чтобы отец уступил ему трон, но, получив отказ, покинул тайком Иран, поселился в Руме, где стал жить под чужим именем, и вскоре женился на дочери Кайсара Катаюн, которая предпочла безвестного чужеземца самым именитым женихам. В наказание Кайсар изгнал дочь из дворца, и она поселилась с мужем в деревне.
Проживая в глуши, Гуштасп по просьбе двух будущих зятьев Кайсара совершил много подвигов. Вскоре он стал самым приближенным человеком Кайсара, отличился в войне против хазаров, и слава о нем распространилась по всему свету.
Однако через некоторое время в Рум прибыл Зарир; узнав брата, он увез его с собой в Иран, где престарелый Лухрасп уступил ему трон.
Во время правления Гуштаспа в Иране появился пророк Зардушт (Заратустра), и шах принял его веру, из-за чего между Ираном и Тураном, где правил Арджасп, вспыхнула война. В происшедших сражениях прославился Зарир, однако он был предательски убит. Место Зарира занял могучий Исфандиар, сын Гуштаспа. Туранское войско было разгромлено, а сам Арджасп бежал.
После одержанной победы Гуштасп отправил Исфандиара во многие страны с наказом склонить их принять новую веру, и он, одержав ряд побед, успешно выполнил волю отца.
Однажды на пиру у Гуштаспа иранский витязь Гуразм оклеветал Исфандиара, и отец велел заковать его в цепи и заключить в темницу. Прослышав об этом, Арджасп собрал новые войска и вторгся в Иран. В сражении Гуштасп потерпел поражение, укрылся на горе и стал держать совет с мудрецом Джамаспом, который предсказал, что разбить туранцев может лишь заточенный Исфандиар.
Получив весть о прибытии Исфандиара на поле брани, Арджасп отправил в Туран захваченные трофеи и пленных, в числе которых были и сестры Исфандиара.
В решающей битве Арджасп потерпел полное поражение, а Исфандиар взял в плен туранского витязя Гургсара. После победы состоялся военный совет, на котором Исфандиар дал клятву вторгнуться в Туран, отомстить Арджаспу и освободить из плена сестер.
Речений скатерть расстелив, дихкан
О старых подвигах повел дастан.
Вином наполнив золотую чашу,
Гуштаспа вспомнил — быль седую нашу;
Как Руиндиж сломил Исфандиар,
Как путь ему указывал Гургсар.
Когда Исфандиар из Гумбадана
Примчался, он разбил полки Турана.
На Руиндиж он двинулся потом,
Гургсара взял с собой проводником.
В глухой степи дорога разветвилась,
И войско на привал остановилось.
Исфандиар вина подать велел,
Стол накрывать, певцов позвать велел.
Костры перед шатрами запылали.
Вожди за шахским ужином предстали.
И повелел миродержавный шах,
Чтобы Гургсара привели в цепях.
Подряд четыре чаши дал Гургсару.
Пей, раб злосчастный! — он сказал Гургсару.—
Коль мне свою судьбу поручишь ты,
Корону и престол получишь ты.
Ответь мне правду и живи беспечно,—
Я весь Туран отдам тебе навечно!
И я тебя, когда Туран возьму,
К блистающему солнцу подыму!
Детей твоих и близких не обижу,
Я возвеличу их, а не унижу.
Но я тебя предупреждаю все ж,
Что всем вам — гибель, если ты солжешь.
Я изрублю тебя мечом вот этим,
И горе родичам твоим и детям!»
И отвечал трепещущий Гургсар:
«О благородный муж Исфандиар,
Ты поступай согласно чести шаха!
Всю правду я скажу — не ради страха».
И царь спросил: «Где Руиндиж? Ведь он
От нас, я знаю, очень отдален.
Дорога не одна туда, их много…
Скажи: какая лучшая дорога?
О Руиндиже все поведай нам —
Как укреплен и сколько войска там?»
И отвечал Гургсар: «О свет вселенной,
Мой царь Исфандиар благословенный!
Чтоб войско к Руиндижу привести
Отсюда мне известны три пути.
Одним путем — три месяца идти,
Другим путем — два месяца почти.
Путь первый — по долинам населенным,
Возделанным и щедро орошенным.
А путь второй — в два месяца. На нем
Для войска пропитанья не найдем.
Пески… Ни пастбища, ни водопоя,
Ни места для привала и покоя.
Есть третий путь — кратчайший. На коне
Его проскачешь за семь дней вполне.
Но там таятся волки, львы, драконы…
Нет от чудовищ этих обороны.
Там некой злобной ведьмы волшебство,
Она страшней дракона самого.
Кто б ни попался ей, она уносит
За облака, потом на землю бросит.
Там леденящий холод снежных бурь,
Там крыльями Симург мрачит лазурь.
Кто этот путь пройдет, тот в день восьмой
Вдали увидит замок пред собой.
Войсками полон, выше темной тучи
Возносит башни Руиндиж могучий.
Вокруг него, шумна и широка,
Как море, разливается река.
Арджасп, когда он замок покидает,
На корабле реку переплывает.
Ни в чем извне нужды в том замке нет,
И он осаду выдержит сто лет.
Там нивы, и плодовые деревья,
И мельницы, и на горах кочевья».
Исфандиар словам Гургсара внял,
В раздумье время некое молчал,
Сказал: «Должны мы двигаться поспешно.
Путем кратчайшим мы пойдем, конечно!»
Гургсар ему: «Пытались люди встарь
Семь подвигов свершить, о государь.
Все, кто доныне тем путем ходили,—
Богатыри — там головы сложили».
«Пойдешь со мною, — молвил Руинтан,—
Увидишь: буду я как Ахриман.
Ответь, с чем мне придется повстречаться,
Чтоб я сперва обдумал: как сражаться?»
Гургсар сказал: «Сначала, средь песков,
О славный муж, ты встретишь двух волков —
Самца и самку, в гневе неуемных,
Как два слона, могучих и огромных.
У них рога растут на лбах крутых.
Львы в ужасе бегут, завидя их.
Слоновым бивням их клыки подобны,
Сильны они, неукротимо злобны».
Гургсар умолк. И увели его
В цепях туда, где стерегли его.
А царь в короне кеев бирюзовой
Велел пустить по кругу чашу снова.
Когда светило мира поднялось,
И покрывало тьмы разорвалось,
И утро бодрое над спящим станом
Походным загремело барабаном,
Сел на коня могучий Руинтан
И радостно войска повел в Туран.
Лишь переход полдневный миновал он,
Бывалого советника призвал он.
Советник тот — Пшутан премудрый был —
Душа, и страж, и око ратных сил.
И царь сказал-: «Что ждет нас — я не знаю…
Тебя главою войска назначаю.
Я не хочу людей ввергать в беду;
Вы стойте здесь, а я вперед пойду».
У вороного подтянув подпруги,
В степь выехал он в боевой кольчуге;
Погнал коня, на смертный бой готов.
И вот вдали заметил двух волков.
Чудовища, увидев Руинтана,
Громаду мощных плеч его и стана,
Навстречу мужу медленно пошли,
Как два слона, два стража той земли.
На лук могучий тетиву надел он,
Как кровожадный лев, на них взревел он.
В двух Ахриманов ливень стрел пустил,
Смертельно их — без промаха разил.
От жал жестоких, застревавших в теле,
От ран глубоких волки ослабели.
И царь возликовал в душе своей,
Увидев поражение зверей.
Напал на них, отвагою кипящий,
И обнажил индийский меч блестящий;
И головы чудовищ отрубил,
Ручьем кровавым землю затопил.
И он сошел с коня, закончив битву,
Чтобы Йездану вознести молитву.
Сначала место средь камней и скал
Не залитое кровью отыскал.
В слезах, с душой предвечному открытой,
Пал на колени воин знаменитый.
Сказал: «О правосудный судия!
Тобой силен и возвеличен я.
Ты, на путях добра руководитель,
Ты дал победу мне, миров зиждитель!»
Когда Пшутан и войско подошли,
Они царя «молящимся нашли.
Увидев подвиг, полны изумленья,
Богатыри стояли в размышленье.
Воскликнули: «Мы сами назовем
Исфандиара волком и слоном!
Храни, предвечный, пахлавана мира!
А без него ни войска нет, ни пира!»
Уж вечер тени над землей простер,
Мужи воздвигли царственный шатер.
Постлали скатерть. Кубки заблестели.
Князья вокруг царя за ужин сели.
Был опечален, огорчен Гургсар,
Что поразил волков Исфандиар.
Вновь привели его к престолу шаха,
С лицом в поту, дрожащего от страха.
Три чаши царь велел ему подать.
Спросил: «Что можешь ты еще сказать?»
И отвечал Гургсар: «О многославный
Владыка с львиным сердцем, муж державный!
Здесь не бросай ты вызова судьбе!
Здесь лев и львица встретятся тебе.
При виде их кровь леденеет в жилах,
Сам Ахриман их поразить не в силах».
И рассмеялся царь, и молвил он:
«Эй, нечестивый, чем ты устрашен?
Услышишь завтра, что мечом скажу я!
Увидишь, как обоих уложу я!»
Когда сгустилась тьма и пал туман,
Исфандиар в поход свой поднял стан.
Повел войска, во тьму глубокой ночи
Вперяя налитые кровью очи.
Вот солнце, разгоняя облака,
Взошло, одето в желтые шелка.
Увидел муж долину меж холмами.
Усеянную белыми костями.
И там Исфандиар с войсками стал.
И так Пшутану мудрому сказал:
«Пойду один. Войска с тобой оставлю.
А я в бою меча не обесславлю».
И он в долину львиную вступил,
И мир для сердца львиного стеснил.
Вот перед ним явились лев и львица,
На мужа устремились лев и львица.
Разящий меч блеснул, самец упал,
И грива обагрилась, как коралл.
От черепа до задних лап могучих
Разрубленный — он пал в песках зыбучих.
Тогда рванулась в бой подруга льва,
И отлетела зверя голова,
Как мяч, от богатырского удара,
И кровь обрызгала Исфандиара.
Сошел к потоку; с тела и лица
Отмыл он кровь и восхвалил творца:
«О правосудный! Весь я пред тобою!
Ты хищников сразил моей рукою!..»
Войска в ту пору близко подошли.
Огромных видят львов — в крови, в пыли.
Полны восторга, мужа восхвалили,
«Поистине велик он!..» — говорили.
Вот, завершив молитву, Руинтан
К шатрам своим вернулся в царский стан.
И засияла скатерть золотая,
Чредою блюд и чашами блистая.
Вновь привели на пир Исфандиара
В цепях железных злобного Гургсара.
Три чаши царь налить ему велел.
Когда же Ахриман повеселел,
Спросил Гургсара пахлаван вселенной:
«Что завтра ждет меня? Скажи, презренный!»
Ответил тот: «О милосердный шах,
Пусть ненавистник твой падет во прах!
Не устрашась волков и львиной пасти,
Ты одолел великие напасти.
Но завтра ты предайся божьей власти,
Надейся на свою звезду и счастье.
Тебя беда такая завтра ждет,
Что все былые беды превзойдет.
Дракон дорогу дальше охраняет,
Он вдохом рыб из моря извлекает.
Огонь из пасти извергает он.
Скале подобен телом тот дракон.
И если ты отступишь, благодетель,
Позора в том не будет — бог свидетель.
Ведь если путь окружный изберешь,
Сам будешь цел и воинов спасешь!»
А шах: «Кругом ли, прямо ли пойду я,
Тебя в оковах всюду поведу я!
Увидишь сам — свирепый твой дракон
Моей десницей будет истреблен!»
Умелых плотников найти велел он,
К себе в шатер их привести велел он.
Повозку приказал соорудить,
На ней мечи и копья утвердить.
Сундук железный с крышкою добротной
К повозке той приколотили плотно.
Вот двух коней ретивых привели
И в тот возок диковинный впрягли.
Сел Руинтан в сундук, для испытанья,
Погнал коней, как по стезе ристанья,
И, радостный, он повернул назад,
Проверивши премудрый свой снаряд.
Меж тем померкло небо, ночь настала,
Вселенная чернее зинджа стала,[43]
В созвездии Овна взошла луна,
Вступил завоеватель в стремена,
Повел полки… И утро с небосклона
Блеснуло, и поникли тьмы знамена.
Броню и шлем Исфандиар надел,
Блюсти войска Пшутану повелел.
Опять играющих могучегривых
В повозку запрягли коней ретивых,
Сел царь в сундук, тугие взял бразды,
Погнал упряжку, не страшась беды.
Колес тяжелых гром дракон услышал,
И ржание, и лязг, и звон услышал.
Он поднялся, как черная скала.
И от него на солнце тень легла.
Кровавый взор горел безумьем гнева,
Дым вылетал из огненного зева.
И это страх, и это ужас был,
Когда он, как пещеру, пасть раскрыл.
Не дрогнул дух могучий Руинтана,
Во всем он положился на Йездана.
Визжали кони, бились что есть сил.
Дракон коней могучих проглотил.
Он проглотил коней с повозкой вместе
И с сундуком, скрывавшим мужа чести.
И тут мечи дракону в пасть впились,
И волны черной крови полились.
Мечей из пасти изрыгнуть не мог он,
Теряя кровь, жестоко изнемог он.
И брюхом пал на землю он без сил.
Тут воин крышку сундука открыл,
Свод черепа дракону сокрушил он,
Мечом на волю выход прорубил он.
Мозг раскрошил ему Исфандиар.
Вставал от крови ядовитый пар,
Взор омрачая и тесня дыханье.
И пал могучий воин без сознанья.
Когда Исфандиар упал во прах,
Пшутана охватил смертельный страх.
Со стоном, обливаяся слезами,
Он поспешил к нему с богатырями.
Все к месту боя полетели вскачь,
В смятенье подымая вопль и плач.
На темя шаха розовую воду
Струил Пшутан, взывая к небосводу.
Исфандиар вздохнул, глаза открыв,
Сказал: «Не плачьте! Я здоров и жив,
Но, задохнувшись, рухнул, как убитый,
От испарений крови ядовитой!»
Как пьяный, будто предан забытью,
Он встал, шатаясь, и сошел к ручью.
В потоке с головы до ног омылся
И в чистые одежды облачился.
Колени пред Йезданом преклонил,
Создателя в слезах благодарил.
Он молвил: «Разве я убил дракона?
Ты мне помог, мой щит и оборона!»
И воинство в восторженном пылу
Творцу вселенной вознесло хвалу.
Но горем омрачился дух Гургсара,
Узнав, что спас творец Исфандиара.
Разбили близ реки на берегу
Шатры на зеленеющем лугу.
И царь созвал носителей кулаха.
И поднял чашу, славя шаханшаха.
Велел в цепях Гургсара привести,
Велел ему три чаши поднести.
Пил их Гургсар, сдержать не в силах стона.
И царь, смеясь, напомнил про дракона.
Сказал: «Эй ты, презренный! Где же он —
Вчерашний мной поверженный дракон?
Что завтра я страшней дракона встречу?
С какою злою силой выйду в сечу?»
Сказал Гургсар: «О царь, пускай всегда
Тебя хранит высокая звезда!
Войдешь ты завтра в некий край счастливый
И с ведьмой встретишься сладкоречивой.
Она сгубила сонмы ратных сил,
Но ей никто вреда не причинил.
Захочет — в море обратит пустыню,
Затмит над миром солнца благостыню.
Ту ведьму Гуль зовут, мой славный шах.
Страшись запутаться в ее сетях!
Ты не кичись пред небом благосклонным.
Довольно и победы над драконом».
Ответил царь: «Эй, наглый раб тщеты!
Что завтра будет, сам увидишь ты.
В петлю я эту ведьму взять сумею,
Хребет у ведьмы я сломать сумею!
Бог укрепит в моей деснице меч —
И голова слетит у Гули с плеч!»
…Вот красные надело одеянья
И закатилось солнце мирозданья.
Царь поднял войско, снарядил обоз,
Повел людей в поход при свете звезд.
Шли ночь… И вот уж над земной чертой
Блеснул им шлем рассвета золотой.
Когда Овен, как яхонт, засветился,
Дол, как весна, смеющийся открылся.
В поход Исфандиар сбираться стал.
Сосуд вина и золотой фиал,
Тамбур сереброструнный взял с собою,
Готовясь будто к пиру, а не к бою.
Сел на коня и въехал, словно в рай,
В благословенный и цветущий край.
Тюльпанами лужайки красовались,
Деревья над ручьями наклонялись.
В зеленой чаще он сошел с коня,
Где по камням родник бежал, звеня.
Он сел и чашу осушил сначала.
Когда же сердце в нем возликовало
И пламя потекло в его крови,
Под свой тамбур запел он о любви.
Так пел Исфандиар мироискатель:
«Отрады мирной не дал мне создатель!
Всю жизнь в походе я, всю жизнь в боях.
Львы и драконы на моих путях.
Одни труды — ни радости, ни холи,
И от любви и счастья нет мне доли!
Пусть утолит мне сердце вечный свод,
Пусть мне подругу милую пошлет!»
Из чащи ведьма песню услыхала
И видом как цветок весенний стала.
Сказала: «В сети мне попался лев.
Желанье счастья в сердце, а не гнев».
Под чарами пленительной личины
Сокрыв свой облик мерзкий и морщины,
Она тюрчанкой стала, скажешь ты,
В сиянии волшебной красоты.
Стан — кипарис; как мускус, черен волос;
Лицо как солнце; птичье пенье — голос.
Ланиты, грудь — цветущая весна.
Внезапно вышла к витязю она.
Увидев пери, шедшую из чащи,
Он громче заиграл, запел он слаще.
Он пел: «О вечный, правосудный бог!
Ты сам — в горах, в пустынях мне помог.
Я пел о пери, я взывал о милой,
О счастье в жизни трудной и унылой.
И ты открыл мне милосердья дверь,
Ты гурию мне въявь послал теперь».
Он чашу налил ей вином старинным,
И нежный лик ее зардел рубином.
Но у него, — что ведьма не ждала,—
С собою цепь заветная была.
Пророк Зардушт, Гуштаспа одаряя,
Цепь эту вынес из пределов рая.
Цепь из небесной стали, как аркан,
Стянул на шее ведьмы Руинтан.
Внезапно ведьма львом оборотилась.
За меч он взялся, помня божью милость,
И так сказал: «Хоть гору сокруши —
Ты безопасна для моей души.
Хоть тигром зарычи, хоть пой по-птичьи,
Вот меч — явись мне в подлинном обличье».
Глядит — старуха мерзкая в цепях,
С лицом, как сажа, в белых сединах.
Мечом взмахнул он, ведьму обезглавил,
Траву и меч кабульский окровавил.
Едва он ведьму замертво поверг,
Как в полночь — ясный небосвод померк.
Завыла буря, туча навалила
И черной тенью ясный день затмила.
Сел муж в седло, на стременах привстал
И, словно гром ревущий, закричал.
Вновь посветлело, и Пшутан явился
И делу пахлавана удивился.
«О достославный шах! — воскликнул он.—
Что пред тобою — ведьма, лев иль слон?
Будь вечно счастлив, радуйся, живи!
Весь мир нуждается в твоей любви!»
Огонь рвался из темени Гургсара
При вести о делах Исфандиара.
И преклонился пред лицом творца
Носитель славный фарра и венца.
В той чаще он шатер велел разбить
И скатерть золотую расстелить.
И старшему из стражников суровых
Сказал: «Веди заложника в оковах!»
Угрюмого, с поникшей головой
Гургсара царь увидел пред собой.
Вина велел открыть источник красный.
Три чаши выпил вновь Гургсар злосчастный.
Сказал Исфандиар: «Ну, кознодей,
Взгляни, что стало с ведьмою твоей!
Ты видишь — голова ее чернеет
На дереве? А ведь она умеет,—
Ты говорил мне, — светлый день затмить,
Пустыню может в море превратить…
Скажи: какое завтра чудо встречу,
С каким врагом готовиться на сечу?»
И встал Гургсар, отдав царю поклон,
И отвечал: «Эй, ярый в битве слон!
Бой предстоит тебе — былых труднее,
Врага ты встретишь всех иных грознее.
Увидишь гору в тучах и во мгле
И чудо-птицу на крутой скале.
Симург та птица, а земной молвою
Наречена «Летающей горою».
Слона увидит — закогтит слона,
Акул берет из волн морских она;
Возьмет добычу — унесет за тучи.
Что ведьма перед птицею могучей?!
По воле всемогущего творца,
Есть у Симурга сильных два птенца.
Когда они распахивают крылья,
Тускнеет солнце, мир лежит в бессилье.
Опомнись, царь! Помысли о добре!
И не стремись к Симургу и горе!»
А царь: «Своей стрелой копьеподобной
Крыло к крылу пришью у птицы злобной!
И завтра утром сам увидишь ты,
Как я Симурга сброшу с высоты».
Когда блистающее солнце скрылось
И ночь над миром темная сгустилась,
Исфандиар, раздумием объят,
Велел готовить боевой снаряд,
Повел войска в безвестные просторы.
А на рассвете показались горы
С вершиною заоблачной вдали.
И солнце обновило лик земли.
И царь Пшутану с войском быть велел,
А сам опять в сундук железный сел.
В повозке, ощетиненной мечами,
Лихими увлекаемый конями,
Вздымая тучу пыли, мчался он
Туда, где подымался горный склон.
Повозка стала под скалою дикой.
Единоборства воин ждал великий.
Когда Симург повозку увидал,
Карнаи, клики войска услыхал,
Он к небу взмыл, как туча грозовая
Громадой крыльев солнце закрывая.
Как барс на олененка, скажешь ты,
Напал он на повозку с высоты.
И грудь Симурга те мечи пронзили,
И крови бурные ключи забили.
Изранил крылья исполин и стих,
Лишились мощи когти лап кривых.
Над склоном, от крови его багровым,
Птенцы взлетели с клекотом громовым.
Кружили с криком горестным, темня
Огромными крылами солнце дня.
Симург о те мечи себя изжалил,
Коней, сундук, повозку кровью залил.
Встал Руинтан, сидевший в сундуке,
Сверкающий булат в его руке.
С мечом на птицу дивную напал он,
И изрубил ее, и искромсал он.
И, отойдя, простерся на земле
Пред богом, что помог в добре и зле.
Он говорил: «О вечный, правосудный,
Ты дал мне мощь и доблесть в битве трудной!
Развеял злые чары на ветру,
Стезею правды вел меня к добру!»
И вот карнаи медные взревели,
Войска с Пшутаном к месту подоспели.
Широкий склон горы Симург покрыл
Громадой мертвой распростертых крыл.
Под перьями земли не видно было.
А кровь, струясь, долину обагрила…
И — весь в крови — предстал войскам своим
Могучий воин цел и невредим.
И восхвалили подвиг Руинтана
Вожди, князья и всадники Ирана.
Когда Гургсар услышал весть о том,
Что мертв Симург, изрубленный мечом,
Лицо от ненависти побледнело,
В груди его отчаянье кипело.
На отдых стать велел счастливый шах.
Всем войском сели пировать в шатрах.
Шелками, солнца утреннего краше,
Украсились, подать велели чаши.
И стражи царские в обоз пошли
И вновь к царю Гургсара привели.
Три чаши дать заложнику велел он.
И выпил их Гургсар, и осмелел он.
И царь сказал: «Эй, низкий, полный зла,
Взгляни на небо и его дела!
Где твой дракон с железными когтями?
Где волки, львы и где Симург с птенцами?
И встал Гургсар, согнул в поклоне стан:
«О муж благословенный Руинтан,
Йездан — твой щит от вражеского гнева!
Плоды приносит царственное древо.
Но завтра не помогут меч и щит,
Неслыханное завтра предстоит.
И палицею не с кем будет биться,
И в бегство ты не сможешь обратиться.
Снег высотой в туранское копье
Завалит войско славное твое!
Вас всех такой глубокий снег покроет
Что в нем никто дороги не пророет.
Вернись теперь с опасного пути!
Мне за слова правдивые не мсти.
Погибнут все, в снегах изнемогая,
Остерегись, дорога есть другая.
А здесь от стужи лютой и ветров
Утесы треснут и стволы дерев.
Но коль снега пройдешь ты невредимый,
Увидишь даль пустыни нелюдимой.
Там так палят полдневные лучи,
Что обгорают крылья саранчи.
На всем пути, в пустыне раскаленной,
Ни капли влаги, ни травы зеленой.
Лев по пескам пустыни не пройдет,
Над ней не правит коршун свой полет.
Там вьются смерчи, движутся пески,
Как купорос, горят солончаки.
На том степном безводном перегоне
Богатыри слабеют, гибнут кони.
Но коль преграду эту победишь,
Пройдя пески, увидишь Руиндиж.
Увидишь край цветущий, непочатый.
Уходит в небо верх стены зубчатой.
Пусть войск Иран сто тысяч ополчит,
И пусть Туран сто тысяч ополчит,
И пусть залягут на сто лет осады,—
Не взять им неприступной той преграды,
Ни худа, ни добра не обретут,
Отчаются и прочь ни с чем уйдут».
Ловя слова Гургсара чутким ухом,
Богатыри Ирана пали духом.
И молвили: «О благородный шах,
Чего искать на гибельных путях?
Тебе не станет лгать Гургсар трусливый!
А если так — едва ль мы будем живы.
Нам всем придется головы сложить,
А не войска противника разить.
Какие сам ты перенес напасти!
Ты птицу-гору изрубил на части.
И слава всех былых богатырей
Со славой не сравняется твоей.
Всегда в бою, ты — первый неизменно,
Свидетель нам — Йездан, творец вселенной:
Великие ты подвиги свершил,
И честь у шаханшаха заслужил!
Ты нас веди окружною тропою,
И склонится Туран перед тобою.
Не ввергни в беды войско и себя!
Что делать будешь, войско погубя?
О муж! Греха на совесть не бери ты!
Пути судьбы от наших глаз сокрыты…
Мы победили, так чего искать?
Зачем на ветер жизнь свою бросать?»
Угрюмо царь Исфандиар внимал им.
Потом сказал сподвижникам бывалым:
«Зачем стращать себя? Стращать меня?
Кто дал вам волю поучать меня?
У вас к высокой славе нет стремленья!
Давайте дома ваши наставленья.
Но если ваши мысли таковы,
Зачем со мной в поход пускались вы?
Наслушались раба и от испуга
Дрожите, словно дерево под вьюгой!
Забыли вы, как царь вас одарил?
Забыли вы, что царь вам говорил?
Забыли клятву перед вечным богом
Идти за мной по боевым дорогам?
Знать, не хватило доблести в сердцах,
Мужами овладел постыдный страх!
Идите в ваши мирные владенья.
А мой удел — тревоги и сраженья.
Создатель мира — щит мой на войне,
Небесные светила служат мне!
Мне не нужны помощники другие.
Пойду в Туран — в пределы роковые,
Сражу врага иль голову сложу —
Я мужество и доблесть покажу!
И скоро долетят до вас известья,
Что нет на царском имени бесчестья.
Клянусь создавшим Солнце и Кейван,
Что этой дланью сокрушу Туран!»
Когда мужи на шаха посмотрели,
Презренье, гнев в глазах его узрели
И головы склонили перед ним:
«Прости нам — слугам преданным твоим!
Глава ты нашим и телам и душам.
Мы поклялись — и клятвы не нарушим.
В беде, в бою не устрашимся мы.
За жизнь твою, о царь, боимся мы.
Средь нас, пока мы живы, ни единый
В беде, в бою не бросит властелииа!»
Услышав эти речи, славный шах
Раскаялся душой в своих словах.
Хвалу иранским воинам воздал он.
«Ничем не скроешь доблести! — сказал он.
И если рухнет вражеский оплот,
Вас всех награда царственная ждет.
Все тяготы вознаградятся ваши,
Дома у вас наполнятся, как чаши!»
Так, за беседой ночь на мир сошла,
Дыханьем гор прохладу принесла.
И под карнай, под грохот барабана
Все всколыхнулось воинство Ирана,
И тронулось в доход во тьме ночной,
Как пламя по сухой траве степной.
Когда заря нагорье осветила,
Ночь власяницей голову укрыла,
И, погоняя черного коня,
Бежала от блистающего дня.
Вот подошли полки, шумя, как море,
К дневной стоянке на степном просторе.
Был день весенний, словно дар творца,
Отрадный и пленяющий сердца.
Шатры по всей долине забелели,
Наполнить чаши кравчие успели.
Вдруг леденящий ветер с гор подул,
Тревогой дух царя захолонул…
Весь мир затмила туча тенью черной,
Исчезли очертанья грани горной,
Из тучи повалил косматый снег,
Столбами закрутил косматый снег.
Три дня, три ночи не переставая,
Свирепствовала буря снеговая.
В шатрах промерзших люди полегли
И двигаться от стужи не могли.
Скажу: утком был воздух, снег — основой.
Царь стыл, беспомощен в беде суровой.
Сказал Пшутану: «О, как тяжело!
Какое злое горе к нам пришло!
Как мужественно шел я в пасть дракона,
А здесь ни меч, ни щит — не оборона!..
Молитесь же! Взывайте к небесам!
Да слышит вас творец великий сам!
И если он не сжалится над нами,
Мы все бесследно сгинем под снегами».
Наставник шаха на путях добра —
Пшутан молился в темноте шатра.
Все войско к небу простирало руки,
Моля об избавлении от муки.
И вдруг повеял теплый ветерок,
Очистил небо. Заалел восток.
Сердца надеждой утро озарило,
И войско бога возблагодарило.
И учредили пир богатыри.
Три дня вкушали мир богатыри.
Потом сошлись князья по зову шаха.
И он сказал носителям кулаха:
«Обоз оставим. Налегке пойдем —
С оружьем, в снаряженье боевом.
Чтоб не страдать от голода и жажды,
По сто верблюдов в полк возьмите каждый.
На них навьючьте бурдюки с водой,
Зерно коням, бойцам — мешки с едой.
В укрытье здесь оставьте груз излишний.
Врата удач откроет нам всевышний.
А кто не верит в помощь неба, тот
Ни счастья, ни добра не обретет.
Мы одолеем с помощью Йездана
Могущество язычников Турана!
И станет каждый всадник наш богат.
Когда оплот Арджаспа будет взят».
Когда в багрец вечерний облачилось
И на закат светило дня склонилось —
Навьючили верблюдов и пошли
В неведомую даль чужой земли.
Когда в походе полночь миновала,
Протяжно в небе цапля закричала.
Услышав цаплю, гневом вспыхнул шах.
Велел Гургсара притащить в цепях.
Сказал: «Ты клялся мне, что край безводен,
Непроходим и к жизни непригоден?
Но цапли водяной я слышал крик.
Тебя погубит лживый твой язык!»
Гургсар ответил: «Здесь, в степи спаленной,
Есть где-то родники воды соленой.
И есть потоки ядовитых вод,
Но только зверь из них да птица пьет».
Царь молвил: «Этот пленник, чуждый чести,
Я вижу, помышляет лишь о мести».
И быстро он вперед повел войска.
Душа — отважна, вера в нем крепка.
Час миновал еще. Вдруг — что за чудо? —
В дали степной раздался крик верблюда.
Услышав, царь возликовал душой
И поскакал вперед, покинув строй.
Увидел под редеющею мглою
Широкую реку перед собою.
И караван большой на берегу.
Вот первым нар-верблюд вошел в реку.
И стал тонуть он, и ревел протяжно,
Исфандиар шагнул в реку отважно,
На берег нара выволок тотчас
И с ним погонщика-беднягу спас.
К царю Гургсара стража притащила,—
Дрожал от страха тюрок из Чигила.
«Зачем ты лжешь, презренный? — царь спросил.—
Ты, змей, мое терпенье истощил!
Ты разве нам не говорил, негодный,
Что все мы здесь умрем в степи безводной?
Ты, знать, хотел по ложному пути
К погибели все войско привести?»
Гургсар ответил: «Гибель силы вашей
Дороже жизни мне и солнца краше!
Я в муках у тебя, в плену, в цепях.
Как не желать мне зла тебе, о шах?»
И рассмеялся Руинтан безгневно.
Судьба Гургсара впрямь была плачевна.
«Эй ты, Гургсар безмозглый, — молвил он.—
Как будет медный замок сокрушен
И пленникам возвращена свобода,—
Тебя я здесь поставлю воеводой.
Всю власть тебе я здесь хочу вручить,
Но ты мне должен правду говорить.
Тебя я возвеличу, не унижу.
Друзей твоих и кровных не обижу».
Услышав, что сказал Исфандиар,
Надеждой преисполнился Гургсар.
Повергнут царской речью в изумленье,
Он пал во прах и стал молить прощенья.
Царь молвил: «То прошло, что ты сказал.
От слов пустых поток песком не стал.
Ты нам укажешь брод в реке глубокой,
А там до Руиндижа недалеко».
Ответил пленник: «Цепи тяжелы.
Тот берег дальше, чем полет стрелы.
Лишь от оков моих освобожденный,
Брод я в пучине отыщу бездонной».
Исфандиар ответил: «Так и быть!»
И приказал с Гургсара цепи сбить.
Взял под уздцы коня Гургсар, и в воду
Вошел он по неведомому броду.
Шел осторожно он с конем своим,
И воины пошли вослед за ним.
Поспешно бурдюки опорожняли
И воздухом их туго надували,
Привязывали лошадям под грудь,
Чтоб невзначай в реке не потонуть.
Достигло войско берега другого
И ратным строем выстроилось снова.
Фарсангов десять ровного пути
До цели оставалось им пройти.
Сел царь, чтоб силы пищей подкрепить
И кубок, кравчим налитый, испить,
И встал. Надел кольчугу, шлем румийский,
Повесил на бедро свой меч индийский.
Опять к нему был приведен Гургсар,
И пленника спросил Исфандиар:
«Ты от беды спасен звездой счастливой.
Хочу услышать твой ответ правдивый:
Когда главу Арджаспа отрублю
И скорбный дух Лухраспа просветлю,
Когда Кахрама, хищного гепарда,
Убью в отмщение за Фаршидварда,
Как будет Андарман в петле моей,
Убийца тридцати восьми князей,[44]
Когда я цвет Турана обезглавлю
И, мстя за деда, землю окровавлю,[45]
Когда я их повергну в пасти львов,
На радость всех иранских храбрецов.
Когда я их дома предам огню
И жен и чад их в рабство угоню,—
Ты будешь ликовать иль огорчаться?
Какие помыслы в тебе таятся?»
Все потряслось Гургсара естество,
Проснулся дух воинственный его,
Ответил он: «Ты полон злобой мщенья,—
Не будет над тобой благословенья!
Пусть небо на тебя обрушит меч
И голову твою похитит с плеч!
Пади во прах — волкам на растерзанье,
Земля тебе — постель и одеянье!»
От тех речей, что злобный вел Гургсар,
Вспылил, разгневался Исфандиар.
Свой меч ему на темя опустил,
До пояса Гургсара разрубил.
Он истребил Гургсара, гнева полный,
И на съеденье рыбам бросил в волны.
И, опоясав богатырский стан,
Сел на коня суровый Руинтан.
Вдали пред ним, на высоте надменной,
Возник огромный замок медностенный.
За тучи, неприступна и грозна,
Вздымала башни хмурые стена.
В ряд вчетвером верхом по ней скакали
Дозорные, что город охраняли.
На чудо-стену Руинтан взглянул
И глубоко и тягостно вздохнул:
«Взять стену с бою — силы не найдется.
Мне злом на зло, как видно, воздается.
Вот залетел я в чуждую страну,
Но здесь одно отчаянье пожну».
Печально ширь степную озирал он,
И вдалеке двух конных увидал он.
Стрелой летела желтая лиса,
За ней гнались четыре гончих пса.
Царь за ловцами теми устремился,
С копьем в руке пред ними появился.
Спросил их, сбросив на землю с коней:
«Чья это крепость? Сколько войска в ней?»
Ловцы ответили, дрожа от страха:
«То — крепость мощная Арджаспа-шаха.
Взгляни на башни — шапка упадет!..
Есть двое в этой крепости ворот.
Одни из них обращены к Ирану,
Другие — прямо к Чину и Турану.
Там войско — богатырь к богатырю,
Сто тысяч сильных — преданных царю.
Снабженная водой, запасом хлеба,
Твердыня неприступна, словно небо.
Шах десять лет в осаде просидит,
И войско голода не ощутит.
А кликнет клич — из Чина и Мачина
Придут войска по зову властелина,
Прискачут — из любой спасут беды.
И у Арджаспа нет ни в чем нужды!»
Встал полководец, меч свой обнажил он,
Двух простодушных тех мужей убил он.
Встал Руинтан, в шатер вернулся он,
Вельмож и приближенных выслал вон.
Премудрого Пшутана муж победы
Оставил для совета и беседы.
Сказал он: «Крепость приступом не взять,
Осадой тюрков нам не испугать.
Хоть я себя в глазах твоих унижу,
Исхода, кроме хитрости, не вижу.
Ты с войском здесь останься на виду.
Я тайно в Руиндиж один войду.
Тот, несомненно, муж и славный воин
И трона Кеев и венца достоин,
Кто не страшится множества врагов,—
Акул в морях, на суше грозных львов.
Но все ж — бывают взлеты и паденья,
Нужна и хитрость на путях сраженья.
Войду я в крепость в образе купца;
Не знают тюрки моего лица.
В успехе я уверен. В том порука
И опыт мой, и ратная наука.
А ты войска в готовности блюди.
Поставь дозор надежный впереди.
Коль днем дозоры дым густой увидят
Иль зарево во тьме ночной увидят,
Ты помни: это знак я подаю,
Что срок настал — судьбу решать в бою.
Тогда ты подымай войска Ирана,
Мужей, чьи копья тяжелей тарана.
Под знаменем моим людей веди,
Сам на виду у всех и впереди,
Иди в броне моей, могуч и яр,
Чтоб все сказали: «Вот — Исфандиар!»
Потом призвал наездников любимых,
Испытанных, в бою неустрашимых.
Велел им сотню рослых, молодых
Пригнать верблюдов, на подбор гнедых.
Навьючил на десять мешки с деньгами,
На пять — тюки с китайскими шелками.
На пять — мешки рубинов, наконец,
На одного — престол свой и венец.
И принесли сто сорок сундуков,
С устройством хитрым потайных замков.
Сто шестьдесят он взял мужей надежных,
Выносливых, в засаде осторожных.
Сто сорок в сундуки он заключил,
Горбы верблюдов ими отягчил.
А двадцати оставшимся избранным
Он вретищем велел облечься рваным,
Чтоб к Руиндижу караван вели,
Чтоб за рабов-погонщиков сошли.
И, плечи пыльным облачив халатом,
Он с караваном двинулся богатым.
Приблизился к воротам наконец
И стражам объявил, что он купец.
Цепями заскрипел тяжелый ворот.
Ворота отперлись, вошел он в город.
Все услыхали про его приход.
Глазеть сбежался уличный народ.
«Купец пришел! — встревожились базары,—
Меняет он дирхемы на динары!»
Сперва вельможи важные пришли
Изделья поглядеть чужой земли.
«Что продаешь купец? — они спросили.—
Что нам предложишь? Золота, парчи ли?»
Ответил он: «Довольно тут всего,
Но лучшее — для шаха самого!
Пусть шах великий гостя не обидит,
Пусть посмотреть мои товары выйдет!»
И вот вельможи царские купцу
Велели ехать прямо ко дворцу.
К царю пришел он с чашей золотою,
Наполненной отборной бирюзою.
Шелка Китая, яхонтов поднос
И груду перстней шаху он принес.
Румийскою парчой дары покрыл он,
И амброй их бесценной окропил он.
Наполнился благоуханьем зал,
Когда перед Арджаспом он предстал.
У ног царя рассыпал он динары,
Речистой лести расточая чары.
«Будь благосклонен к бедному купцу.
Я — из Ирана — тюрок по отцу.
Торгую в Руме дальнем я и в Чине,
Пересекаю горы и пустыни.
С богатыми товарами в Туран
Привел я в сто верблюдов караван.
О шах! Я честным торгом промышляю.
Я продавец, а также покупаю.
Надеюсь я, ты защитишь меня,
О покровитель мира и броня!
Так разреши заняться мне торговлей,
Сложить товары под надежной кровлей.
Укрой под сенью милости твоей
Меня, моих верблюдов и людей!»
Сказал Арджасп: «Ты — под защитой шаха!
Развеселись душой. Торгуй без страха!
Ты здесь — мой гость. И никаких обид
Никто в Туране вам не причинит».
И царь сказал своим вазирам слово,
Чтобы они на площади дворцовой
Обширный дом для гостя отвели
И весь товар туда перенесли.
Арджасп устроить там базар велел
И от воров стеречь товар велел.
Нехватки не было в могучих мужах,
Таскавших сундуки на спинах дюжих.
Один носильщик, весь в поту, спросил:
«Чем сундуки приезжий нагрузил?
Как будто мне, — хоть я и слон по силе,—
Всей жизни тяжесть на плечи взвалили!»
Открыл, украсил лавку Руинтан,
Как будто по весне расцвел тюльпан.
У входа пел речистый зазывала,
Толпа у входа лавки вырастала.
Ночь пробыл дома гость, а поутру
Опять явился к шахскому двору.
Перед Арджаспом преклонил колени
И сплел узор цветистых восхвалений.
Сказал: «По диким я прошел степям.
Позволь дары сложить к твоим стопам!
Не откажи, владыка благосклонный,
Прими браслеты, перстни и короны!
Пусть выберет твой главный казначей
Сокровища — для милости твоей!
И сколько бы ни взял он, честь мне будет;
А моего богатства не убудет.
Владыки дело — брать, купца — дарить.
За бедный дар прошу меня простить».
Арджасп развеселился, засмеялся,
Все больше к гостю сердцем он склонялся.
Спросил: «Как звать?» Ответил гость: «Харрад,
Я — весельчак, из тех, кто жизни рад».
Ответил царь: «Эй, странник благородный,
Ты много выстрадал в степи безводной.
Живи, торгуй. Я сам — защитник твой.
Ко мне являйся прямо в час любой».
Выспрашивать он начал Руинтана,
Что делается на земле Ирана.
Ответил тот: «Пять месяцев почти
Я пробыл в изнурительном пути».
Спросил Арджасп: «Что слышно о Гургсаре?
Какие вести об Исфандиаре?»
«Великий шах! — ответил лже-Харрад,—
По-разному об этом говорят.
Был слух: Исфандиар попал в немилость,
И средь иранцев смута заварилась…
Был слух, что войско поднял он в поход,
Что он путем семи преград идет,
Что он решил семь подвигов свершить
И стены Руиндижа сокрушить».
Захохотал Арджасп, сказал: «Пустое!
Да никогда не сбудется такое!
И коршун там не пролетит вовек,
Будь Ахриман я, а не человек!»
Склонился муж к подножию престола,
Вернулся на базар с душой веселой.
Велел он двери лавки открывать,
Велел прохожих в лавку зазывать.
Толпа росла, шумела и галдела,
На шелк румийский с завистью глядела.
Блистающее солнце закатилось,
И лавка гостя на торгу закрылась.
И две рабыни вышли из дворца,
Таясь от стражи, с черного крыльца.
На их плечах тяжелые кувшины,
На бледных лицах их печать кручины.
Исфандиар, узнав сестер своих,
Лицо свое поспешно скрыл от них.
Он, опасением за них объятый,
Закрылся длинным рукавом халата.
К Исфандиару сестры подошли
И перед ним склонились до земли.
К нему с мольбою робкой обратились,
И слез ручьи по лицам их струились:
«О муж, благословенна жизнь твоя!
Да будут слугами тебе князья!
Ты нам поведай вести об Иране,
И о Гуштаспе, и о Руинтане.
Он — брат наш. Мы — несчастные княжны
Арджаспом нечестивым пленены.
Мы носим воду, бедствуем в неволе,
А наш отец Гуштасп почиет в холе.
Мы босиком принуждены ходить.
Нам нечем головы свои прикрыть.
Завидуем мы в саваны одетым.
О славный муж! Порадуй нас ответом.
Слыхал ли, что в Иране говорят
И помнят ли о нас отец и брат?»
Так Руинтан могучий возопил,
Что ужас девушек оледенил:
«Пусть след Исфандиара истребится,
Коль он, как раб, в цепях отца влачится!
Гуштасп — жестокий изверг, не отец,
Он — див, и не пристал ему венец».
И тут по голосу Хумай узнала
Исфандиара и возликовала.
«Он здесь, он хочет нас освободить!» —
Но тайну ту она сумела скрыть.
Что узнан он, не подала и виду.
Оплакивая рабство и обиду,
В слезах склонялась перед ним она,
За брата опасением полна.
Но понял муж душой проникновенной,
Что узнан он сестрой благословенной.
Открыл он ей лицо свое в слезах,
Как солнце в поредевших облаках.
И на сестер, поникших в униженье,
Смотрел он молча в горьком изумленье.
Сказал: «Теперь недолго вам терпеть.
Уста замком должны вы запереть.
Чтоб вас освободить, мои родные,
Я перенес невзгоды роковые.
Как может наш отец беспечно спать,
Когда вы воду здесь должны таскать?!
Так будь отцом нам небосвод высокий
В наш век убийственный, наш век жестокий!»
Покинул утром лавку лжекупец,
Вошел к Арджаспу-шаху во дворец.
Сказал: «Йездан тебя благослови!
Миродержавный шах, в веках живи!
Вел караван я. И в степном просторе
Увидел вдруг неведомое море.
Сел на корабль я; и, благословясь,
Поплыл. Внезапно буря поднялась.
А спутники, что моря не видали,
От ужаса рассудок потеряли.
Тогда взмолился я и дал обет:
Когда спасет от смерти нас Изед,
Когда мы вступим на берег счастливый,
Где царствует владыка справедливый,
Пир я на всю страну устрою там,
Все за спасенье наших душ отдам;
Воздам дервишу почесть, как царю,
И беднякам богатства раздарю.
Пусть шах теперь мне душу успокоит
И почести великой удостоит.
Пусть шах позволит — для князей его,
Для воинского сонмища всего
Мне пир устроить славный и великий,
Свершить обет перед творцом-владыкой».
Исполнен спеси, жаждущий похвал,
Арджасп, внимая мужу, ликовал.
В ладони хлопнул: «Эй! Созвать скорее
Всех, кто у нас почетней и знатнее!
Пускай сберутся все к Харраду в дом —
И пусть Харрад их угостит вином!»
Ответил гость: «О шах, вселенной свет,
Мудрец и над мобедами мобед!
Мой тесен дом, а твой дворец — святыня.
Мы пир устроим на стенах твердыни.
Ночь холодна. Костры мы запалим,
Сердца мужей вином развеселим».
Арджасп ответил: «Делай все без страха,
Как хочешь. Люб ты сердцу падишаха!»
Исфандиар велел, не тратя слов,
Таскать дрова на стены для костров.
Без счета жеребят, ягнят забили,
Проворно туши наверх потащили.
И от костров, зажженных на стене,
Поплыли тучи дыма в вышине.
Пить сели гости на стенах просторных,
Едва хватало чашников проворных.
И напились, забыли о мечах,
Плясать пошли с нарциссами в руках.
Когда заполыхал во тьме ночной
Огонь костров над крепостной стеной,
Когда костры увидел муж дозорный
И на рассвете — дым густой и черный,—
Он, обгоняя ветер, поскакал
За холм, где лев-Пшутан известий ждал.
В шатер вождя иранских сил вступил он,
О пламени и дыме сообщил он.
Пшутан воскликнул: «Цвет богатырей —
Исфандиар слонов и львов грозней!»
Велел от сна он воинство будить,
Трубить в карнаи, в барабаны бить.
С холмов полки на Руиндиж он двинул,—
Скажи: на сушу море опрокинул.
В кольчугах, в шлемах львы Ирана шли.
Рассвет померк в клубящейся пыли.
И поднялась тревога в Руиндиже,
Что чья-то рать подходит к ним все ближе.
Что это сам Исфандиар идет,
Что древо злобы принесло свой плод!..
И встал Арджасп. И, руки потирая,
Броней облекся, плечи разминая.
Он вышел из дворца, как грозный лев,
Войска вести Кахраму повелев.
Потом сказал воителю Тархану:
«Иди взгляни — кто там грозит Турану?
Ты десять тысяч храбрых избери
И крепости ворота отвори.
Разведай, чьи войска на нас напали.
Видать, они рассудок потеряли».
В кольчуге, препоясанный мечом,
Тархан поехал в поле с толмачом.
Увидел войско, полное отваги,
И барса желтого на черном стяге,
И на Исфандиаровом коне
Пшутана в шлеме и стальной броне,
С быкоголовой палицей в деснице.
Конь боевой его летел, как птица.
Тархан подумал: «То — Исфандиар,
Никто другой, готовит нам удар».
Раздался клич. Густая пыль всклубилась.
Блистающее солнце дня затмилось.
Мечи блеснули, стая стрел взвилась,
И кровь, как дождь из тучи, полилась.
И грудь о грудь, сшибаясь в вихре пыли,
Иран с Тураном снова в бой вступили.
И выехал прекрасный Нушазар,
Блистая шлемом, золотым, как жар.
На поединок витязей Турана
Он выкликал. Вскипела кровь Тархана.
На вызов вышел он, любимец сеч.
И сшиблись щит о щит и меч о меч.
Бой был недолог: богатырь Ирана
Рассек до сердца славного Тархана.
Кахрам увидел — пал Тархан во прах,
И охватил его великий страх.
Тут яростно ряды в ряды ворвались,
И оба строя ратные смешались.
Как львы и тигры бились, ты скажи,
Великие и малые мужи.
И дрогнул сам Кахрам, и духом пал он.
И, бросив войско, в крепость ускакал он.
Отцу Арджаспу он вскричал в слезах:
«Взгляни, солнцеподобный падишах!
Нахлынули, как волны океана,
Войска Исфандиара-Руинтана.
Ведет на бой их сам Исфандиар.
Вновь угрожает нам Исфандиар.
Как молния, опять грозит бурану
Его копье, подобное тарану».
И помрачнел Арджасп, вздохнул: «Беда!
Возобновилась старая вражда».
Сказал он войску: «В поле выступайте.
Мечом отпор пришельцам дерзким дайте.
Эй, львы мои, богатыри, князья,
Рассейте их, чтоб радовался я!
Побейте всех, как прежде вам случалось,
Да так, чтоб их на семя не осталось!»
Врата раскрылись, тяжело скрипя.
Рать вышла в поле, яростью кипя.
Глубокой ночью, втайне — без помехи,
Исфандиар надел свои доспехи.
Затем он отпер крышки сундуков,
На волю выпустил своих бойцов.
Принес всего им, в чем была потреба.
Дал подкрепиться мяса им и хлеба.
Когда же яств очистили поднос,
Он по три чаши каждому поднес.
Насытясь, воины повеселели.
И царь сказал им: «Братья, мы у цели.
Смелей! Да будет к счастью эта ночь!
Теперь молите небо нам помочь».
И он на три отряда разделил их,
И верою в победу окрылил их.
На площадь он послал один отряд,
Чтоб тюрков убивали — всех подряд.
Других послал — врага теснить в воротах,
Бегущих с поля изрубить в воротах.
А третьему отряду он сказал:
«Убейте всех, кто нынче пировал!
Они все пьяны. На стены взойдите,
Всем головы мечами отсеките!»
А два десятка он повел с собой,
И вторгся во дворец, и начал бой.
Вломился, все преграды сокрушая,
Сердца рычаньем львиным устрашая.
Царя-воителя громовый рык
Пристанища сестер его достиг.
Хумай на голос брата поспешила,
А за руку Бихафарид тащила.
Исфандиар увидел пред собой
Царевен, схожих с юною весной;
Сказал он сестрам: «Ничего не бойтесь,
Но поскорей, как дым, отсюда скройтесь!
Вот ключ вам. В доме спрячетесь моем
В подвалах с золотом и серебром.
И ждите там, пока я в битве буду,—
Сложу главу или венец добуду!»
И, полон жаждой мести и жесток,
Ворвался витязь в царственный чертог.
Мечом всему живому угрожая,
Защитников бегущих поражая,
Он трупами покои завалил,
Чертоги морем крови затопил.
Вот шум достиг опочивальни шаха
И с ложа встал Арджасп, исполнен страха.
Но гневом гордый дух его вскипел,
Кольчугу он, румийский шлем надел.
И выбежал, проклятья извергая,
Из спальни, сталью ратною сверкая.
И встретился лицом к лицу с купцом
В кольчуге, с окровавленным мечом.
Исфандиар сказал: «Ты град ударов
Получишь от купца взамен динаров.
Дар от Лyxpacпa я принес тебе,
Печать Гуштаспа я принес тебе!
Печатью заклейменный роковою,
Покроешься ты черною землею!»
И запылал в сердцах их бранный жар.
Сошлись Арджасп и лев-Исфандиар,
Удары сталью нанося друг другу
И рассекая шлемы и кольчугу.
И вот Арджасп могучий изнемог,
Он в ранах весь от головы до ног.
Как слон огромный, пал он, окровавлен,
Мечом Исфандиара обезглавлен.
Так вот что звезды смертному дарят,—
То поднесут бальзам, то черный яд!
С презрением на мир взирай, о мудрый!
Ты в жизни — гость; так не страдай, о мудрый!
Убив Арджаспа, грозный Руинтан
Обрек разгрому замок и айван.
Мечами стражу всю посечь велел он,
Дворец со всех сторон поджечь велел он.
Никто из обитателей дворца
Не избежал кровавого конца.
Казнохранилище царя Турана
Оставив под надежною охраной,
Пошел к конюшням царским Руинтан,
В деснице — меч, в стальной кольчуге — стан.
Коней арабских отобрать велел он,
Мужам своим их оседлать велел он.
И сели на могучих тех коней
Сто шестьдесят его богатырей.
Сестер привел он, в седла посадил их,
Ликуя сердцем, что освободил их.
Отряд оставил в крепости; Сава—
Отважный муж — отряда был глава.
Богатырю Саве сказал: «Как в поле
Мы выйдем и очутимся на воле,
Ворота городские ты закрой
И у ворот неколебимо стой.
Когда я своего достигну стана
И снова встречу славного Пшутана,
Вели кричать дозорным: «Да живет
Наш царь Гуштасп, как вечный небосвод!»
Когда в бою туранцы истомятся
И вспять к вратам твердыни устремятся,
Ты сбрось главу Арджаспа со стены,
И пусть их души будут сражены!»
И в степь он выехал во мгле тумана,
Как слон, вломился он в ряды Турана.
Сто шестьдесят за ним отважных шли
И гибель и смятение несли.
Достигли стана… Радостен и светел,
Воителя Пшутан премудрый встретил.
И кто опишет войска торжество
Перед царем и доблестью его!
Когда, как царь с серебряного трона,
Сошло светило ночи с небосклона,
Раздался с башни клич богатырей:
«Живет Гуштасп, великий царь царей!
Цветет Исфандиар непобедимый!
Луною, небом и судьбой хранимый!
Святой закон мечом он защитил,
Туранцам за Лухраспа отомстил!
Арджаспа он железом обезглавил,
Гуштаспа возвеличил и прославил!»
Смутились тюрки, слыша этот крик,
Не ведая — откуда он возник?
От клича, что над полем разносился,
Тревогой дух Кахрама омрачился.
И Андарману, брату, он сказал:
«Не распознаешь ночью, кто кричал.
Что скажешь? Что-то будет нынче с нами?
Мы всё с тобой должны разведать сами!
Иль это пьяной стражи озорство
У изголовья шаха самого?
Какая дерзость у простого люда!
Но этим крикунам придется худо.
Всех надо, как изменников, казнить
И преданною стражей заменить!
Так поспешим! И коль застанем дома
Врагов, что ищут нашего разгрома,—
Мы по-турански их возьмем в зажим,
Мы черепа им сталью размозжим!»
Все громче голоса во тьме звучали,
И на стене, и на холме звучали,
Они со всех сторон теперь неслись.
И души тюрков страху поддались.
Войска роптали: «Голосов так много,
Что только в крепость нам теперь дорога.
Вернемся, братья, дом наш защитим.
Запремся, всем врагам отпор дадим».
Кахрама сердце ужасом сжималось,
Лицо его страданьем искажалось.
Сказал он людям: «За царя, за вас,
О воины, в тревоге я сейчас!
Теперь в укрытье отступить нам надо,
А Руиндиж надежная ограда».
И вспять, подобные морским волнам,
Туранцы устремились к воротам.
Но гнал Исфандиар их по пятам,
Удары нанося то здесь, то там.
Вот вскачь Кахрам достиг ворот, и что же —
Врагов и в воротах он видит тоже.
Сказал мужам: «Принять придется бой,
И пусть судьба пошлет исход любой.
Вы, в ком бестрепетны сердца живые,
Все за мечи беритесь боевые!»
Когда в глаза им глянула судьба,
Отважным стала тягостна борьба.
И щит о щит, и меч о меч схватились.
И до утра два славных войска бились.
Но утренней зари блестнул венец,
Турана славе наступил конец.
В сиянье раннем алого востока
Сава явился на стене высокой.
И голову убитого царя —
Арджаспа, гордого богатыря,—
Он кинул вниз. Лишь это увидали,
Сражаться вдруг туранцы перестали.
Ряды смешались, громко голося,
И стон и плач великий начался.
Два царских сына, две его опоры,
Рыдая, содрогались, словно горы.
Так неожиданно беда пришла,
Что души сильных пламенем сожгла.
Взывало войско: «Доблестный воитель,
Наш полководец, лев и повелитель!
Кем ты в ночи предательски сражен?
Убийца твой — да будет проклят он!
Кто управлять в походах будет нами?
Кто на стене твое подымет знамя?
Коль мы лишились нашего отца,
Не будет пусть ни войска ни венца!»
Халлух, Тараз отчаяньем вскипели,
Все души жаждой смерти пламенели.
И яростной, неистовой толпой,
Ища конца, они рванулись в бой.
В широком поле брань возобновилась,
И тучей пыли небо омрачилось.
Тела убитых грудами легли
На окровавленной груди земли.
Повсюду — смерть, стенания и муки,
Отрубленные головы и руки.
Над степью черная нависла мгла.
Кровь у ворот потоками текла.
Когда Исфандиар ворвался в сечу,
Кахрам погнал коня ему навстречу.
И сшиблись, затрещали их щиты.
Они слились в одно — сказал бы ты.
Исфандиар за пояс взял Кахрама,
Сорвал с седла и вверх подъял Кахрама.
И гневно грянул об землю его
Под клич победный войска своего.
Арканами Кахрама тут скрутили,
В обоз полуживого утащили.
Без полководца, словно горсть песка,
Рассыпались туранские войска.
Как листья под ударами метели,
Под вихрем смерти головы летели.
Над полем воздух гибелью дышал…
Тот все терял, другой — все забирал.
Повсюду шлемы, головы валялись.
О трупы кони храбрых спотыкались.
Кто день грядущий видит? Кто прочтет
То, что от нас скрывает небосвод?[46]
Немногих тюрков скакуны лихие
В пески умчали за холмы глухие.
А те, кому не удалось уйти,
От смерти не могли себя спасти.
Простые степняки в живых остались,
Что за людей у знатных не считались.
А воины, в отчаянье, в слезах,
Щиты и шлемы побросали в прах.
Молили: «Пощади нас, справедливый!»
И были их глаза как день дождливый.
Но в мести был безжалостен и яр
Кровь проливающий Исфандиар.
Всех всадников воинственных убил он.
Ни одного вельможу не простил он.
Не стало в Руиндиже никого,
Кто б отстоял достоинство его.
Убитым поле битвы царь оставил,
В стан воротился, вечного прославил.
Две виселицы у ворот градских,
Две черные петли свисают с них.
Там за ноги двух сыновей Арджаспа
Повесил царь — в отмщенье за Лухраспа.
Туранскую рассеянную рать
Велел он догонять и избивать.
Богатырей уничтоженью предал,
Туран огню и разоренью предал.
Всех, кто могли оружие носить,
Велел он беспощадно истребить.
Сказал бы ты: гроза прошла, сверкая,
Дождь огневой на землю изливая.
И сел в шатре, событья обозрев,
За чашей, средь князей, иранский лев.
И написать велел писцу посланье
Гуштаспу о великом том деянье.
Умолк Рустам. Исфандиар поднялся
И, как апрель прекрасный, рассмеялся.
От тех речей Рустамовых огнем
Он запылал. Вскипело сердце в нем.
Сказал: «О битвах и трудах Рустама
Внимал я жалобам в словах Рустама,
Теперь послушай о моих делах,
Как я надменных растоптал во прах.
Все помнят, как во имя веры правой[47]
Меч на Арджаспа поднял я со славой.
Я тонущего в сквернах ниспроверг,
Владычество неверных ниспроверг.
Я сын царя природного Гуштаспа,
И внук я благородного Лухраспа.
Авранди-шах — Лухраспа был отец,
Прославлен в мире был его венец.
Авранди-шах рожден был Кей-Пашином,
А Кей-Пашин был Кей-Кубада сыном,
Чей выше звезд стоял великий трон,
Кто был так щедро небом одарен.
И так до Фаридуна мы дойдем,—
Он древа Кеев древним был стволом.
Мой дед по матери, кейсар великий —
Румийских стран и западных владыка.
Тот царь кейсар от Салма род ведет,—
Могучий это, справедливый род.
А Салм был Фаридуна ветвь и плод,
А Фаридун — Ирана был оплот.
Ты у царей — отцов моих счастливых,
Вождей великих и благочестивых —
Был верным уважаемым слугой,—
Тем не хочу гордиться пред тобой!
Царями трон тебе дарован твой,
Хоть ты царям и зло творил порой.
Вниманье моему яви рассказу,
А ложь скажу — прерви рассказ мой сразу!
С тех пор как дед возвел отца на трон,
Я был бронею браней облачен:
Я воевал с врагами правой веры,
Побил неверных без числа и меры.
Когда ж меня Гуразм оклеветал[48]
И в Гумбадане узником я стал,
Вернулись орды из туранских далей,
Несчастного Лухраспа растерзали.
Тогда Гуштасп — смятеньем обуян —
Послал Джамаспа в крепость Гумбадап.
Когда Джамасп меня в цепях увидел,
Не слезы — кровь в моих глазах увидел,—
С собой привел он в башню кузнецов,
Чтоб отпереть замки моих оков.
Страх овладел послом и кузнецами,
Когда я встал и загремел цепями.
Сломал ошейник, на глазах толпы
Порвал оковы, повалил столпы.
На скакуна вскочил я вороного
И поскакал царю на помощь снова.
И от меня бежал, покинув стан,
Арджасп, туранский лев и пахлаван.
Облекшись панцирем железнобронным,
Погнался я за тигром разъяренным.
Мир не забудет подвигов моих;
Я дивов истребил и львов степных.
Взял Руиндиж и на стенах крутых
Настиг врагов и уничтожил их.
Чьи столь великий труд свершали руки?
А что там вынес я! Такие муки
Не испытал онагр, голодным львом
В пустыне раздираемый живьем!
Акула стольких мук не выносила
В тот час, как крюк смертельный проглотила!
Был медностенный замок на скале,
Тонувший в облаках, в небесной мгле.
Шли Фаридун и Тур туда с войсками.
Но неприступен был за облаками
Оплот язычников на кручах скал.
А я пришел — их ужас обуял!
Я взял тот грозный замок на вершине,
Разбил кумиры в капище твердыни.
На жертвенниках мной огонь зажжен,
Что был Зардуштом с неба принесен.
Нигде теперь врагов Ирана нет!
Ни войск, ни шаха у Турана нет!
Вернулся я, прославленный в боях,
В Иран, где правит величавый шах.
Но, вижу, затянулись речи наши.
Вина ты жаждешь — так подымем чаши!»
«Деянья наши, — вымолвил Рустам,—
Бессмертным станут памятником нам.
Будь благосклонен и послушай слово
Бывалого богатыря седого!
Когда б я не пошел в Мазандеран
С мечом, с копьем тяжелым, как таран,
Где в кандалах томился Кей-Кавус
И с ним слепые Гив, Гударз и Тус,—
Кто б положил конец их тяжкой муке?
Кто б на Диви-сафида поднял руки?[49]
Где б Кей-Кавус спасение обрел?
Кто б шахский воротил ему престол?
Был мною шах освобожден великий,
Поставлен на иранский трон владыкой!
Главы врагов я отрывал от тел.
Не саван их тела — а прах одел.
Мне друг в боях был Рахш огненноярый,
А старый меч мой щедр был на удары.
Когда ж Кавус пошел в Хамаваран
И вновь подставил шею под аркан —
Собрал тогда я воинство в Иране,
Богатырей повел на поле брани.
Царя врагов я выбил из седла,
Сразил его, как божия стрела.
Вновь из темницы вывел я Кавуса,
Оковы снял с Гударза, Гива, Туса.
Афрасиаб, пока я вел войну,
Ударил на Иранскую страну,
Привел войска, подобно грозным тучам.
И вновь я полетел на бой с могучим.
Когда скакал я под ночною тьмой,
Не грезились мне отдых и покой.
Афрасиаб, мое увидя знамя,
Вдали сверкающее, словно пламя,
Услышав ржанье моего коня,—
Все бросил, спасся бегством от меня.
Но если б Кей-Кавуса я не спас —
И Сиявуша не было б у вас,
И Кей-Хосрова слава б не сияла!
А от него берете вы начало.
Эй, шах! Вот я большую прожил жизнь,—
На разум мой, на опыт положись.
Порукой — честь! Тебя я властелином
Поставлю над Ираном и над Чином.
Когда ж сковать меня ты вздумал, шах,
Корысти не найдешь ты в тех цепях.
Как я примчусь на бой, как взвею прах —
Меж небом и землей посею страх!
Был я великим, счет терял победам,
Когда Лухрасп был никому не ведом.
Имел я эти земли, этот дом,
Когда Гуштасп был в Руме кузнецом.
Что ж ты кичишься предо мной венцом,
Гуштасповым престолом и кольцом?
Был молод, поседел я чередом,
Но я не ведал о стыде таком:
«Иди! Свяжи Рустама!» — кто так скажет?
Мне сам творец вселенной рук не свяжет!
Вот в оправданьях унижаюсь я.
Речей довольно! Щит мой — честь моя!»
И рассмеялся Руинтан могучий,
Встал, плечи распрямил и стан могучий.
«Эй, муж слоноподобный! — молвил царь —
Все это о тебе слыхал я встарь!
Как львиное бедро — твоя десница,
А шея — мне драконьей крепче мнится».
Так говоря, он руку старцу жал
И разговор с улыбкой продолжал.
Так руку жал, что сок кровавый на пол
Из-под ногтей Рустамовых закапал.
Рустам не дрогнул, руку сжал в ответ
Исфандиару и сказал в ответ:
«Блажен Гуштасп и славой властелина,
И тем, что породил такого сына!
Четырежды блажен могучий род,
Чьей ветви цвет вовек не отцветет!»
Так говоря, кивал он белой бровью,
Сжимая руку шаха. Черной кровью
Рука у Руинтана налилась,
Но тот не дрогнул и сказал, смеясь:
«Эй, лев! Сегодня пить со мною будешь!
А завтра утром о пирах забудешь!
Как завтра утром стану в стремена,
Надену шлем, броню на рамена —
Ты жизнь сочтешь за тягостную ношу,
Когда тебя копьем с седла я сброшу.
Свяжу тебя и к шаху приведу,
Но знай — не на позор, не на беду.
Скажу: «Вот он! Вины на нем не знаю!»
Тебя я перед шахом оправдаю.
И ты со славою пойдешь домой,
Добро, богатство понесешь с собой».
Захохотал Рустам, махнув рукой
И потрясая гривою седой,
Спросил: «Ты где привык к мужскому бою,
С моею не встречавшись булавою,
Когда я закручу ее смерчом,
С моим арканом, луком и мечом?
Но если завтра так судьба устроит,
Лицо любви от нас она закроет,
И будет кровь на пир принесена
И злоба — вместо красного вина,
Мы руд заменим барабаном ярым,
Мы грудь и плечи обречем ударам.
И ты познаешь, что такое бой,
И мощь мужская, и удар мужской!
Как соберусь я завтра, в поле выйду,
Тебе, мой шах, не причиню обиду,—
Нет! Подыму тебя я над седлом,
И в плен возьму, и отвезу в свой дом,
И приведу тебя к златому трону
И поднесу тебе свою корону,
Что дал мне Кей-Кубад, великий шах,
А он да возликует в небесах!
Я дверь моих сокровищниц открою,
Казну свою рассыплю пред тобою,
Дам все, что нужно войску твоему,
До вечных звезд венец твой подыму!
Воспрянув сердцем радостным из праха,
Приду с тобой к престолу шаханшаха.
Покорством слово правды облачу,
Тебе венец Ирана я вручу.
Приму на плечи прежней службы бремя,
Как я служил царям в былое время.
Все сорняки в посеве прополю,
Отрадой светлой сердце обновлю.
Коль шахом станешь ты, а я — слугою,
Кто в мире устоит перед тобою?»
И дал Исфандиар такой ответ:
«Для дела в многоречье нужды нет!
Вот день прошел, глухая ночь настала;
И натощак нам спорить не пристало.
Довольно споров! Будем пить и есть.
Все подавайте, что в запасе есть!»
И смолкли речи в царственной беседе.
Когда могучий руки поднял к снеди,
Барашков жирных все, кто там сидел,
Подкладывали гостю. Всё он съел,
Осталась лишь гора костей на блюде;
И изумлялись Тахамтану люди.
Вот в чаше золотой принесено
Рубиновое старое вино.
Шепнул хозяин: «Что-то скажет старый,
Как захмелеет за такою чарой?
Добром ли Кей-Кавуса помянет,
Как вдоволь, через меру он хлебнет?»
И гость за Кеев осушил до дна
Источник темно-красного вина.
И вновь румяный кравчий, стройный станом,
Наполнил чашу ту пред Тахамтаном.
Рустам ему сказал: «Зачем водой
Вино разводишь, кравчий молодой?
Лей воду завтра, друг! А здесь, у шаха,
Ты не скупись, давай вино без страха»
«Дай без воды! — промолвил Руинтан,—
Чтоб радовался славный Тахамтан!»
И шах был от Рустама в восхищенье,
Потребовал он музыки и пенья.
И гостя лик под инеем кудрей
Горел зари рассветной розовей.
Сказал хозяин: «О вселенной диво,
Покуда мир стоит — живи счастливо!
Да будет все подвластное судьбе,
Отец, на утешение тебе!»
Гость молвил: «Пусть твой век счастливым будет!
Пусть ум твой светлый справедливым будет!
Я радуюсь, что пил с тобой вино —
Омолодило душу мне оно!
А если зло изгнать из сердца сможешь,
Свое величье ты стократ умножишь!
Почти мой дом присутствием своим,
О царь! Будь гостем дорогим моим!
Да властвуют в твоих со мной делах
Любовь и разум, мой прекрасный шах!
Забудь вражду и, полн благоволенья,
Войди как добрый друг в мои владенья».
И отвечал Рустаму Руинтан:
«Не сей семян бесплодных, пахлаван!
Ты завтра въяве мощь мою увидишь,
Когда на грозный бой со мною выйдешь.
Забудь о мире, думай о войне,
О завтрашнем побеспокойся дне!
Увидишь ты: я буду в битве грозной —
Как на пиру, — да только будет поздно…
Боюсь, не устоишь ты предо мной!
Эй, лев, со мной не выходи на бой!
Поймешь ты, встретясь с булавой моей,
Что мощь моя речей моих сильней!
В сердцах не отвергай совет толковый —
Дай сам теперь согласье на оковы!
Когда перед царем падешь во прах —
И дня, поверь, не проведешь в цепях!»
Дух светлый омрачился у Рустама,
Весь мир в очах затмился у Рустама:
«Связать себя позволю иль его
Убью — лишусь я счастья своего!
И то и это низко и презренно,
Позор мне вечный будет во вселенной.
Убью царя — свой дух живой убью.
А цепи? Цепи честь убьют мою…
Спор будет обо мне тысячелетний,
Позорные пройдут по свету сплетни:
Что с молодым Рустам не совладал,
Что молодой пришел, его связал…
И во вселенной все меня осудят,
И доброй славы обо мне не будет.
А если шаха я убью в бою —
Живую душу погублю свою.
И скажет мир: «Вот за одно лишь слово
Убил он властелина молодого!»
И тот позор не будет искуплен
Ничем!.. Злодеем буду наречен.
А если мне заутра пасть случится —
Забул погибнет и Кабул затмится,
Исчезнет Сама богатырский род,
И осмеет, забудет нас народ…
Нет! Все ж хоть отблеск памяти моей,
Я верю, не умрет в сердцах людей!»
И отвечал: «О царь прекрасноокий!
От слов твоих мои желтеют щеки:
Как говоришь ты много о цепях!
Беды тебе от них боюсь я, шах!
Пока мы препираемся в речах,
Иное решено на небесах.
Твой разум духи зла заполонили
И от дороги правды отвратили.
Ты сердцем чист и полон простоты,
Боюсь, коварства жертвой будешь ты!
Гуштасп, отец твой, стал подобьем дива,
Знать, не насытился судьбой счастливой.
Дела такие совершать велит,
Где гибель и сильнейшему грозит…
Гоняет сына по земному миру,—
Ум на тебя он точит, как секиру!
Он ищет: есть ли в мире муж такой,
Который устоит в бою с тобой
И поразит тебя рукой тяжелой.
Короны жаль ему и жаль престола!
Но тот, чья мысль дорогой зла пошла,
Сам для себя готовит сети зла.
В какую повергаешь скорбь меня ты,
О царь мой, ложью гибельной объятый!
Одумайся же! От вражды уйди,
Корысти от несчастия не жди!
Ты устрашись, о шах, творца вселенной!
Ты устыдись моих седин, надменный!
Непоправимого не совершай,
Печалью нам сердца не сокрушай!
Мы не нуждаемся в войне с тобою,
Нет жажды у тебя к вражде и к бою.
Ты послан волею — судьбы сильней,—
Дабы погиб ты от руки моей.
Пусть проклянут Рустама все языки,
Но на Гуштаспа грех падет великий!»
Внял гордый Руинтан его словам
И молвил: «Эй, прославленный Рустам!
Какого ты, хитрец, нагнал тумана,
Чтобы уйти от моего аркана!
Сейчас в свой дом ты воротись добром.
Что слышал здесь, открой в дому своем;
И приготовься к бою, как бывало,
Мне с нашим спором медлить не пристало.
Как встретимся мы завтра на конях,
Мир почернеет у тебя в глазах!
Узнаешь ты, что значит муж в бою,
Когда он поднял меч за честь свою».
Сказал Рустам: «Эй, ненасытный славой!
Коль так ты рвешься на майдан кровавый,
Тебя я под копыта повалю,
От гордости железом исцелю.
Внимал в народе я словам таким,
Что, мол, Исфандиар неуязвим,
Что от рожденья он бронзовотелый,—
Не ранят, мол, его ни меч, ни стрелы.
Как меч в руке увидишь у меня,
Услышишь топот моего коня —
Потом уже ни с кем не сможешь боле
Искать сраженья ты на ратном поле».
Смех по Исфандиаровым устам
Скользнул, когда закончил речь Рустам.
Сказал Исфандиар: «Эй, муж победы,
Как быстро ты вспылил из-за беседы!
Подумай: поутру в рассветный час
Не спор застольный ожидает нас.
Я не гора, мой конь не схож с горой,
Один, без войска, выйду я на бой!
Не будет грудь моя от стрел укрыта,
Один великий бог — моя защита,
Застонет твой отец, как булаву
Обрушу завтра на твою главу.
А если не убью тебя в сраженье,
Свяжу тебя — познаешь униженье.
Чтоб раб, что он есть раб, не забывал,
Чтоб с властелином распри не искал!»
Гость вышел, полон думой, из шатра
И постоял угрюмый, близ шатра,
Потом поехал… И, раздумья полный,
Глядел вослед Исфандиар безмолвный.
Сказал он брату: «Были ль у кого
Такая мощь и стать, как у него?
Где всадник был, где конь такой — не знаю!
Чем завтра кончится наш бой — не знаю!
Вот он стоит, как слон на Ганг-горе,
С оружьем в бой он выйдет на заре —
Прекрасный, светлой славой озаренный…
Боюсь, погибнет, стрелами пронзенный!
Я сердцем о судьбе его скорблю,
Но воли шаховой не преступлю!
Когда я завтра сотни стрел пущу,
День для него я в полночь превращу».
Пшутан сказал: «Услышь, о брат мой, слово,—
Твержу тебе: не делай дела злого!
Я отступить от правды не могу
И ныне пред тобою не солгу.
Не мучь его! Пока в нем сердце живо
Не покорится свободолюбивый!
Сегодня спи, а завтра поутру
Без войск пойдем к Рустамову двору —
С добром, как подобает справедливым;
И станет день печали днем счастливым.
Прекрасна в мире жизнь его была,
Он совершал лишь добрые дела!
Он верен в обещаньях, чист душой,
И он исполнит твой приказ любой,
Зачем же распря с ним тебе и ссора?
Гони вражду от сердца, гнев от взора!»
Царь молвил: «Колебаться поздно нам,—
Колючий терн простерся по садам.
Тому же, кто Зардушта прославляет,
Так говорить, о муж, не подобает!
Царей Ирана ты — глаза и слух,
Советник наш, познанья светлый дух,—
Ты знаешь, что для верных нет пути,
Чтоб повеленье шаха обойти.
Коль не исполню волю падишаха,
Закон Зардушта станет грудой праха,
Святой закон, который нам гласит:
«Изменнику погибель предстоит!»
Что ж ты, мудрец, ведешь меня в пучину?
Твердишь, чтоб изменил я властелину?
О друг, на малодушный твой совет
Я вместо «да» отвечу «нет»!
Когда боишься ты, что я умру,—
Боязнь твою развею поутру,
Предел нам всем положен волей рока,
Еще никто не умер прежде срока.
Увидишь завтра ты, как выйду в бой,
Что сделаю с акулой боевой!»
Печальный, отвечал Пшутан: «Эй, шах!
Ты лишь о битвах мыслишь и цепях.
Как див, ты гневом исступленным дышишь,
Ты слов добра и разума не слышишь.
Столь темной вижу я твою главу,
Что на себе одежды разорву!
Чем потушу огонь тревоги дикой?
Чем заглушу я в сердце страх великий?
Два мужа выйдут в битву, два слона!
Как знать, кому могила суждена?»
Но не ответил брату царь угрюмый,
Со скорбным сердцем, полный мрачной думой.
В раздумьях тягостных Рустам домой
Вернулся, понял: неизбежен бой.
И по лицу Рустама Завара
Увидел, понял, что не ждать добра…
Сказал Рустам: «Достань мой меч булатный,
Шлем боевой и весь доспех мой ратный;
Аркан и лук; кольчугу для коня;
Кафтан из шкуры тигра для меня».
И Завара с хранителем в подвал
Сошел и все, что велено, достал.
Когда Рустам оружье увидал —
Вздохнул он, головою покачал
И молвил: «О доспехи боевые,
Минувших битв свидетели живые!
Теперь — увы! — мы снова на войне…
Одеждой счастья снова станьте мне!
Едва ль когда дышал такой бедою
Грядущий день над этой головою…
Но поглядим, какую поутру
Исфандиар покажет нам игру».
Когда Дастан услышал слово сына,
Смутился он, сказал, склонив седины:
«Досель непобедимым был единый
Рустам. Но молодого исполина
Бронзовотелого — остерегись!
Дарами, щедрой данью откупись!
Домой пойдет он — в путь с ним снарядись,
На Рахша черногривого садись.
Как древле, послужи Исфандиару,
Не подвергай себя его удару.
А шах Гуштасп, увидевши тебя,
Зла не содеет, истину любя».
Сказал Рустам: «Эй, мудрый, престарелый,
Напрасно счел ты легким наше дело!
Шесть сотен лет я прожил на земле,
И разбираюсь я в добре и зле.
Чудовищ я убил Мазандерана.
Я войско истребил Хамаварана.
Хакан с войсками от меня бежал,
От чьих копыт несметных мир дрожал.
Мне ль покориться злобному веленью,
Предать страну и дом наш истребленью?
Я хоть и стар теперь, но в день войны
Повергну с небосклона диск луны.
Как шкурой тигра облачу я плечи —
Хоть сто слонов я встречу в поле сечи!
Без счета просьб я к шаху обращал,
Во всем повиновенье обещал,—
Но не внимал моим словам надменный,
Почел он мудрость болтовней презренной.
О, если б так не возгордился он,
Я был бы им, как солнцем, озарен!
Ему б я отдал все, чем мы богаты,
Ни злата не жалел бы, ни булата!
В ответ на речь мою смеялся шах,
Остался ветер от речей в руках.
Коль в бой пойдем, ты за него не бойся,
Ты о душе его не беспокойся:
Его главы мечом я не сниму,—
Я в сеть главу прекрасную возьму.
Я отверну коня от столкновенья,
Я не ударю в грозное мгновенье!
Я путь загорожу ему в бою,
Рукой его вкруг стана обовью,
Его к себе в седло я перекину
И поклонюсь ему, как властелину.
Три дня он будет гостем у меня,
А на четвертый, на рассвете дня,
Когда покровы синего тумана
Откинет солнца лик златорумяный,
Тогда покину дом я Наримана,
Слугой пойду с царем в предел Ирана,
Его на трон Гуштаспа посажу,
Ему венец на темя возложу.
Как я служил Хосрову, так я стану
Служить Исфандиару-Руинтану.
Как раб, я препояшусь перед ним,
Не буду занят я ничем иным;
Как Кей-Кубаду я служил, ты помнишь?..
Все подвиги, что я свершил, ты помнишь?
А ты мне говорил, чтоб скрылся я
Иль чтоб на цепи согласился я!»
И засмеялся Заль, и покачал
Сединами, и сыну отвечал:
«В словах твоих незрелых толку мало,
В них ни конца не видно, ни начала!
Лишь сумасшедшие, словам твоим
Внемля, увы, возрадуются им!
Кубада — в скорби, на цепи глухой,
Без войск, без трона, без казны златой —
Не сравнивай с могучим Руинтаном,
Царем вселенной, мира пахлаваном,
Не сравнивай с Исфандиаром, сын,
Чье имя начертал на перстнях Чин.
Ты говоришь: «С седла его сниму,
В объятьях понесу, в свой дом возьму!»
Так бредит юноша в тумане страсти!
Ты не кружись у врат звезды несчастий,
И пусть не отомкнется эта дверь!..
Я все сказал. Ты сам решай теперь!..»
Так молвил Заль, челом к земле склонился
И скорбным сердцем к богу обратился:
«На нас, гонимых, господи, взгляни,
От горя и неправды охрани,
Даруй нам свет и мир, как прежде было!..»—
Молился он… И утро наступило.
И встал, надел кольчугу Тахамтан,
Повесил к торокам седла аркан.
Чело свое шеломом осеня,
Сел на слоноподобного коня
И, брата кликнув, отдал повеленье,
Чтоб избранных он поднял ополченье.
Сказал: «Вооружи мужей на брань.
За тем холмом песчаным с ними стань».
И Завара во мгле рассветной рани
Собрал мужей пред замком на майдане.
Гул пробежал по воинским рядам,
Когда предстал им Тахамтан-Рустам,
И раздалось: «Ты щит нам и ограда!
А без тебя и жизни нам не надо!»
И встал могучий над Хирманд-рекой,
Угрюм лицом, с истерзанной душой,
И молвил брату: «Здесь с войсками стой.
Один я переведаюсь с судьбой.
Здесь боем жажду дива утолю я,
Дух темный шаха сталью просветлю я.
Я вновь на бой десницу подыму;
Исход неведом взору моему…
С врагом сойдусь, подобным Ахриману,
Но звать на помощь войско я не стану.
В единоборстве встречу я его —
Не затрудню из войска никого!
Лишь тот судьбою одарен счастливой,
Тот радостен — чье сердце справедливо!»
Сказал, потока волны пересек
И на крутой другой поднялся брег —
И возгласил: «Эй, лев! Вставай на битву!
А молишься, скорей кончай молитву!»
Как услыхал Исфандиар слова
Могучегривого седого льва,
Он вышел из шатра и улыбнулся:
«Давно я жду тебя — давно проснулся».
Надел он пехлевийский шлем стальной,
Копьем вооружась и булавой,
Грудь облачил кольчугой и броней,
Меч у бедра повесил боевой.
Вот слуги подвели коня для шаха,
Могучего, не знающего страха.
Уперся в землю Руинтан копьем
И на коня вскочил одним прыжком,
Подобно тигру, что в степи настигнет
Онагра и ему на спину прыгнет.
…В восторг пришли иранские войска
От дивной ловкости его прыжка.
Поехал шах и пред собою прямо,
На склоне горном, увидал Рустама —
На Рахше черногривом, одного,
Без свиты и без воинства его.
Тогда сказал Пшутану всластелин:
«Рустам один, и я пойду один.
Стоит он величаво и спокойно…
Вдвоем идти на бой нам недостойно».
И вот сошлись они… Сказал бы ты,
Что мир покрыло море темноты,
Так кони богатырские заржали,
Что скалы гор окрестных задрожали.
Сказал бы: радость в мире умерла,
Когда пора их встречи подошла!
И крикнул старый витязь белогривый
Исфандиару: «Эй, мой царь счастливый!
Ты не спеши на бой! Внемли сейчас
Старейшему еще единый раз!
Когда ты ищешь крови и сраженья,
Военных бедствий, грома и смятенья,
Я воинство Забула подыму,
Я воинство Кабула подыму.
И ты мужей Ирана позови,
Богатырей Ирана позови.
Войска подвергнем ранам и страданьям,
Согласно царственным твоим желаньям!»
И отвечал ему Исфандиар:
«Не трать в пустых речах сердечный жар!
Зачем ты здесь с мечом и булавою?
Зачем меня ты спешно вызвал к бою?
Затем ли, чтоб словами обмануть?
Иль страшно под удар подставить грудь?
С Кабулом воевать я не хочу,
Напрасно убивать я не хочу.
Противно это было б вере правой,
Несовместимо с богатырской славой,
Чтоб неповинных на смерть я послал,
Себя ж короной мира увенчал.
Я впереди — где смерть шумит крылами,
Пусть даже в битве с тиграми и львами.
Зови себе помощника! А мне
Помощника не нужно на войне.
В бою — господь всевышний спутник мой,
Достоинство — стальной нагрудник мой.
Хотел ты боя — я стремился к бою,
В единоборстве встретимся с тобою!
Не нами — небом предрешен исход,
Чей конь домой с пустым седлом уйдет».
И меж собой у них решенье было,
Чтобы подмога к ним не приходила.
И в бой вступили, копьями скрестясь,
И кровь по их доспехам полилась.
И так на копьях яростно сшибались,
Что копья богатырские сломались!
Вот за мечи они взялись тогда,
И разгорелась в их сердцах вражда.
Друг другу нанося за раной рану,
Они, крутясь, скакали по майдану.
Так их удары были горячи,
Что раздробились тяжкие мечи.
За палицы схватились мужи славы,
А палицы их были быкоглавы.
И палиц их удары, ты б сказал,
Разили, словно каменный обвал!
Так возжелали зла они друг другу,
Изранили тела они друг другу.
Сломались хватки палиц их стальных,
Совсем пустыми стали руки их.
И взяли за пояс они друг друга,
Взвились, заржали кони от испуга.
Один кушак в руке Рустама был,
Другой — в руке у Руинтана был…
За пояса схватившись в исступленье,
Они застыли молча в напряженье.
Один другого снять с седла хотел,
Ни этот, ни другой не одолел.
И разошлись, не кончив ратоборства,
Тая в сердцах угрюмое упорство.
Кровавой пеною обагрены,
Дрожали боевые скакуны.
Так долго длился бой и среди стана
Так долго ждали с поля Тахамтана,
Что Завара решил войска привесть.
В груди его — тревога, в думах — месть.
Спросил иранцев: «Где Рустам? Скажите!
Что вы без дела в день такой сидите?
Как гордо шли на нас вы издали…
Куда пришли вы? К тигру в пасть пришли!
Еще вы руки нам связать хотели?
Попробуйте! Что медлить, в самом деле?»
Так Завара их тяжко оскорблял,
Так много злой хулы он им сказал,
Что не стерпел поносной речи ярой
Один из сыновей Исфандиара.
Горел в нем бурно юношеский жар,
То был прекрасный отрок Нушазар,—
Но в ярости похож на льва он стал,
И гневные бросать слова он стал.
Сказал: «Не знаешь ты, сагзи презренный,
Что каждый, чтящий бога во вселенной,
Своей души гордыню сокрушит,
А волю падишаха совершит!
Не повелела воля та святая
Вступать нам в бой с собачьей вашей стаей!
Достойно пса, а не богатыря
Ослушаться веления царя!
Но если вы на этот грех пойдете
И первые сражение начнете —
Узнаете, что значат когти льва
И что такое меч и булава!»
И Завара воскликнул разъяренный:
«Кровавой увенчайте их короной!
Смерть им взамен короны золотой!» —
И первый выехал пред ратный строй.
И поле брани огласилось кликом,
И вихрем пыль взвилась на поле диком.
Примчался Нушазар на вороном
Коне, с индийским огненным мечом.
И выпустила сторона другая
На поединок витязя Алвая.
Тут обнажил прекрасный Нушазар
Свой меч индийский и нанес удар.
И голова Алвая отлетела,
И под копыта покатилось тело.
Но разъяренный Завара тогда
Приблизился, как гибели звезда.
«Постой! — вскричал он. — Был Алвай не воин,
Он был с тобой сражаться не достоин!»
Он шаха поразил копьем в чело,
И опустело шахское седло.
Пал ратоборец молодой Ирана;
Заколебался бранный строй Ирана.
И вышел мстить за брата Михринуш,
Исфандиара сын, отважный муж.
Скакал он с пеной гпева на устах,
С кровавыми слезами на щеках.
Но Фарамарз — Рустама сын, — навстречу
Подняв индийский меч, ворвался в сечу.
Как слон, по виду был огромен он,
Неудержим в бою, как пьяный слон.
Вот сшиблись, львиной яростью горя,
Рустама сын и юный сын царя.
С клинков скрещенных искры полетели,
И кликом воинств дали загремели.
Но хоть в бою был шахский сын жесток,
Сравняться с Фарамарзом он не мог.
Когда взвился он яростнее барса,
Десницу занеся на Фарамарза,
Неловко меч с размаху опустил —
Коня он под собою зарубил.
И пешим стал он; и, лишен защиты,
Сраженный пал под конские копыта,
На камень, кровью алою политый…
И вот Бахман, увидев, что убиты
Два брата, поскакал во весь опор
Туда, где бился царь на склонах гор.
И закричал: «Эй, прозорливый мой
Отец! Властитель справедливый мой!
На нас Рустама воинство напало,
И сыновей твоих двоих не стало!
В страданиях померк их жизни свет.
Нет Нушазара, Михринуша нет!
Убили их! Лежат они в пыли,
Пока ты бьешься здесь от нас вдали!
Вот причинен, увы, неизгладимый
Нам всем урон, о наш отец любимый!»
Гнев горький сердце шахское обжег,
На щеки брызнул слез горючих ток.
Сказал Рустаму: «Эй, отродье дива!
Зачем свернул ты со стези правдивой?
Что войско ты привел — не ведал я.
Потеряна отныне честь твоя!
Гляжу, ты ни позора не страшишься,
Ни дня суда, ни бога не боишься!
Забыл, что нарушающим обет
В душе народа уваженья нет!
Сагзи двух сыновей моих убили!
Предательски детей моих убили!»
Затрепетал, как на ветру листва,
Рустам, услышав страшные слова.
Поклялся он мечом, и головою,
И солнцем, и своею сединою:
«Клянусь, я ничего не знаю сам!
А в бой вступать я запретил войскам.
Тебе я брата связанного выдам:
Убей в уплату всем своим обидам!
И Фарамарза — сына своего —
Свяжу и приведу к тебе его.
Пролей железом кровь моих родных!
Убей за дорогих детей твоих!»
Шах молвил: «Кровь змеи за кровь павлина
Пролить, раба убить за властелина —
То было б мерзко совести моей,
Священному достоинству царей!
Нет! Ты, порочный, о себе подумай!
Ты, лживый, о своей судьбе подумай!
Твои я ноги стрелами с конем
Соединю, как воду с молоком,—
Чтоб ни единый раб не смел потом
На властелина выходить с мечом.
Живой останешься — для горшей муки
Свяжу тебя, скую цепями руки.
А поражу стрелой тебя — ну что ж
За милых сыновей моих умрешь!»
Рустам ответил: «От таких речей
Лишь чести умаление твоей».
Они достали бронзовые луки,
Простерли к стрелам тополевым руки,—
И вылетало пламя, где стрела
Кольчугу к телу пригвоздить могла.
Нахмурилось лицо Исфандиара,
Взгляд омрачился ненавистью ярой.
И солнца лик в смятенье побелел
От посвиста его жестоких стрел,—
Где стрелы Руинтана попадали,
Кольчугу, как бумагу, разрывали.
В бою не ведал промаха стрелок,
Никто от рук его спастись не мог.
Он за стрелой стрелу пускал упрямо,
Изранил он и Рахша и Рустама.
Но ни одна Рустамова стрела
Царапины царю не нанесла.
Рустама ж ни одно не миновало
Исфандиаром пущенное жало.
Отчаялся, последнюю свою
Надежду потерял Рустам в бою;
И молвил: «Я — изранен… целый — он,
Воистину — бронзовотелый он!»
Бой продолжать был Тахамтан не в силе,
Изнурены и конь и всадник были.
И в первый раз за весь свой славный век
Он к выходу последнему прибег:
Быстрей, чем вихрь, Рустам с коня скатился
И на крутое взгорье устремился.
Ушел один домой скакун его,
Хозяина покинул своего.
А кровь из ран Рустамовых текла,
Вся содрогалась Бисутун-скала.
И смехом прояснился царский взор,
Увидев мужа славного позор.
Спросил он: «Где ж твоя слоновья сила?
Что мощь твою железную сразило?
Неужто стрел пернатых острия?
Где мужество, где булава твоя?
Что ж убежал ты на гору, едва
Услышал издали рычанье льва?
Неужто это ты — пред кем когда-то
Дракон заплакал, ужасом объятый?
Так кто ж слона в лисицу превратил,
Десницу сильную укоротил?»
Рахш, истекая кровью, той порой,
Понуря голову, прибрел домой,
Обломки стрел неся в боках могучих,
Текли по морде капли слез горючих.
И вот увидел Завара коня
При свете угасающего дня,
Увидел, что седло его пустое,—
И с воплем поскакал на место боя.
Всего в крови Рустама увидал
Неперевязанного и сказал:
«Брат! Поезжай домой без промедленья!
Здесь на меня ты положись в отмщенье!»
Сказал Рустам: «К Дастану воротись,
Утратили мы славу, честь и жизнь…
Пусть он изыщет, как бывало ране,
Чем исцелить от ран и от страданий
Меня и Рахша. Дорог каждый час.
Спасенье в том единое для нас!..
О, если в эту ночь я не умру,
Живым и здравым встану поутру,
Ты скажешь: «Вновь на свет мой брат явился,
Могуч, как сотни лет назад, явился!»
Поди за Рахшем пригляди моим.
Останусь жив — вернусь я вслед за ним!»
И Завара уехал молчаливый.
Исфандиар дождался терпеливо
Конца беседы и сказал: «Ну что ж?
Где твой защитник и чего ты ждешь?
Ты долго ль простоишь на скалах там?
Бросай свой лук и покорись, Рустам!
Сними броню и тигровый кафтан,
От кушака освободи свой стан!
Дай руки мне твои связать по чести!
Ты от меня не жди вреда и мести.
В цепях тебя я к шаху отведу,
Но там тебя не ввергну я в беду.
А если рвешься в бой опять со мною,
Назначь — кому владеть твоей страною.
Потом покайся, старый человек,
В грехах, что совершил в столь долгий век!
Быть может, примет бог тебя безгневно,
Когда ты мир покинешь пятидневный!»
Рустам ответил: «Поздняя пора.
Темно. Ни зла не сделать, ни добра.
Ночь переждем, пожалуй, до рассвета.
Ты в стан свой воротись на время это.
И я пойду немного отдохну,
Вернусь домой, на краткий срок усну;
Перевяжу я раны, кровь отмою
И созову под кровлею родною
Любимых — сына, брата и отца —
Честь и опору нашего дворца.
Предстану с ними пред тобой, великий,
На милость падишаха и владыки».
И Руинтан ему ответил: «Эй!
Надменный муж, негодный кознодей!
Не только тем, что храбр, могуч и ловок,—
Ты знаменит и тысячей уловок.
Ясна с начала хитрость мне твоя,
Теперь твое паденье вижу я.
Тебя на эту ночь лишь пощажу я,
Что выдумаешь завтра — погляжу я,
Не вздумай вновь обманывать меня.
Иди теперь — до завтрашнего дня!»
«Исполню все, — ответил Тахамтан,—
А ныне обессилел я от ран».
И долго шах на спину исполина
Глядел, как тот пошел, склонив седины.
Как медленно реку переходил…
Меж тем Рустам у господа молил
О помощи: «Владыка сил небесных!
Коль я теперь умру от ран телесных,
Кто гордым за меня отмстит в бою?
Кто правду унаследует мою?»
Когда он, как корабль, струи потока
Рассек и поднялся на брег высокий,
Исфандиар сказал ему вослед:
«Таких людей еще не видел свет!
Нет! То не муж, нам ныне предстоящий,—
То слон могучий, ужас наводящий!
Его таким всевышний сотворил,
Он землю им и время озарил».
Когда же в стан вернулся шах Ирана,
Услышал вопль и стоны среди стана,
Убитых увидал своих сынов,
С их лиц откинул пурпурный покров.
Мертвы! И воскресить их нет надежды!
И шах со стоном разодрал одежды,
Главу посыпал прахом, наземь пал,
И обнимал убитых, и взывал:
«Мои возлюбленные, вы ли это?
Кто погасил живой источник света?
Куда ушли вы от юдоли сей?»
Сказал Пшутан: «Эй, брат мой, слез не лей!
Над невозвратным что рыдать напрасно?
Сердца свои зачем терзать напрасно?
Все — стар и млад — подвластны смерти мы,
Пусть разум нас ведет пред ликом тьмы!»
Встал Руинтан, в табуты положил их —
Детей своих, к Гуштаспу проводил их,
И написал отцу: «Возрос твой сад,
И ветви дум твоих плодоносят:
На волны ты спустил корабль упрямо,
Потребовал покорства от Рустама,—
И нет в живых двоих сынов моих!
Но ты не плачь, в табу те видя их,—
Крепки бока быка Исфандиара,
Не устрашатся вражьего удара».
И скорбный сел Исфандиар на трон,
И все слова Рустама вспомнил он…
Сказал Пшутану-брату: «Лев степной
Не устоит пред мужеской рукой.
Я в поле повстречался с Тахамтаном,
Залюбовался богатырским станом —
И восхвалил царя небесных сил,
Что он таким Рустама сотворил.
Прославлены везде — до моря Чина —
Деяния Рустама-исполина.
Акул из волн рукой хватает он,
В ущелье тигра настигает он.
Но все ж я так изранил мужа славы,
Что лег за ним в пустыне след кровавый.
Ушел он, скалы кровью орося,
Обломки стрел меж ребер унося.
Хоть, может, он вернется в дом отца,—
Боюсь, уйдет к Кейвану из дворца…»[50]
Приблизился Рустам к родному дому,
Израненный — предстал отцу седому.
Все родичи и толпы верных слуг
Рыдали, наземь падали вокруг;
Мать волосы рвала свои, кричала
И в кровь лицо ногтями раздирала.
И распоясал брат Рустамов стан,
Кольчугу снял, тигровый снял кафтан.
И престарелый слезы лил Дастан,
Касаяся щекой сыновних ран,
И говорил: «Вот жили век мы в счастье —
И дожили до гибельной напасти!..»
Рустам сказал: «Что пользы плакать нам?
Знать, так угодно было небесам;
Труднейшее нам предстоит в грядущем:
Как ведать, что судьба таит в грядущем?
Подобного Исфандиару-льву —
Врага не знал я, сколько ни живу.
Я побывал в семи частях вселенной,[51]
Коснулся тайны мира сокровенной;
Диви-Сафида, духа адских сил,
В бою, как ветку тополя, сломил;
Я сталь пронизывал стрелой моею,—
Был щит любой бессилен перед нею!
Но сколько ни пускал я грозных стрел,
Царя я даже ранить не сумел.
Казалось, что с утесами крутыми
Сражался я колючками сухими.
А меч мой если бы увидел лев,
За камни бы укрылся, оробев;
Меч ни его кольчуги, ни шелома
Не рассекал — ломался, как солома…
Перо блистало над его челом,
Но я не сбил его своим мечом.
И снова я взывал к нему, и снова
Не просветлил души его суровой:
Надменный, он не выслушал ни слова,
Для нас для всех он хочет лишь дурного.
И я всевышнего благодарю
За то, что в небе погасил зарю!
За то, что в сумрак землю погрузил он,
Что от врага во тьме меня укрыл он.
И вот исхода мне другого нет,
Как только оседлать коня чуть свет
И ускакать, чтоб не сыскать и следа…
Противника пусть радует победа,
Пусть подвигом насытится своим,
Хоть он в желанье зла ненасытим».
Заль молвил: «Сын мой! Выслушай, не сетуй!
Все может измениться ночью этой.
А в мире — кроме смерти, есть врата.
Нам дверь еще к спасенью отперта.
Симурга вызову я этой ночью,
Симург увидит нашу скорбь воочью.
Коль нам поможет он в сей грозный час,
Страна и жизнь останутся у нас.
А если нет — не отвести удара:
Погибнем все от рук Исфандиара».
С семьей своей, когда сгустилась тьма,
Заль поднялся на крутизну холма.
Там три больших курильницы стояли.
Сандаловые угли в них пылали.
Стал на горе и из сумы своей
Перо Симурга вынул чародей.
Когда пришла полночная пора,
Он опалил в огне конец пера.
Вот время первой стражи миновало —[52]
И небо, словно мускус, черным стало.
И в непомерной высоте тогда
Возник Симург бессмертный, как звезда.
Огонь курильниц увидала птица
И, опускаясь, начала кружиться.
Когда Дастан Симурга увидал,
Ниц перед ним он пал и зарыдал,
Струящие благоуханный дым
Курильницы поставил перед ним.
На землю птица с высоты спустилась:
«Эй, пахлаван, — спросила, — что случилось?
Зачем тебе позвать пришлось меня
Ночной порой, до наступленья дня?»
И Заль ответил: «Горе в доме Сама!
Боюсь, что потеряли мы Рустама.
Так тяжело врагом изранен он,
Что лишь тобою может быть спасен.
И Рахшу враг нанес такие раны,
Что лег он в стойле, словно бездыханный.
В наш мирный край ворвался, как пожар,
Принес нам кровь и смерть Исфандиар.
Взалкал он, ненасытный, полный гнева,
С корнями и плодами вырвать древо».
Симург ответил: «Сына приведи!
Терзать свой дух напрасно погоди!
И Рахша покажите мне. Быть может,
Спасу обоих, если бог поможет».
Поднять руки не в силах, той порой
Рустам лежал в мученьях под горой.
Но Заль велел мужам из дома Сама,
Чтоб подняли и привели Рустама,
А также он домой послал людей,
Чтобы пригнали Рахша поскорей.
Вот Заля сын предстал перед Симургом
И на колени пал перед Симургом.
И вопросил Симург: «Эй, мощный слон,
Кем так жестоко стан твой сокрушен?
Что вам с Исфандиаром воевать,
Чужой огонь за пазуху совать?»[53]
Заль отвечал: «О повелитель наш!
Коль ты сейчас нам помощи не дашь,
Коль ты теперь не исцелишь Рустама,
Мы все умрем и рухнет дом Нейрама!
Погибнет корень наш, Забул падет,
Добычей тигров будет наш народ!»
Взглянул Симург на раны Тахамтана —
Не тело, видит, а сплошная рана.
Сто шестьдесят кровавых жал стальных
Он острым клювом вытащил из них.
Он крыльями коснулся ран Рустама —
И дивно исцелился стан Рустама:
Как прежде, стал прекрасен и силен
Седой Рустам, шестисотлетний слон!
Сказал Симург: «Повязки ты наложишь.
Через неделю только снять их можешь.
Помажешь ран рубцы пером моим —
И будешь ты, как прежде, невредим».
Потом он взор на Рахша обратил
И клюв свой в раны Рахша погрузил.
Извлек из ран обломанные стрелы
И крыльями его коснулся тела.
И громко Рахш заржал. И, обуян
Весельем, засмеялся Тахамтан.
И вопросил Симург: «Эй, несравненный,
Слоноподобный, первый муж вселенной!
Ответь — зачем искал войны с царем,
С бронзовотелым ты богатырем?»
Рустам сказал: «Склонился б я покорно,
Но он связать меня желал упорно.
Меня в позоре хочет видеть шах…
Но легче умереть, чем жить в цепях».
Сказал Симург: «В том чести нет урона,
Коль ты падешь, рукой его сраженный.
Он беспорочный твой владыка, он
Благоволеньем неба осенен.
Ты поклянись мне именем моим,
Что мысли отвратишь от боя с ним,
Что превзойти его не пожелаешь,
Что злобой на него не воспылаешь,
Что вновь его ты будешь умолять,
Чтоб грозный гнев сменил на благодать.
Он лишь тогда мольбы твои отринет,
Когда сама судьба его покинет.
Я ныне средство дам тебе одно,
В последний час тебя спасет оно…»
Внимал Рустам Симурга речи вещей,
И таял в сердце скорби мрак зловещий.
Сказал: «Зову в свидетели творца,—
Твою исполню волю до конца!»
Сказал Симург: «Любя тебя, открою
Я ныне тайну неба пред тобою:
Кто кровь Исфандиарову прольет,
Того раздавит мстящий небосвод.
И пусть из бездны выйдет невредимый —
Покоя не найдет, тоской томимый…
Здесь — целый век несчастным будет он,
Там — на мученья будет обречен.
Коль примешь это страшное решенье —
Спасешь свой дом, избегнешь униженья».
Ему Рустам: «На все согласен я.
И воля да исполнится твоя!
Мир только вечен. Наша жизнь мгновенна.
Но имя остается во вселенной:
Лишь добрые деяния народ
Прославит. Остальное — все умрет».
Сказал Симург: «Ты в путь немедля выйдешь
И вещи сокровенные увидишь.
Садись на Рахша, острый меч бери.
Поспеть далеко нужно до зари.
Скачи отсюда прямо к морю Чина,
Где лес навис над плещущей пучиной.
Там — в чаще леса — древо гяз растет,
Корнями — в топях ядовитых вод.
То дерево, подобное судьбине,
Защитой сыну Заля будет ныне!
На Рахша сел великий Тахамтан.
Конь полетел, как птица, сквозь туман.
А в высоте Симург парил… И вскоре
Лес показался, зашумело море.
И в тот дремучий, нелюдимый лес
Симург спустился с сумрачных небес,
Увидел древо гяз среди вершин,
И опустился неба властелин.
Рустаму путь, водою не покрытый,
Он указал средь топи ядовитой.
Благоуханьем мускуса полна
Была ночного леса глубина.
Крылом коснувшись головы Рустама,
Симург сказал: «Иди тропинкой прямо.
Вот древо гяз. Срежь из его ветвей
Одну, что прочих тоньше и прямей.
Мечей и стрел она тебе нужней:
Душа Исфандиара скрыта в ней.
Ты выпрями ее, разогревая,
Чтоб, как стрела, она была прямая.
Двойным железным жалом заостри,
Пером ее орлиным опери».
Ту ветку срезал Тахамтан могучий
И поспешил назад тропой зыбучей.
И огненной крылатою звездой
Симург кружился над его главой.
Сказал: «Как встанут люди на молитву,
С зарей Исфандиар придет на битву.
Ты милости проси и правоты,—
Быть может, правды и добьешься ты,
Быть может, вспомнит воин непреклонный,
Чем славен ты, главою убеленный,
Как много в жизни ты свершил трудов,
Мук перенес из-за его отцов.
Проси упорно. Если ж он не примет
Мольбы твоей и вновь свой лук подымет,
Тогда и ты двужалою стрелой,
Что ядовитой взращена водой,
В глаза ему прицелься, медный лук
Напрягши силой всей обеих рук.
Падет он, не тобою ослепленный,—
Падет самой судьбою ослепленный».
И, к дому проводив, где ждал их Заль,
Симург простился и унесся вдаль.
Умчался вещий, кроясь в тучах черных,
К высокому гнезду на кручах горных.
И сел тогда Рустам перед огнем
И ветку гяза выпрямил на нем;
Потом оправил жалом двуконечным,
Как было велено Симургом вечным.
Когда же утро встало над горами
И в сердце ночи врезалось мечами,
Свой стан в доспехи облачил Рустам
И помолился вечным небесам.
Поехал вновь — иль ради примиренья
С врагом, или последнего сраженья.
И гордо приосанился старик
На берегу и громкий издал крик:
«Эй, сердце львиное! Вставай! Доколе
Спать будешь? Погляди — Рустам на поле!
Ты с ложа сновидений подымись,
Перед суровым мстителем явись!»
Когда Исфандиар его могучий
Услышал голос — гром гремящий в туче,—
Ничтожным все оружие ему
Примнилось. Молвил брату своему:
«Сражался я со львами и слонами,
Но не встречался в битвах с колдунами.
Не думал я, прервавши бой вчера,
Что недруг мой дотянет до утра!
И у коня не видно было тела —
Щетина стрел моих его одела!
А я слыхал старинную молву,
Что древний Заль обучен колдовству,
Что совершает мощью волхвованья
Уму непостижимые деянья».
И отвечал Пшутан ему в слезах:
«Пусть в муках пропадет любой твой враг!
О брат мой, почему ты стал растерян?
Неужто ты в победе не уверен?
Какая нам еще грозит напасть?
Иль счастье над судьбой теряет власть?..»
Но, золотой бронею покровенный,
На бой воспрянул воин несравненный,
Вскричал Рустаму: «Эй, сагзи презренный,
Да сгинет ваше имя во вселенной!
Как ты вчера изранен мною был!
Иль ты мой лук могучий позабыл?
Когда б вы силой чар не обладали,
Могилу бы сейчас тебе копали!
Заль колдовским познаньем наделен,—
Ты волхвованьем Заля исцелен!
Но ваши чары нынче я развею —
Я сокрушу твою драконью шею!»
Сказал Рустам: «Эй, ненасытный лев!
Побойся неба! Укроти свой гнев!
Пришел я не для битвы, не для мести —
О правде я молю, во имя чести!
А ты, мой шах, со мной несправедлив.
С дороги сбил тебя коварный див.
Клянусь Авестой вечной и Азаром,
Зардуштом мудрым, светлым Нушазаром,
Луной и солнцем на небе святом,
Что ты идешь неправедным путем!
Мне ж хоть из кожи вылезть, слов моих
Не слушаешь ты и не помнишь их!..
Будь нашим добрым гостем! Пред тобою
Я дверь своих сокровищниц открою,
Сокровища навьючу на коней,
В Иран их повезет мой казначей.
Я пред тобою уподоблюсь праху.
Велишь — пойду с тобою к падишаху.
Коль шах казнит меня — пусть будет так!
Сковать велит меня — пусть будет так!
Но нам, живущим у судьбы во власти,
Да не сопутствует звезда несчастий.
Молюсь я, чтоб судьба своей рукой
Тебя навек насытила войной!
И что же так тебя ожесточило?
Всю силу сердца к битве устремило?
Но коль теперь забудешь ты о зле —
Клянусь, всех выше будешь на земле!»
И отвечал Исфандиар угрюмо:
«Что обману Гуштаспа я — не думай!
Мне ни сокровища твоей казны,
Ни дом, ни угощенья — не нужны!
А хочешь уцелеть — надень оковы!
Нет нужды спор тянуть нам бестолковый».
И снова начал говорить Рустам:
«Зачем нам злоба, шах! Что спорить нам?
Лишь чести ты моей не угрожай!
Достоинство мое не унижай!
Открою пред тобою, несравненный,
Врата сокровищниц полувселенной!
Все, что собрали Сам, и Нариман,
И Заль, и даже древний Кариман,—
Все отдадим тебе! Мужей Систана,
Забулистана и Кабулистана
Я приведу! Отдам под власть твою
Мужей, которым равных нет в бою.
И сотни юных слуг в красе и силе,
Чтоб день и ночь они тебе служили,
И тысячу служанок молодых
Отдам тебе, — Хуллах отчизна их.
Сам, как слуга, потом с тобою вместе
Пойду я к шаху, жаждущему мести.
Но лишь не требуй от меня цепей —
Обиды горькой седине моей!
Не подобает зло тебе, великий,
Мой шах, благочестивый мой владыка!»
«Не трать в пустых словах душевный жар!
С усмешкой отвечал Исфандиар.—
Советуешь мне с божьего пути
Свернуть, от воли шаха отойти?
Той нет безбожней и презренней твари,
Что своего обманет государя!
Теперь надень оковы — иль пади!
Речей бесстыдных больше не веди!»
Увидел Тахамтан: он молит тщетно,
Душа Исфандиара безответна.
И взял свой лук и страшную стрелу,
Взращенную к возмездию и злу.
Взложил стрелу на тетиву тугую
И поднял к небу голову седую,
К предвечному зеницы обратил
И так сказал: «Воззри, о боже сил!
Ты, милосердный, — вождь мой и защита,—
Вся жизнь моя перед тобой открыта!
Ты видишь: сколько я ни говорил —
Не убедил царя, не умирил.
Вот он — руководимый волей дива,
Неумолимый царь, несправедливый!
Так отпусти мне страшную вину,
О ты, создавший солнце и луну!»
А царь, Рустама видя непокорство,
Что медлит он вступить в единоборство,
Сказал: «Эй, муж прославленный! Видать,
Пресытился, устал ты воевать.
Так испытай Гуштаспову стрелу,
Алмазную Лухраспову стрелу!»
Тогда, как повелел Симург премудрый,
Лук натянул Рустам сереброкудрый,
Стрелу в глаза Исфандиару вверг,—
Мир пред царем прославленным померк.
Как гибкий тополь, стан царя склонился.
Дух величавый тьмою омрачился.
На грудь поникла гордая глава,
Лук Чача выпал из десницы льва.
Схватился он за гриву вороного —
И грива стала мокрой и багровой.
И молвил тихо скорбный Тахамтан:
«Вот, ты пожал плоды своих семян.
А говорил, что ты бронзовотелый,—
Луну с небес твои повергнут стрелы…
Сто шестьдесят ты стрел в меня вогнал,
Но от бесчестья я не застонал…
А что же ты, сражен стрелой одною,
Без сил поник над гривой вороною?
Сражен одной стрелой из древа гяз,
Ты все утратил в этот миг и час…
Душа твоей родительницы милой
Сгорит от горя!.. Ждет тебя могила!»
Свой стан, как стебель срезанный, клоня,
Исфандиар без чувств упал с коня.
Лежал он время некое; потом
На локоть поднялся и сел с трудом,
Мучительно в сознание вступая,
Тревожный слух упорно напрягая…
И взял рукой стрелу из древа гяз
И вырвал прочь, кровавую, из глаз!
И вот явилось тут очам Бахмана,
Что омрачилось счастье Руинтана.
И он к Пшутану побежал, вскричал:
«Бог нашу битву горем увенчал!
Отец лежит поверженный, в пыли…
Для нас теперь затмился лик земли!»
И пешие, полны тоски и страха,
Спешат, стеная, — не спасут ли шаха?
Глядят: лежит повергнутый во прах,
Стрела окровавленная в руках…
И пал Пшутан, одежды раздирая,
И темя осыпал, землей, рыдая.
И пал Бахман перед своим отцом,
На кровь его горячую лицом.
Сказал Пшутан: «Не мощны властелины
Предотвратить таинственной судьбины!
Вот был Исфандиар — властитель сил,
Что мести меч за веру обнажил,
Кумиров мрака в мире сокрушил,
Несправедливости не совершил.
И вот — во цвете лет своих убит он,
В пыли главой увенчанной лежит он!..
О, зло вселенной вечное — война!
Земля слезами от тебя полна!
О, долго ль будет полной крови чашей
Кипеть враждой юдоль земная наша?»
Бахман, лицом упавши на песок,
Рыдал, не отирая кровь со щек,
Пшутан взывал: «О брат любимый мой!
О богатырь с увенчанной главой!
Кто сокрушил колени исполину,
Поверг слона могучего в пучину?
Кто солнце наше светлое затмил,
Скалу воинственную повалил?
Кто наш светильник яркий погасил,
Пожаром горя нас испепелил?
Кто сглазил нас? Кто нам принес бесчестье?
Кто выступит за нас во имя мести?
О милый брат! О светоч бытия!
Где разум, счастье, истина твоя?
Где мощь твоя в боях, мой ясный шах?
Где голос твой прекрасный на пирах?»
Пшутану отвечал Исфандиар:
«То не Рустама, то судьбы удар.
Не плачь! Все это небом и луною
Предрешено — свершенное со мною!
Вот буду мертв и буду я зарыт,
Но ты не плачь о том, что я убит.
Куда Хушанг и Фаридун пропали?
Из ветра созданные — ветром стали!
Где предки величавые мои?
Где корни нашей славы и семьи?
Ушли! Исчезли все пред небом гневным!
Никто не вечен в мире пятидневном…
Вот сколько явно, да и тайно, я
Трудился в сих пределах бытия
Во исполненье божьего завета,
Во имя правды, разума и света!
Когда ж мой подвиг в мире воссиял
И руки Ахримана я связал —
Судьбина лапу львиную простерла,
Клыками львиными впилась мне в горло!
Но ведаю, хоть умираю я,
Что не напрасно жизнь прошла моя…
Пусть слава дел моих навек затмится,
Посев мой для потомства всколосится.
Вот видишь, как сучком от древа гяз
Предательски меня лишили глаз,
И жизни, и могущества, и славы
Симург бессмертный и Рустам лукавый!
Опоры сокрушил судьбы моей
Заль, Сама сын, великий чародей…»
Услышал те слова стоявший в поле,
Согнулся, зарыдал Рустам от боли,
Приблизился к Исфандиару он,
Склонил седины, горем потрясен,
Потом сказал Бахману: «Вот отныне
Жизнь будет мне мученьем, мир — пустыней.
Дух властелина, твоего отца,
Правдив, велик и светел — до конца.
Но был раздор наш злого дива делом!
Отныне муки станут мне уделом!
С тех пор как стан я препоясал свой,
С тех пор как завершил свой первый бой —
Мне ратоборец не встречался равный!
И вот мне встретился воитель славный…
Беспомощным я стал; жестокий лук
Его почувствовал и силу рук.
Я выхода искал! И вот, увы,
Ему не отдал сразу головы!
И участь шаха я решил стрелою —
В день, что ему назначен был судьбою.
Когда б ему помочь судьба пришла,
Что сделать бы стрела моя смогла?
Но скорбь моя пребудет сокровенна
В обители земной, где все мгновенно.
А я останусь памятью о зле —
О сей из гяза сделанной стреле…»
И молвил шах Рустаму-Тахамтану:
«Настал мой час. Йездану я предстану.
Так подойди, не стой же в стороне!
Теперь — иные помыслы во мне.
Бесценное тебе я завещаю:
Тебе судьбу Бахмана поручаю.
Как сына, в сердце заключи его!
Премудрости ты научи его!»
Исфандиару внял Рустам могучий,
Он слезы проливал рекой горючей.
Согбен бедой, раскаяньем томим,
Пал пред царем и плакал он над ним.
Узнал Дастан: свершилось роковое!
И вихрем полетел на поле боя.
Услышал Завара: «Стряслась беда!» —
И, как безумный, поскакал туда.
С ним — Фарамарз, не слезы — кровь глотая.
Стон встал над полем, солнце омрачая.
Заль повторял: «О сын любимый мой!
О мой Рустам! Я плачу над тобой!
Собрал я звездочетов и мобедов.
Они сказали, правду мне поведав,
Что будет сам судьбой погублен тот,
От чьей руки Исфандиар падет,
Что в мире этом горя не избудет,
А в мире том злосчастен вечно будет!»
Сказал Рустаму тут Исфандиар:
«Нанес не ты смертельный мне удар!
Так было волей суждено небесной,
А тайна неба людям неизвестна.
Рустам невинен… Не его стрела
Жизнь у меня внезапно отняла.
Погублен я Гуштаспа волей злою!
И я Гуштаспу не воздам хвалою.
Он мне велел: «Сожги Систан дотла,
Чтоб впредь земля Нимруза не цвела!»
Великое Гуштасп явил коварство,
Чтоб не отдать мне войско, трон и царство,
И вот — в печали умираю я.
Тебе Бахмана поручаю я.
Последнее мое запомни слово,—
Бахману замени отца родного.
Пусть он в Забуле в радости живет,
Вдали от лжи и низменных забот.
Ты научи его сражаться в битве
И богатырским играм, и ловитве,
Играть в чоуган, мужами управлять,
Вести беседы, чинно пировать.
Предрек Джамасп, — да будет это имя
Навеки проклято людьми живыми! —
Что мой Бахман для славных дел рожден.
Что всей вселенной править будет он,
Что слава мира процветет в Бахмане,
Великим будет Кеев род в Бахмане!..»
И внял ему, встал из последних сил
Рустам и руку к сердцу приложил;
Сказал: «Слова твои приму, как душу!
Исполню все! Веленья не нарушу!
Я сына твоего в свой дом возьму,
Венец его до солнца подыму!»
Исфандиар, услыша речи эти,
Сказал: «О муж, звезда шести столетий![54]
Свидетель в том Йездан, зиждитель мой.
Защитник мой, руководитель мой,—
Хоть много добрых ты свершил деяний
И нет тебе ни западней, ни граней,—
Но станет слава добрая дурной
И злой молвой наполнит мир земной.
Увы, Рустам! Ты сам погибнешь скоро.
То воля звезд, с ней не подымешь спора».
И молвил брату: «Умираю я!
Теперь лишь саван нужен мне, друзья.
Когда уйду из жизни невозвратно,
Ты — брат мой, уведи войска обратно.
Ты передай слова мои отцу:
«Вот — свиток дней моих пришел к концу…
Все по твоим желаньям совершилось,
Печатями твоими утвердилось!
О царь, что ты задумал — то случилось,
А сын твой не надеялся на милость.
Был мной оплот неверья сокрушен
И светоч правосудия зажжен.
Когда Зардушта веру восприял ты,
Мне власть и трон Ирана обещал ты.
На подвиги меня ты посылал,
А втайне погубить меня желал.
Отец, добился ты всего, — будь счастлив!
Убил ты сына своего — будь счастлив!
Теперь не страшен целый мир тебе.
Веселье подобает, пир тебе.
Тебе — престол, мне в бой идти упрямо!
Тебе — венец, мне гибель, смерть и яма.
Сказал мудрец: «Что людям гром хвалы?
Все сгинет — даже острие стрелы».
Ты, гордый шах, на трон не полагайся,
В пути грядущем чутко озирайся.
Умрешь — предстанем вместе мы с тобой
Пред вечным справедливым судией!»
И так еще он говорил Пшутану:
«Все кончено… Я скоро прахом стану.
Ты молви слово матери моей:
«Я был силен, судьба была сильней.
Противоборца мощь моя не знала,
Булатный щит стрела моя пронзала.
Мы в небе скоро встретимся с тобой.
Так не томись напрасною тоской!
Пусть скорбь твоя от всех сокрытой будет,—
Тебя никто на свете не осудит!
Молю на лик мой мертвый не смотреть,
Зачем печалью тщетною гореть?..»
Снеси поклон жене и сестрам милым.
Ведь в жизни я всегда защитой был им!
Скажи зиждителям, чья мысль тверда,
И мудрецам: «Прощайте навсегда!
Из-за тщеты, из-за короны пал я.
Ключом ворот сокровищницы стал я.
Пусть будет ключ Гуштаспу возвращен.
Пусть черным сердцем устыдится он!»
Смолк Руинтан. И тяжко застонал он:
«Отцом убит я!.. Если б это знал он!..»
И рухнул наземь витязь, не дыша,
И к небу унеслась его душа.
Рустам свои одежды раздирал,
Рыдал, землею темя осыпал,
Взывая: «О мой шах! Воитель славный!
Где в мире муж тебе найдется равный?
Я горд был добрым именем своим,—
И мой позор теперь неизгладим!»
И долго плакал он, и молвил слово:
«Ты был как солнце бытия земного!
Твой дух к престолу вечного пойдет,
А враг твой жив, он твой посев пожнет!»
И Завара сказал: «О брат любимый,
Щадить врагов природных не должны мы.
Ты помнишь — вещий нас учил мобед,
А это — древней мудрости завет:
Кто львенка в доме у себя взлелеет,
Пусть помнит тот, что лев заматереет.
В стальную клетку ты запри его,
Иль разорвет тебя он самого!
Вражда — не заживающая рана —
Источник бедствий будущих Ирана,
Ведь был тобой Исфандиар убит,
И о тебе душа моя скорбит.
Умрешь ты — нас постигнет месть Бахмана;
Он истребит мужей Забулистана.
Не успокоится душою он,
Пока отец не будет отомщен».
Рустам сказал: «Когда судьба восстанет,
Ни злой, ни добрый не противостанет.
Я поступаю, как велит мне честь.
Постыдна добрым низменная месть.
Кто зло творит — падет, сражен судьбою…
Ты не крушись над будущей бедою».
Табут железный тут соорудили,
Китайским шелком дорогим покрыли.
И был пропитан амброй и смолой
Исфандиара саван гробовой.
Покровы сшили из парчовой ткани.
Рыданья не смолкали в ратном стане.
Рустам царя парчою облачил,
На голову корону возложил.
Тяжелой крышкой в темном саркофаге
Сокрыли древо царственной отваги.
Верблюдов привели, как надлежит,
В попонах драгоценных до копыт.
На мощного с двумя горбами нара
Поставили табут Исфандиара.
По сторонам его верблюды шли,
А следом войско двигалось в пыли.
Все головы под зноем не покрыты,
И в кровь у всех истерзаны ланиты.
Пшутан перед иранским войском шел,
Коня богатыря пред войском вел.
Ступал понуро прежде горделивый
Скакун, с отрезанным хвостом и гривой,
Покрытый перевернутым седлом,
В броне, в оружье шаха боевом.
В Иран ушли войска. Бахман остался.
Все дни он плакал, все не утешался.
Рустам увез Бахмана в свой дворец.
Берег его, как любящий отец.
И вот к Гуштаспу весть гонцы примчали,
И царь поник в смятенье и в печали.
И разодрал свои одежды шах,
Короной и главой повергся в прах.
Плач поднялся в Иране. И все шире
Весть о несчастье расходилась в мире.
Князья снимали пышные венцы,
Унынием наполнились дворцы.
Гуштасп взывал: «О, сын мой — светоч веры!
Убит… О, скорбь! О, мука мне — без меры!
От Манучихра и до наших лет
Тебе подобных не было и нет.
Твои деянья были беспримерны,—
Ты сокрушил твердыни зла и скверны».
Князья, не в силах более молчать,
Пришли к Гуштаспу, принялись кричать:
«Эй ты, несчастный! Алчный грешник старый!
За что ты погубил Исфандиара?
Ты в пасть дракона сам послал его,
Чтоб не отдать престола своего.
Тебе прощенья нет! Позор тебе!
Твой трон — проклятье и укор тебе!»
И всеми сразу был Гуштасп покинут.
Был свет его звезды во тьму низринут.
Та весть сестер и матери сердца
Сожгла. И с плачем вышли из дворца.
Шли босиком, волос не покрывая,
Румийские одежды разрывая.
Шагал Пшутан пешком — в слезах, в пыли…
Вели коня, железный гроб везли.
И говорить не в силах от рыданий,
Повисли мать и сестры на Пшутане.
Молили: «Крышку с гроба снять вели,
Чтоб видеть мы лицо его могли!»
А муж Пшутан — как будто ум терял он —
Бил по лицу себя, рыдал, кричал он.
«Зубила принесите, — он сказал,—
Откройте гроб! Мой Судный день настал!»
Вот крышку гроба тяжкую открыли,
И зарыдали все и завопили.
Любимого увидев своего —
Лицо, как мускус — бороду его,—
И мать и сестры разум потеряли,
Без памяти на гроб его упали.
Когда сознанье возвратилось к ним,
Как будто жизни весть явилась к ним.
На тот железный гроб глядеть не в силе,
Они коня, рыдая, обступили.
По гриве мать трепала скакуна
И прахом осыпала скакуна,
Ведь дорожил конем он — сын любимый.
И был убит на нем он — сын любимый.
И, плача, повторяла Катаюн:
«О приносящий бедствия скакун!
Кого ты понесешь теперь в сраженье?
Кто ратное наденет снаряженье?»
И, шею славного коня обняв,
Рыдали сестры, воплям волю дав.
Такой был стон в войсках, что день затмился.
И сам Пшутан в чертоги устремился.
Лицом к лицу Гуштаспу он предстал;
Не поклонился, на землю не пал.
Он гневно крикнул: «Страшное свершилось!
Эй, царь, твое величье закатилось!
Ты возгордился — алчен и жесток.
Сам на себя проклятье ты навлек!
Погасло фарра твоего сиянье!
Тебя постигнет божье наказанье!
Ты пал, свою опору подрубя;
В руках остался ветер у тебя.
За трон — ты на смерть сына посылаешь…
Пусть никогда ты счастья не узнаешь!
Враждой к тебе вселенная полна…
А власть твоя — надолго ли она?
Здесь — проклят, там — за черные деянья
Ты в Судный день получишь воздаянье!»
И молвил он, к Джамаспу обратясь:
Эй ты, злоумный, нечестивый князь,
Добился ты почета лестью лживой!
Не человек ты — а отродье дива!
Ты это, ты в Иран принес беду,
Посеял между кейами вражду.
Ты — лжемудрец! Учил ты лишь дурному —
Бежать добра, стремиться к делу злому!
Ты среди нас посеял семена,
От коих рознь и гибель рождена.
Твоим коварством муж убит великий!
Ты слышишь эти вопли, эти клики?
Сгубил ты шаха и его детей,
О богомерзкий старец и злодей!
Ты предсказал, что жизнь Исфандиара
В руках Рустама — славного Заль-Зара».
Потом открыл рыдающий Пшутан,
Что завещал пред смертью Руинтан,—
Что он Бахмана поручил Рустаму,
Невольную вину простил Рустаму.
Смолчал, но огорчился властелин
Тем завещаньем, что оставил сын.
И тут две царских дочери в чертоге
Явились, не склоняясь на пороге.
Они ланиты раздирали в кровь,
Кричали и взывали вновь и вновь.
«Эй, славный муж, — отца они спросили,—
Ты рад, что брата предают могиле?
Ведь он за смерть Зарира отомстил.
Онагра он от тигра защитил.
Он сокрушил могущество Турана;
Он был опорой и щитом Ирана.
А ты поверил слову клеветы,—
Его в цепях в темницу ввергнул ты!
И прахом стала славная победа;
Туранцы вновь пришли, убили деда.
Арджасп ворвался в Балх. В тот грозный час
Полыни горше стала жизнь для нас.
Кто защитил нас? Нет, мы не забыли,
Как из дворца нас на позор тащили!
Огни Зардушта погасил Арджасп,
Отважных души устрашил Арджасп.
Один твой сын — Исфандиар могучий —
Пошел, рассеял вражью рать, как тучи.
Великие преграды победил,
Из Руиндижа нас освободил.
Но ты его в покое не оставил,
Презрел обет, в Забул его отправил.
Сгубил его, чтоб царство не отдать,
Чтоб неутешно нам теперь рыдать.
Нет, не Рустамовой рукой убит он
И не Симургом! Знай — тобой убит он!
Не лицемерь, не плачь, о властелин!
Всю жизнь казнись, стыдись своих седин!
На троне Кеев до тебя немало
Великих повелителей бывало.
Но на смерть верную никто из них
Не посылал защитников своих».
Гуштасп вздохнул и приказал Пшутану:
«Встань, уведи их!.. я молиться стану!»
Ушел Пшутан, сестер увел с собой,
Пустой покинул царственный покой.
И к матери пришел, сказал: «Родная,
Зачем рыдаешь, сердце надрывая?
Ведь, пресыщен земной тревогой, он
Почиет в мире, духом просветлен.
Слезам и стонам нашим он не внемлет;
Его блаженство вечное объемлет».
И слову сына Катаюн вняла,
Смиренно волю неба приняла.
Но после целый год еще в Иране
Не молкли звуки стонов и рыданий.
Все плакали, не осушая глаз,
И все кляли стрелу из древа гяз.
Бахман в забульских пребывал садах,
Дни проводил в охотах и пирах.
Всех царственных обычаев учитель
Был у Бахмана сам Рустам-воитель.
Он древней мудрости учил его,
Превыше сына возносил его.
Казалось — беды прошлые забылись.
Навек врата отмщенья затворились.
Письмо Гуштаспу написал Рустам.
В нем о Бахмане сообщал Рустам.
Сперва хвалу Гуштаспу возглашал он.
«Забудем месть и реки слез! — писал он.—
И да свидетельствует мне Йездан
И справедливый, мудрый муж Пшутан!
Я долго умолял Исфандиара
Отречься от вражды, от распри ярой.
Все отдавал — страну и дом с казной…
А он твердил: «Оковы или бой!»
И час настал — судьба свой лик открыла,
А сердце мне любовь и боль томила.
Знать, это воля неба самого,
Созвездий — не щадящих никого.
Но внуком я твоим утешен много;
Он равен для меня святыне бога.
Водить войска его я научил,
Ключи заветной мудрости вручил.
Коль шах державный мне пошлет прощенье
И клятву даст не помышлять о мщенье,—
То я душой и мощью тела — твой,
Со шкурой, с мозгом я всецело — твой!»
Прочел письмо Гуштасп, владыка мира,
На троне кеевом дряхлевший сиро.
Мудрец Пшутан письмо ему вручил
И все слова Рустама подтвердил.
Все снова рассказал о распре старой,
О завещании Исфандиара.
Письмом Рустама шах доволен был.
Он на Рустама злобы не таил.
Велел он написать ответ Рустаму,
Явил он милость и привет Рустаму.
Писал: «Когда на смертного грядет
В грозе своей высокий небосвод,—
Ни прозорливость, ни величье трона,
Ни войско — от судьбы не оборона.
Письмо прочел я, внял твоим речам,—
И ты утешил сердце мне, Рустам.
Мудрец против Йездана не восстанет,
Сердец укором горестным не ранит.
Как прежде, помыслы твои чисты.
Велик, — нет, выше стал, чем прежде, ты!
Тебе корона Хинда подобает! —
Проси! И все я дам, что не хватает».
Гуштасп Рустаму отослал письмо,
И в, краткий срок гонец домчал письмо.
Прочел Рустам, увидел свет и милость,—
От скорби сердце в нем освободилось.
Текло спокойно время, день за днем.
Возрос Бахман и стал богатырем.
Он был старинным обучен обычьям,
Других царей превосходил величьем.
Джамасп — провидением одарен —
Знал, что Бахман взойдет на шахский трон.
Сказал Гуштаспу: «Царь мой, свет Ирана,
Тебе пора бы повидать Бахмана!
Он возмужал, как молодой орел,
И мудрость и познания обрел.
За день грядущий нам нельзя ручаться,
Чужому может власть твоя достаться.
Садись, письмо Бахману напиши.
Посадим древо в цветнике души![55]
Он твой прямой единственный потомок.
В нем — чести свет, в нем голос крови громок».
Гуштасп от слов его повеселел,
И он Джамаспу мудрому велел:
«Сядь, два письма пиши: одно — Бахману,
Другое же — Рустаму-Тахамтану.
Пиши Рустаму: «Славься, витязь мой,
Мой дух утешен, просветлен тобой.
Ты так заботился о нашем внуке,
Что он Джамаспа превзошел в науке.
Я одинок, годами удручен…
Пусть повидать меня приедет он».
Пиши Бахману: «Внук! Без промедленья
Покинь Забул. То — шахское веленье!
Ведь сколько лет тебя я не видал.
Спеши! Я по тебе затосковал».
Прочтя письмо иранского владыки,
Возликовал душой Рустам великий.
Открыл хранилища, достал мечи
Индийские, кафтаны из парчи,
Попоны, сбруи, звонкие кольчуги
И луки Чача, что, как сталь, упруги;
Не вел он счета злату, серебру,
Достал он амбру, мускус, камфару,
Отборных боевых коней привел он,
Толпу рабынь — весны юней — привел он;
Принес он вороха шелков цветных,
Две с яхонтами чаши золотых,—
Все это подарил Рустам Бахману,
И многое, чего считать не стану.
До берегов Хирманда проводил
И обнял шахзаде, и отпустил.
Предстал Бахман пред шахскими глазами.
Взглянул Гуштасп и облился слезами.
«Да ты — Исфандиар, — воскликнул он,—
В тебе мой сын мне богом возвращен!
Вот — доблести звезда взошла над миром!..»
И он назвал Бахмана Ардаширом.
Бахман был щедро небом одарен,—
Богобоязнен, знаньем умудрен.
Такие руки у Бахмана были,
Что до колен их кисти доходили.
На внука насмотреться дед не мог,—
Так он был мощен, статен и высок.
В пиру, в борьбе — по силе и удару —
Он равен был во всем Исфандиару.
Гуштасп им любовался, не дыша,
От счастья трепетала в нем душа.
Царь повторял: «Самим отцом творенья
Мне — скорбному — он послан в утешенье!
Пусть вечно в мире мой Бахман живет,
Коль Руинтана отнял небосвод!»
Речь завершил я об Исфандиаре.
Да будет вечен светоч государя!
Да не узнает скорби никакой,
Да властвует он вечно над судьбой!
Да царствует в Иране и Туране,
Влача врагов надменных на аркане!
Я расскажу о гибели Рустама,
Как в былях прочитал потомков Сама.
Муж Азад-Сарв ученый в Мерве жил.
С Ахмадом Сахлем славным он дружил.
Тот Сарв был стар, но лет преклонных иго
Носил легко. Владел он древней книгой.
Он был красноречив, познаний полн.
Он океаном был сказаний-волн.
Свой род к Рустаму, к Саму возводил он,
О предках славных записи хранил он.
Я их прочел — и здесь перескажу,
Но зданье слов по-своему сложу.
Коль проживу свой срок в юдоли бренной
И разума светильник незатменный
Я сохраню, то завершу свой труд —
Преданья, что вовеки не умрут.
Я посвящаю книгу властелину,
В венце вселенной светлому рубину,
Махмуду-льву, что фарром осиян,
Кому подвластны Хинд, Иран, Туран.
Абулкасиму-шаху — солнцу знаний,[56]
Бессмертному величием деяний.
Он истинно велик. Пройдут года —
Молва о нем не смолкнет никогда,—
Молва о царственных его охотах,
О битвах, о пирах и о щедротах.
Блажен, кому открыт дворец его,
Кто может созерцать венец его!
Я плохо слышу, ноги ослабели,
Меня нужда и старость одолели.
Как раб, я скован гневною судьбой,
Я изнурен плачевною судьбой.
Но солнце правды вижу я воочью,
Молюсь я за Махмуда днем и ночью.
Так делают все жители страны
И те, кто нечестивы и темны.
Великому не нужно рабской лести.
Он, став царем, закрыл ворота мести.
Благочестивый, строг лишь с теми он,
Кто роскошью преступной упоен.
Он мудрецов от бедствий защищает.
Он щедр, но царства он не расточает.
Здесь оставляю память я о нем
Потомкам дальним на пути земном.
Здесь — в этой книге о царях старинных
И о великих древних исполинах,
Все в этой книге: битвы и пиры,
Событья незапамятной поры,
В ней — разум, вера, мудрость и познанье
И в ней — путей к эдему указанье.
И всё, что примет сердцем государь
Из книги о делах, гремевших встарь,
То временем бегущим не затмится —
И памятью в грядущем возродится!
Не верю, что судьбой я втоптан в прах,
Надеюсь я, что старца вспомнит шах;
И щедрость шаха люди славить будут,
И век его потомки не забудут.
Теперь вернуться к были срок настал,—
К рассказу, что у Сарва я читал.
Так в книге Сарв поведал многочтимый
Рассказ, веками в памяти хранимый.
У Заля в доме женщина жила.
Она певицей славною была.
Она от Заля сына породила,
Как будто — месяц небу подарила.
Сын подрастал, мужал за годом год;
И радовался весь Нейрамов род.
Прославленные звездочеты мира
И мудрецы Кабула и Кашмира,
Следящие движение планет,
К Дастану в дом собрались на совет.
Они на кровлю в полночь восходили
И вот — стеченье звезд определили,
Прочли глаголы судеб роковых,—
И удивленье охватило их.
К Дастану поутру они явились,
«О муж! — сказали, — тайны нам открылись.
Созвездья неба страшное сулят;
Они к ребенку не благоволят.
Когда твой сын как тополь станом станет,
Богатырем и пахлаваном станет,
Он изведет, погубит весь твой род,
Нейрама дом из-за него падет.
Систан великим плачем огласится,
Иран враждой и злобой возмутится.
Восторжествуют горе, слезы, стон.
И сам недолговечен будет он».
Весть омрачила славного Дастана,
И он взмолился пред лицом Йездана:
«Творец! Кошница света и щедрот,
Твоя десница кружит небосвод.
Ты указуешь путь, даешь советы,
Здесь, на земле, один— опора мне ты.
Идут светила по стезям твоим.
Будь милосерден к нам, рабам твоим.
Пусть нас минуют кровь, раздор, кручина!»
И муж Дастан назвал Шагадом сына.
Он при себе до отроческих лет
Держал его; лишь в нем свой видел свет.
Потом к царю кабульскому отправил
Шагада он и там его оставил.
Ты скажешь: древо мощи поднялось.
Как Сам, богатырем Шагад возрос.
И царь Кабула полюбил Шагада,
На дочери своей женил Шагада,
Дабы потомство славное пошло,
Дабы Кабула счастье процвело.
Сокровищницу древнюю открыл он,
Богатством зятя щедро одарил он.
Он, как за яблоней, за ним ходил,
Чтоб не вредил Шагаду ход светил.
А в мире всюду звучными устами
Сказанья люди пели о Рустаме.
Кабул Рустаму данью с давних лет
Платил воловий полный мех монет.
И помышлять кабульский стал владыка
Избавиться от дани той великой.
Ведь брат Рустама ныне — шахский зять,
А с кровного побор зазорно брать.
Но вот пора настала — дань собрали,
Дирхем последний с нищего содрали.
Обижен на Рустама был Шагад;
Но ту обиду затаил Шагад.
И он сказал в беседе тайной с тестем:
«Пресыщен я позором и бесчестьем!
Не стыдно брата обирать ему?
И жалости моей не ждать ему!
С Рустамом мы теперь чужими станем…
Эй, тесть! Размыслим, в плен его заманим;
Как хищника лесного, истребим —
И подвигом прославимся своим!»
И вот они сошлись на том решенье,
Задумали неслыханное мщенье.
Учил мобед: «Кто мудр — от зла уйдет,
Кто сеет зло — возмездие пожнет».
Всю ночь без сна два мужа просидели,
Беседуя об этом страшном деле:
«Рустама имя в мире мы сотрем.
Пусть плачет Заль — падет Нейрамов дом».
Сказал Шагад кабульскому владыке:
«Чтоб нам исполнить замысел великий,
Ты пиршество устрой, зови князей,
Зови певцов, зови богатырей.
За чашей вспыхни мнимым гневом вздорным,—
Ты трусом назови меня позорным.
Обижусь я, в Забулистан уйду,
Перед Рустамом с жалобой паду.
Отцу пожалуюсь и людям близким;
Тебя я подлым назову и низким.
Тут за меня обидится Рустам —
И в гневе поспешит, не медля, к нам.
А на его дороге — по лугам —
Ты вырой несколько глубоких ям.
Для тигров ямы роются такие;
Ты в ямах утверди мечи стальные.
Ставь к лезвию почаще лезвиё,
Так, чтоб торчало кверху острие.
Пять ям — добро! А десять — лучше будет!
Тогда-то край наш тяготы избудет.
Рыть ямы людям верным поручай.
И ветру тайны той не сообщай.
Ветвями сверху ямы те прикрой ты.
В глубокой тайне это все устрой ты».
Внял царь совету злобного глупца.
Созвал людей на пир в саду дворца.
Кабульские мужи все были званы,
Уселись по чинам за дастарханы.
Насытились. Под звуки струн потом
Взялись за чаши с царственным вином.
Тут громко, по дурной своей натуре,
Сказал Шагад, надменно брови хмуря:
«Как я унижен тем, что тут сижу!..
Я всех мужей у вас превосхожу!
Отец мой — Заль! Мой брат — Рустам великий!
Вы все — мои рабы, я вам — владыка!»
Разгневался, вскричал кабульский шах:
«Хвастун презренный! Ложь в твоих словах!
Ты не от корня Сама и Нейрама!
И ты — не брат, не родственник Рустама!
Седой Дастан не помнит о тебе,
И Тахамтан не помнит о тебе!
Ты был у них слугою — самым низким…
Тебя в их доме не считают близким!»
От слов его разгневался Шагад;
Стремительно он вышел из палат,
В Забул помчался с верными мужами,
В пути проклятья изрыгал устами.
Коварен, подл, хоть возрастом — юнец,
В слезах вошел он к Залю во дворец.
Увидев сына — стан его и плечи,—
Премудрый Заль обрадовался встрече.
Он расспросил Шагада, обласкал,
Утешил — и к Рустаму отослал.
Рустам был рад. Он видит: брат прекрасен,
Могуч, разумен, духом тверд и ясен.
Сказал он: «Истинны уста молвы:
Все внуки Сама — пахлаваны-львы!
Как тесть твой — шах кабульский поживает?
Он честью ли Рустама вспоминает?»
Рустаму скорбно отвечал Шагад:
«Не говори о тесте, милый брат!
Он добр ко мне и ласков был доныне,
Был щедр со мной и полон благостыни.
Но винопийцей он позорным стал,
От пьянства дерзким он и вздорным стал.
Свой подлый нрав внезапно вдруг явил он,—
Меня пред всем Кабулом оскорбил он.
Кричал: «Доколе буду дань платить,
Перед Систаном голову клонить?
Что мне Рустам? Я знать его не знаю.
Я сам ни в чем ему не уступаю».
А мне сказал, что Залю я не сын.
А если сын, то — стыд его седин.
Так он кричал, при всех меня позоря.
Уехал бледный я, в слезах от горя».
Рассказу внял, разгневался Рустам.
«Добро! — сказал. — За все ему воздам!
И ты не думай о кабульском шахе.
Его венец валяться будет в прахе.
За эти дерзкие слова его
От плеч отскочит голова его.
Застонет скоро шахский дом Кабула.
Тебя поставлю я царем Кабула!»
Дней семь он брата у себя держал,
С собою рядом на пирах сажал.
Тем временем в поход сбираться стал
Мужей, покрытых славою, созвал он.
Он снарядил воинственную рать,
Чтобы Кабул мятежный покарать.
Как завершились хлопоты с войсками,
Первоначальный гнев утих в Рустаме.
И тут сказал Рустаму льстец Шагад:
«Не помышляй о битве, милый брат!
Мы на воде твое напишем имя,—
В Кабуле ужас овладеет ими.
Такой охватит их великий страх,
Что все перед тобой падут во прах.
Я думаю, что неразумный шах
Раскаялся теперь в своих словах!
Гонцов с дарами, думаю, пришлет он,
Назад меня с поклоном призовет он».
Рустам ответил: «Это верный путь.
Зачем войска мне за собой тянуть?
Тут сотни всадников моих довольно,
Меня да Завары — двоих довольно».
Встал шах кабульский — дивово отродье,
Поехал на охотничьи угодья.
С собой он землекопов сотни взял,
Копать большие ямы приказал.
В работе землекопы яры были;
Луга, угодья ямами изрыли.
А вырыв ямы, укрепили в них
Мечей и копий множество стальных.
И сверху так искусно их прикрыли,
Что ямы вовсе незаметны были.
Когда Рустам в поход сбираться стал,
Шагад в Кабул гонца тайком послал.
«Идет без войск Рустам! Без промедленья
Встречай его, в слезах моли прощенья».
Навстречу выехал кабульский шах,
С коварством в сердце, с лестью на устах.
И, встав на рубеже Кабулистана,
Сошел с коня, увидев Тахамтана.
Снял с головы тюрбан индийский свой,
Склонился обнаженной головой.
Снял сапоги и, босиком ступая,
Шел униженный, стоны исторгая.
Пал ниц, слезами землю оросил
И долго он простить его просил:
«Пьян был твой раб — достойный лишь презренья!
Погублен я безумьем опьяненья…
Прости, могучий, милость мне яви!
Мой дух твоим величьем обнови!»
Посыпав темя прахом, он на милость
Надеялся. А в сердце месть таилась.
И, по великодушью своему,
Рустам смягчился и простил ему.
Велел ему покрыть тюрбаном темя,
Обуться, ехать рядом, стремя в стремя.
Пред городом Кабулом им предстал
Зеленый дол. Он душу услаждал.
Леса росли, ручьев шумели волны,
Луга и чащи были дичью полны.
Они на отдых стали в тех местах,
Устроить пир велел кабульский шах.
Воссели на высокие сиденья,
Потребовали музыки и пенья,
И за вином сказал Рустаму шах:
«Онагров много на моих лугах.
Они непуганными табунами
Пасутся невдали между холмами.
Газелям, сернам, ланям — нет числа,
Не настигала их ничья стрела.
Лишь для тебя — Рустама-исполина —
Мной береглась та вольная долина».
От слов его Рустам повеселел,
Ловитвы он привольной захотел.
Охота — вот была его отрада,
За все невзгоды прежние награда.
Обычай мира древнего таков:
Мы в море тайн не видим берегов.
Тигр в камышах, огромный кит в пучине
И лев могучий — властелин пустыни,
И муравей, и мошка — все должны
Уйти в свой срок, — пред смертью все равны.
Встал Тахамтан, коня седлать велел он,
Орлов и кречетов пускать велел он.
На Рахша сел, из тула лук изъял,
Помчался. Вслед за ним Шагад скакал.
Муж Завара с Рустамом ехал вместе,
Сопутствуем богатырями чести.
Рассыпался в долине их отряд,
Не ведая, что ямы им грозят.
Рустам и Завара скакали рядом,
Не мысля, что задумано Шагадом.
Вдруг запах свежевырытой земли
Разумный Рахш почуял издали.
Как мяч, в комок он сжался — прянул прямо
И вскок перелетел над первой ямой.
Тут новой ямы запах услыхал,
Дрожа, храпя и роя землю, стал.
И разуму глаза судьба закрыла,
Рустаму сердце гневом распалила.
Он плетью гибкою своей взмахнул,
По шее Рахша верного хлестнул.
И Рахш у края ямы оказался;
Он от когтей судьбы спастись пытался.
И в яму две передние ноги
Сорвались. Не боев — коварств беги!
Мечи на дне, рогатины торчали.
Тут мужество и сила не спасали.
И Рахш всем брюхом напоролся там,
И бедрами и грудью — муж Рустам.
Страдал он тяжко. Но, собрав все силы,
Привстал и глянул из своей могилы.
Он приподнялся в яме роковой
И увидал Шагада пред собой.
И понял он, кто супостат его;
Он понял, что сгубил Шагад его.
Сказал Рустам: «Эй, подлый, злом живущий!
Из-за тебя погибнет край цветущий.
Но зло придется искупить тебе…
Раскаешься… Недолго жить тебе».
Щагад сказал: «Ты страх внушал народам,
Сражен ты справедливым небосводом.
Зачем ты столько крови проливал?
Всю жизнь ты грабил, вечно воевал.
Пора твоя настала, лев Систана,—
Умрешь ты в западне у Ахримана!»
В то время шах Кабула подскакал
И возле края страшной ямы встал.
Увидел: кровью залит стан Рустама,
И дрогнул он при виде ран Рустама.
И возопил он: «О мой славный гость,
Как все случилось? Что с тобой стряслось?
Пусть нам поможет благодать господня!
Я лучших лекарей сзову сегодня.
Быть может, и сумеют исцелить,
Чтоб мне потом кровавых слез не лить».
Ему ответил пахлаван вселенной:
«Эй, подлый, криводушный, муж презренный!
Мне не помогут средства лекарей.
Не лги и слез неискренних не лей.
Невечен век людской… Уходит время.
Небесный меч навис над вами всеми.
Ведь был Джамшид не ниже, чем Рустам,
Но был Джамшид распилен пополам.[57]
И Фаридун и Кей-Кубад блистали —
Цари!.. А где они? Как вздох, пропали.
Сиял, как солнце, в мире Сиявуш.[58]
Его Гуруй зарезал — низкий муж.
Они иранскими царями были.
Они в боях богатырями были.
Их нет! Лишь я — о славной старине
Был памятью. И вот я в западне.
Сын Фарамарз, — одно мне утешенье,—
Придет сюда. Вам не уйти от мщенья!»
Потом к Шагаду обратился он:
«Все кончено. Теперь я обречен.
Сознанье тмится в нестерпимой муке.
Прошу — достань мой лук и дай мне в руки.
Две положи стрелы передо мной.
Боюсь: ища добычи, лев степной
Придет, когда я в ямине глубокой
Беспомощный останусь, одинокий.
Быть может, верный лук меня спасет
И вживе лев меня не разорвет.
Меня моей защиты не лишайте!
Когда умру, земле меня предайте!»
Достал Шагад Рустама лук тугой,
Напряг и щелкнул звонкой тетивой.
Лук подал брату, злобно засмеялся;
Он муками Рустама утешался.
Усильем страшным боль преодолев,
Взялся за лук Рустам — могучий лев.
И тут Шагад презренный устрашился;
Он побежал, за дерево укрылся.
Чинара это древняя была
С дуплом внутри могучего ствола.
За ту чинару, как за щит надежный,
Братоубийца спрятался безбожный.
Рустам стрелу на тетиву взложил,
Напряг все силы и стрелу пустил.
И был ей ствол чинары не преграда.
Стрела и ствол пронзила и Шагада.
И вскрикнул насмерть раненный Шагад.
Возликовал душою старший брат.
Сказал Рустам: «Хвала творцу вселенной!
Моя мольба дошла к творцу вселенной!
В сей миг, как мне осталось мало жить,
Ты, господи, помог мне месть свершить.
Ты — вверженному заживо в могилу —
Для правой мести даровал мне силу!»
Умолк, поник главою, нем и глух.
Из тела излетел бессмертный дух.
А Завара погиб в соседней яме
Со всеми верными богатырями.
Один из них был смертью пощажен;
Верхом, пешком в Забул добрался он.
Пал перед Залем, облился слезами:
«Погиб могучий слон во вражьей яме!
И Завара погиб, и весь отряд!
Измена! Я один пришел назад!»
В Забуле все вопили и рыдали
И двух злодеев черных проклинали.
Заль разодрал кафтан парчовый свой,
Посыпал темя пеплом и золой.
Взывал: «О сын! Куда от скорби денусь?
Теперь не в шелк, а в саван я оденусь.
О мой Рустам! Мой величавый слон!
О Завара! Могучий мой дракон!
Вовек да будет проклят в небе горнем
Шагад, что наше древо вырвал с корнем!
Кто знал, что злоба подлая не спит,
Что месть гиена против льва таит?
Века подобного греха не знали.
От древних мы об этом не слыхали.
Лев от лисы погиб… Как мог Рустам
Поверить лживым вражеским словам?!
Зачем же кости прежде не сложил я!
Зачем детей любимых пережил я!
Зачем мне жизнь? Что ныне прорастет?
Погибло наше семя, сорван плод!
О лев Рустам! О Завара, мой витязь!
Где вы? Подайте знак мне! Отзовитесь!»
И с Фарамарзом Заль отправил рать
Предателей кабульских покарать
И привезти домой Рустама тело,
Как солнце, что навеки охладело.
Когда Рустама сын в Кабул вошел,
Безлюдным и пустым Кабул нашел.
Все люди, в страхе перед местью Заля,
Из города в пустыню убежали.
Рустама сын поехал по лугам,
Где вырыл шах кабульский сотни ям.
Мужи помост высокий утвердили,
Сандаловыми досками покрыли.
Муж Фарамарз — в слезах, душой горя,—
Изъял из ямы прах богатыря.
Он платье снял, что кровью прокипело
Увидел в ранах царственное тело.
Велел он раны страшные зашить,
Велел он амброй, мускусом кадить.
Омыл Рустама розовой водою,
Осыпал тело чистой камфарою.
Шелка вином, бальзамом пропитал,
Шелками прах Рустама спеленал.
И саванщики слезы проливали,
Как бороду Рустама завивали.
На двух престолах не вмещался прах,
Не прах — чинара мощная в ветвях.
Гроб принесли из черного эбена,
Украшенный резьбою драгоценной.
И смесью амбры, мускуса, смолы
Замазали все щели и углы.
Пошли систанцы — в поискал упрямы,—
Достали тело Завары из ямы,
Омыли, шелком Чина облекли,
От брата положили невдали.
Потом деревья в роще повалили
И для табутов досок напилили.
Из ямы, проливая слез поток,
Останки Рахша Фарамарз извлек.
Два дня коня громадного тащили
Из страшной ямы; на слона взвалили.
И от Кабула по Забулистан
Стон поднялся, весь зарыдал Систан.
Все люди на дорогу выбегали,
В безумье горя наземь упадали.
Знатнейшие богатыри земли
Два тяжких гроба на плечах несли.
Несли два дня — гробов не опускали
И по пути на отдых не вставали.
Рыдали степи и холмы кругом,
Рыдало время над богатырем.
Рустаму дахму средь садов воздвигли,
Высокую — до облаков — воздвигли.
Был гроб украшен золотым венцом,
Где спал Рустам непробудимым сном,
И в эту пору не было беспечных
Средь удрученных и добросердечных.
В то время розы первые цвели;
Все люди розы в дахму принесли.
Все говорили: «О великий воин,
Не амбры — жизни вечной ты достоин!
Теперь кто будет весел на пирах?
Кто на врага в бою нагонит страх?
Рука, что нам динары раздавала,
Мертва! Все для тебя презренным стало.
Да примет душу чистую твою
Йездан в неотцветающем раю!»
Когда все люди витязя почтили,
Дверь дахмы наглухо заколотили.
Замуровали Рахша в той стене
Плитой, где выбит витязь на коне.
Эй, муж! Чего ты ищешь в сей юдоли?
Начало — воля здесь, конец — в неволе.
Пусть из железа был твой кован стан,
Поглотит все свирепый Ахриман.
Ты жив — не уставай к добру стремиться,
Чтоб там блаженства вечного добиться.
Оплакав праха вечного святыню,
Встал — вывел Фарамарз войска в пустыню.
Сперва была открыта им казна,—
Всем воинам он заплатил сполна.
Пошел, просторы звуками карная
И громом барабанов оглашая.
Он на Кабул свои войска повел,
Как тучу, к небу пыль густую взмел.
И вот — когда услышал шах Кабула,
Что с войском вышел мститель из Забула,—
Навстречу поднял он войска в поход.
От пыли стал лиловым небосвод.
Вся степь железом шлемов заблестела,
Как волны моря. Солнце потускнело.
И вот столкнулись грозные войска,
И грому брани вняли облака.
И мраком синим пыль взвилась густая;
Лев заблудился в ней и лань степная.
От этой пыли стало издали
Не отличимо небо от земли.
Муж Фарамарз скакал пред ратным строем,
В войска врага влетел, влекомый боем.
Он до седла могучих рассекал.
Бой смолк. Кабульский шах в аркан попал.
Его мужи рассеялись, как волки.
Где храбрость их? Сыщи их, как иголки.
Но были, подлости своей верны,
Они в устройстве западней сильны.
Цвет Хинда в том бою они убили.
Цвет Синда в том бою они убили.
Земля текла кровавою рекой,
Забыли люди отдых и покой.
Детей забыли малых, жен любимых
И матерей, тоской по ним томимых…
А царь Кабула, — вся в крови спина,—
Был брошен в ящик, взвален на слона,
Был привезен в охотничье угодье,
Где ямы рыл он — адово отродье.
Велел тащить его Рустама сын
И родственников, не щадя седин.
Со спин их кожу заживо содрали
Так, что хребты и ребра видны стали.
Над западней, над ямой роковой,
Царя повесил книзу головой.
Зажег большой костер и бросил в пламя
Отца и братьев шаха с сыновьями.
Шагада труп, чинару, рощу, луг —
Все он велел испепелить вокруг.
Так Фарамарз отмстил, домой собрался:
Кабулистан в аркан ему попался.
Он дни предателя укоротил
И родича в Кабуле посадил.
Исторг с корнями, выжег племя шаха;
И весь Кабул дрожал пред ним от страха.
Туманным утром новый день блеснул,
Когда покинул Фарамарз Кабул.
Забульцы рвали на себе одежды.—
Все видели, все знали — нет надежды!..
Рыдая, люди лучшие земли
За утешеньем к Фарамарзу шли.
Оплакивали мужа целый год;
Был синим, черным облачен народ.
Однажды Залю Рудаба сказала:
«Земля такого горя не видала.
Ни с чем мой гнет душевный не сравним.
О муж мой, плачь по сыновьям своим!»
«Жена, — ответил Заль, — доверься богу!
Терпи! Утихнет горе понемногу!»
И в гневе мать ответила ему:
«Клянусь, я больше пищи не приму!
Умру, от праха отойду земного,
Быть может, там Рустама встречу снова!»
Семь дней без пищи пробыла она,
К Рустаму всей душой устремлена.
От голода старуха исхудала,
Ослабла телом, видеть перестала.
За ней смотрели трое верных слуг,
Чтоб на себя не наложила рук.
Ее душа безумьем омрачилась, —
В безумье — горе в радость превратилось.
И раз она в поварню прибрела
И дохлую змею в воде нашла.
Змею она рукой схватить успела,
И поднесла ко рту, и съесть хотела.
Рабы, всю силу применив свою,
Из рук безумной вырвали змею.
С трудом ее из кухни потащили,
В покои привели и усадили
Там, где привыкла восседать она;
Снедь разная была принесена.
И стала есть; насытилась едою,
Склонилась на подушки головою
И погрузилась в благодатный сон,
И был во сне ей разум возвращен.
Когда проснулась, вновь еды спросила,
И много царских яств дано ей было.
Сказала Залю: «Муж мой и глава,
Премудрости полны твои слова.
А кто тоской себя терзает злобно,
Тому страданье пиршеству подобно.
Ушел он… Вслед за сыном дорогим
Уйдем, и верю — встретимся мы с ним».
Она богатства бедным раздарила
И, обращаясь к богу, говорила:
«Ты, что превыше сущего всего,
Прости грехи Рустама моего!
Открой врата в пресветлый рай Рустаму
И за добро добром воздай Рустаму!»
У Рустама был сводный брат Шагад, женатый на дочери кабульского властелина. Они заманили его в Кабул, а на пути вырыли волчьи ямы, в которые он угодил со своей дружиной и погиб. Перед смертью Рустам успел пронзить стрелой брата-предателя, укрывавшегося за дуплистым деревом.
Узнав об этом, сын Рустама Фарамарз разорил Кабул, а правителя со всеми его сородичами подверг мучительной казни.
В Иране меж тем престарелый Гуштасп уступил трон сыну Исфандиара Бахману, который вторгся в Систан и заковал Заля в кандалы. На помощь узнику из области Буст выступил сын Рустама Фарамарз. Во время битвы песчаная буря ослепила воинство систанцев, и они потерпели поражение. Бахман велел повесить Фарамарза.
Так заканчивается цикл сказаний о систанских богатырях, и начинается введение к исторической части.
Бахману наследовала его дочь Хумай. Согласно зороастрийскому обычаю, она одновременно была женой своего отца и родила от него сына Дараба, которого не захотела допустить к престолу, велела положить в сундук и бросить в реку. Бедный ремесленник поймал сундук, взрастил царевича, который в дальнейшем совершил ряд ратных подвигов и был принят в качестве наследника во дворце.
Вступив на престол, Дараб разбил взбунтовавшихся арабов, затем вторгся во владения Рума, разгромил Файлакуса и взял в жены его дочь Нахид. Однако после возвращения в Иран Дараб отослал жену в Рум. В доме отца она родила сына Искандара, которого усыновил Файлакус. В Иране Дараб женился вторично, и у него родился сын Дара.
Вскоре между Румом и Ираном разгорелась война. Искандар одержал три блестящих победы, а Дара был убит своими приближенными. Искандар вступил на иранский престол, предварительно женившись на дочери Дары Раушанак. После этого он совершил ряд походов, заключил мир с правителем Каннауджа (Индия) Кейдом и правительницей Андалуса (Анатолии) Кейдафе. Совершив еще множество ратных подвигов, Искандар возвратился в Вавилон, где и умер.
Вот из своих пределов, как орел,
Взмыл Искандер, опять войска повел.
И он в страну брахманов прибыл вскоре.
Его влекло к себе познанья море.
Брахманы, услыхав, что славный шах
Остановился с войском в их краях,
Все вышли из своих пещерных келий
И обсуждать событье это сели.
И написали шаху-мудрецу
Письмо: «Хвала на небесах творцу!
А на земле — в юдоли нашей бренной —
Хвала тебе от нас, благословенный!
Пусть мощь твоя и мудрость возрастет,
И пусть твоя держава процветет!
Йездан, исполненный благоволенья,
Тебе полмира отдал во владенье.
Мы служим богу. Так пошли нам весть,
Зачем пришел? Чего ты ищешь здесь?
Страна у нас бедна; что с нас возьмешь ты?
Земных сокровищ здесь не обретешь ты.
Мы волей и терпением сильны.
Мы счастьем знанья истинным полны.
Терпенье наше все превозмогает.
А знанье людям зла не причиняет.
Ты здесь, в долинах и степях пустых,
Людей увидишь нищих и нагих.
Коль ты у нас задумал утвердиться,
То с войском здесь тебе не прокормиться».
Вот к шаху прибыл их гонец с письмом
Пешком; одежды не было на нем.
Лишь бедра темные свои облек он
Повязкою из травяных волокон.
И было нечто у него в глазах,
Что содрогнулся сердцем славный шах.
На месте том простился он с войсками;
Поехал лишь с немногими мужами.
Все мудрецы святые той земли
С высоких гор встречать его сошли.
Плоды у ног царя на землю клали.
Ведь все они не сеяли, не жали.
И громко восхваленье вознесли
Владыке обитаемой земли.
Прислушался к речам их шах великий,
Вгляделся в удивительные лики.
Все были босы и обнажены,
Но света и величия полны.
Одежды их из листьев облекали.
Плоды лесов их пищу составляли.
Не ведая о битвах и пирах,
Они в долинах жили и в горах.
Хоть полны разной дичи степи были,
Охота и убийства им претили.
Питье их было — чистая вода,
Плоды и злаки дикие — еда.
Он спрашивал их: «Что вам служит пищей?
Как вы возводите свои жилища?
Зло и добро нам дарит небосвод,
Что ж вы берете от земных щедрот?
Вы чем и как сражаетесь с врагами?»
И отвечал глава над мудрецами:
«О солнце славы, доблести звезда!
Мысль о войне издревле нам чужда.
У нас тепло, нам не нужны жилища,
Самой природой нам дается пища.
Зачем парчой нам тело украшать?
Ведь смертного нагим рождает мать.
Нагим уходит смертный в недра праха,
А мир — обитель горя, скорби, страха.
Алчбы мы чужды, вечность — наша цель.
Нам кровля — небо, а земля — постель.
К чему мироискателя старанья?
Его богатства и завоеванья?
Ведь сколько б ни собрал сокровищ он,—
В свой час он всё утратить обречен.
Блажен, кто к благу вечному стремится,
А вся земная слава истребится».
«Чего же больше, — Искандар спросил,—
Явлений явных или тайных сил?
Живых ли больше в бренном мире этом
Иль навсегда расставшихся со светом?»
И отвечал один из мудрецов:
«На миллион, быть может, мертвецов —
Два иль один живой едва ль найдется.
И счастлив, кто от вечных мук спасется!
Блажен, кто людям зла не принесет!
Ведь всяк уйдет отсюда в свой черед».
Спросил румиец: «В мировом просторе
Недвижной суши больше или моря?»
«Всю твердь земную, — отвечал брахман,—
Безбрежный омывает океан».
«Кто бодрствует во сне? — спросил владыка.—
Чей не простится вечно грех великий?
Кто в слепоте душевной, средь забот,
Не знает сам, зачем он здесь живет?»
Брахман в ответ: «О светоч мирозданья,
Пречистый шах, взыскующий познанья!
Грешнее всех, исполненный алчбы,
Завоеватель — баловень судьбы.
Коль ты духовным взором обратишься
Сам на себя — ты в этом убедишься.
Ведь вся земля захвачена тобой.
Сам небосвод как будто данник твой.
А ты не сыт, хоть миром обладаешь.
Мозг из земли исторгнуть ты желаешь.
Душой ты ада алчешь. Устрашись!
От войн кровопролитных отрешись!»
Еще спросил их Искандар великий:
«Кто ж на стезе неправды наш владыка?»
Сказали: «То алчба — душа греха,
Основа зла. Она к добру глуха».
Спросил он: «В чем же суть алчбы всеядной,
Ненасытимой, низкой, зверски жадной?»
Брахман ответил: «Алчность и нужда —
Два демона, не спящих никогда.
Один иссох и злого полн упорства.
Другой не спит ночами от обжорства.
Сразит обоих колесо времен.
Блажен, кто к правде духом устремлен!»
Внял Искандар, и цвет его ланит
Стал желтым, как поблекший шамбалид.
Его лицо морщинами покрылось,
Слеза из глаз невольно покатилась.
И он спросил их: «В чем нужда у вас?
Просите. Все исполню в сей же час.
Всей властью с вами поделюсь моею,
Трудов своих для вас не пожалею».
Ответили: «Со смертью в бой иди.
От смерти нас, коль можешь, огради».
Сказал он: «Дни бегут неудержимо,
И в мире только смерть непобедима.
Будь ты хоть из железа сотворен,
Тебя пожрет таинственный дракон.
Увянет юный цвет, иссякнет сила —
И не спастись от старости унылой».
Сказал брахман: «О властелин-мудрец!
Всем одарил тебя благой творец.
Ты, словно солнце, разумом сияешь.
Что не избегнуть смерти нам, ты знаешь.
Что ж ты возжаждал мир завоевать,
Войн ядовитым воздухом дышать?!
Умрешь — твоя десница все утратит
И враг плоды трудов твоих захватит.
Зачем ты страшной тяготой такой
Обременился? Где он — разум твой?
Безумие — в юдоли нашей бренной
Надеяться на этот мир мгновенный!»
Ответил шах: «Я — раб, и не дано
Мне преступить, что небом решено.
Я преступил бы, будь я в состоянье,
Неведомое мне предначертанье.
Все решено заране. Никому
Не обойти, что суждено ему.
Не мной, а грозной волей провиденья
Убиты были павшие в сраженье.
Кто осужден судьбою, тот падет.
Насильник от возмездья не уйдет.
Они не жертвы моего удара.
Постигла их божественная кара.
Йездан велик. Мы все — его рабы.
И никому не скрыться от судьбы!»
Потом брахманов щедро одарил он,
Но в их стране недолго прогостил он.
Обиды никому не причинил
И вдаль стопы на запад устремил.
Когда убит был дарственный Дара,
Не стало роду шахскому добра.
Но сын был у Дары — могучий станом,
Разумный, смелый; звался он Сасаном.
Он понял: счастью прежнему конец,
Когда увидел, что убит отец.
Напрасна, понял он, о мести дума…
И спасся бегством он от войска Рума.
И в Хинде, всеми брошенный, один,
Он умер. От него остался сын.
Потомков до четвертого колена
Сасаном называли неизменно.
Жизнь, полная лишений и труда,
Была у них. Они пасли стада.
Забыв свой царский род, бродя средь мрака,
Сасан последний прибыл в степь Бабака.
И пастухам сказал: «Я — овцепас,
Мне места не найдется ль среди вас?»
Он не гнушался никакой работой.
Его на службу главный взял с охотой.
Присматривался долго, а потом
Его поставил первым пастухом.
Бабак прекрасный спал в своем покое
И диво увидал во сне такое:
Его пастух на боевом слоне
Сидит с мечом, в сияющей броне.
И все его Сасаном называли
И почести, как шаху, воздавали.
И возвеличился он и потом
Украсил землю славой и добром.
Встал царь Бабак; виденье сна забылось.
Вот что в другую ночь ему приснилось:
Зардуштов раб из мрака вдалеке
Шел, три огня неся в своей руке.
И это: Михр, Азаргушасп, Харрад —
Три светоча — от Рыбы до Плеяд.
Они пылали ярче и обильней
Углей алоэ в царственной светильне.
Бабак проснулся. Сон свой вспомнил он,
Невольною тревогою смущен.
И все, что толковать умели сны,
Что были в тайных знаниях сильны,
Пришли в чертог царя. А вслед им тоже
Пришли мужи совета и вельможи.
Бабак открыл им тайну снов своих,
Смысл темный разгадать просил он их.
Задумался совет мужей разумных.
И самый старший в сонме многодумных
Сказал: «О шах! Иные времена
Настали. Вникни в смысл глубокий сна.
Тот, кто пасет твои отары в поле,
Как солнце мира, сядет на престоле.
Но если не о нем твой вещий сон,
Ты знай, что сядет сын его на трон!»
Внял мудрецам Бабак добросердечный.
Он понял знак, что дал ему предвечный.
Велел гонцам Сасана он найти
И пастуха в чертоги привести.
Одет в овчину, весь в снегу, пред шахом
Бедняк пастух предстал, исполнен страхом.
Всех посторонних прочь услал Бабак;
Перед Сасаном с трона встал Бабак.
С собою рядом посадил Сасана.
Кто он, откуда, — расспросил Сасана.
Царь спрашивал, но оробел пастух,
Внезапно онемел отважный дух.
Потом сказал: «На все, что вопрошаешь,
Отвечу, если жизнь мне обещаешь.
Клянись, пожми мне руку! И тебе
Я расскажу всю правду о себе.
Клянись: во всем, что скрыто и открыто,
Ты мне — доброжелатель и защита».
Царь молвил: «Мне свидетель — небосвод,
Что жизнь и хлеб насущный нам дает.
Клянусь — тебя никто здесь не обидит!
Тебя в почете, в славе мир увидит».
Тогда сказал пастух: «О властелин,
Откроюсь! Я — Сасан, Сасана сын.
Я — прапраправнук властелина мира,
Великого Бахмана Ардашира.
Исфандиар отцом Бахмана был.
Он власть Гуштаспа в мире утвердил».
И слезы хлынули, как свет средь мрака,
От тех речей из ясных глаз Бабака.
Велел он слугам баню истопить,
Омыть Сасана, пышно облачить.
Он одарил его своим халатом
И дорогим конем в седле богатом.
Он дал Сасану под жилье дворец,
Нужде Сасана положил конец.
Невольниц и рабов он дал Сасану
И множество даров послал Сасану.
Он так безмерно одарил его,
Что навсегда обогатил его.
Сасана, словно сына, полюбил он,
На дочери своей его женил он.
Круг сороканедельный завершился,—
Как солнце, у царевны сын родился.
Здоров и весел, крепок и пригож,
Он дивно на Бахмана был похож.
В честь пращуров своих, владевших миром,
Отец назвал младенца Ардаширом.
Смотрел за ним, души не чая в нем,
И вырастил его богатырем.
По деду Ардаширом Бабаканом
Был назван юноша, могучий станом.
Его наукам стали обучать,
И, как алмаз, он знаньем стал блистать,
Величьем духа одарен врожденным,
Обогатился блеском обретенным.
И вскоре к Ардавану весть пришла,
Что ветвь Бабака в мире расцвела.
Что он в борьбе соперников не знает,
Что на пиру он, как Нахид, сияет.
Сел Ардаван на трон, писца призвал
И в Парс письмо Бабаку написал:
«О муж, в трудах правленья умудренный,
Советник наш, доверьем облаченный!
Я слышал — вырос внук в твоем дому,
Что нет в подлунной равного ему.
Пусть он своих достоинств не скрывает,
Ему у трона место подобает,
Средь круга избранных богатырей.
Так присылай его ко мне скорей.
Во всем с моими сыновьями равный,
При мне он будет — над князьями главный».
Бабак, прочтя письмо, был потрясен,
И много слез сначала пролил он.
Потом призвал премудрого дабира
И внука молодого — Ардашира.
Сказал: «Владыка нас почтил письмом.
Прочти, мой внук, размысли обо всем.
Хоть трудно мне с тобою расставаться,
Но мы царю должны повиноваться.
Я напишу: «К тебе — царю царей —
Я посылаю свет своих очей.
В заветах чести мною внук воспитан,
На зов твой, не замедлив, поспешит он.
Так приласкай же внука моего,
Чтоб не подул и ветер на него!»
Пошел Бабак, спустился в свой подвал
Богатства сокровенные достал он;
Для внука ничего не пощадил,
Оружьем, сбруей ратной одарил,
Дал все ему в дорогу снаряженье;
Привел коней, рабов для услуженья,
Чтоб внук явился пред лицом царя,
Как солнце светозарное горя.
Собрал он щедрый дар для Ардавана —
Динары, амбру, муск благоуханный.
И юноша от дедовских дверей
Со свитой, с караваном отбыл в Рей.
Пред ним ворота Рея отворили
И о прибытье шаху сообщили.
Царь пред собою гостя усадил.
«Как жив Бабак?» — участливо спросил.
Он дом ему отвел богатый с садом;
За трапезой сажал с собою рядом;
Послал ему богатые дары,
И кубки золотые, и ковры.
И опочил в покоях тех дареных
Бабака внук со свитой приближенных,
Когда престол рассвета заалел,
И мир, как лик румийца, побелел,
Проснулся Ардашир. И только встал он,
Подарки деда вновь пересчитал он.
И Ардавану он отправил их
С посланцем, под охраной слуг своих.
Царь умилился: «Так дарит не всякий,
Хоть молод, а разумен внук Бабака».
И он в чертоги Ардашира взял,
Скучать ему о доме не давал.
Царь на охоту ехал иль за пир
Садился — рядом с ним был Ардашир.
И стал для шаха он как сын любимый,
Ни в чем от шахзаде не отличимый.
Раз на охоте средь пустых равнин
За дичью гнался шахский старший сын.
У Ардавана четверо их было,
Сынов — его надежда, блеск и сила.
Близ Ардавана Ардашир скакал,—
Царь ни на шаг его не отпускал.
Онагр в степи далекой показался,
Дразня стрелков, как молния, он мчался.
Все следом — вскачь, да так, что прах полей
Смешался с потом бешеных коней.
Но сын Сасана — всех опередил он,
В онагра на скаку стрелу пустил он.
Онагру в круп широкий угодил,
Стрелой насквозь, как молнией, пронзил.
Шах Ардаван к онагру устремился;
Он, видя этот выстрел, изумился.
Спросил он: «Кто стрелой его поверг?
Чтоб свет стрелка вовеки не померк!»
Подъехал Ардашир, царю ответил:
«Стрела моя. Попал я — как наметил».
Сын Ардавана молвил: «Выстрел мой.
Стрела моя, а ты не спорь со мной».
Тут Ардашир воскликнул: «Ради бога —
Просторна степь, вдали онагров много,
И если можешь ты, как я, стрелять,
То докажи! А знатным стыдно лгать!»
Гнев охватил внезапно Ардавана,
Обрушился он вдруг на Бабакана.
«Моя вина! — владыка закричал,—
Зазнался ты, безмерно дерзким стал!
Кто ты такой, чтобы с мужами чести
Охотиться — с твоим владыкой вместе?
Не для того я внял нужде твоей,
Чтоб ты позорил царских сыновей!
Служить отныне на конюшне будешь.
Там, среди слуг, ты спесь свою забудешь.
А у тебя к коням хороший глаз,—
Так будешь главным конюхом у нас».
Прочь Ардашир уехал со слезами;
Он стал смотреть за шахскими конями.
Он думал: «Злобен сердцем Ардаван;
Нечестен — покарай его Йездан!»
Он деду написал письмо в обиде,
Исхода из беды своей не видя.
Все описал он, что произошло,
Как зло от низкой зависти пошло.
Прочел письмо Бабак и сокрушился,
Но никому он в горе не открылся.
Пошел и средь полночной тишины
Достал мешок динаров из казны
И, клятвенную взяв с гонца поруку,
Послал он тайно десять тысяч внуку.
Потом к себе дабира он призвал,
И так он Ардаширу написал:
«О юноша младой и неразумный!
Когда с царем ты ехал в свите шумной,
Ты с шахзаде поспорил… Почему?
Ведь ты — слуга; не ровня ты ему.
Премудрости ты высшей обучался,
Но, видно, глупым отроком остался.
Ты не хотел в чести близ трона быть.
Теперь царю старайся угодить.
Тебе в нужде я деньги посылаю.
Благоразумен будь! Благословляю!
Когда ты эти деньги проживешь,—
Пока я жив, — ты помощь вновь найдешь».
Верблюд с посланцем, старцем умудренным,
Предстал пред Ардаширом удрученным.
Прочел он, сердце ободрилось в нем,
И много мыслей зародилось в нем.
Он мудро с низким званьем примирился,
С конями на конюшне поселился.
В своем углу он разостлал ковры,
Затеял с утра до ночи пиры.
Презрел он время. Дни и ночи плыли,
А с ним — струна, вино, плясуньи были.
У шаха башня в крепости была;
Гульнар, рабыня, в башне той жила.
Под стать ей, луноликой, тонкостанной,
Был лишь расцвет весны благоуханной.
Шах всех дастуров старых отстранил,
Ей все ключи сокровищниц вручил.
Была раба Гульнар, — я лгать не стану,—
Дороже жизни шаху Ардавану.
На кровлю вышла раз Гульнар-луна,
Взгляд Ардаширу бросила она.
Ей улыбнулся Ардашир ответно.
И в сердце ей вошел он неприметно.
И дух ее безрадостный вскипел.
Когда закат туманный потемнел,
Зубец стены арканом обмотала
Гульнар. И тихо вниз спускаться стала.
Творцу миров молитву вознесла,
К конюшне царской дерзостно пошла.
Благоухая амброю и муском,
Прокралась между стойл в проходе узком,
К избраннику приникла своему
И голову приподняла ему.
Проснулся он; взглянул и видит: чудо!
Красавица!… Но кто она? Откуда?
Спросил: «Скажи, луна, откуда ты
Взошла над бездной бедствий и тщеты?»
Гульпар в ответ: «Я — шахская рабыня.
Люблю тебя! Я вся твоя отныне!
Когда захочешь, я к тебе приду
И скорбь твою от сердца отведу!»
Жизнь такова: пройдет столетье, миг ли —
Где муж, кого б несчастья не постигли?
Бабак — при жизни промыслом храним —
Скончался, место уступил другим.
Шах Ардаван, узнав про смерть Бабака,
Поник душой, предвидя бездну мрака.
Он с горя слег, когда, как с барсом барс,
Сцепились сыновья его за Парс.
И старшему, по древнему закону,
Царь отдал Парс, и войско, и корону.
Воспрянул тот, в литавры бить велел,
Войскам несметным в сборе быть велел.
Но омрачилось сердце Ардашира
Тем, что несправедлив владыка мира.
И в гневе он в душе своей решил:
«Довольно Ардавану я служил!
Ведь я не ведал, что его обидел!
За что же он меня возненавидел?»
И Ардашир себе сказал: «Бежать!»
А царь велел астрологов созвать.
О таинствах планет, о звездных силах,
О будущем державы вопросил их:
«Что предвещает вечный небосвод?
Кто сей престол после меня займет?»
Две ночи маги не сходили с башни,
Где был луны-Гульнар приют всегдашний,—
И третья ночь настала. Лишь тогда
Взошла на небо шахская звезда.
Гульнар, все споры звездочетов слыша,
Три ночи не спала, таясь под крышей.
Всем волхвованиям обучена,
Речей их тайну поняла она —
И все запомнила, что говорилось.
Бушующее пламя в ней таилось.
С высокой башни мудрецы сошли
И волю неба шаху изрекли.
Таблицы показали, где ответы,
Записаны, что дали им планеты;
Немой глагол таинственных высот,
Что приоткрыл им вечный небосвод:
«Едва успеет солнце закатиться,
Как сердце шаха тяжко огорчится:
Сбежит твой некий раб. Но он скорей
Не раб, а отпрыск подлинных царей.
И станет раб могучим властелином,
Что принесет добро простолюдинам».
И, вняв глаголу неба в их словах,
Душою огорчился старый шах.
Когда земля ночною тьмой покрылась,
Как тень, Гульнар в конюшне появилась.
Вскипел, как море, юный Бабакан:
«Решай! Довольно! Я — иль Ардаван!»
Гульнар в слезах на край кошмы присела,
Все рассказала, что узнать успела.
Когда о предсказанье услыхал,
Терпенье Ардашир в удел избрал.
И он сказал ей: «О моя отрада,
Чего нам ждать? Бежать немедля надо!
Расстаться я с тобою не могу…
Коль я от Ардавана убегу,
Скажи: бежишь ли ты со мною вместе?
Иль тут, в плену, останешься — в бесчестье?
Увенчана короной золотой
Ты будешь, коль последуешь за мной!»
Гульнар сказала: «Здесь я не останусь,
Пока дышу, с тобою не расстанусь!»
И слезы падали из нежных глаз,
Как вслед алмазу огненный алмаз.
Ответил Ардашир: «Доверься богу!
Мы завтра тайно двинемся в дорогу».
Гульнар обратно во дворец ушла,
В слезах остаток ночи провела.
Когда земля от солнца пожелтела
И тень лиловой ночи отлетела,
Смятеньем нетерпения горя,
Гульнар открыла дверь казны царя.
Взяла алмазы, жемчуга и лалы,
Динаров золотых запас немалый.
И всю добычу, полная надежд,
Зашила в складки собственных одежд.
Вот ночь настала, полная тревоги…
Шах Ардаван заснул в своем чертоге.
Гульнар во тьму порхнула, как стрела,
Добычу Ардаширу принесла.
Сидел он с полной чашей, не печалясь,
Вокруг же слуги пьяные валялись.
И, радостный, он встал навстречу ей,
Из стойла вывел резвых двух коней.
Увидев золото в руках у ней
И лалы, жарких угольев красней,
Он налитую чашу отодвинул.
На головы коней узды накинул.
Сел на коня, он, в шлеме и броне,
Повесив меч надежный на ремне.
Гульнар вскочила на коня другого,
И выехали, не сказав ни слова.
С подругой милой поскакал он в Парс,
Как на свободу вырвавшийся барс.
Так было: без невольницы своей
Шах Ардаван своих не мыслил дней.
Чуть голову с подушек подымал он,
Гульнар свою с любовью обнимал он.
Настало утро; встать царю пора —
Но нет Гульнар на ложе, как вчера.
Рабыни нет. Вскочил, рассвирепел он.
Подать воды, подать халат велел он.
А сонм вельмож уже в дверях стоял,
Украшен был престол и тронный зал.
Вазир великий перед ним явился,
Подобострастно перед ним склонился
И доложил: «О шах, вселенной свет!
Тут все князья явились на совет».
И крикнул шах: «Эй слуги, что случилось,
Что к нам Гульнар сегодня не явилась?
Обижена иль чем занемогла,
Что появиться нынче не смогла?»
Тут шаху главный доложил дабир:
«Сбежал сегодня ночью Ардашир.
И гордость стойла славного царева
Угнал он — Серого и Вороного».
Догадка сердце шаха, как кинжал,
Пронзила: «Раб сбежал — Гульнар украл!»
В нем древний дух суровый пробудился.
Он шлем надел, в кольчугу облачился,
Пошел он с войском грозных удальцов,
Все на пути огнем спалить готов.
Летел как ветер, полн ожесточенья,
Пока не въехал в некое селенье.
Спросил у жителей, у пастухов:
«Не проскакали ль двое беглецов?
Не проезжали ль рано на рассвете
Два всадника через угодья эти?»
А те: «Промчались двое тут селом
На сером скакуне и вороном.
Вослед им тур понесся, пыль взметая,
Рогами золочеными блистая».
И царь сказал дастуру: «То — они!
Но этот тур что значит? Объясни».
Дастур ответил: «Это знак великий,
Что будет в мире Ардашир владыкой.
То — фарр его. Ты знаменье почти,
Напрасную погоню прекрати!»
Царь промолчал, советнику не внял он.
Дав людям отдых, дальше поскакал он.
Летело войско, словно ураган,
А впереди — с вазиром Ардаван.
Но Ардашир с Гульнар не отдыхали;
Они, как вихрь, все дальше улетали.
И кто догонит, кто в петлю возьмет
Того, кому защита — небосвод?
А беглецы от жажды истомились
И в роще у ручья остановились.
И Ардашир сказал своей Гульнар:
«Нас мучит жажда и полдневный жар,
Из силы выбились и мы и кони,
И далеко ушли мы от погони.
Здесь, у ручья, мы силы подкрепим;
Час отдохнем и дальше полетим».
В поту, как солнце, щеки их блистали,
Когда они к потоку подскакали.
Чуть Ардашир хотел сойти с коня,
Два мужа подошли — светлее дня.
И молвили они: «Спеши! Не время
Бросать поводья и оставить стремя!
Ты промыслом от гибели спасен.
Беги, чтоб не настиг тебя дракон!
Погибельно вам будет промедленье,
Теперь лишь в быстроте твое спасенье».
Внял Ардашир советникам своим.
Гульнар мгновенно согласилась с ним.
И вновь они на стременах привстали
И дальше в степь, как вихри, ускакали.
За ними с войском мчался Ардаван,
С душою черной, гневом обуян.
Когда миродержавное светило
Лик светозарный к западу склонило,
Увидел пред собою старый шах
Прекрасный город, тонущий в садах.
Людей спросил он, что его встречали:
«Здесь двое верховых не проскакали?»
Старейшина ответил городской:
«О царь счастливый, в помыслах благой!
Когда над миром солнце дня блеснуло,
А ночь знамена синие свернула,
Два конных через город пронеслись,
А кто, откуда — нам не назвались.
Скакал вослед им тур золоторогий,
Какие в царском пишутся чертоге».
И Ардавану вновь сказал мобед:
«Прерви погоню, о вселенной свет!
Тур этот — фарр и счастье Ардашира.
Ты собери войска, владыка мира.
Войной края и страны мы пройдем,
А так — мы только ветер обретем.
Ты сыну своему отправь посланье,
Пусть он проявит ревность и старанье.
Пусть Ардаширова падет глава,
Покамест тур не превратится в льва».
Внял Ардаван ему, челом склонился;
Он понял — славный век его затмился.
И спешился и отдых дал войскам,
Молясь тому, кто все дарует нам.
Едва рассвет окрасил облака,
Шах повернул назад свои войска.
С лицом поблекшим, тростника желтее,
Он вечером вступил в ворота Рея.
И в Парс письмо отправил сыну он:
«Наш светлый фарр изменой омрачен.
Раб Ардашир, как вор в ночи, без звука,
Бежал, стрелою вылетел из лука.
Поймай его! Он в Парсе. Но смотри —
Ни слова никому не говори».
И прибыл Ардашир на берег моря,
И помолился: «О защитник в горе!
Ты спас меня, так не оставь меня!
По верному пути направь меня!»
Встречаясь там с береговым народом,
Он подружился с мужем-мореходом.
Поведал, сколько бедствий претерпел.
Моряк на Ардашира посмотрел,
Вгляделся зорко он в его обличье,
Увидел фарр его и мощь величья,
И понял: это — сын царей земли.
Все обошел свои он корабли.
Сошли на берег, полные отваги,
Мужи, заботясь о грядущем благе
Все, в чьей душе был голос предков жив.
Пришли, о кее вести получив.
Все родичи Бабака встрепенулись
И в помощь Ардаширу потянулись.
С холмов, с нагорий в облачном дыму
Сходились люди храбрые к нему.
«Кей появился!» — вести полетели,
И стариков сердца помолодели.
Мобеды из убежищ поднялись,
Советники премудрые сошлись.
И Ардашир уста раскрыл пред ними:
«Эй, славные познаньями своими,
Постигнувшие сердцем суть всего!
Я знаю, нет средь вас ни одного,
Кто б не слыхал, каким подверг невзгодам
Нас Искандар — пришелец, низкий родом!
Он славу древнюю низверг во мрак,
Весь мир зажал в насильственный кулак.
Я к вам пришел — потомок Руинтана,
И вас нашел под гнетом Ардавана!
Но пасть самой судьбой обречена
Та власть, что вам насилием дана.
Коль вы друзьями станете моими,—
Сынов Аршака истребится имя.
Что думаете вы? Ответа жду.
В великом деле я совета жду».
И все, кто были в этом славном сборе —
Мудрец иль муж бывалый в ратном споре,—
Все встали, чувством пламенным горя,
Все отвечали на вопрос царя.
Одни: «Мы все — из племени Бабака.
Ты — солнце наше, вставшее из мрака!»
Другие хором: «Предок наш — Сасан.
Мы все на битву препояшем стан!
Все — телом и душой — в твоей мы власти.
С тобой разделим счастье и несчастье.
Ведь ты двумя светилами рожден.
Мы все — с тобой! Тебе — и власть и трон.
Прикажешь — горы превратим в равнины,
Бушующие укротим пучины».
Внял Ардашир собравшихся ответ.
И духом он вознесся до планет.
Мужей достойных поблагодарил он.
Величье, волю бодрую явил он.
На берегу он город основал.
И вырос город; многолюдным стал.
Муж-звездочет явился к Ардапшру,
Сказал: «О шах, звездой блеснувший миру!
Ты призван корень Кеев обновить,
Исторгнуть плевел, пришлых истребить,
Трон Ардавана сокрушить, как молот.
Твоя звезда нова, и сам ты молод!
Среди сынов Аршака Ардаван
Сильнее всех и выше, чем Кейван.
Бери же в руки власть, не медля, с бою,—
И все враги падут перед тобою!»
И эти старца вещего слова
Дух окрылили Ардашира-льва.
С рассветом встал, покинул свой престол он,
Вооружась, в Истахр войска повел он.
Сын Ардавана, славный муж Бахман,
Узнав, что ополчился Бабакан,
Встревожился, не стал он медлить боле,
Собрал свои полки и вывел в поле.
Жил славный муж по имени Тэбак,
Привержен к богу, помыслами благ,
Наместник царский в городе Джахраме —
Он был главой над верными войсками.
Муж справедливый, мудрый, полный сил,
Семь сыновей он славных возрастил.
Услышав о явленье Бабакана,
Восстал он, откололся от Бахмана.
И к Ардаширу, мудростью влеком,
С войсками он пошел под трубный гром.
Пред Ардаширом в радости великой
Он спешился, как пред своим владыкой.
У ног его челом склонился в пыль
И о Сасане древнем вспомнил быль.
Сказал: «Тебе да буду я оплотом!»
И принял Ардашир его с почетом.
Но сам в душе сомненьем был смущен:
«Не Ардаваном ли подослан он?..»
В пути Тэбака он оберегался;
Он власти старца, войск его боялся.
Был прозорлив Тэбак, видавший мир;
Он знал — не доверяет Ардашир.
Пришел к нему с Авестою священной,
Сказал: «Да слышит нас творец вселенной,
Клянусь! Тебе я предан навсегда!
Нарушу клятву — сгину без следа!
Едва я вести о тебе услышал,
С войсками я к тебе на помощь вышел.
Власть Ардавана стала мне гнусна;
Как юноше старуха мне она.
Я преданный твой раб навек отныне,
И в том тебе клянусь на сей святыне!»
Внял слову сокровенному тому,
Душой поверил Ардашир ему.
Как своего отца, его почтил он,
Тэбаку власть над воинством вручил он.
И пред Йезданом пал и до утра
Молил, чтоб указал пути добра,
Чтоб дал победу над драконом гнева,
Чтоб возрастить помог величья древо.
В чертоги предков Ардашир вступил,
Грехи отцов молитвой искупил.
Советников своих созвал в палату,
Открыл казну и войску роздал плату.
Как барс, воспрянул и полки повел,
Дабы Аршака сокрушить престол.
И повстречались, как два моря зыблясь,
Две рати и, воинственные, сшиблись.
Бой закипел. Пылали, как лучи,
В руках мужей индийские мечи.
Сшибались грудью, копьями, щитами:
Кровь потекла горячими ручьями.
Дрались, друг друга яростно тесня,
Пока не пожелтело солнце дня.
Ночь подняла шатер свой бирюзовый,
Когда повел войска Тэбак суровый.
Взлетела тучей пыль черней смолы,
И Ардашир звездой блеснул из мглы.
Сын Ардавана раною томился.
Увидя шаха, в бегство он пустился.
Муж Ардашир вослед за ним летел
Под громом труб и градом черных стрел.
Он вел погоню яростнее барса
До самых стен Истахра — сердца Парса.
Там слава победителя ждала.
Весть о победе земли обтекла,
Он в Парсе роздал войску в честь победы
Сокровища, что собирали деды.
День отдохнул, набрался новых сил
И дальше в море войска устремил.
И страхом сердце шаха омрачилось,
Когда узнал он: грозное свершилось.
Воскликнул Ардаван: «Открыл мобед
Мне древле волю тайную планет.
И волю неба не преодолеть нам,
Чем жить в бесчестье, лучше умереть нам.
Не думал я, что станет Бабакан
Завоевателем, владыкой стран».
Долг старый войску заплатить велел он,
Обоз к походу снарядить велел он.
Дейлем прислал дружины и Гилян.
Сошлись полки, шумя, как океан.
Но Ардашир повел ему навстречу
Отважных войско, рвущееся в сечу.
И встретились они средь пыльной мглы;
Их разделял один полет стрелы.
В рядах карнаи так загрохотали,
Что змеи из убежищ убегали.
И зазвучал под золотом знамен
Мечей лиловых скрежет, лязг и звон.
Так сряду сорок дней сраженье длилось,
Для витязей вселенная стеснилась.
Росли убитых горы по долам.
Постыла жизнь измученным бойцам.
Тут грозовые тучи налетели,
И молнии на тучах заблестели.
Такой свирепый ветер смерчи взвил,
Что души ужасом оледенил.
Земля разверзлась, содрогнулись горы,
Казалось, мира потряслись опоры.
Подземный гром и гром на небесах,—
Объял великий Ардавана страх.
И средь людей его пошло роптанье:
«То — вещий знак, небес предначертанье.
Видать, на гибель мы обречены.
Видать, неправедны пути войны».
Мобеды возопили: «Царь! Пощада!»
Но стрелы низвергались гуще града.
Остался злополучный властелин
Покинут всеми, Ардаван — один.
И громом грянул голос Ардашира:
«Палач, схвати врага владыки мира,
Казни, надеждам вражьим вопреки!
Мечом его на части рассеки!»
Палач пошел, исполнил приказанье.
Муж Ардаван покинул мирозданье.
Вот он, в деяньях грозный небосвод!
Пал Ардаван, и Ардашир падет.
Людей до звезд возносит мир надменный
И низвергает наземь в прах презренный!
Двоих схватили царских сыновей,
И цвет увял Аршаковых ветвей.
Обоим ноги в кандалы забили,
В зиндан юнцов несчастных посадили.
Два старших сына потихоньку, в ночь,
Разгром увидя, ускакали прочь.
В слезах они достигли Хиндустана,
Судьба их стоит целого дастана.
Вся степь была усеяна кругом
Убитыми в оружье дорогом.
Шах Ардашир велел собрать добычу
И ратным людям всю раздать добычу.
Тэбак души величие явил —
Он труп царя казненного омыл.
Омыл в слезах от крови и от праха,
Воздвиг он дахму пышную для шаха.
Парчой и шелком тело спеленал,
Чело его короной увенчал.
И с почестью его похоронили,
Порог его дворца не преступили.
Явился к Ардаширу муж Тэбак,
Сказал: «О шах, как свет гонящий мрак,
На дочери прекрасной Ардавана
Женись! У ней — венец и фарр Ирана!
Сокровище тогда ты обретешь,
Которого превыше не найдешь.
Так нам закон повелевает древний!»
И Ардашир женился на царевне.
Он пробыл в Рее месяц или два;
О нем не молкла добрая молва.
Вот в Парс вернулся озаренный славой
Сасана сын, воитель величавый.
И город новый там построил шах,
Богатый, пышный, тонущий в садах.
Фонтаны били там, ручьи журчали,
Тот город Хурра-Ардашир назвали.
Там хауз был большой, светлей стекла.
Вода по трубам из него текла.
Над тем прудом у чистого истока
Построил царь Зардушту храм высокий.
И праздники Михргана и Сада
С народом здесь он праздновал всегда.
Вокруг же храма стогны простирались,
Цвели сады, строенья красовались.
Марзбаны, видя город — перл земли,—
Названьем Гур тот город нарекли.
Прекраснее всех городов прекрасных
Стал город Гур; в нем не было несчастных.
Невдалеке от города текла
Река. Ей преграждала путь скала.
Царь вызвал сильных телом на подмогу,
В скале велел воде пробить дорогу.
От засухи весь Парс он защитил,
Убогих поселян обогатил.
Когда восстал народ вольнолюбивый,
Рать из Истахра вывел царь счастливый.
Когда вступил в их степи властелин,
Пошли на бой все курды как один.
Войну игрою шах считал сначала,
Но вслед за курдами вся степь восстала.
Дрались весь день. Померкли облака.
И отступили шахские войска.
И поднял Ардашир все войско Парса.
Там каждый всадник был лютее барса.
Войска повел на курдов он с утра
Бой закипел не тот, что был вчера.
Но царь в степи, холмами тел покрытой,
Опять остался с малою защитой.
Так опаляла зноем высота,
Что запеклись у воинов уста.
Вот умиротворяющее знамя
Ночь подняла над ратными рядами.
И увидал вдали костер один
Муж Ардашир — вселенной властелин.
И поскакал он с малою дружиной
На тот костер — во тьме, тропой пустынной.
Вблизи костра увидел пастухов,
Овец, ягнят, и козлищ, и овнов.
Тут спешился с дружиной шах великий.
Был полон пылью, высох рот владыки.
Воды спросил он. Пастухи пошли,
Айран прохладный, воду принесли.
Он жажду утолил водой с айраном,
Лег и накрылся боевым кафтаном.
Уснул он крепко на траве степной,
Подушка в изголовье — шлем стальной.
Блеснул рассвет, из-за морей ударя;
От сна восстала сила государя.
Тут подошел к нему старик пастух,
Сказал: «Да будет бодр твой светлый дух!
Как ты попал в пустыню? На ночлеге
Здесь ни покоя не найдешь, ни неги».
Ответил царь: «О старец, услужи,—
Ближайшее селенье укажи».
Сказал старик: «До ближнего привала
С тобою будет проводник бывалый.
Фарсангов пять пустыней ты пройдешь,—
И водопой, и корм коням найдешь.
А там пойдут богатые селенья —
И в каждом — свой глава, свое правленье».
Встал, распрощался царь со стариком,
Повел дружину за проводником;
Достиг ручья и рощицы зеленой
И в край вступил богато населенный.
Радушно встречен, там он станом стал
И в Хурра-Ардашир гонцов послал.
И встало воинство по слову шаха,
На помощь двинулось по зову шаха.
Тут медлить славный Ардашир не стал;
Он к курдам в степень лазутчиков послал.
Лазутчики в дорогу устремились
И, все разведав, к шаху возвратились,
Сказали: «Курды радости полны,
Им-де цари и шахи не нужны.
Бежал-де Ардашир, исполнен страха;
В Истахре одряхлело счастье шаха!»
Воспрянул шах, услышав их слова,
До солнца поднялась его глава.
Средь войск, ему на помощь приведенных,
Мужей он десять тысяч выбрал конных.
И тысячу прославленных стрелков,
Взметающих стрелу до облаков.
С закатом солнца он повел войска
Тропой среди пустынного песка.
Когда глухая полночь миновала,
Становье курдов перед ним предстало.
Глядит — в степи беспечно курды спят,
А души воинов его кипят.
И дать велел он скакунам поводья,
Пустил войска на курдские угодья.
И закипела страшная резня.
Все кончилось до наступленья дня.
Тут степняков убитых не считали,
Венцом кровавым поле увенчали,
Кто жив остался, тех забрали в плен,
Так сильный из-за глупости презрен.
Богатства захватил владыка мира,
Бойцов обогатил владыка мира.
И если старец нес динаров таз,
То на него не устремляли глаз.
На золото его и не глядели,—
Так все они тогда разбогатели.
Победою не возгордился шах,
В Истахр с войсками воротился шах.
«Теперь, — сказал он войску, — отдыхайте!
Для новой рати силы набирайте!»
Сказал: «Пируйте, пейте, ешьте тут!
Пусть боевые кони отдохнут».
Все от оружия освободились,
К делам своим домашним возвратились.
А что замыслил дальше Бабакан,
Узнаем, выслушав другой дастан.
Дихкан извлек рассказ из тайника
О чуде, бывшем в древние века.
Лежит у волн Персидского залива
В обширном Парсе Куджаран счастливый.
Там город был. А город славный тот
Трудолюбивый населял народ.
Там не в гаремах девы прозябали,
А все трудом достаток добывали.
Бывал там хлопка щедрый урожай;
Искусством пряжи был прославлен край.
Когда ворота града отпирались,
Все девушки к воротам собирались.
У каждой хлопка чистого полно,
У каждой и свое веретено.
На холм поднявшись со своей поклажей,
Они весь день сидели там за пряжей,
Ни сон им, ни еда на ум не шла;
В том белом хлопке слава их была.
Запасы хлопка в пряжу превращались;
Они домой лишь к ночи возвращались.
И некий муж, по имени Хафтвад,
Прославил тот благословенный град.
Он был отцом семи сынов могучих,
Семи богатырей — слонов могучих.
Дочь у него была всего одна,
И счастьем всей семьи была она.
Сидели девушки под сенью склона,
Звенящие пуская веретена.
А в полдень, бросив пряжу, сели есть,
Сложили вместе, что в запасе есть.
Сложила пряжу дочь Хафтвада, встала
И, яблоко, что с яблони упало,
В траве увидев, живо подняла.
Вот тут открылись дивные дела…
Чуть только плод румяный надкусила,
Крик изумленья дева испустила.
Там червь сидел. Того червя она
Достала кончиком веретена.
И молвила толпе прядильщиц славных:
«Хвала творцу, не знающему равных!
Я талисман нашла! Дана мне власть,
Дано мне счастье — втрое больше прясть!»
Подруги хором все захохотали;
В улыбках зубы перлами блистали.
Но втрое больше их Хафтвада дочь
Напряла все ж, пока не пала ночь.
Число мотков на камне записала,
Домой с дневною пряжей прибежала.
Порадовалась мать ее труду:
«Ты обрела счастливую звезду!»
И вновь они мотки пересчитали.
Тугие нити, словно шелк, блистали.
И, пробудясь на утренней заре,
Подруги сели прясть на той горе.
И снова им сказала дочь Хафтвада:
«О девушки, за что же мне награда?
Я больше спрясть могу, чем нужно мне!
Такая власть в моем веретене!»
Она работу к полдню завершила,
А больше прясть ей хлопка не хватило.
И с пряжею своей домой пришла,
И радость и веселье принесла.
А девушка, чуть утро наступало,
Кусочек яблока червю давала.
Рос червь, и втрое пряжи с каждым днем
Та чародейка приносила в дом.
Отец и мать однажды — так случилось —
Спросили дочь: «Скажи нам, сделай милость:
Вот наша хижина обогатилась,
А оттого, что много ты трудилась.
Как успеваешь ты? О дочь, открой!
Иль светлой пери стала ты сестрой?»
И девушка родителям открыла,
Как червяка нашла и сохранила.
И показала им червя она
В пенале своего веретена.
Он ярким светом в темноте лучился.
Хафтвад находке дочери дивился,
Сказал: «Вот знак, что счастлив наш удел!»
Душой и сердцем он помолодел.
Забот и нужд с него свалилось бремя.
Вот миновало небольшое время,—
Они ухаживали за червем,
Кормили медом, маслом, молоком.
Червь вырастал и силы набирался;
Он яркоцветным телом красовался.
Спиной, как, мускус, черною блистал,
И вскоре тесен стал ему пенал.
И вот сундук просторный смастерили,
В сундук червя с молитвой поместили.
Никто так не был в городе богат,
Как вскорости разбогател Хафтвад.
Светил он мудрости житейской светом,
Все люди шли к Хафтваду за советом.
В то время Куджараном правил князь,
Закон и правду затоптавший в грязь.
Жестокий, он заботой жил единой,
Как отобрать добро простолюдина.
Узнал он, что Хафтвад разбогател,
И дом его ограбить захотел.
Но семь сынов Хафтвада ополчились,
И горожане все вооружились.
Мечи и копья в руки взяли все,
В защиту за Хафтвада встали все.
Хафтвад повел на битву ополченье;
Он мужество и мощь явил в сраженье.
Твердыню злого князя разгромил,
Забрал казну, а самого казнил.
Хафтвад вернулся в блеске славы бранной.
Его избрали князем Куджарана.
И, преданным народом окружен,
На крутизне поставил крепость он.
В ее стене железные ворота,
Надежней в мире не было оплота.
В том славном замке, что Хафтвад воздвиг,
Бил из скалы несякнущий родник.
Тройные стены замок окружали,
До облак башни грозные вставали.
Вот тесен стал сундук червю тому,
В скале колодец вырыли ему.
В просторный тот колодец бережливо
Был червь опущен, выросший на диво.
Стояла стража верная над ним,
Чтоб червь накормлен был и невредим.
Корм для него в большом котле варили,
Отборной, лучшей снеди не щадили.
Пять лет прошло. И вырос червь, как слон,
Рогами, бивнями вооружен.
За ним сама смотрела дочь Хафтвада;
Кормить его была ее отрада
Едой из риса, меда, молока.
Его от стужи кутали в шелка.
Как жизнь свою, Хафтвад его любил,
Червем, как милым сыном, дорожил.
Он всю страну от моря до Кирмана
Объединил под властью Куджарана.
Над войском он поставил семерых
Отважных, верных сыновей своих.
И все, что на Хафтвада выступали,
Цари — разбиты были и бежали.
Такая мощь была червем дана,
И процвела Хафтвадова страна.
Хафтвад сидел средь своего оплота,
И вихрь не смел дохнуть в его ворота.
Река молвы несла Хафтвада славу,
То Ардаширу стало не по нраву.
Простерлась повелителя рука —
И двинулись огромные войска.
Хафтвад о приближенье войск услышал,
Но даже поглядеть на них не вышел.
Уверенный в могуществе своем,
Он знал — врага любого ждет разгром.
Послал полки навстречу войску шаха.
Затмилось небо облаками праха
И почернел весь мир, когда Хафтвад
Дружины в битву двинул из засад.
К земле копыта коней прирастали,
А люди рук от ног не отличали,
Такой повеял ветер в лица им.
Военачальник, ужасом гоним,
Прочь ускакал. Бежали с поля брани
Живые, кроясь в мраке и тумане.
Пришли и повинились пред царем,
Какой великий понесли разгром.
Встал Ардашир и сам войска возглавил,
Людей вооружил творца прославил,
Пошел он на Хафтвада; но вознес
Хафтвад главу до неба, как утес.
Укрылся с войском на своей вершине,
Замкнул врата железные твердыни.
Вот старший сын Хафтвада услыхал:
Война! В беду отец его попал!
В ту пору за морем далеко был он,
Но, сев на корабли, домой приплыл он.
Он был воитель с твердою рукой,
Суровый, властный, звался он Шахой.
Когда с дружиной он приплыл к Хафтваду,
Он сердцу отчему принес отраду.
На Ардашира с правого крыла,
Гремя грозою, рать его пошла.
И вот сошлись и сшиблись оба строя
На пыльном, на широком поле боя.
На рать Шахоя глянул Ардашир —
И тесен стал ему прекрасный мир.
Слух оглушал карнаев грохот гневный.
Был нестерпим свирепый зной полдневный.
Был то — не бой, был ад такой, скажи,
Что без сознанья падали мужи.
Мечи в пыли, как молнии, блистали;
Как божий гром, литавры грохотали.
Основы дрогнули земных глубин,
А воздух стал багряным, как рубин.
Удары палиц по железным шлемам
Ужасны были. Мнилось — гибель всем им.
Взрывая пыль, летели скакуны.
Равнины были трупами полны.
Войска Хафтвада шли, как в час прилива
Индийский океан — за гривой грива.
Так было тесно на поле бойцам,
Что не было спасенья муравьям.
Желтея, солнце к западу склонилось,
Земля чадрою синей облачилась.
Шах Ардашир отвел войска во мглу
Вечернюю, за озеро в тылу.
Там станом стал, когда в небесной черни,
Как мускус, почернел янтарь вечерний.
Им не хватило в озеро воды,
Коням и людям не было еды.
Михрак в Джахраме, правнук кеев, жил.
Нушзад Михрака-мужа возрастил.
Узнал Михрак о бедах Ардашира,
Что окружен врагом владыка мира,
Что обречен он с войском голодать,
Что некуда им больше отступать.
И ополчил войска Михрак упрямый
И на столицу двинул из Джахрама.
Сокровищницы шахские Михрак
Опустошил, страну поверг во мрак.
Лев-Ардашир, услыша весть об этом,
Великим обязал себя обетом:
«Клянусь не выступать на бой с врагом,
Не защитив сперва свой отчий дом!»
Помощников своих созвал он главных,
Мужей науки, полководцев славных.
«Что думаете вы? — он им сказал.—
Мы — в яме. Да еще Михрак напал.
Разбиты мы, невмоготу нам стало…
И вот еще Михрака не хватало!»
«О государь! — сказал ему совет.—
Ему спасенья от возмездья нет!
Ты — кей, владыка истинный. Как можно
Тужить, когда твой враг — Михрак ничтожный?
Ты — царь, хранимый волею судьбы,
Повелевай! Мы все — твои рабы!»
Шах приказал подать вино и чаши,
Раскрыть суфру, весны цветущей краше.
Барашков жарить на углях велел,
Устроил пир, душой повеселел.
Когда жаркое на углях поспело,
Стрела из тьмы глубокой прилетела.
Барашку в спину та стрела вошла.
Отпрянули все гости от стола,
И побледнели щеки их от страха,
Не содрогнулось только сердце шаха.
Он выдернул стрелу; глядит — она
Письмом таинственным испещрена.
Встал, разобрал дабир, мудрец индийский,
Письмо, что писано по-пехлевийски.
Сказал: «О шах! Звезда твоя светла.
Друг пишет нам. Письмо его — стрела:
«Когда б из лука целился в царя я,
Стрелу в него вогнал бы до пера я.
Есть червь у нас в твердыне — наш оплот;
Пусть миром государь от нас уйдет!»
И все вазиры шаха изумились,
Когда им знаки тайные открылись
На черной деревянной той стреле.
Густела ночь. Тонула даль во мгле.
И все молились в робости великой,
Чтоб фарр не мерк над истинным владыкой.
Мужи не спали, думами полны.
Когда померк ущербный серп луны,
Восстала мощь святая Ардашира,
С войсками в Парс пощел владыка мира.
Шло вражье войско по пятам его,
Гналось за ним по всем путям его.
Всех славных выбили в иранском войске,
Но царь с дружиной вырвался геройски.
Вдогонку крик летел: «Тебе — бежать!
А червь на троне будет восседать!»
И люди восклицали: «Это — чудо!
Какой-то червь на троне! Как? Откуда?»
Так от Хафтвада Ардашир бежал,
Нигде не становился на привал.
А к вечеру увидел он селенье,
Усадьбы мирные, сады в цветенье.
Два юноши из дома одного
С поклоном низким встретили его.
Потом царя участливо спросили:
«Кто вы? Вы все в поту, в дорожной пыли.
Дорогой дальней вы утомлены,
И ваши скакуны запалены».
Ответил царь: «Мы — люди Ардашира,
Отстали мы от войск владыки мира.
Хафтвад за нами гонится с червем,
Мы здесь у вас немного отдохнем».
Те юноши поморщились с презреньем,
Исполненные тайным огорченьем,
Царю сказали: «Дом наш посети!»
И помогли ему о коня сойти.
Пред ним калитку сада отворили
И дастархан для ужина накрыли.
Сел царь за стол, дружинники кругом,
А юноши служили за столом.
Служа, сказали: «Время быстротечно.
О муж, добро и зло недолговечно.
Ты вспомни, как Заххак был вознесен
И что обрел он, сев на Кеев трон.
Афрасиаба вспомни! Сколько горя
Он всем принес, неистовый, как море.
Ты вспомни Искандара, что сгубил
Славнейших, цвет вселенной истребил.
Где все они? Где блеск их величавый?
О них осталась лишь дурная слава.
Не в рай цветущий — в леденящий ад
Ушли они. Не вечен и Хафтвад!»
И от хозяйской речи, сердцу милой,
Муж Ардашир воспрянул с новой силой.
Улыбкой он застолье озарил
И тайну этим юношам открыл:
«От ваших слов утихла в сердце рана,
Я — Ардашир, гонимый сын Сасана!
И мне совет ваш нужен, как мне быть,
Как мне червя Хафтвада истребить?»
Когда всю правду юноши узнали,
Они пред гостем на колени пали,
Сказали: «Царствуй и живи всегда!
Превыше бед и зла твоя звезда!
Да станет дух твой твердою скалою,
А мы — твои! Мы — навсегда с тобою!
Вот ты у нас совета попросил,—
Поможем мы тебе по мере сил.
Дабы Хафтвада силу опрокинуть —
Увы, — придется путь прямой покинуть.
Тут не помог бы вам и сам Рустам,
Прибегнуть к хитрости придется вам.
Хафтвад в нагорной крепости гнездится.
Там червь в колодце, как дракон, таится.
Та крепость неприступна и грозна.
Оттоль Хафтваду вся земля видна.
Ему защита — волны океана
И червь, рожденный мозгом Ахримана.
Тот червь — жестокий, кровожадный див.
Хафтвад непобедим, пока он жив».
А царь, кивая головой склоненной,
Внимал им, молча в думы погруженный.
Сказал: «Душе от ваших слов светло.
Я с вами разделю добро и зло!»
А юноши, склонившись головами,
Ответили прекрасными словами:
«С тобой всегда, везде мы, светлый шах,
С тобой, пока стоим мы на ногах!»
Воспрянул с места, духом справедливый,
Не стал он медлить, властелин счастливый.
Домой помчался, быстрый, как огонь,
А юноши с ним рядом одвуконь.
И прискакал, могучий, светлолицый,
Шах Ардашир в предел своей столицы.
И мудрецов и знатных на совет
Собрал немедля шах, вселенной свет.
За службу щедро наградил он войско,
И на Михрака устремил он войско.
Михрак не мыслил о сраженье с ним.
Как дым, бежал он, ужасом гоним.
Он спрятался в лесной чащобе дикой,
Когда к Джахраму подступил владыка.
Бежал Михрак, предатель, подлый тать,
Но всюду царь велел его искать.
Михрака люди шахские схватили,
Главу мечом от тела отделили.
И были все зачинщики войны
По воле шаха тут же казнены.
Погиб Нушзада род. Лишь дочь Михрака
Укрылась тенью средь ночного мрака.
Встал Ардашир, покинул свой престол,
На бой с червем войска свои повел —
Богатырей двенадцать тысяч ратных,
В железных латах, в шишаках булатных.
Остался за спиной степной простор.
Вошли войска в долину между гор.
Я вспомню мужа славного — Шахргира;
Он полководцем был у Ардашира.
Шах повелел тому богатырю:
«Стой здесь, а я поезжу, посмотрю.
Ты ночь не спи. Против врагов упорных
Бывалых, зорких посылай дозорных.
Жди с войском здесь. Смотри, чтоб досветла
В степи охрана наша не спала.
А я пойду — вручу Йездану душу,
Все вражье чародейство я разрушу.
Увидев дым и пламя на стене,
Вставай, на помощь двигайся ко мне!
Тогда ты знай: судьба червя затмилась,
Ты знай: звезда Хафтвада закатилась».
Шах из дружины преданной своей
Испытанных в боях избрал мужей.
Средь них ни вздох, ни разговор случайный
Владыки замысел не выдал тайный.
Шах Ардашир войска обогатил,
Бронями и оружьем оснастил.
Отрекся от казны владыка мира,—
Осталось олово у Ардашира.
Свинец и олово в двух сундуках
В дорогу взял с собой премудрый шах.
А также взял еще котел огромный,
Дабы развеять чары силы темной.
Еще он десять отобрал ослов,
Погонщиками — верных удальцов.
Ослов навьючить золотом велел он,
Погонщиков же в рубища одел он.
Так изготовившись, на подвиг свой
Пошел он со стесненною душой.
Те юноши, что счастье предсказали,
С ним были здесь, бок о бок с ним скакали.
Шах Ардашир избрал в свои войска
Сильнейших, чья рука в бою крепка.
Настала ночь, повеяла прохлада,
Когда он подошел к стенам Хафтвада.
Того червя оберегал отряд.
Число охраны было — шестьдесят.
Страж хмурый крикнул со стены сердито:
«Эй вы! Что во вьюках у вас укрыто?»
И отвечал с поклоном мудрый шах:
«Добра у нас немало во вьюках.
Шелка и дорогие украшенья,
Меха и драгоценные каменья.
Эй, друг! Купец из Хорасана я.
Там мой богатый дом, моя семья.
Я волею червя обогатился
И вот к нему с дарами устремился.
Я золотой казны не пощажу,
Дары к подножью трона возложу».
Поверили и отперли ворота
Хранители Хафтвадова оплота.
И с караваном в крепость шах вступил,
Вьюки свои с товарами раскрыл.
Приветлив и речист со стражей был он,
И всех спервоначалу одарил он.
Велел суфру для трапезы раскрыть
И всех позвал с ним ужин разделить.
Открыв кувшин, струей рубинноцветной
Наполнил дедовский фиал заветный.
Те стражи рис на молоке и мед
Червю варили, каждый в свой черед.
Когда же с непривычки охмелели,
Они варить еду не захотели,
Заспорили: тебя, мол, старше я,
И очередь сегодня не моя!
Царь им сказал: «Не спорьте, ради бога!
Купил я молока и риса много.
Позвольте мне червю еду варить,
Его за счастье отблагодарить!
И мне за это, может быть, — кто знает? —
Светлей звезда удачи засияет.
Три дня служить мне дайте! Все три дня
Сидите здесь, пируйте у меня.
Здесь я у вас потом на круче горной
Построю дом; не дом — дворец просторный.
Тут у меня богатый торг пойдет,—
А дивный червь удачу мне пошлет».
«Добро! — сказали стражи, — муж бывалый,
Корми червя! А нас вином пожалуй!»
Шах приказал вина и яств подать,
И стражи снова сели пировать.
Они без меры пили и пьянели,
О службе позабыли и о деле.
Когда в разгаре был веселый пир,
Встал повелитель мира Ардашир,
К убежищу червя стопы направил,
В котле свинец и олово расплавил.
Он ждал, готов на подвиг, полный сил.
С рассветом час кормежки наступил.
Проснулся червь в колодце. И оттуда
Язык свой высунул, большой, как блюдо.
И вылил муж в колодезную тьму
Свинец кипящий — прямо в пасть ему.
Тут в горле у червя загрохотало,
Мир всколебался, туча дыма встала.
И на стены с оружием в руках,
С дружиной поднялся отважный шах.
Служители червя все пьяны были;
Их тут же в миг единый истребили.
И на стене высокой городской
Шах Ардашир разжег костер большой.
Дозорный вихрем поскакал к Шахргиру,
Вскричал; «Удача! Слава Ардаширу!»
Сел на коня Шахргир. И, как река,
К вратам твердыни двинулись войска.
Когда о бедствии узнал Хафтвад,
Он с ложа встал, смятением объят.
К стене высокой поспешил с дружиной,
Но на стене увидел властелина.
Царь на стене стоял, как грозный лев,
В ворота шли войска, как божий гнев.
И, словно гром, раздался голос шаха:
«Веди, Шахргир, людей на бой без страха!
Червь чудодейный мною истреблен,
Свинцом клокочущим испепелен!»
Мужи Ирана воодушевились,
За палицы и за мечи схватились.
Отвага запылала в их сердцах,
Когда их ободрил великий шах.
Рассеялась, бежала рать Хафтвада…
Догнали, в плен успели взять Хафтвада.
Аркана пехлевийского петлей
Был пойман старший сын его, Шахой.
Вот со стены сошел владыка мира,
С весельем обнял верного Шахргира.
Конь для царя был подан боевой —
В нагруднике и в сбруе золотой.
Сел на коня хосров благословенный,
Сказал: «Да истребится враг надменный!»
Хафтвада и Шахоя привели,—
На виселице смерть они нашли.
Царь овладел богатствами Хафтвада,
Сказал: «Все это — воинам награда».
И вся неисчислимая казна
Была из замка вниз унесена.
Так он разбил врага, обогатился
И к Хурра-Ардаширу устремился.
Закон Зардушта утвердил святой
И праздники с их пышностью былой.
Двух юношей, в чьем доме гостем был он,
За помощь возвеличил, наградил он.
Из края в край весь Парс объехал он.
Был им порядок мудрый утвержден.
На время там забот он бремя скинул,
А после войско к Шахризуру двинул.
В Керман большую он отправил рать
И мужа, что достоин управлять.
А сам пошел к твердыням Медаина,
И враг бежал пред счастьем властелина.
Таков сей мир, сей грозный небосвод;
Он от людей таит, что им несет.
С душою твердой, чуждый обольщенья,
Взирай, мудрец, на взлеты и паденья.
В Багдаде, что ему был богом дан,[59]
Сел Ардашир великий — Бабакан;
И на престоле Кеев — в зале тронной —
Венчался бирюзовою короной.
Царем царей в народе наречен,
Величьем стал Гуштаспу равен он.
В нем слава Кей-Кубада возродилась;
Он справедливость утвердил и милость.
Сказал он: «Столп мой — до конца времен
Добра и справедливости закон!
Клянусь вершить лишь добрые деянья!
Но зло да будет злому воздаянье.
И коль меня благословит Йездан,
Я светом блага озарю Иран.
Мне богом мир во власть вручен отныне,
И правосудье — мой закон отныне!
Никто из вас, воителей моих,
Наместников, правителей моих,
Отныне мирно спать да не посмеет,
Когда добра народу не содеет!
Дворец мой всем открыт. Сам стану я
Просящему — защитник и судья».
Мужи владыке воздали хвалою:
«Живи! На благо людям — правь землею!»
Шах разослал войска по всем краям
С посланием к бунтующим князьям,
Дабы с повинной шли к подножью трона,
А непокорным — суд и меч закона.
Когда затмилось счастье Ардавана,
Стал Ардашир владыкой — сын Сасана.
И Ардавана дочь к себе он взял;
Та знала, где отец казну скрывал.
Два сына Ардавана в Хинд бежали,
Деля в скитаньях радость и печали.
А двое младших братьев под замком
Томились в заточении глухом.
Сын старший в Хиндустане укрывался;
Бахманом этот муж достойный звался.
Избрал он среди верных слуг своих
Посланца расторопнее других.
Вручил посланцу перстень с каплей яда,
Сказал: «К коварству нам прибегнуть надо.
Как дым, лети в Иран и перстень сей —
Тайком от всех — вручи сестре моей.
Скажи ей: «Лживы вражьи обещанья!
Твои два брата в горестном изгнанье.
Другие два — в узилище, в цепях.
В их сердце — мука, слезы на глазах.
Ты отреклась от нас, ты нас забыла,
Не даст тебе добра господня сила!
Но если ты царицей хочешь стать
И нашу преданность завоевать,
Брось Ардаширу в чашу каплю яда,
А большего нам от тебя не надо».
Гонец в Иран, как ветер, поспешил,
Письмо царевне тайно он вручил.
Прочла царевна братское посланье,
И обожгло ей душу состраданье.
Яд у гонца из рук она взяла
И мыслью мщенья с этих пор жила.
Собрался как-то шах в степях раздольных
Порыскать, пострелять онагров вольных.
Но истомил коней полдневный зной,
И к полдню воротился он домой.
Вошел в чертоги шах, не сняв кафтана,
Навстречу вышла дочерь Ардавана,
Топазовую чашу поднесла,
Воды студеной в чашу налила,
Фисташки, сахар в воду опустила,
Фисташки эти ядом отравила.
Взял чашу Ардашир, но уронил
Из рук ее — и вдребезги разбил.
Затрепетала дочь царя, как волос.
Помнилось ей — в ней сердце раскололось.
В сомненье царь в лицо ей поглядел,
Помыслил: «Жалок смертного удел!»
Сомнения проверить захотел он,
И четырех цыплят принесть велел он.
Стал за цыплятами он наблюдать;
Они фисташки принялись клевать.
Цыплята живо все фисташки съели,
Попадали — и тут же околели.
Хосров благословенный сел на трон,
Мобедов и старейших созвал он.
И вопросил дастура: «Что ты скажешь?
Когда врага, как друга, ты уважишь,
Согреешь на груди своей змею
И посягнет змея на жизнь твою,
Как быть с таким неслыханным коварством?
Скажи, каким мы исцелим лекарством
От угрызений и сердечных мук
Врага, который был нам прежде друг?»
Дастур ответил: «Если враг презренный
Поднимет руку на царя вселенной,
Немедля надо в корне зло пресечь —
И отделить главу его от плеч».
Царь приказал: «Дочь Ардавана-шаха
Прочь уведи от нас, казни без страха!»
Дастур, царевну за руку держа,
Увел ее. Пошла она, дрожа.
Потом взмолилась: «О рожденный светом!
И ты и я не вечны в мире этом.
Откроюсь пред тобой, пока дышу:
Плод Ардашира в чреве я ношу.
Печаль моя мне разум омрачила,
И пусть я виселицу заслужила,
Ты с казнью лютою повремени,—
Рожу дитя, тогда меня казни!»
Дастур вернулся, пред царем предстал он;
Все рассказал ему, что услыхал он.
А царь: «Не слушай ты ее речей!
Вези ее подальше и убей».
«Как быть мне? — размышлял дастур-мобед,—
Как видно, наступило время бед!
Мы — обитатели земного мира —
Все смертны. Сына нет у Ардашира.
Пусть он хоть два столетья проживет,
Но он умрет, и враг на трон взойдет.
Мне бесполезно с шахом словопренье.
Я сам приму великое решенье.
Луну мечом я не повергну в прах.
Раскается еще суровый шах.
Я подожду, кто от нее родится,—
Тогда и воля шахская свершится.
К лицу ль мне злу бессмысленно служить?
Я должен зорким быть, разумным быть!»
И вот царевну в замке отдаленном
Он поселил в покое потаенном;
Сказал: «Живи, не ведая обид.
Здесь только ветер в окна залетит».
Но думал сам: «Врагами окружен я…
И буду оклеветан, обвинен я.
Так поступлю я, чтобы недруг злой
Не загрязнил вовек источник мой».
Ушел к себе. И в потайном покое
Отсек свое достоинство мужское.
Прижег, бальзам на рану наложил,
Отрезанные части засолил
И в потайной ларец от тленья спрятал.
Стеная, тот ларец он запечатал.
Пришел к царю, сказал: «Под крышкой здесь
Свидетельство, что совершилась месть.
Записаны здесь год и день отмщенья.
Отдай ларец в казну на сохраненье».
И вот царевне срок рожать настал.
Об этом даже ветер не узнал.
Дочь Ардавана сына породила,
Как будто солнце миру подарила.
Хозяин замка всех чужих прогнал,
Шапуром сына шаха он назвал.
Растил его он втайне, в доме старом.
Царевич вырос, осиянный фарром.
Вот прибыл к шаху тот дастур-вазир
И видит — молча плачет Ардашир.
Ему сказал мобед: «Эй, шах вселенной,
Ты стань причастен к тайне сокровенной.
Исполнились желания твои —
Враги твои утоплены в крови.
Нет горя! Время радости настало —
Пора веселья, песен и фиала!
Твои — все семь вселенной поясов,[60]
Войска, и правый путь, и трон отцов!»
И скорбный Ардашир ему ответил:
«О друг, ты духом тверд и сердцем светел!
Ты прав: покорна моему мечу,
Судьба дала мне все, что я хочу,
Но пятьдесят один мне год, — подумай!
Как в камфаре, я в проседи угрюмой.
Мой мускус побелел, мой цвет увял,[61]
Мне нужен сын, чтоб рядом тут стоял,
Опорой был бы мне. Тоска о сыне
Так велика, что мне земля — пустыня!
Родного кровного со мною нет!
Кто сядет здесь, когда покину свет?»
И тут подумал старец прозорливый:
«Теперь открыться срок настал счастливый».
Сказал: «О ласковый к рабам своим
Владыка, небом посланный самим!
Я в этом горе дам тебе ограду,
Коль ты пообещаешь мне пощаду».
Царь удивился: «Речь твоя темна.
Открой, о мудрый, в чем твоя вина?
Все говори, что ведаешь, без страха!
А слово мудреца — услада шаха».
И так ему ответствовал мобед:
«О мудрый властелин, вселенной свет!
В твоей казне один ларец хранится;
В нем тайна некая должна открыться».
Тут казначея Ардашир призвал,
Принесть ларец немедля приказал,
Сказал: «Посмотрим, что ларец скрывает.
И пусть догадка душу не терзает».
Принес ларец к престолу казначей,
Хранитель всех сокровищ и ключей.
Спросил мобеда властелин вселенной:
«Что ты сокрыл в ларец запечатленный?»
Ответил тот: «Себя я оскопил
И плоть свою в ларце заветном скрыл.
Дочь Ардавана мне, о царь, вручил ты,
Убить велел. В ту пору гневен был ты.
Я не убил ее. Она была
В те дни твоим ребенком тяжела.
Я вечного Йездана устрашился
И тут же оскопить себя решился,
Чтобы меня не заподозрил ты,
Чтоб не погиб я в море клеветы.
Я сына твоего назвал Шапуром,
И он достоин стать твоим дастуром.
Теперь исполнилось ему семь лет,
И сыновей, ему подобных, нет
И не было у всех царей вселенной.
И он твой сын, о шах благословенный!
А мать его — в сокрытье, вместе с ним.
Живет она и дышит им одним».
Царь выслушал мобеда, изумился.
В раздумье он безмолвно погрузился.
Потом сказал: «О друг мой, верный мне,
Ты принял муки по моей вине!
Твоей услуги я не позабуду,
Твое добро я вечно помнить буду.
Найди ты сто-ровесников его,
Похожим всем на сына моего.
Пусть одинаково все облачатся;
Мой сын средь них не должен отличаться.
Дай каждому ты для игры чоуган
И в мяч играть веди их на майдан.
Престол поставь мне. Буду я с престола
Следить за этой детворой веселой,
А сердце правду пусть подскажет мне
И сына моего укажет мне».
Сто схожих отроков нашел мобед,
И в мяч играть их всех привел мобед.
Все, как один, что капли водяные;
Их платья — одинаково цветные,
И по лицу их отличить нельзя.
Вот шум веселый в поле поднялся.
Запрыгал мяч под клюшками кривыми;
Играл Шапур, как равный, вместе с ними.
Царь вышел, сел на золотой престол,
Вздохнул и взглядом поле он обвел.
На одного ребенка указал он:
«Вот он — мой сын», — советнику сказал он.
Мобед ответил: «Мудрый властелин,
Узнал ты вещим сердцем! Он — твой сын!»
Тут одному из свиты царь счастливый
Сказал: «Иди, слуга мой прозорливый,
Возьми чоуган, иди в толпу детей,
Ввяжись в игру, а мяч ко мне отбей.
Тот из детей, кто всех храбрее будет,
Кто у подножья трона мяч добудет
И прочь погонит на глазах моих,
Тот, кто окажется смелей других,
Тот отрок — сын мой будет, несомненно,
Моя надежда, свет мой незатменный».
Сел на коня тот муж, чоуган схватил
И мяч к подножью шахскому отбил.
Все мальчики вслед за мячом пустились,
Но вдруг, увидев шаха, устрашились,
Как будто джинн их к месту приковал.
И лишь один к престолу подбежал.
Он в поле мяч угнал, клюкой ударя,
И даже не взглянул на государя.
И сердцем Ардашир повеселел,
Как будто чудом вдруг помолодел.
Шапура слуги подняли с земли
И на руках к престолу принесли.
И обнял сына, слезы проливая,
Великий шах, Йездана прославляя.
В глаза он сына, в щеки целовал.
«Да станет тайна явной! — он сказал.—
Был одинок я, сердцем я терзался.
А сын мой, как в небытии, скрывался.
Йездан воздвиг мой трон в родной стране,
От смерти сына сохранил он мне!
Хоть вознесись до солнца в сей юдоли,
Не преступить велений вечной воли!»
Открыл он дверь сокровищниц своих,
Достал без счета лалов дорогих.
По-царски щедро сына одарил он,
Его индийской амброй окропил он.
Нагрудником жемчужным подарил,
Венцом его алмазным осенил.
И верного он наградил дастура,
Назвал его «Наставником Шапура».
Его просторный загородный дом
Наполнил золотом и серебром.
Жене преступной оказал он милость,
Велел, чтоб во дворец она явилась.
Простил ей давнюю ее вину,
От ржавчины освободил луну.
Учителей и звездочетов мудрых
Избрал он средь мобедов снежнокудрых.
Он их приставил к сыну своему,
Дабы учили чтенью и письму
Дабы всегда они при сыне были,
Его повадкам царственным учили.
Как меч в бою и щит в руках держать,
Как бой вести и с войском пировать.
Потом, в отличье от монеты старой,
Он изменить велел чекан динара.
На стороне одной был Ардашир,
А на другой — изображен вазир,
Что сына спас. Гаранмая он звался;
Был мудр он и умом не заблуждался.
Печать и перстень шах ему вручил
И все края об этом известил.
И одарил он в радости сердечной
Всех бедняков, как нам велит предвечный.
Построил город он на пустыре —
В садах, подобный утренней заре.
Джунди-Шапуром город тот назвали,
Другим названьем не именовали.
Возрос Шапур, апрелем красовался.
Но Ардашир за жизнь его боялся,
Не расставался с сыном никогда,
Чтобы от сглаза не пришла беда.
А эти годы были неспокойны,
Кипели нескончаемые войны.
Едва он бунт на юге усмирял —
На севере другой злодей вставал.
И царь взывал к пресветлому Йездану:
«О скоро ль воевать я перестану?
О скоро ли врагов я усмирю
И смуту в царстве умиротворю?»
Ему дастур промолвил прозорливый:
«О царь, чистосердечный, справедливый!
В стране индийской мудрый Кейд живет,
Защитник правых, страждущих оплот.
Провидит судьбы мира он. И знает —
Где ждет добро, где зло подстерегает.
Грядущий жребий твой предскажет он —
Тот жребий, что от века предрешен».
Внял шах совету старого вазира,
Избрал посланца повелитель мира.
И в Индию, к порогу мудреца,
С богатым даром он послал гонца.
И написал: «Эй, под звездой счастливой
Живущий в боге, муж правдолюбивый!
Мне суждено ль собрать, в конце концов,
В державу семь вселенной поясов?
Коль нет, то воевать я перестану;
Я не пойду наперекор Йездану».
Вот прибыл к Кейду царственный посол.
Даров богатых караван привел.
Сокрытое из тайника достал он,
Что шах велел сказать, пересказал он.
Кейд расспросил его о всех делах,
Которыми так огорчен был шах.
Взял астролябию и до рассвета
В движении светил искал ответа.
Он вопрошал у медленных планет,
Где польза скрыта, где таится вред.
Сказал гонцу: «Мне слава Ардашира
Видна в триагональной связи мира.
Коль с племенем Михрака шахский род
Сольется, — счастье ваше расцветет.
Наступит мир, довольство и отрада,
И воевать тогда уж вам не надо.
Богатство властелина возрастет
И меньше станет тягот и забот.
Когда с Михраком шах вражду забудет,
Вселенная ему покорна будет».
Потом сказал: «Не мешкай, поезжай,
Все без утайки шаху передай!
И на него с небес прольется милость,
Коль он исполнит то, что мне открылось».
Гонец вернулся к шаху во дворец,
Все передал, что повелел мудрец.
Той вестью сердце шада огорчилось,
Лицо владыки бледностью покрылось.
Он молвил: «Никогда не будет так:
Мне родичем не станет лютый враг.
И нам на троне племени не надо
От семени Михрака и Нушзада.
Жаль мне забот напрасных и трудов,
Жаль на войне загубленных врагов.
Дочь от Михрака лишь одна осталась;
До сей поры она от нас скрывалась.
Но соглядатаи мои сейчас
Поскачут в Рум, поедут в Чин, в Тараз.
Найду и на огне ее спалю я,
Росток Михрака в прах испепелю я».
И тут же приказал скакать в Джахрам
Владыка зорким нескольким мужам.
Когда Михрака дочь о том узнала,
Она из дома отчего бежала.
И скрылась у дихкана одного,
И жить осталось в доме у него.
Дихкан почтенный чтил ее глубоко,
Взрастил ее, как кипарис высокий.
Прекрасна, целомудренна, умна,
Она всех дев затмила, как луна.
С тех пор два года, три ли миновало.
Звезда Ирана высоко стояла.
Раз на охоту, скукою тесним,
Поехал шах. Шапур был вместе с ним.
Охотники по степи поскакали,
Козуль, онагров, ланей догоняли.
Селенье увидали: там сады,
Дворы, айваны, мирный преск воды.
Шапур сказал: «Я здесь на отдых стану!»
В село приехал, в дом вошел к дихкану.
При этом доме сад тенистый был.
Под ветви сада юноша вступил.
И девушка ему в саду предстала;
Она бадью в колодец опускала.
Увидела царевича луна,
С улыбкой подошла к нему она,
Сказала: «Радостно живи, счастливо!
Тебя да не коснется злоба дива!
Скакун твой, несомненно, хочет пить,
Ты разреши его мне напоить.
В колодце здесь вода чиста, прохладна,
И сам ты отдохни в тени отрадной».
А он: «Спасибо на слове твоем.
Не отягчай себя мужским трудом.
Слуг сильных много у меня найдется;
Они достанут воду из колодца».
А девушка, усмешку затая,
Прочь отошла и села у ручья.
Шапур сказал мужам: «Давайте ведра
Да воду нам зачерпывайте бодро!»
А люди шаха молвили: «Добро!»
И привязали к колесу ведро.
Когда ж тащить ведро пора настала,
Лицо слуги с натуги красным стало.
Тот дюжий муж не мог ведро поднять.
Взялся Шапур беднягу укорять:
«Эй, полуженщина! Знать, силы мало
Поднять ведро? А дева подымала!
Легко ей воду день за днем таскать!
А ты одну бадью не мог поднять!»
Он, оттолкнув слугу, со всею силой
Взялся за ворот — да не тут-то было.
Ведро он поднял, выбившись из сил,
И деву-водоноску восхвалил,
Которая, не утрудясь нимало,
Неслыханную тяжесть подымала
Из кладезя без помощи, одна.
Решил он: «Крови кеевой она».
Ведро он поднял богатырской силой,
И девушка Шапура восхвалила:
«Живи, цвети, покамест мир стоит,
И пусть, как солнце, разум твой горит!
Уж если сам Шапур мне ведра тянет,
Пусть молоком вода в колодце станет!»
А юноша: «Откуда знаешь ты,
Что я — Шапур, о светоч красоты?»
Она в ответ: «От мудрецов правдивых
Узнала много я примет счастливых,
Что явится Шапур — силен, как слон,
Что Нилу щедростью подобен он,
Что кипарис он ростом, медный станом,
Что схож во всем с богатырем Бахманом».
Сказал Шапур: «О дева, луч зари!
Что ни спрошу — ты правду говори.
Кто ты — открой, сомнения развеяв.
В твоем лице черты великих кеев!»
Она лицо с улыбкой подняла:
«Я — дочь владельца этого села».
Шапур ей: «Правду говори без страха,
А лжи вовек не быть в чести у шаха.
Не может породить дихкан простой
Прекрасной, сильной дочери такой!»
А девушка: «Все обо мне узнаешь,
Когда пощаду мне пообещаешь.
Кто я, откуда — все я расскажу,
Коль этим милость шаха заслужу».
А он: «В саду, где дружба расцветает,
Колючка злобы не произрастает.
Все говори! В душе своей рассей
Страх предо мной и пред царем царей!»
Она: «Я пред тобой открыться рада.
Я — дочь Михрака, внучка я Нушзада.
Я в раннем детстве знала много слез.
Меня сюда наставник мой привез.
Я здесь от гнева шахского укрылась,
В служанку-водоноску превратилась».
Шапур вошел в большой прохладный дом.
Дихкан служил Шапуру за столом.
Шапур сказал: «Будь нам Йездан свидетель,—
Отдай мне дочку в жены, благодетель!»
Шапуру в жены деву отдал он,
Зардушта древний соблюдя закон.
После того еще пора прошла —
И роза плод прекрасный принесла.
Шапуру пери сына породила,
Как будто солнцем землю озарила.
Казалось, воплотились в нем — Бахман
И сам великий всадник Руинтан.
Хормузом — в чаянье добра и славы —
Нарек его родитель величавый.
Увидел он, когда прошло семь лет,—
Хормузу равных не было и нет.
Родители его от всех скрывали,
Играть с детьми другими не пускали.
Раз Ардашир, заботами томим,
Собрался в степь; Шапур поехал с ним.
Хормуз — ему наскучило ученье —
Тайком от старших вышел из селенья
В степь, где охоте предавался шах.
Лук у Хормуза, две стрелы в руках.
Пристал он тут же к сельским мальчуганам,
Что мяч гоняли по полю чоуганом.
И вот после охоты Бабакан
На деревенский прискакал майдан.
Был рядом с шахом муж преклонных лет,
Мудрец и над мобедами мобед.
И вдруг ременный мяч, клюкой отбитый,
Упал коню владыки под копыта.
Притихли дети в страхе пред царем.
Никто не устремился за мячом.
И лишь Хормуз, росток владыки мира,
Один не убоялся Ардашира.
У ног царя успел он мяч поднять,
Погнал его своей клюкою вспять,
К игре с веселым криком устремился.
Шах Ардашир невольно изумился.
«О муж! — сказал мобеду Бабакан,—
Узнай, чей родом этот мальчуган?»
Тот спрашивал. Склоняясь пред мобедом.
Мужи в ответ: «Он никому не ведом».
Взял мальчика мобед и на руках
Принес туда, где ждал державный шах.
И царь спросил: «Дитя, чьего ты рода?
Видна в тебе высокая порода».
Хормуз в ответ: «Не следует скрывать,
Кто я и кто мои отец и мать.
Отец мой — сын твой славный, внук Бабака,
Шапур-царевич, мать же — дочь Михрака».
Царь был таким ответом поражен.
Сперва невольно рассмеялся он,
Задумался. Потом позвал Шапура.
Расспрашивать он строго стал Шапура.
Тот устрашился дела своего,
И побледнел невольно лик его.
А государь великий рассмеялся,
Сказал: «Неужто ты меня боялся?
Нам нужен сын от матери любой,
Сын царственный, что порожден тобой!»
Шапур в ответ: «О шах благословенный!
Бессмертен будь, как солнце над вселенной!
Он — сын мой, а зовут его Хормуз.
Я ведал, что запретен мой союз.
За своего ребенка полон страха,
Его я укрывал от взоров шаха.
Михрака дочерью, моей женой,
Рожденный отпрыск, несомненно, мой!»
О том колодце, о бадье тяжелой
Он рассказал отцу с душой веселой.
Смеялся, сына слушая, отец,
Потом пошел со всеми во дворец;
Нес на руках он внука дорогого
К подножию престола золотого,
На трон с собою рядом усадил,
Чело его короной осенил;
Сокровищницы отворил он недра,
Сначала внука одарил он щедро
И, несказанной радостью объят,
Со всею свитой вышел из палат;
Казну без сожаленья расточил он,
Всех бедняков, в тот день обогатил он.
Велел, чтоб от зари и до зари
Зардуштовы сияли алтари.
А вечером в садах своих владыка
На радостях устроил пир великий.
И витязям Ирана молвил он:
«Кто разумом высоким наделен,
Пусть верит вещих мудрецов прозреньям
И пусть не спорит с предопределеньем.
Предрек индийский Кейд когда-то мне,
Что мира не видать моей стране,
Что счастья не видать царю Ирана,
Ни войск, ни фарра, ни венца, ни сана.
Пока Михрака и Сасана род
Единого плода не принесет.
И восемь лет счастливых миновало,
И все по-нашему вершиться стало.
С тех пор, как был зачат Хормуз, мой внук,
Благоволит ко мне небесный круг.
Семь поясов земных мне покорились,
И дивно замыслы мои свершились!»
В тот вечер шаханшахом всей земли
Мобеды Ардашира нарекли.
Внимай словам об устроенье мира,
О мудрости и фарре Ардашира.
Добром и славой он наполнил свет,
Исполнил справедливости завет.
Чтобы иметь войска для обороны,
Такие он установил законы,
Чтоб каждый муж, что сына породил,
Его отважным, доблестным растил;
Чтоб сын, воспитан ратною наукой,
Возрос богатырем, стрелком из лука.
Чтоб он мечом и палицей владел,
Был крепок мышцами и духом смел.
Когда ж, отцом воспитан благородным,
Сын вырастал для ратных дел пригодным,
Являлся он к владыке во дворец.
Там в книгу заносил его писец.
Всех вместе этих юношей держали,
Жилье и пищу от казны давали,
И под началом старых воевод
В дни браней посылали их в поход.
Мобед был с ними, опытом богатый,
И в каждой тысяче был соглядатаи.
И если кто в служенье нерадив,
Иль телом немощен, или труслив,
И кто силен, в бою не ведал страха,
Записывал тот соглядатай шаха.
Все эти письма Ардашир читал,
Он доблестных по-царски награждал.
Он всех отважных одарял богато,
Без счета сыпал серебро и злато.
А робких и негодных для войны
Прочь отсылал: мол, мне вы не нужны.
Такое войско наконец собрал он,
Что пахлаванам счета сам не знал он.
Того, кто опытен и умудрен,
Главою над войсками ставил он.
Когда войска походом выступали,
Глашатаи ходили и кричали:
«Эй, витязи! Вам обещает шах:
Кто доблестью прославится в боях,
Получат все одежду с плеч владыки,
Их имена возвысит шах великий!»
Так утвердил он и устроил мир.
Войска — отара, пастырь — Ардашир.
В совет людей толковых посадил он.
Пути глупцам, невеждам преградил он.
Тот, кто учен был и красноречив,
И тот, чей слог и почерк был красив,
Тот, кто в своем искусстве изощрился,—
При Ардашире славился и чтился.
А те, чей почерк плох, в ком знанья нет,
Царем не допускались на совет.
Их гнали всех на черные работы.
Мудрец делил с царем его заботы.
И где б царю ни встретился дабир,
Хвалил его искусство Ардашир.
Царь говорил ему: «Мужи калама —
Опора государственного храма.
На них стоит и войско и страна.
С их помощью полна у нас казна.
Ученых чту душе моей родными
И каждым помыслом делюсь я с ними».
Наместника ли в область отправлял —
Он так его в дорогу наставлял:
«Презри стяжанье, будь защитой людям.
И помни: здесь мы жить не вечно будем.
Будь мудр всегда — во все земные дни.
От сердца глупость алчную гони.
Брать родичей с собой я запрещаю,
С тобой я войско верных посылаю.
Раз в месяц бедных одаряй людей.
Но пусть не видит милости злодей.
Коль ты благоустроить край сумеешь,
Ты сердцем шаханшаха овладеешь.
А если в страхе будет спать бедняк.
Ты предал душу диву, мне ты — враг!»
Будь жалоба или другое дело —
В чертог царя входили люди смело.
Дабиры верные встречали их,
С чем и откуда — вопрошали их;
В краю наместник правый суд творит ли?
Заботится ль о людях? Нет обид ли?
Кто в городе их славен и учен?
Кто беден и судьбою обделен?
И всяк ответ бывал царю поведан.
И царь о тех, кто набожен и предан,
Так говорил: «Плоды трудов моих
Пусть будут к благу подданных таких,
Которые добра не забывают,
Умом и добродетелью сияют.
Чту старцев мудрых, повидавших свет,
И юных, жадных к знанью с детских лет.
Ведь юноше, что к солнцу знанья рвется,
С годами старца заменить придется».
Война ль грозила, враг ли восставал,
Свой разум шах на помощь призывал.
Чтоб не было войны несправедливой,
Он извещал врага красноречиво.
Посол скакал в предел царя того,
Чтоб выведать все помыслы его.
Коль разум у восставшего остался,
То Ардаширу он повиновался.
И получал от шаханшаха он
Дары, халат и грамоту на трон
Но если им безумие владело
И ненавистью сердце в нем кипело,
Войска владыка мира созывал,
Всем воинам дирхемы раздавал;
Главою войск такого мужа ставил,
Который разумом себя прославил.
С ним был дабир обязан власть делить,
Дабы разбой и зло предотвратить.
Потом садился на коня глашатай,
Чей клич, как грома вешнего раскаты,
Кругом фарсанга на два слышен был
«Воинственные мужи! — он гласил,—
Пусть всяк, — великий шах повелевает,—
Кто благородным сердцем обладает,
В пути ни бедным зла не причинит
Ни богачам обид не сотворит.
Селений, городов не разоряйте,
Что нужно всем, за деньги покупайте.
На все у вас довольно серебра.
Не отнимайте у людей добра!
А кто к врагу спиною повернется,
Тому в дальнейшем тяжело придется.
Тому от палача конец принять
Или всю жизнь в оковах изнывать.
Позор ему, и мир его забудет,
И темный прах ему покровом будет».
Шах поучал сардара: «Укрепись
Душой, но без разведки в бой не рвись.
Когда пойдешь безвестной стороною,
Пусть впереди слоны идут стеною.
А перед боем сделай смотр войскам,
Им перед боем слово молви сам:
«Враги пред нами! Кто они такие?
Как палицы подымем боевые,
Пусть будет сто их против одного,
В живых мы не оставим никого!
Вернемся — будем славны и богаты
И все получим шахские халаты».
Когда войска столкнутся, ты смотри,
Чтоб лучшие твои богатыри
В сраженье самовольно не вступали
И средоточья войск не покидали.
Так бой веди, чтоб левое крыло
На правое крыло врага пошло.
А правое, единодушным гневом
Объятое, пускай дерется с левым.
А средоточье войска и оплот
Пусть до поры не движется вперед.
Когда же вражий центр придет в движенье,
И ты ядро свое веди в сраженье.
И если ты победу одержал
И пред тобой противник побежал,
То помни — лишней крови лить не надо.
Вот мой завет: сдающимся — пощада.
Но если враг бежал, тобой тесним,
В погоню с войском не спеши за ним.
Разъезды шли, разведай осторожно;
Засада за любым холмом возможна.
Ты победил, но ты — в земле чужой.
Не для тебя беспечность и покой.
Богатырей, что в битву рвутся рьяно,
Ты одаряй своей добычей бранной.
Ты отличай воинственных мужей,
Что в битве жизнью жертвуют своей,
Не убивай врагов, что в плен попали,
Вели, чтобы ко мне их отсылали.
У нас найдется дело им всегда —
Каналы рыть и строить города.
Что я сказал, запомни слово в слово.
Завет преступишь — осужу сурово.
Йездана помни! Знай — он твой оплот.
Лишь он один к победе приведет».
Откуда бы — из Рума иль Турана —
Ни приезжал посол в предел Ирана,
Едва марзбан об этом узнавал,
Людей послу навстречу посылал
Ночлег готовить на любой стоянке;
А ведали тем делом канаранги.
Они везли шатры, запас еды,
Чтобы посол ни в чем не знал нужды.
Когда наместник узнавал причину,
Зачем посланец едет к властелину,
Он на верблюде посылал гонца
С письмом к порогу шахского дворца.
И шахские палаты украшались.
Князья послу навстречу устремлялись,
Вдоль по дороге строились войска,
Одеты в златотканые шелка.
Владыка звать велел посла в палаты,
Сажал на золотой престол богатый.
Расспросы вел: как имя, как дела?
Какая цель посланца привела?
Зло иль добро царит в его державе,
О шахе, о войсках его и славе.
Тут шах вставал. Посланца наконец
На отдых уводили во дворец.
А вечером вели в палату пира,
Сажали близ престола Ардашира.
Шах на охоту брал с собой посла.
Охота пышной, царственной была;
Домой с почетом провожал посланца.
Своим халатом награждал посланца.
Велением царя во все концы
Страны пошли мобеды-мудрецы,
Чтоб города основывать и строить.
Расходы он не пожалел утроить,
Чтоб каждый нищий, что бездомен был,
Чей жребий горестен и темен был,
Имел и хлеб и кров над головою
И славил бога с чистою душою.
Чтоб расцвела страна, чтобы росло
Ее счастливых подданных число.
Так долгий век свой благом шах прославил,
Так имя доброе в веках оставил.
Таким да будет каждый государь,
Каким был Ардашир великий встарь!
Я имя доброе его подъемлю,
Через века молве о нем я внемлю!
Все сохранял он в памяти своей,
Держа везде доверенных людей.
И все он знал душою беспокойной.
Коль разорялся человек достойный,
То, как отец, он помогал ему,
Отчаиваться не давал ему.
Земельным шах дарил его наделом,
Давал волов и слуг, могучих телом,
Чтоб он сады сажал, поля пахал.
Дарил он — и никто о том не знал.
Когда ж дихкан имел еще и сына,
То сына брали в школу властелина,
Коль юноша к наукам склонен был,—
А школы шах повсюду учредил.
Так Ардашир помочь в нужде старался
Всем, кто в нужде признаться не боялся.
Был справедлив со всеми властелин,
Будь это знатный иль простолюдин.
Он всем равно являл благоволенье.
Цвела держава в дни его правленья.
Коль царь путями истины идет,
Его деяний время не сотрет.
Так правил сын Сасана благородный,
Весь век трудясь для пользы всенародной.
Он разослал по всей стране своей
Дабиров — мудрых, знающих людей.
И где земля истощена бывала
Или воды в каналах не хватало,
То подати он с той земли слагал,
Скотом, деньгами, хлебом помогал.
И если засуха ли, саранча ли
Дикхан и земледельцев разоряли,—
Он щедро помогал им из казны,
Чтоб стали вновь амбары их полны.
Послушай мудреца, о шах великий!
Стань, как отец, заботливым владыкой!
И если хочешь горестей не знать
И без труда сокровища собрать,—
Не угнетай народ! Хвалимый всеми,
Ты победишь забвение и время.
Беги, живущий, суеты мирской,
Не прилепляйся к миру всей душой!
Таких, как ты и я, он много видел
И всех со дня рожденья ненавидел.
Кто б ни был ты — поденщик или царь,—
Уйдешь, а мир останется, как встарь.
Пусть твой венец к Плеядам вознесется,
Собрать пожитки все ж тебе придется.
Железный ты — тебя расплавит он,
Ты немощен — не будешь пощажен.
Стан, как чоуган, от старости согнется.
Из глаз потухших дождик слез польется.
Шафранным станет свежий цвет ланит,
И бремя лет тебя отяготит.
Хоть стан согнулся, дух живой не дремлет.
Друзья ушли, никто тебе не внемлет.
Будь ты простолюдин иль шаханшах,
Пристанище твое в грядущем — прах.
Куда ушли мужи в коронах звездных?
Где фарр и счастье властелинов, грозных?
Где полководцы, пахлаваны-львы?
Где кости их? Где гордые главы?
Их изголовье — прах, зола и камень.
Но славу добрых не пожрет и пламень,
Муж Ардашир, опора слов моих,
Ты слышал те слова? Запомни их!
Шел семьдесят девятый год владыке,
И занедужил Ардашир великий.
И понял он, что смерть его близка,
Что обмелела дней его река.
Шапура к ложу своему призвал он.
Как жить и править, сыну завещал он:
«Всегда к моим заветам прибегай,
Дурным советником пренебрегай.
Умей в делах правленья беспокойных
От недостойных отличать достойных.
Я правосудье в мире утверждал,
Достоинства людей не унижал.
Моей деснице страны покорились,
Но дни мои, увы, укоротились.
На ниве мира потрудился я,
И, пот пролив, обогатился я.
Власть над полмиром я тебе вручаю,
Хранить закон и веру завещаю.
То счастье, то несчастье нам несет
Вращающийся вечный небосвод.
Иль оседлать коня судьбы ты сможешь
И счастье и величие умножишь,
Иль превратит судьба тебя в коня,
Над бедственною пропастью гоня.
В коварном сем чертоге нет мгновенья
Отрады — без отравы опасенья.
Будь зорким стражем тела и души
И зло величьем духа сокруши.
У твердых в вере ты ищи примера,
Чтоб, словно сестры, стали власть и вера.
Без шахской власти вера несильна,
Без веры не удержится страна.
Без власти — вера злобою гонима,
Без веры — власть раздорами крушима.
Две эти силы духом рождены,
Как две основы, переплетены.
Так стражами они друг другу служат,
В одном зерне их мудрый обнаружит.
Без веры власть не может обойтись;
Как верные друзья, они сжились.
Коль верному даны и ум и разум,
То оба мира обретет он разом.
Сильна страна — так будет впредь, как встарь,—
Когда на страже веры государь.
Неверен, божьего не знает страха,
Кто порицает истинного шаха.
Того слугой Йездана не назвать,
Кто может злобой к шаху воспылать.
Сказал учитель наш красноречивый:
«Лишь вера — сердце власти справедливой».
Три червоточины в престоле есть:
Злой царь, его насилие и месть.
Царь, если недостойного возлюбит,—
Достойнейших унизит и погубит.
И в-третьих: жадность шахская, когда
Народу разоренье и беда.
Так будь разумным, щедрым, справедливым.
Страна счастлива — будет царь счастливым.
Лжи приближаться к трону запрети,
Ходи всегда по правому пути.
Для добрых дел сокровищ не жалей;
Они стране — как влага для полей.
А если шах жесток, и скуп, и жаден,—
Труд подданных тяжел и безотраден.
Дихкан скопил казну, украсил дом —
Он это создал потом и трудом,—
И царь не отнимать казну дихкана,
А должен охранять казну дихкана.
Всегда старайся гнев свой потушить.
Прости вину, где можешь ты простить.
Ты в гневе за пустяк осудишь грозно;
Раскаешься потом, да будет поздно.
Коль падишах гневлив, едва ль народ
Его владыкой мудрым назовет.
Мы шахский гнев как злой порок, осудим,
И ты добро старайся делать людям.
Коль шах на миг допустит в сердце страх,
То может осмелеть соседний шах.
Будь мудр и тверд в сей жизни многобедой
И всем явленьям в мире цену ведай.
Знай: быть царем достоин только тот,
Кто щедр, как этот вечный небосвод.
Не спит, в раздумье о народных бедах,
Кто светоч знанья чтит в святых мобедах,
Кто на совет свой призывает их,
О злом и добром вопрошает их.
Во дни, когда вкушает мир страна,
Уместен пир, охота не грешна.
Но помни то, что издревле известно:
Питье вина с охотой несовместно.
И голова от чаши тяжела,
И в цель твоя не попадет стрела.
Но если враг появится, тогда вы
Забудьте пир, охоту и забавы.
Тогда войска отвсюду созывай,
Оружие и деньги раздавай.
Не отлагай сегодняшнее дело
На долгий срок. За все берись умело.
Не приближай советников дурных,
Не слушай низких: зависть в сердце их.
К наветам подлых слухом не склоняйся
И клеветою злой не огорчайся.
Ведь для клеветников святыни нет,—
Что ни спроси, солгут они в ответ.
Тебе ль советоваться с их толпою?
Пусть разум твой руководит тобою!
Безмерна подлость низких и лжецов,
И тесно на земле от подлецов.
Коль тайну даже близкому доверишь,
Ты бедственных последствий не измеришь,
Считай, что в яму брошена она,
Молве и разнотолкам предана.
Коль тайна в городе распространится,
Покоя твой разумный дух лишится.
В углах тихонько осмеют тебя
И безрассудным назовут тебя.
Не поноси людей, хоть ты и в силе,
Дабы тебя в ответ не поносили.
Остерегайся, о приявший власть,
Чтоб разум твой не омрачила страсть.
Будь мудр и сдержан, шах, ко всем и всюду,
Доброжелателен к простому люду.
Тот, кто горяч, в решеньях важных скор,
Кого ничей не трогает укор,
Кто чтит себя превыше всех на свете,—
Не должен восседать в твоем совете.
Отринь от сердца, на престол воссев,
Страстей смятенье, ненависть и гнев.
А властелин, страстями обуянный,
Не будет и поклонником Йездана.
Не притворяйся набожным; нелжив
Пред небом стой. Не будь многоречив.
Советам мудрецов-мобедов внемли
И лучшие советы их приемли.
Чтоб вески были шахские слова,
Глубоко их обдумывай сперва.
Не отвергай мольбы того, кто беден,
Не приближай того, кто зол и вреден.
Просящего простить его — прости,
За прежнюю вину ему не мсти.
Будь милостивым, щедрым, справедливым —
И назовут тебя царем счастливым.
Коль устрашится враг и станет льстить —
Веди войска, вели в литавры бить.
Иди в поход, пока войны боится
Твой враг, пока слаба его десница.
И коль запросит мира он в ответ
И если в просьбе той изьяна нет —
Надень ему ярмо посильной дани,
Не лей напрасно кровь на поле брани.
Приобретай познанья, ибо в них
Достоинство и свет царей земных.
За справедливость мир тебя возлюбит,
А свет познанья славу усугубит.
Храни завет отца, не забывай.
Настанет время — сыну завещай.
Когда обидел сына я невольно,
За всех обиженных мне стало больно.
Запомните навеки мой завет;
В нем истина и путеводный свет.
Боюсь — пятисотлетие промчится,
И власть моих потомков прекратится.
Забудут мой закон за внуком внук,
Поводья правды выпустят из рук.
От разума и знанья отрекутся
И над советом мудрых посмеются.
И клятвы, ими данные, попрут,
И грабить и насильничать начнут.
И мир стеснят народу, и с презреньем
Подвергнут верных мукам и гоненьям.
И правнук к Ахриману на поклон
Придет, унижен, в подлость облачен.
И чистый свет Зардушта опоганят,
И сокровенное открыто станет.
Что созидал я, прахом все пойдет,
Держава рухнет, и престол падет.
И я всегда молю творца вселенной,
В чьей воле все в юдоли этой бренной,
Чтоб он от зла потомков защитил,
Чтоб имя доброе вам сохранил.
От неба и земли да будет слава
Тому, кто не сойдет с дороги правой,
Тому, кто в руки светоч мой возьмет
И в колоквинт не превратит мой мед![62]
Уж сорок лет прошло, как шахом стал я.
Шесть городов великих основал я.
Там веет воздух мускусный легко,
Там в реках — не вода, а молоко.
Один назвал я Хурра-Ардаширом;
Тот город весь в садах, исполнен миром.
Рам-Ардашир — то город мой другой.
На Парс оттуда я пошел войной.
Хормуз же Ардашир — мой город третий.
И нет ему подобного на свете.
Так сладко там дыханье ветерка,
Что молодеет сердце старика.
Я украшал тот город неустанно;
Богат он, люден — радость Хузистана»
А Барка-Ардашир — четвертый град.
В тени садов фонтаны там шумят.
Еще в стране Мейсан и у Евфрата
Два града есть, украшенных богато.
Я — Ардашир — для вас их основал.
Запомни все, что я тебе сказал.
Готовь для вечного успокоенья
Мне дахму и прими узду правленья.
Я жил в трудах для блага, не для зла.
И вот моя держава расцвела.
Уйду, ты царствуй мудро, справедливо,
Живи победоносно и счастливо!»
Умолк он, духом светел до конца.
О, жаль его главы, его венца!
Над ним свершилось то, что постигает
Всех смертных. Он ушел. Куда? Кто знает?..
Блажен, кто здесь величия не знал,
Кто с сожаленьем трон не покидал.
Усердствуют, казну приобретают,
А что придется бросить все — не знают.
В конце концов мы все сойдем во прах.
Земля и саван лягут на щеках.
Не собирай сребра в бегущем мире.
Живи лишь для добра в бегущем мире.
Блажен, кто чашу полную возьмет
И в память слуг Йездана изопьет.
И пусть, когда дойдет до Ардашира,
Он, радостный, заснет на лоне мира.
Воспой теперь Шапура век златой!
Открой уста! Вино, пиры воспой!
Некоторым из последующих царей Фирдоуси уделяет достаточно много внимания, а другим посвящает всего лишь по нескольку десятков двустиший каждому. Более подробно поэт останавливается на царствовании Йездигерда III, и не случайно: ведь этот жестокий царь был прозван Грешником.
Сын Йездигерда III, Бахрам V, и есть герой следующего сказания. Когда Грешник был убит водяным конем, иранские вельможи восприняли смерть царя как божью кару, они не хотели, чтобы новым царем стал его отпрыск, и сказали Бахраму:
Тебя вовек на царство не поставим,
Ты — рать возглавь, а мы — страну возглавим.
Умному, образованному Бахраму удалось убедить вельмож в том, что он будет править страной честно и разумно:
Да, изверг мой отец, готов признать я,
Что он достоин моего проклятья…
Весь мир благоустрою справедливо,
И подданные будут жить счастливо.
В «Сказании о Бахраме» повествуется о встречах царя с людьми разных сословий, о его многочисленных приключениях. Однажды Бахрам увидел льва, раздирающего онагра, и царь пронзил стрелой и льва и онагра, за что и был прозван «Гуром» («Гур» на языке фарси означает «онагр»). Здесь представлены некоторые эпизоды из сказания о Бахраме Гуре.
Его занятье — то чоуган, то лук,
Охотясь, он топтал то степь, то луг.
Однажды с музыкантшею, без свиты,
Помчался в степь охотник именитый.
Его румийку звали Азада,
Он с нею время проводил всегда.
Она всегда была ему желанна,
Ее шептал он имя постоянно.
Лишь на верблюде ездил он верхом,
Что был покрыт атласным чепраком…
Тропа — то вверх, то вниз, кругом — безлюдье,
Четыре стремени на том верблюде,
Два золотых и два — из серебра,
На каждом — дорогих камней игра.
Во всех искусствах был Бахрам умелым.
Он поскакал с колчаном, самострелом.
Чета газелей мчалась по холмам.
Сказал, смеясь, красавице Бахрам:
«Луна моя! Сейчас начну я ловлю.
Как только лук могучий изготовлю,—
Кого сначала мне сразить тогда:
Самец — в годах, а самка — молода».
«О лев, — сказала Азада, — ужели
Гордится муж, что он сильней газели?
Чтоб заслужить прозванье храбреца,
Стрелою в самку преврати самца.
Газель захочет убежать отсюда,—
Пусти за нею своего верблюда.
Ты камешек метни в живую цель,
Чтоб ухо начала чесать газель.
Как засвербит, — газель тебя потешит,
Поднимет ногу и ушко почешет.
Ты ногу с головою сшей стрелой,—
Тебя вознагражу я похвалой».
Бахрам степной травой, прямой тропою
С натянутой помчался тетивою.
В колчане у охотника была
Особая двуострая стрела.
Самец взметнулся на равнине пестрой,—
Бахрам тотчас подсек стрелой двуострой
Его рога, подсек на всем скаку.
И подивилась Азада стрелку.
Едва самец своих рогов лишился,
Он сразу как бы в самку превратился.
А в самку две стрелы всадил Бахрам,
Чтоб уподобились они рогам.
Бежит газель, и вся в крови дорога,
И две стрелы на голове — два рога.
Помчался всадник за другой четой,
А в самостреле — камешек простой.
Красавицу румийку восхитил он:
Газели в ухо камешек всадил он,
Та — ухо начала чесать ногой,
Охотник натянул свой лук тугой,
К ноге газели вдруг пришил он ухо,—
Тогда рабыня зарыдала глухо.
Сказал: «Смотри, добыча не спаслась!»
Но слезы у нее текли из глаз.
Она сказала: «Это не отвага,
Ты злобный бес, ты чужд любви и блага!»
Красавицу ударил юный шах,—
Свалилась из седла, зарылась в прах.
Пустил верблюда всадник, полный злости,
Он смял ее, кромсая грудь и кости.
Сказал Бахрам: «Безумна ты была!
Ужели ты мне пожелала зла?
Ведь если б промахнулся я, то скоро
Легло б на весь мой род пятно позора!»
Так суждено ей было умереть,
А царь не брал рабынь на ловлю впредь.
Когда Бахрам воссел на шахский трон,
Восславил шаха светлый небосклон.
Бахрам свои вознес благодаренья
Предвечному зиждителю творенья,
Дарующему счастье и беду,
Дарующему роскошь и нужду.
Затем сказал: «Венец и трон державы
Мне дал господь, всевидящий, всеправый.
Он для меня — добро, надежда, страх,
Благодарю его в своих мольбах.
Покорство богу, преданность обетам —
Источник нашей гордости лишь в этом».
Послышались иранцев голоса:
«Покорства мы надели пояса.
Да будет власть царя благословенна,
Бессмертно счастье и душа нетленна!»
Молитву о Бахраме сотворя,
Каменьями осыпали царя.
«Мужи! — сказал Бахрам. — Вам приходилось
Познать судьбы и милость и немилость.
Мы все — рабы, а бог для всех един,
Он, только он — законный господин.
Я горе прогоню, добро посею,
Я не позволю действовать злодею».
Так он сказал. Все поспешили встать
И славить шаха начали опять:
У них беседа потекла ночная
Но вот и солнце вспыхнуло, сверкая,
Воссел властитель во дворце своем.
К нему пришли иранцы на прием.
Сказал им царь с душевной чистотою:
«Вельможи под счастливою звездою!
Склонимся пред величием творца
И от гордыни отвратим сердца».
На третий день сказал он знатным людям:
«Пренебрегать молитвами не будем.
Пускай в сердцах восторжествует бог,
Докажем всем, что существует бог,
Последний Судный день, рай и геенна,
Добро и зло, незыблемость и смена.
Тот неразумен, тот грешит всегда,
Кто не боится Страшного суда».
А на четвертый день, исполнен силы,
Венец надев державный, сердцу милый,
Промолвил шах: «Мне всех богатств нужней
Отрада, благоденствие людей.
Нет, не влечет меня сей мир трехдневный
С его тоскою и судьбой плачевной.
Тот мир — бессмертен, этот — прах и тлен,
Не попади алчбе и горю в плен».
На пятый день такое молвил слово:
«Не надо мне плодов труда чужого.
Дорога в рай с трудом сопряжена.
Блажен, кто блага сеет семена».
Сказал он в день шестой: «Пока я правлю,
От разоренья подданных избавлю.
Покой в Иране будет нерушим,
Мы злоумышленников устрашим».
Сказал он в день седьмой: «Князья державы,
Вы опытны, умны и величавы!
Суров я буду к жадному скупцу,
Зато стремиться буду к мудрецу.
Наказан будет мною недостойный,—
Я буду строже, чем отец покойный.
А тот, кто будет с нами жить в ладу,
Забудет горе, тяготы, беду».
Вот, в день восьмой, призвал он Джавануя,
О благе подданных своих ревнуя.
«Наместникам, — вельможе повелел,—
И всем князьям, и в каждый наш удел
Отправь слова, где будут свет и милость:
«Бахрама власть на троне утвердилась.
Он милостив, и щедр, и справедлив,
Враждует с кривдой, бога восхвалив.
Он обладает и умом и статью,
Он царство озаряет благодатью.
Тот, кто мне предан, будет мной ценим,
А лицемерных мы искореним.
Я буду править, счастьем осененный,
Вновь Тахмураса я приму законы.
Со всеми буду справедлив, хорош,
И даже с тем, кто сам проявит ложь.
В стремленье к правде предков превзойду я,
И вас дорогой правды поведу я.
Пойду, как деды, злу и кривде чужд,
Лишь тем путем, которым шел Зардушт.
Приняв Зардушта древние уставы,
Я говорю: «Я — ваш вожатый правый!»
Вы все — владыки жен своих, детей,
Оплоты веры, стражи областей.
Вы все — в своих имениях владыки,
Богобоязненны и светлолики.
Нам для казны богатства не нужны,
Чтобы страдал бедняк из-за казны.
Что мне судьбы коварной самовластье,
Коль бог продлит и жизнь мою, и счастье?
Прочтите эти добрые слова,—
Достигнете богатства, торжества.
Мы шлем приветы вам, не зная злобы,
Тем, кто нас любит, — наш привет особый».
К посланиям приложена печать.
Велел властитель вестников созвать.
С посланьями отправились мобеды —
Отважные мужи и сердцеведы.
Со свитой царь отправился на лов:
Решил он поохотиться на львов.
Явился старец с посохом к владыке,
Сказал: «Богобоязненный, великий!
О двух мужах уста мои гласят:
Один из них бедняк, другой — богат.
Казны, добра не счесть у богатея,
У Барахама, хитрого еврея.
Гостеприимен водонос Ламбак,
Любезен, благороден сей бедняк».
«Но кто они? — спросил глава державы,—
О чем толкует старец седоглавый?»
Один из приближенных молвил так:
«О славный шах, известен мне Ламбак.
Он водонос, и продает он воду.
Гостеприимством нравится народу.
Полдня он возит воду, а потом
Гостей он ищет и приводит в дом.
Он все проест, что заработать сможет,
И ничего на завтра не отложит.
Живет иначе Барахам-хитрец,
Еврей презренный, выжига-скупец.
Есть у него дирхемы и динары,
Ковры, каменья, всякие товары».
Сказал Бахрам глашатаю: «Тотчас
Базару объяви ты мой приказ:
«Шах запрещает от утра до мрака
Пить воду, купленную у Ламбака!»
Так пребывал он до заката дня,
Потом погнал летучего коня.
Приехал шах к жилищу водоноса
И, в дверь стуча, вскричал громкоголосо:
«Я — всадник, в нашем войске я в чести.
Настала ночь, и сбился я с пути.
Ты человечность и добро проявишь,
Коль на ночь у себя меня оставишь».
Ламбак услышал ласковую речь,—
И гость сумел к себе его привлечь.
«Входи скорей, о всадник, — он ответил,—
Желаю, чтобы шах тебя отметил!
Пришло бы десять воинов с тобой,—
Я стал бы с наслажденьем их слугой».
Шах спешился. Такой прием случаен?
Стал за конем ухаживать хозяин.
Коня он вытер, труд свой не ценя,
Набросил недоуздок на коня.
Затем он позаботился о госте:
Ему он подал шахматы из кости.
Еду готовить начал водонос,
И блюда разные он преподнес.
Сказал Бахраму: «Гость в моем жилище.
Ты пешки отложи, отведай пищи».
Поели — а еда была сытна,—
Пришел хозяин с чашею вина.
Бахрам дивился этому радушью,
Гостеприимству и великодушью.
Всю ночь проспал, не раскрывая глаз,
И услыхал, проснувшись в ранний час,—
Ламбак сказал: «Без корму конь остался.
Весь день скакал, а ночью не питался.
Не уезжай сегодня, я прошу,
Друзей, чтоб не скучал ты, приглашу.
Все принесу тебе, служа сердечно,
Со мною день ты проведешь беспечно».
В ответ Бахрам-властитель произнес:
«Сегодня я не занят, водонос!»
Ламбак пошел, взяв бурдюки с водою,—
Не продал ничего, гоним нуждою!
Рубаху снял с себя сей муж простой,
Потом достал один бурдюк пустой,
Их продал на базаре без лукавства,
Принес он мясо и другие яства.
Он сетовал: «Заждался гость!» Спеша,
Пришел домой, сварил он калуша.
Сварил; поели, радуясь обеду,
И за вином продолжили беседу.
Из чаши пил властитель допоздна
С тем бедняком — любителем вина.
Когда сменился мрак ночной рассветом,
К Бахраму водонос вошел с приветом:
«Будь весел ночью, весел ясным днем,
Не ведай о мучении земном.
Побудь и этот день в моем жилище:
Богаче я с тобой, светлей и чище».
«И в третий день дано да будет нам
Повеселиться», — отвечал Бахрам.
«Будь счастлив!» — молвил водонос владыке,
Великую хвалу вознес владыке.
Пошел и заложил два бурдюка
И свой передник у ростовщика.
Все нужное купил, и расплатился,
И весело к Бахраму возвратился.
Сказал: «Вставай, начнем свои труды,
Знай, что растет мужчина от еды!»
Стал быстро мясо резать царь державы,
Поставил на огонь, достал приправы.
Поели, чаши подняли с вином,
За шаханшаха выпили вдвоем.
Постель для гостя постелив с любовью,
Ламбак свечу поставил к изголовью.
Пришел четвертый день, взошла заря
И разбудила славного царя.
Ламбак сказал: «О всадник! В тесном, темном,
Три дня ты пожил в этом доме скромном.
Конечно, здесь ты отдохнуть не смог,
Но если шах к тебе не будет строг,
В жилище бедном, на плохой постели,
Еще со мною две побудь недели».
Бахрам ему сказал слова любви:
«Десятилетья радостно живи!
Три дня с тобой мы жили без печали,
Старинных миродержцев вспоминали.
Где нужно, расскажу я о тебе,
Я позабочусь о твоей судьбе.
Твое гостеприимство — плодотворно,
Богатство, честь добудешь ты, бесспорно».
С весельем сел на скакуна Бахрам,
Помчался на охоту по горам.
До самой ночи он скакал со свитой,
А ночью царь уехал знаменитый.
Шах попросил вина, проснувшись рано.
Пришли к нему воители Ирана.
Явился некий знатный муж: привез
Он множество плодов, душистых роз,
Привез он из деревни дар богатый:
То были яблоки, айва, гранаты.
Бахрам приветил нового слугу,
В знатнейшем усадил его кругу.
Уселся тот, поклон отвесив низкий,
Кабруем звался он по-пехлевийски.
Он счастлив был, увидев поутру
Царя и воинов на том пиру.
Вино в хрустальной чаше запылало,—
Вскипело сердце, хмеля возжелало.
«О шах, — сказал он, — милость мне даруй.
Люблю вино. Зовут меня Кабруй».
Вино он выпил перед господином,
Он чашу духом осушил единым.
Затем он осушил семь чаш подряд.
Всех пьяниц посрамил он, говорят!
С царем простившись, вышел он из зала,
Но верх над ним вино — он понял — взяло.
Из города погнал он в степь коня:
Вино пылало в нем сильней огня!
Он отделился от других и вскоре
Увидел благодатное предгорье.
Сошел с коня, прилег, едва живой,
У дерева заснул он под листвой.
Тут ворон прилетел, чернее ночи,
И выклевал бесчувственному очи.
Другие, прискакав на горный склон,
Увидели: то был последний сон.
Заплакали в смятении, в испуге,—
Вино и пьянство проклинали слуги.
Когда Бахрам проснулся, во дворец
Вошел доброжелатель и мудрец.
Сказал: «Кабруй заснул в тиши предгорной,
Глаза Кабруя вырвал ворон черный!»
Был потрясен Бахрам, познал печаль.
Увы, ему Кабруя стало жаль.
Он тут же огласил дворец приказом:
«О гордые мужи, чей славен разум!
Умельцам или витязям, — равно
Отныне запрещаю пить вино».
Так целый год прошел с того событья,
Не ведали в Иране винопитья,
А если шах сзывал на пир гостей,
То лишь для звуков древних повестей.
Но вот сапожник, юный и влюбленный,
Взял девушку зажиточную в жены,
Однако не справлялся с тем трудом.
Скорбела мать о сыне молодом.
Она вина припрятала немного.
Сынка позвав к себе, сказала строго:
«Семь полных чаш, мой сын, ты осуши,
Исполнится мечта твоей души.
Рудник хорош, но рудокоп, не скрою,
Работает не войлочной киркою!»
Испил, — окрепли силы у него,
Сильнее стали жилы у него!
Он осмелел, прошла его истома,
Вошел, отверстье сделал в двери дома.
Был труд ему приятен, не тяжел,
И радостный он к матери пошел.
Меж тем дрожали улицы от страха:
Покинул грозный лев зверинец шаха.
Сапожник пьян, все тленно для него,
И море по колено для него!
Вскочил на льва, в свою победу веря,
Вскочил и за уши схватил он зверя.
Был сыт в то время этот лев-беглец,
Он — снизу, сверху — молодой храбрец.
Меж тем служитель, взяв аркан и путы,
Стремглав бежал, ища, где хищник лютый.
И что же? Видит чудо на земле:
Смельчак сидит на льве, как на осле!
Слуга явился во дворец и смело
Бахраму рассказал про это дело,
О чуде рассказал, что видел сам,
С трудом поверив собственным глазам.
Был удивлен Бахрам таким рассказом,
Призвал мобедов, чей известен разум,
Сказал: «Узнайте, от кого свой род
Сапожник этот молодой ведет,—
Наверно, витязями были предки,
Что ж, подвиги для витязей не редки!»
Пошли, нашли и допросили мать,
Надеясь храбрость в знатности признать.
И мать, конца не видя разговорам,
Предстать решила перед царским взором.
Сперва хвалу Бахраму вознесла:
«Живи, не зная дням своим числа!
Мой сын женился, мальчик неумелый,
Он стал хозяином, еще незрелый:
Тростиночка для дела не годна.
«Как слабость устранить?» — скорбит жена.
Вино ему дала я наудачу,—
Никто не ведал, что вино я прячу.
Зарделся лик его, окрепла трость,
Безвольный войлок превратился в кость.
Отец его — сапожник, дед — сапожник,
О всех спроси — один ответ: сапожник!
Лишь тем он знатен, что испил вина.
Прости, о шах, на мне лежит вина».
Властитель рассмеялся: «Повсеместно
Да станет эта повесть всем известна!»
Мобеду он сказал: «Пусть пьют вино,
Оно дозволено, разрешено.
Пусть столько пьют, чтобы, на льва воссев,
Скакали — и не сбрасывал их лев!»
Воскликнул шах, чьи доблестны деянья:
«Вельможи в златотканом одеянье!
Вы пейте в меру. Хмелем зажжены,
Вы думать о последствиях должны.
Вы после пира вовремя засните,
Иначе вред себе вы причините».
В сопровождении богатырей
Поехал на охоту царь царей.
Хормозд, начальник, слева был, а справа —
Мобед, чье сердце чисто, величаво.
Скакал Бахрам, внимал седым мужам,
В их сказах жили Фаридун и Джам.
Пред ним — луга, ложбины, буераки,
Пред ним — гепарды, кречеты, собаки.
Жара, — скорей уехать бы отсель,—
Хоть бы один онагр, одна газель!
Царь изнемог, был душен день и зноен,
С охоты возвращался он, расстроен,
Как вдруг зеленый видит он приют:
Счастливо, видно, люди здесь живут!
Охотников увидев в отдаленье,
Навстречу выбежало все селенье.
Бахрама утомил тяжелый путь,
Хотел он в той деревне отдохнуть.
Но были глупы жители селенья,
Властителю не вознесли хваленья.
Разгневался на земледельцев шах,
На них не глянул с милостью в очах.
Сказал мобеду: «Их не надо трогать,
Но пусть течет у них в арыках деготь,
Пусть вместо человечьего жилья
Здесь мы увидим логово зверья!»
Уразумев приказ владыки строгий,
Мобед к домам направился с дороги,
Сказал крестьянам: «Дивный здесь приют,
Стада пестреют, и сады цветут.
Пришлось царю по нраву место ваше,
Он хочет, чтоб еще вы жили краше.
Вас всех он хочет превратить в господ,
Деревню — в город. Вы, простой народ,—
Все господа — и женщины и дети,
Вы не подвластны никому на свете.
Поденщик жалкий, важный старшина,—
Отныне ваша доля сравнена.
Все господа — и жены и мужчины,
Нет подчиненных, все теперь — старшины!»
Возликовали жители тогда:
Отныне все в деревне — господа!
Все уравнялись — и мужья и жены,
Стал равен старшине слуга поденный
В деревне стала молодежь дерзка
И старшину убила — старика.
С мечами друг на друга шли мужчины,
И кровь лилась повсюду без причины.
На деда внук пошел, и мать — на дочь,
Кто жить хотел, бежал оттуда прочь.
Остались только старцы и калеки,
Казалось, прекратился труд навеки.
Поля заглохли, высохли сады,
В арыках больше не было воды.
Замолкли все жилища до едина:
И люди убежали и скотина.
Вот минул год, пришла пора весны.
Поехал на охоту царь страны.
Он к тем местам цветущим прибыл вскоре,—
Но всюду запустенье, дикость, горе.
Поля заглохли, высохла листва,
Ни одного живого существа!
Лицо Бахрама горестью затмилось,
Увидел он всевышнего немилость.
Мобеду он сказал: «Гляди, Рузбех,
Крестьяне разорились, жаль мне всех.
Сады, дома разорены в селенье,—
Восстанови за счет казны селенье!»
К жилищам, развалившимся от бед,
По слову шаха поскакал мобед.
Объездил все дома и все кварталы,
Предстал пред ним старик, больной, усталый.
Сойдя с коня, произнеся привет,
Седого старца обласкал мобед.
Спросил: «Скажи мне, муж, годами древний.
Кто разорение принес деревне?»
Старик ему ответил: «В некий час
Державный шах проехал мимо нас.
Примчался к людям, отделясь от свиты,
Мобед — неумный, злой, хоть родовитый.
Он так сказал нам: «Все вы — господа,
Над вами нет ни права, ни суда.
Равны подростки, женщины, мужчины,
Вы все — над господами властелины».
Безумны стали жены и мужи.
Пошли убийства, драки, грабежи.
Мобеду я желаю божьей кары,
Да поразят его судьбы удары!
В деревне хуже худшего дела,
Не знаю, как избавимся от зла!»
Взглянув на старца ласковей, душевней,
Спросил мобед: «Кто старший над деревней?»
А тот: «Лишь там бывает старшина,
Где в поле плодоносят семена».
Рузбех ответил: «Кончилось унынье,
Ты старшиной деревни будь отныне!
Быков, баранов из казны проси.
Советы, может быть, нужны? Проси!
Бездельников казни ты, как владелец:
Тебе да подчинится земледелец!
А тот мобед… Его не надо клясть,
Пойми, была над ним чужая власть.
Тебе нужны помощники? Динары?
Проси что хочешь, мудрый, строгий, старый».
Те речи оживили старика,
Ушла, растаяла его тоска.
Направился глава деревни к дому,
Всех жителей созвал он к водоему.
Велел он обрабатывать поля,—
Да будет снова вспахана земля!
Он у соседей взял волов тяжелых,—
Все оживилось на лугах и в долах.
Он с земледельцами делил труды,—
Повсюду вскоре выросли сады.
Как только часть деревни возродилась,
В людских сердцах отрада утвердилась.
Все, кто бежал, скитаясь вдалеке,
Кто на чужбине слезы лил в тоске,
Услышав о жилищах возрожденных,
О тех полях, заботой огражденных,—
Со всех сторон направились домой,
Восстановить желая край родной.
И вот земля украшена садами,
И птицами, и тучными стадами,
Стал плодородным разоренный край,—
Чудесный, солнцем озаренный рай!
Прошло три года — не узнать селенья:
Всех жителей исполнились стремленья…
Опять весной поля оживлены.
Поехал на охоту царь страны.
С Бахрамом был Рузбех, добром влекомый.
Едва к деревне прибыли знакомой,
Увидел шах, что стало веселей
От шумных стад и радостных полей.
Здесь новые дома, порядок новый,
По всей деревне — тучные коровы,
В арыках не смолкает шум воды,
Повсюду — нивы, гумна и сады.
Да, это рай! В степях цветут тюльпаны,
В горах пасутся овцы и бараны.
«Рузбех, скажи мне, — шах проговорил,—
Как ты деревню эту разорил?
Все люди устремились прочь отсюда,—
Как возродил ты край? Как сделал чудо?»
А тот: «Я слово произнес одно,
И разорило древний край оно.
Будь счастлив, шах! От одного лишь слова
Цветущим это место стало снова.
«Ты разори, — велел мне царь царей,—
Деревню, земледельцев не жалей!»
Но трепет я почувствовал пред богом,
Слова я вспомнил о возмездье строгом.
Я понял: та душа обречена,
В которой двойственность заключена.
Я понял: та держава разорится,
Где два царя замыслят воцариться.
Тогда я подал жителям совет.
Сказал: «Теперь господ над вами нет.
Детей и жен к мужчинам приравняем,
К старшинам — слуг, старательных — к лентяям».
Лишь превратился весь народ в господ,
Как всех господ поубивал народ.
Цветущее селенье опустело,—
Да бог меня простит за это дело!
Но сжалился над ними шах благой,
Пришел я к ним и путь открыл другой,
Над ними старца мудрого поставил,
Который прозорливо их возглавил.
Сердца привлек он силою ума,
Он превратил развалины в дома.
Один стал господином надо всеми,—
Взошло добра спасительное семя.
Сначала им открыл я ложный путь,
Потом — божественный, надежный путь
И жемчугов, и трона золотого
Ценней разумно сказанное слово.
Отраду мира только тот постиг,
Чей разум — царь и богатырь — язык».
Бахрам воскликнул: «Ты венца достоин,
Рузбех, ты званья мудреца достоин!»
Дела мобеда увенчал успех.
Дары от шаха получил Рузбех.
Мобед вознесся, награжденный златом
И царственным блистающим халатом.
Покинул шах цветущее поместье,
Уехал, радостный, с Рузбехом вместе.
Проспал всю ночь до самого утра,—
Вновь на охоту выехать пора.
Помчался он дорогой, бездорожьем,
Ничем иным весь месяц не тревожим.
Вот разожгли среди степи костры,
Добычею наполнили шатры.
Лилось вино, и много было мяса,
И песнь до позднего звенела часа.
Чанг, и рубаб, и нежные слова,
Горят сухие, мокрые дрова…
Из города и молодой и старый —
Явились все, кому нужны динары.
Примчались витязи для ловли в степь,
А горожане — для торговли в степь.
Газелей, ланей — здешних уроженок,
Онагров покупали за бесценок,
Ему из дичи, птицы водяной
Харварами везли к себе домой,
Чтоб накормить родного и чужого,—
Так много каждый получил жаркого!
Не торопился шах домой опять,
Он снова жаждал с женщинами спать.
Повел он из охотничьих раздолий
Воителей, и пыль клубилась в поле.
Шло войско тучей пыли полевой,
И вскоре день оделся синевой.
Селение увидел шах усталый —
Дома, базары, улицы, кварталы.
Всем до единого своим бойцам
Велел вступить в селение Бахрам.
Спросил: «Где дом хозяина селенья?»
Туда поехал шах без промедленья.
Пред ним — разрушенный обширный дом.
Поклон отвесил муж в тряпье худом.
А шах: «Кто стал хозяином развалин?
Их вид среди селенья так печален!»
«Здесь я живу, — последовал ответ.—
Злосчастье — мой вожатый и сосед.
Нет у меня быков, ослов, одежды,
Нет опыта, уменья и надежды.
Ты на меня, на нищий дом взгляни,
Меня с моим жилищем прокляни!»
Царь спешился и осмотрел жилище:
Был страшен дом, разрушенный и нищий.
Везде овечий виден был помет,
Едва-едва держался ветхий свод.
«О добрый человек! — сказал владыка,—
На что бы сесть, прошу я, принеси-ка».
А тот: «Не смейся ты над бедняком,—
Ты, видимо, с нуждою не знаком.
Будь у меня подстилки, одеяла,
Меня б молва людская восхваляла.
А я до бедности такой дошел,
Что нечем даже застелить мне пол,
Прикрыться нечем и питаться нечем:
Ты на помете не заснешь овечьем!»
А царь: «Хочу присесть, устал с пути.
Нельзя ли хоть подушку принести?»
Но был ответ: «Где взять ее? Отколе?
За птичьим молоком ты прибыл, что ли?»
Промолвил гость: «Подушки нет? Ну, что ж,
Быть может, хлеб и молоко найдешь?»
Сказал хозяин: «Ты, наверно, бредишь,—
Мол, здесь поешь ты, отдохнешь, уедешь…
Будь в доме хлеб, во мне была б душа,
Я ожил бы, отрадою дыша!»
«Нет у тебя овец? Печальны речи!
Кто ж набросал в твой дом помет овечий?»—
Шах вопросил. А тот: «Уже темно,
Не спорь, ты здесь не ляжешь все равно.
Ты дом найди, где место для вельможи,
Где благодарен будешь ты за ложе.
А я, как видишь, в нищете живу,
Я сплю, постлав солому и траву.
Весь в золоте твой меч, слепит он взоры,
Того гляди, его утащат воры.
Такой разрушенный и ветхий кров —
Приманка для грабителей, воров».
Шах молвил: «Если б вора я боялся,
То без меча давно бы я остался.
Прими лишь на ночь гостя твоего,
И больше мне не надо ничего».
А тот: «Не обижайся. Пуст и мрачен
Мой дом, он для гостей не предназначен».
«Разумный человек, — сказал Бахрам,—
Ты почему со мною так упрям?
Я полагаю, старец благородный,
Что дашь ты мне хотя б воды холодной?»
Сказал старик: «Проси или грози.
Но здесь колодца не найдешь вблизи.
Ты хочешь отдыха, ты хочешь пищи,
Зачем же ты в мое забрел жилище?
Не видел, что ли, жалких бедняков,
Работать неспособных стариков?»
Шах молвил: «С воином живи ты дружно,
Землевладельцу спорить с ним не нужно.
Но кто ты?» — «Фаршидвард я, — был ответ,—
Здесь нет жилья, воды и хлеба нет!»
Сказал Бахрам: «Зачем, терпя страданья,
Не ищешь ты покоя, пропитанья?»
Землевладелец отвечал: «Творец,
Быть может, скорый мне судил конец,
Но буду бога славить неустанно,
Когда уйдешь ты с моего айвана.
Зачем зашел ты в этот нищий дом?
Да будет горе на пути твоем!»
Так застонал он, горем отягченный,
Что шах сбежал, услышав эти стоны,
Пустился в путь, смеясь над стариком,
За ним пошло все войско целиком.
Из той деревни выехав хорошей,
Достиг земли, колючками заросшей.
Бедняк рубил колючки топором.
Властитель с ним заговорил с добром:
«Колючек ты предпринял истребленье,—
Скажи, кого ты знаешь в том селенье?»
«Там Фаршидвард живет, — сказал бедняк,—
Не пьет, не ест, он вечно бос и наг.
Ста тысяч у него овец отменных,
По стольку же коней, верблюдов ценных,
А сколько денег он зарыл в песок,—
Чтоб он сгорел, чтоб он истлел, иссох!
Нет близких у него, детей, супруги,
Он жадностью известен всей округе,
Зерно продай он, — верится с трудом! —
Наполнил бы деньгами целый дом!
У пастухов его полно припаса,
В горячем молоке готовят мясо,
А сам он ест с дешевым сыром хлеб,
Он к собственным страданьям глух и слеп»
Сказал Бахрам: «Ты отвечаешь честно,
Число его овец тебе известно,
Но знаешь ли, где у него стада,
Дорогу нам укажешь ли туда?»
Ответил тот: «О всадник без порока,
До пастбища отсюда недалёко,
Там у него отары, табуны,—
Боюсь, что будут дни его черны!»
Шах молвил: «Станешь лучшим ты из лучших»,—
Дал денег собирателю колючек.
Велел он, чтоб помчался на коне
Муж, сведущий в совете и войне.
Бихрузом звался этот воин смелый,
На службе у владыки поседелый.
Сто всадников послал с богатырем,
Достойных, честных, движимых добром.
Послал дабира, опытного в счете,
Умелого в счислительной работе.
Крестьянину сказал: «Твой труд хорош,
Сбирал колючки — золото пожнешь.
Дорогу людям покажи с охотой,
Владей от тех сокровищ частью сотой».
Крестьянин, Дилафрузом наречен,
Был крепок, и вынослив, и силен.
Ему коня вручил глава вселенной,
Сказал: «Помчись, как ветер дерзновенный».
Стал светом мирозданья Дилафруз,
Пришел — вступил с победою в союз.
Отряд повел он по лугам, полянам,
Там счета нет ни овцам, ни баранам,
Верблюды землю давят тяжело,
И десять караванов — их число.
Коров двенадцать тысяч было дойных
И столько же быков, хвалы достойных.
Коней, верблюдов, — их не ведал мир,—
По двадцать тысяч насчитал дабир.
Степное солнце в их пыли погасло,
В корчагах глиняных — коровье масло,
Сыров, иным неведомых местам,
Верблюжьих вьюков триста тысяч там.
В горах и долах — овцы и бараны,
А горы, долы были безымянны.
Бихруз, богатства эти сосчитав,
Послал письмо властителю держав:
Он господу вознес хвалу сначала,
Чтоб длань его победу ниспослала,
Затем царя восславил: никогда
Пусть не приблизится к нему беда!
И написал: «О царь со светлым ликом,
Даришь ты радость малым и великим!
Скажи, где доброты твоей предел?
Причиною не будь недобрых дел!
Все в меру хорошо, — нет лучших истин,
О шах, так будь же в меру бескорыстен!
Тот Фаршидвард, что жизнь влачил в глуши,
Неведомый ни для одной души,
Чьего не знали темного прозванья
Ни в битве, ни во время пированья,
Что жил, и крохи малой не даря,
Не признавал ни бога, ни царя,—
Тоскует, с виду нищий, неприметный,
Меж тем его сокровища — несметны.
Шах, доброта твоя — как бы порок:
Прости, я слово резкое изрек!
Богатства отбери — и на три года
Получишь новую статью дохода.
Для описи добра — со всех концов
Мы пригласили счетчиков, писцов.
Их сгорбила тяжелая работа,
Но до сих пор не кончили подсчета!
Еще скажу: сокровища лежат
В земле — и больше этого стократ!
Сижу, с богатств я не спускаю глаза,
Жду, повелитель, твоего приказа,
Да будет вечен дней твоих поток,
Покуда есть основа и уток!»
Велел гонцу спуститься с гор в долину,
Послание доставить властелину.
Бахрам, прочтя письмо, почуял боль,
Слова упали на сердце, как соль.
В глазах блеснули слезы цвета крови,
Нахмурились воинственные брови.
Позвал дабира, чтоб исполнить долг.
Потребовал перо, китайский шелк.
Сперва восславил бога мирозданья,
Владыку счастья, господина знанья,
Зиждителя престолов и венцов,
Властителя царей и мудрецов.
Писал он: «Если бы всегда ко благу
Стремился я, то раскусил бы скрягу.
Хотя богач — не вор и не злодей,
Хотя к беде он не привел людей,
Он оказался бессердечным, черствым,
Не представал пред господом с покорством.
Он жил, умножить прибыли спеша,
А между тем на убыль шла душа.
В юдоли сей овца не лучше волка,
Равно от них нет никакого толка.
В земле зарытых жемчугов не счесть,—
Нельзя одеться в них, нельзя их съесть!
А мы ни стад, ни пашен, ни жемчужин
Не отберем: нам бренный мир не нужен!
Ушли, — и мир без них суров и хмур,—
Царь Фаридун, Ирадж, и Салм, и Тур.
Кавуса нет, нет больше Кей-Кубада,
Нет и других, чью славу помнить надо.
Не ведал благородства мой отец,
Настал и притеснителю конец.
Из тех великих кто остался ныне?
Как можно спорить с господом в гордыне?
Ты раздели богатства меж людьми,
Себе и волоска ты не возьми.
Дай денег тем, чье тело неприкрыто,
Чье сердце долгой горестью разбито,
А также старцам деньги ты вручи:
Их, нищих, презирают богачи,
А также тем, что кое-что имели,
Потом проели и живут без цели,
А также тем, кто по уши в долгах,
Торгуют, но нуждаются в деньгах,
А также детям, чьи отцы — в могиле,
Ушли, но им богатств не накопили,
И женам без мужей, что в ремесле
Несведущи и чахнут на земле,
Ты раздари богатства людям хижин,
Ты озари несчастных, кто унижен.
Когда вернешься во дворец назад,
Ты не ищи в земле зарытый клад.
Чтоб не стонал от горя скряга старый,
Оставь ему зарытые динары.
Как прах, динары будет он беречь,—
Ему бы самому в могилу лечь!
Да милость небосвод к тебе проявит,
Да за добро народ тебя прославит».
К письму царя приложена печать,
И вестник в путь отправился опять.
После Бахрама Гура иранский престол занимают мало чем примечательные цари. Начинается пора ожесточенных войн с эфталитами.
В плену эфталитов провел свою молодость шах Кубад, правление которого ознаменовалось (в начале VI века) восстанием народа под водительством Маздака.
Был некий муж по имени Маздак,
Разумен, просвещен, исполнен благ.
Настойчивый, красноречивый, властный,
Сей муж Кубада поучал всечасно.
Он был руководителем царя,
Он был казнохранителем царя…
От засухи не стало в мире пищи,
Высокородный голодал и нищий.
На небе тучки не было нигде,
Забыл Иран о снеге и дожде.
Пришли вельможи во дворец Кубада:
Земля суха, а людям хлеба надо.
Сказал Маздак: «Вас может царь спасти,
К надежде он укажет вам пути».
А сам пришел к властителю державы
И молвил: «Государь великий, правый!
Найду ли я ответ своим словам,
Когда один вопрос тебе задам?»
Ответствовал Кубад: «Скажи мне слово,
Высокой чести послужи ты снова».
Сказал Маздак: «Ужаленный змеей,
Несчастный собирался в мир иной,
А некто был с противоядьем рядом,
Но не помог отравленному ядом.
Решай же: какова его вина?
Мала, ничтожна снадобья цена!»
Ответил так властитель государства:
«Убийца — тот, кто пожалел лекарство!
Пусть родичи его найдут и с ним
Придут на площадь: мы его казним».
Когда Маздак ответ царя услышал,
Он к людям, жаждущим спасенья, вышел,
Сказал им: «Я беседовал с царем,
Осведомлен владыка обо всем,
Ко мне придите завтра вы с зарею,—
Дорогу к справедливости открою».
Ушли, вернулись на заре назад,
В отчаянье сердца, умы кипят.
Маздак, вельмож увидев утром рано,
В покои поспешил царя Ирана
И молвил: «Прозорливый государь,
Могучий и счастливый государь!
Ответив мне, ты мне явил доверье,
Как будто отпер запертые двери.
Когда ты мне соизволенье дашь,
Скажу я слово, о вожатый наш!»
А царь: «Скажи, не ведая смущенья,
Царю твои полезны поученья».
Сказал Маздак: «О царь, живи вовек!
Допустим, что закован человек.
Без хлеба, в тяжких муках смерть он примет,
А некто в это время хлеб отнимет.
Как наказать того, кто отнял хлеб,
Кто не хотел, чтоб страждущий окреп,
А между тем, — ответь мне, царь верховный,—
Умен, богобоязнен был виновный?»
Сказал владыка: «Пусть его казнят:
Не убивал, но в смерти виноват».
Маздак, склонившись ниц, коснулся праха,
Стремительно покинул шаханшаха.
Голодным людям отдал он приказ:
«К амбарам отправляйтесь вы тотчас,
Да будет каждый наделен пшеницей,
А спросят плату, — пусть воздаст сторицей».
Он людям и свое добро вручил,
Чтоб каждый житель долю получил.
Голодные, и молодой и старый,
Тут ринулись, разграбили амбары
Царя царей и городских господ:
Ведь должен был насытиться народ!
Доносчики при виде преступленья
Отправились к царю без промедленья:
Амбары, мол, разграблены сполна,
Лежит, мол, на Маздаке вся вина.
Маздаку повелел Кубад явиться,
Спросил: «Зачем разграблена пшеница?»
А тот: «Пребудь бессмертным, царь царей,
И разум речью насыщай своей.
Пересказал я толпам слово в слово
То, что услышал от царя земного:
Змеей ужален, некто заболел,
Другой ему лекарство пожалел.
Сказал мне о больном властитель царства.
Сказал о том, кто пожалел лекарство:
«Когда умрет ужаленный змеей
И снадобья не даст ему другой,
То вправе человек убить злодея:
Не спас больного, снадобьем владея».
Лекарство для голодного — еда,
А сытым неизвестна в ней нужда.
Поймет владыка, что к добру стремится:
Без пользы в закромах лежит пшеница.
Повсюду голод, входит смерть в дома,
Виной — нетронутые закрома».
Не знал Кубад, как выбраться из мрака,
Услышал он добро в словах Маздака.
Он вопрошал — и получил ответ,
В душе Маздака он увидел свет.
С того пути, которым шли пророки,
Цари, вожди, мобедов круг высокий,
Свернул, Маздаку вняв, отважный шах:
Узнал он правды блеск в его речах!
К Маздаку люди шли со всей державы,
Покинув правый путь, избрав неправый.
Простому люду говорил Маздак:
«Мы все равны — богатый и бедняк.
Излишество и роскошь изгоните,
Богач, бедняк — единой ткани нити.
Да будет справедливым этот свет,
Наложим на богатство мы запрет.
Да будет уравнен с богатым нищий,—
Получит он жену, добро, жилище.
Святую веру в помощь я возьму,
Свет, вознесенный мной, развеет тьму.
А кто моей не загорится верой,
Того господь накажет полной мерой».
Сперва пришли к Маздаку бедняки,
И стар и млад — его ученики.
Излишки одного давал другому,—
И удивлялась знать вождю такому.
Его ученье принял шах Кубад,
Решив, что счастьем будет мир богат.
Велел он: «Пусть жрецов Маздак возглавит».
Не знала рать: «Кто ж ныне царством правит?»
Стекались нищие к Маздаку в дом,
Кто пищу добывал своим трудом.
Повсюду ширилось его ученье,
С ним не дерзал никто вступить в сраженье.
Богатый роздал все, что он сберег,
И нищим подавать уже не мог!
Вскоре после того, как Хосров, подавив восстание народа, занял престол, против него выступил его сын Нушзад. Мятежники были разбиты, а сам Нушзад погиб в бою.
Много места в описании царствования Хосрова Ануширвана (то есть бессмертного) занимают его беседы с мудрым везиром Бузурджмихром, который поведал ему две версии об изобретении шахмат. Согласно первой из них, индийский раджа прислал Хосрову Ануширвану шахматы с просьбой отгадать правила игры. Мудрый Бузурджмихр справился с этой задачей, но в ответ сам придумал игру в нарды, правило которой индийцы, в свою очередь, не смогли отгадать.
Другая версия гласит, что в Индии во время междоусобной распри один из претендентов на престол, попав в окружение, умер от жажды. Его брат, с которым шла борьба за власть, велел изобразить это событие в виде шахматной игры, чтобы оправдаться перед матерью и доказать свою невиновность в этой трагической истории.
Здесь же Фирдоуси рассказывает о том, как свод басен и притч «Калила и Димна» был переведен с санскрита на пехлевийский (среднеперсидский) язык, как лекарь шаха по имени Барзуй прочитал в древних книгах о чудодейственной траве и с разрешения своего властителя отправился за ней в Индию.
Много места в дастане о Хосрове занимает повествование о его победоносных войнах с тюрками и Румом (Византией).
Хосрову Ануширвану наследовал сын Хурмуз, против которого восстал талантливый полководец Бахрам Чубин. Вопреки священной и вековой традиции, он захватил престол, а наследник Хосров Парвиз бежал в Рум, женился на дочери кайсара и вернулся в Иран с византийскими войсками. Бахрам Чубин был разбит, и Хосров Парвиз снова захватил власть.
В описание царствования Хосрова Парвиза включена романтическая история его любви к прекрасной христианке Ширин.
Впоследствии Хосров Парвиз отплатил кайсару черной неблагодарностью, ведя разорительные войны с Румом. На старости лет он был свергнут собственным сыном. Когда Хосров был убит подосланным убийцей, Ширин покончила с собой на его могиле, отказавшись выйти замуж за нового властелина.
Шируйе царствовал недолго, за ним правили несколько шахов, пока в Иране не воцарился последний представитель династии Сасанидов — Йездигерд. Ему удалось подавить смуты и в какой-то мере восстановить былую мощь Ирана, но в это время в страну вторглись арабские полчища.
Саад, сын Ваккаса, послан был Омаром
Сломить Иран решительным ударом.
Шах Йездигерд, услыша весть войны,
Стал собирать войска со всей страны.
Тогда Хурмузда сын, воитель славный,
Был полководцем шахской рати главной.
Исполнен знаний, доблести и сил,
Рустама имя этот муж носил.
Испытан в битвах, окружен почетом,
Он был к тому ж великим звездочетом.
Мобедов он повез в поход с собой,
Держал совет, пред тем как выйти в бой.
То там, то тут врагам отпор давал он;
Так тридцать месяцев провоевал он.
Вот у селения Кадисийи
Пред боем он стянул войска свои.
Сперва светила неба вопросил он,
Расположенье звезд определил он.
Сказал себе: «Сражения исход
Сегодня чести нам не принесет».
Когда ему глагол судьбы открылся,
За голову он в ужасе схватился.
И с болью сердца обо всем, что знал,
В письме последнем брату написал…
«…Когда прославят с каждого мимбара
Деянья Абубекра и Омара,[63]
Престол, корона, стяг падут во прах
И свергнут будет горделивый шах,
Оплот Ирана рухнет, ставши слабым,
Сулят светила счастье лишь арабам;
И будет этих пришлых часть одна
В одежды черные облачена.[64]
Нам не оставят судьбы ни господства,
Ни башмаков златых, ни благородства.
Одни трудиться будут, добывать,
Другие — добытое пожирать.
В презренье будут верность, справедливость,
Возвысятся ущербность, зло и лживость.
Взамен былых прославленных мужей
Презренные воссядут на коней.
Величьем недостойный завладеет,
Родов старинных древо оскудеет.
Рвать будут друг у друга, расхищать…
На все падет проклятия печать.
Всеобщей злобой души развратятся,
И, как гранит, сердца ожесточатся.
Замыслит злое сын отцу, а тот
Сам против сына козни возведет.
Владыкой станет раб, и в поношенье
Нам будет знатное происхожденье.
Не будет больше верности ни в ком,
Ложь овладеет каждым языком.
Арабы, тюрки, персы — три народа
Смесятся. Будет новая порода,
И ни дихканами[65] тот новый род,
Ни тюрками никто не назовет.
Завистливы они, злословны будут,
О доблести и щедрости забудут.
Свои богатства спрячут под полой
На разграбленье вражьей силе злой.
Мир веселился в дни Бахрама Гура,
Но будет в мире горестно и хмуро.
Не слышно будет праздников нигде,
Лишь козни будут строиться везде.
И лихоимство процветет без меры,
И жадность — под покровом правой веры.
На пир весны не принесут вина,[66]
Не зазвучат ни флейта, ни струна.
Век наступает гибельный, проклятый,
Погибнут благородные азаты.
Пойдет грабеж, бесчинства; вновь и вновь
Из-за имущества польется кровь.
Я изнемог, во рту пересыхает,
От горя сердце кровью истекает,
Померкла счастья нашего звезда,
Пришла неотвратимая беда,
Неверный небосвод — для нас померк он,
Был благосклонен к нам — и нас отверг он…
О брат мой, оставайся невредим,
У шаха ты один, будь вместе с ним.
И хоть со мной мой щит, и меч, и сила,
Но здесь, в Кадисийе, — моя могила.
Моя кольчуга — саван, кровь — мой шлем.
Не плачь! Таков удел, сужденный всем».
Арабские войска наголову разбили иранцев при Кадисийе. Полководец Рустам пал в бою.
«Наверно, все вы знаете сейчас,
Какое бедствие постигло нас
От змееедов с мордой Ахриманьей;
У них — ни чести, ни добра, ни знанья.
Разбойный сброд, что обнищал до дыр,
Придет и пустит на ветер весь мир.
Так повернулся циркуль небосвода,—
Настал ущерб для царства и народа.
От вороноголовых всем беда;
Нет в них понятий чести и стыда,
Ануширвану вещему приснилось:[67]
Сиянье трона шахского затмилось;
И тысяч сто арабов, на конях
И на верблюдах, с копьями в руках,
Через Арванд-реку перевалили
И до неба всклубили тучу пыли.
В полях посев был вытоптан, спален,
И рухнули Иран и Вавилон.
Огни погасли в храмах оскверненных,
Все смолкло в городах опустошенных.
И диво — не осталось ни зубца
На гордых башнях царского дворца.
Значенье сна сегодня прояснилось,—
От нас навеки счастье отвратилось.
Кто был велик — в ничтожество впадет,
Кто низок был, тот высоко взойдет.
И зло распространится по вселенной;
Вред будет явным, благо — сокровенно.
В кишваре каждом сядет свой тиран,
И миром овладеет Ахриман.
Ночь наступает в мире — явно это,
Тьма воцарится, и не будет света.
Теперь мы, по совету мудрецов,
С отрядом наших верных удальцов
Направились к пределам Хорасана,
Где нам приют у каждого марзбана.
Как знать, какой нам жребий принесет
Вращающийся вечно небосвод?»
Шах Йездигерд направился в Хорасан, в город Тус, где его принял с почетом тамошний марзбан Махой Сури. В то же время Махой написал предательское письмо правителю Самарканда полководцу Бижану, советуя ему разбить остатки войск Йездигерда и захватить самого шаха в плен. Бижан последовал этому совету. Йездигерд потерпел поражение, но ему удалось бежать.
Шах показал и мужество в бою,
И доблесть, и решительность свою.
И многих славных витязей убил он,
Но принужден спасаться бегством был он.
Скакал он от погони налегке,
Совсем один — кабульский меч в руке.
Он мчался, словно молния из тучи;
Вдруг мельницу над речкою гремучей
Увидел. И, застигнутый бедой,
Укрылся он на мельнице пустой.
Вдоль речки Зарк туранцы следом рыщут,
Они царя за каждым камнем ищут.
Коня, спасаясь бегством, бросил шах
И меч оставил в золотых ножнах.
Вся сбруя чистым золотом сверкала,—
В глазах туранцев алчность запылала.
А шах, оставшись в мельнице пустой,
Нашел охапку там травы сухой,
И сел на ту охапку шах Ирана…
Таков закон обители обмана!
Паденье тем страшней, чем выше взлет.
Был трон царя вчера — как небосвод;
Теперь его удел — сидеть на сене
И горечь пить обид и сожалений.
Ты дорожишь обителью тщеты?
Иль грохота литавр не слышишь ты?[68]
«Пора! — взывает грохот отдаленный,—
Твоя могила у ступени тронной!..»
Во рту ни крошки, в сердце тяжело…
Так шах сидел, пока не рассвело.
Вернулся мельник в мельницу с зарею,
Принес травы охапку за спиною.
И онемел, увидев пред собой
Богатыря в кольчуге золотой.
Потом спросил царя: «О солнцеликий,
Как ты попал в безлюдный край наш дикий?
Тебе не место мельница, о князь,
Где лишь травы охапка, пыль и грязь.
Что ты за человек? У нас в пустыне
Таких, как ты, не видел я доныне».
«Иранец я, — ответил шах ему,—
От тюрков скрылся я в твоем дому».
И мельник подмигнул в ответ лукаво:
«Я беден, — не в укор такая слава;
Но коль не брезгуешь, то у меня
Есть и чеснок, и хлеб из ячменя.
Все принесу, поешь, хоть и несладко!
У бедняков всю жизнь во всем нехватка».
Был шах в бою три дня, не ел, не спал,
Ячменный хлеб, вздыхая, он вкушал…
И мельнику сказал Махой: «Скорей!
Веди моих людей, врага убей!»
Услышав это, мельник устрашился,
Но он с Махоем спорить не решился
И в ночь изана, в месяце хурдад,
Пошел на мельницу; за ним отряд.
Когда он вышел из дворца марзбана,
От горя он качался, словно пьяный.
Сказал правитель всадникам своим:
«Летите вслед за мельником, как дым!»
Сказал им, чтоб одежды дорогие,
И башмаки, и серьги золотые
Не вздумали бы кровью заливать,
Что надо все с царя сперва сорвать.
Убогий мельник, от Махоя выйдя,
Спешил домой, от слез пути не видя,
И говорил: «О господи, внемли!
Спаси, владыка неба и земли!
Пускай Махой отменит приказанье!
Да не свершится это злодеянье!»
И подошел он к шаху весь в слезах.
Рот — как земля, на сердце стыд и страх.
Вплотную к шаху подойти посмел он —
Так, будто что-то на ухо хотел он
Шепнуть… И нож царю в живот вонзил.
Шах только вздох тяжелый испустил.
Пал головой венчанной царь вселенной
На не доеденный им хлеб ячменный.
Веления светил для нас темны,
Пал Йездигерд, казненный без вины.
Так из царей не умирал никто,
Так из мужей не умирал никто.
Нет, видно, разума у небосвода,—
То милость от него, а то — невзгода.
Что сетовать, о смертный? Ждать чего
От мира и превратностей его?
Был к Йездигерду справедлив иль нет
Жестокий этот суд семи планет?
Как милость неба отличить от гнева,
О мудрецы, ответите ли мне вы?
И если пусто у тебя в казне,
Не думай, смертный, о грядущем дне.
Всегда кружится небо над тобою,
Все сроки жизни сочтены судьбою.
И если завтра сам ты не умрешь,
То, что тебе потребно, обретешь.
Когда б доход мой равен был расходу,
Я благодарен был бы небосводу!
Мой хлеб побил подобный смерти град,
Мне смерть была бы легче во сто крат.
По милости разгневанного неба
Лишен я дров, баранины и хлеба.
Воителю Бижану сообщили,
Что в плен живым Махоя захватили.
Бижан, что был печален и угрюм,
Освободился от тяжелых дум.
Без отдыха, как вихри урагана,
Везли Махоя стражи в стан Бижана.
Когда лицо Бижана увидал
Махой, как будто разум потерял.
Упал он на песок, повержен страхом,
И голову свою осыпал прахом.
Сказал Бижан: «О выродок! Как быть?
Какою казнью нам тебя казнить?
Ты, раб, зачем убил царя Ирана,
Владыку нашего и пахлавана?
Он по отцам природным был царем,
Второй Ануширван явился в нем!»
И отвечал Махой: «От корня злого
Не жди добра, а жди плода дурного,
Меня без сожаленья истреби,
Мне голову железом отруби».
«Так я и сделаю, — Бижан ответил.—
Сгинь, Ахриман! А свет да будет светел!»
Махою руки он велел отсечь,
Сказал: «Уж не возьмешь ты больше меч!»
И отрубить велел Махою ноги,
Чтоб он валялся в муках на дороге.
Велел потом отрезать уши, нос,
Сказал: «Казнись теперь, презренный пес!
Да, мало были мы с тобой жестоки,
Лежи, околевай на солнцепеке!»
Трех молодых имел Махой сынов,
Трех славных обладателей венцов.
Костер сложили, запалили пламя,
Сожгли на нем Махоя с сыновьями.
Погиб Махой — и род исчез его,
И не осталось в роде никого.
А если и остался кто, — все гнали
И вслед ему проклятья посылали.
Да будет проклят род его и дом,
Да будет память проклята о нем!
И век настал великого Омара,
И стих Корана зазвучал с мимбара.[69]
Когда я прожил шестьдесят пять лет
И сгорбился от горьких дум и бед,
Решил я книгу о царях Ирана
Писать — и стал трудиться неустанно.
Писали и вельможи в те года,
Не получая денег никогда,
Вполне довольны средствами своими,
Я был поденщиком в сравненье с ними.
Они хвалили все, что я писал,
Желчь разлилась во мне от их похвал.
Мошны с деньгами завязавши туго,
Они не знали моего недуга.
Недуг мой имя бедности носил.
Лишь Дейлеми Али меж ними был,
Удачлив сам, исполненный участья,
И дружба с ним мне приносила счастье.
И благородный муж, сын Кутейбы,[70]
Теперь мне послан милостью судьбы.
Он шлет мне даром пищу и одежду,
Он дарит сердцу добрую надежду.
Я никаких налогов не плачу,
Лишь пью, да ем, да сплю, когда хочу.
Когда б не он — не жить мне в этом доме,
А в рубище валяться б на соломе.
Как семьдесят второй пошел мне год,
Мои стихи услышал небосвод.
И вот я до конца довел счастливо
О древних подвигах рассказ правдивый.
В день арда, в месяце исфандармад,
Я кончил труд, что былями богат.
От хиджры на году четырехсотом
Закрыл я книгу, написавши все там,
Что знал о прошлом. И по всей стране
Теперь все громче речи обо мне.
Я не умру вовек! Жить буду снова
Во всходах мной посеянного слова!
И тот, кто свет ума и веры чтит,
Мой величавый подвиг восхвалит.
В средневековье текст «Шах-наме» был сильно засорен и подвергся значительным искажениям: изменения вносились не только в отдельные стихи, но иногда опускались даже целые эпизоды, а в других случаях в списки включались сказания, содержащие иногда несколько тысяч двустиший.
Первая попытка очистить «Шах-наме» от искажений была сделана в средние века при внуке Тимура Байсункар-мирзе, который поручил воссоздать подлинный текст творения Фирдоуси нескольким ученым литераторам. Подготовленный ими в 1426 году вариант эпопеи был засорен в такой мере, что превышал на семь тысяч двустиший нынешние критические издания. Список с роскошными миниатюрами, подготовленный по приказу Байсункар-мирзы, ныне хранится в библиотеке Гулистанского дворца в Иране.
Следующая попытка очистить текст «Шах-наме» от наслоений была сделана в начале XIX века в Индии, однако издатели и на этот раз не справились с поставленной задачей в силу отсутствия должной научной подготовки, а финансировавшая издание Ост-Индская компания прекратила субсидии, поэтому увидел свет лишь один из восьми намечавшихся томов.
Первое научное четырехтомное издание эпопеи вышло в 1829 году в Индии благодаря содействию и финансовой поддержке Насираддина Хайдара — раджи индийского княжества Ауда. Издатель текста англичанин Тернер Макан сличил семнадцать древних рукописей, однако все они были переписаны после байсункаровской редакции и потому не соответствовали подлинному авторскому тексту. И тем не менее Тернеру Макану впервые в истории изучения «Шах-наме» удалось выделить три большие позднейшие вставки, которые до того времени считались принадлежащими перу самого Фирдоуси.
Во Франции в 1826 году королевским указом было поручено подготовить новое критическое издание «Шах-наме» молодому ориенталисту Жюлю Молю. Для этого он специально ездил в Англию, чтобы сличить готовившийся текст со многими древними рукописными списками. Моль сопроводил свое издание прозаическим переводом и выделил новые позднейшие вставки. Последний том вышел из печати уже после его смерти, в 1878 году. Однако издание Моля уступало макановскому, поскольку ученый не охарактеризовал использованные им рукописи, а в выборе текста руководствовался не научными критериями, а субъективными эстетическими оценками.
Немецкий востоковед Вуллерс решил издать «Шах-наме», сличая издания Макана и Моля и не привлекая новых рукописных списков. К тому же в его распоряжении были рецензии на первые тома Моля немецкого поэта Рюккерта и персидского — Махрама. В тексте Вуллерса были устранены многие непонятные места в эпопее и исправлены недосмотры прежних издателей. Однако и этот текст также не может считаться подлинно научным. К тому же три тома, подготовленные Вуллерсом (третий том был издан его учеником Ландауэром), включали лишь мифологическую и героические части эпопеи.
К тысячелетию со дня рождения Фирдоуси в 1934–1935 годах в Тегеране вышло два издания «Шах-наме». Текст Рамазани был составлен на основе изданий Макана, Моля, Вуллерса, а также бомбейского и двух тегеранских. Текст же, вышедший в издательстве «Берухим», был перепечаткой издания Вуллерса с дополнением исторической части, подготовленной на тех же принципах выдающимися иранскими филологами.
Таким образом, до самого последнего времени мы не располагали критическим изданием текста «Шах-наме», не говоря уже о каноническом, поскольку он может быть составлен только при наличии автографа или, по крайней мере, прижизненной рукописи»
За выполнение этой почетной задачи взялся покойный член-корреспондент АН СССР Е. Э. Бертельс, который отобрал наиболее древние рукописные списки и поручил под своей редакцией подготовку текста группе своих учеников.
В основу составленного сотрудниками Института востоковедения текста «Шах-наме» легли рукописи, переписанные до составления байсун-каровского варианта, что обеспечило очищение эпопеи от тех наслоений, которые были включены позднее. Самая древняя рукопись «Шах-наме» датируется 1277 годом и хранится в Британском музее в Лондоне. Помимо этого, при составлении текста был использован и арабский прозаический перевод 1218–1227 годов. В настоящее время вышли из печати все девять томов советского издания, получившего самую высокую оценку как у нас в стране, так и за рубежом, в том числе и в Иране. Подготовленный советскими иранистами текст с некоторыми изменениями и использованием двух новых рукописей переиздается в Иране под грифом Института востоковедения АН СССР и библиотеки Пехлеви Министерства двора Ирана.
Переводы «Шах-наме» имеют давнюю историю. Первый перевод на арабский язык был выполнен прозой в 1218–1227 годах.
К XV веку относятся первые грузинские переводы «Шах-наме», впоследствии было осуществлено еще несколько переводов.
В XVI и XVII веках в Османской Турции было сделано два перевода на турецкий язык.
В XIX и XX веках текст «Шах-наме» целиком или частями переводился на языки хиндустани, узбекский, азербайджанский, гуджератский.
Первый европейский перевод «Шах-наме» появился в конце XVIII столетия в Англии, причем было опубликовано только начало огромной эпопеи. В XIX веке в Европе в нескольких странах издавались переводы и в стихах и в прозе отдельных разделов эпопеи.
В 1832 году вышел сокращенный английский прозаический перевод «Шах-наме», кончающийся смертью Искандара, то есть охватывающий значительную долю исторической части.
В конце XIX века немецкий ученый фон Шак выпустил изложение эпопеи Фирдоуси, причем эта книга выдержала четыре издания.
Заметным событием был перевод немецкого поэта-романтика Рюккерта, сличившего ранее изданные варианты с рукописями.
В 1885 году в Турине был выпущен итальянский перевод Пицци.
Английские переводы эпопеи Фирдоуси, помимо упомянутых, публиковались в койце XIX и в XX веке четырежды.
В начале XIX века в России издавались отдельные отрывки из «Шах-наме», впервые одно из сказаний было опубликовано на русском языке в 1849 году В. А. Жуковским. Этот перевод, выполненный с немецкого текста Рюккерта, являлся скорее вольным поэтическим изложением сюжета Фирдоуси. Некоторые исследователи считают, что В. А. Жуковский наделил образ Рустама чертами русского богатыря Святогора.
Впервые в России перевод с подлинника был осуществлен на украинский язык известным востоковедом А. Е. Крымским в конце XIX века.
В 1905 году С. Соколов опубликовал в Москве перевод, выполненный непосредственно с персидского.
Во время подготовки к юбилею в 1934 году издательством «Academia» были изданы переводы М. Лозинского.
После Великой Отечественной войны в Москве и Душанбе несколько раз выходили из печати многочисленные переводы С. И. Липкина и В. В. Державина. В издательстве Академии наук СССР издается полный перевод «Шах-наме», выполненный Ц. Бану.
В настоящей книге переводы сделаны частично с тегеранского издания «Берухим» и с издания Института востоковедения АН СССР.
Дабир — письмоводитель. Как правило, владыки не писали и не читали посланий. Они диктовали, а им читали, поскольку и то и другое считалось недостойным занятием для властелина.
Ней — флейта.
Систан — область на востоке Ирана, заселенная задолго до появления ислама восточноиранскими племенами саков, откуда область и получила свое название (Сакастан — Сагистан — Сеистан — Систан). Саки принесли с собой богатый героический эпос, который вошел в общий фонд иранских героических сказаний.
Урдибихишт — второй месяц иранского солнечного года, а также второй месяц весны, приходится на апрель — май.