Эрик Дешодт
Аттила
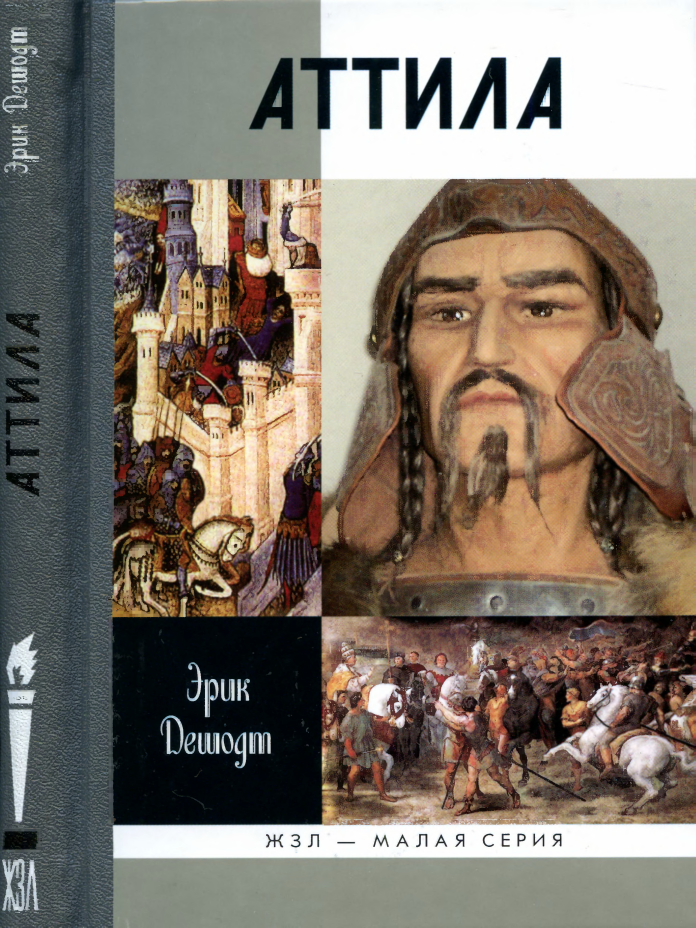
Имя Аттилы известно на Западе и через полторы тысячи лет после его смерти, причем не только узкому кругу историков, изучающих эпоху великих нашествий и заката Римской империи. Точно так же, как название его народа — гуннов, — оно стало синонимом кровавой бойни и опустошения.
Гунны внушали ужас задолго до Аттилы, а с его появлением страх перед этим свирепым народом достиг апогея.
Гунны в Европе, хунну в Китае. Гунны и хунну были двумя ответвлениями «куста» племен, поселившихся, если так можно сказать, в Восточной Сибири, севернее Монголии.
От Тихого океана до Атлантики, от Китая до Европы гунны или хунну повсюду сеяли смерть и разрушение целых пять веков. Их империя при Аттиле максимально раздвинула рамки своих границ.
Кем они были?
Конниками. Конниками, прежде всего. Конниками в душе. Конниками с луком и стрелами. Лучниками на коне.
Сегодня, когда машины погубили коней, уже трудно уловить смысл, почему стремительно переносящиеся — и в пространстве, и во времени — наездники превращались из обычных людей почти в сверхъестественные существа. Человек на коне находится выше, видит дальше, передвигается быстрее, чем простые смертные. Гунны без зазрения совести пользовались этим тройным преимуществом.
Конники тюркского или монгольского происхождения (этот вопрос так до конца и не разрешен) испокон веков рыскали в Монголии, Тибете и их окрестностях. Скотоводы-кочевники, как и все, жили между Сибирью и пустыней Гоби. Но в отличие от всех они мало заботились о своих стадах, предпочитая им чужие. Грабеж избавлял от необходимости ухаживать за скотиной.
Они жили грабежом и поборами, уснащая однообразные набеги бессмысленными избиениями. Бессмысленными? Не совсем. Вполне возможно, что, по крайней мере, некоторым из них кровавая бойня доставляла наивысшее удовольствие. Официально эти избиения были стратегическим ходом, имевшим целью посеять панику, которая упростила бы им задачу — безусловную капитуляцию их жертв.
Тюрки, монголы или тюрко-монголы, северные гунны (китайские хунну) и западные гунны — «черные» и «белые» (о различии поговорим потом) — происходили из азиатских степей, раскинувшихся на миллионы квадратных километров между Сибирью на севере, Тибетом и Хуанхэ на юге, Тихим океаном на востоке и Алтаем на западе.
Здесь необходимо обратиться к северным гуннам, без которых не было бы западных.
Первые упоминания о хунну появляются в китайских источниках III века до н. э. Их властный центр находился к северу от Монголии, в Восточной Сибири, в бассейне реки Орхон — притока Селенги, впадающей в озеро Байкал, неподалеку от города Каракорум, где тысячу лет спустя другой монгол, Угэдэй (Угедей), третий сын Чингисхана, обоснует свою столицу, прежде чем завоевать Китай.
Пересекая Монголию, хунну устраивали набеги на северные провинции империи. Китайцев, хотя их и было много, быстро опрокинули и смели. Их всадники выглядели нелепо в длинных традиционных одеждах, сковывавших движения в седле. Их изрубили на куски.
Тогда империя — неслыханное дело — попрала свою гордость. Невероятно: Сын Неба повелел своим конникам сменить халаты династии Хань на штаны врагов — широкие шаровары степняков, плотно облегающие щиколотку. Китайцы стали более мобильными, но лишь для того, чтобы проворнее удирать от метких лучников с севера. Ибо не брюки помогают лучше стрелять.
Потеряв надежду разгромить гуннов в чистом поле, империя ускорила сооружение Великой Китайской стены: она была закончена около 215 года до н. э., но не оказалась непреодолимой.
Великая Китайская стена стала вызовом, раззадорившим гуннов. Они расхрабрились и в конце III века до н. э. заняли Монголию.
Во II веке до н. э. они опрокинули йю-ки (юэч-жей) из
Александра Македонского, на 20 веков закрыв Среднюю Азию для западного влияния.)
В 161 году до н. э. гунны вторглись в Чеши, раскинувшееся вдоль Хуанхэ, сожгли императорский дворец в
В 142-м они атаковали Великую стену у
В 129-м опустошили окрестности Пекина.
В 127-м китайцы воспрянули духом, воспользовавшись раздорами в стане врага. Разделенных, а значит, ослабленных гуннов отбросили вглубь Монголии.
В 108-м китайцы перешли в наступление. Они послали в Трансоксиану (нынешняя Ферганская долина в Узбекистане) за большими местными лошадьми в надежде превзойти низкорослых коней гуннов.
В 102 году до н. э. полководец Ли Гуанли, пройдя через пол-Азии, потерял по дороге половину из шестидесяти тысяч солдат, погибших от голода и жажды, но привел в Китай три тысячи таких скакунов, благодаря чему его слава пережила века.
Около 60 года до н. э. гунны, по-прежнему раздираемые раздорами, продолжали сдавать позиции. Китайцы взяли под свой контроль участок Шелкового пути, проходящий по реке Тарим, от Тибета до озера Балхаш, перестав платить тяжелую дань своим врагам.
Эти неудачи не образумили гуннов. В своих распрях они дошли до того, что в 51 году до н. э. гуннский вождь Хухан-йе попросил помощи у китайцев против своего соперника Чече. Проиграв, тот отправился в 44 году до н. э. вслед за тохарами искать счастья на западе. Рассеялся по российскому Туркестану до самого Аральского моря. До Кавказа было уже недалеко. За ним начиналась Европа. Но катастрофа разразилась не сразу.
В 36 году до н. э. Чече успешно занимался созданием гуннской империи на западе, но тут его настиг китайский полководец Чэнь Тонг, захватил в плен и отрубил ему голову. Западные гунны на три сотни лет были вычеркнуты из истории.
В 33-м Хухан-йе, удачливый соперник Чече, добился высшей цели всех вождей кочевников Востока: женился на китайской принцессе (а может быть — горничной, которую выдали за принцессу, в Китае любили такие шутки). Насытившись, северные гунны, отныне ставшие союзниками Китая, больше не доставляли хлопот.
В I веке н. э. ситуация складывалась следующим образом: северные гунны зависели от китайцев, а западные гунны, потомки сторонников Чече, тихонько сидели себе в Казахстане. Тихонько — потому что некому было поведать о их подвигах.
Затишье продолжалось три столетия, а потом северные и западные гунны пробудились почти одновременно и разом вступили в большую игру. Первые пошли на Китай, полагавший, будто они усмирены, вторые — на Европу, даже не подозревавшую о их существовании.
В 311 году гунн Лю Цун захватил город Лоян, бывшую столицу Китая, и весь север страны до самой реки Хуанхэ, тогда как западные гунны выступили в путь в сторону заката.
На запад? «Почему?» — задается вопросом Рене Груссе в книге «Степная империя». И сам себе отвечает: «Мы не знаем». Примерная скромность со стороны великого ученого[1].
Под предводительством Баламира эти гунны, вскоре получившие прозвище «черных», перешли через Волгу, Дон, Днепр, Днестр, достигли Дуная. По пути они разбили аланов с Терека, аланов с Кубани и остготов с правобережья Днепра, хотя те и не были неженками. Бесстрашные грубые вестготы бежали от них, забыв всякий стыд, пересекли Дунай и кучей ворвались в Восточную Римскую империю со столицей в Константинополе, где шумно заявили о себе.
И вот загадка: гунны не стали их преследовать. Очарованные венгерскими степями, где сегодня процветают их потомки, они остановились там, возможно, из ностальгии. Там они не чувствовали себя на чужбине, чего, возможно, боялись: Пушта была продолжением русских степей, которые были продолжением среднеазиатских и монгольских степей, но на западе она была последней степью, и они, наверное, это почувствовали.
По ту сторону Дуная, в направлении Атлантики, рельеф местности усложняется, встречаются участки, покрытые лесами. Холмы, горы, равнины, долины накладываются друг на друга, утомляя коня и огорчая всадника. Пушта воспроизводила земли предков, и гунны остались там.
Помимо иллюзии свободы, поддерживаемой ее плоским рельефом, у Пушты было еще одно преимущество: она не пустовала. Ее населяли гепиды — германское племя, наверное, приходившее в упадок вдали от своих первородных лесов, ибо в отличие от Арминия, уничтожившего легионы Августа, они очень быстро покорились гуннам и поставляли пришлецам домашнюю обслугу.
Гунны проведут здесь несколько десятков лет, занимая незначительное пространство по меркам кочевников, привыкших носиться по бескрайним просторам Азии. Ибо хотя Пушта и была продолжением русской степи, то лишь очень маленьким ее отростком.
Итак, гуннам было скучно. Сидя на левом берегу Дуная, праздные гунны, которым прислуживали гепиды, были предоставлены сами себе и досадовали на свое безделье, глядя на противоположный берег. Это зрелище усиливало чувство разочарования. Они мечтали массово переправиться через реку и торжествующе ворваться в самую гущу этой империи, раскинувшейся перед их взором, выставляя напоказ опьяняющее изобилие уже чуть ослабленной, но еще внушительной державы. В душе воины этому только радовались, поскольку, как сказал Корнель, «…где нет опасности, не может быть и славы».
Вынужденные некими обстоятельствами толочься в узком замкнутом пространстве, гунны изнывали от нетерпения, и лучшие из них, самые достойные своего имени, по очереди выезжали на берег пограничной реки, уязвленные и опечаленные.
Сидя верхом, они оглядывали империю, ее города, рынки, лавки; подсчитывали богатства, происходящие от торговли. Оценивали гарнизоны, смену войск, их сильные и слабые стороны. Ничто не препятствовало взорам, устремленным на запад от границы. У степняков-гуннов, способных различить мышь, пробирающуюся на горизонте, были самые зоркие глаза в мире.
Переходили они и через реку — в одиночку или небольшими, мирными группами, чтобы погостить, поговорить, разузнать. Учтивые, даже любезные, любознательные. Несмотря на все проявления вежливости, римляне из лимеса[2] не могли привыкнуть к их грубо вылепленным лицам, шрамам, кривым ногам, испытующей бесстрастности, их вони — некоторые авторы утверждали, что зловоние было намеренным, чтобы внушить отвращение (а от него до ужаса — один шаг).
Ничто не ускользало от их цепкого взгляда. Они примечали всё с тем большим старанием, что для них тут всё было внове. Их восточные братья знали Китай, его города, его величественную цивилизацию, они же никогда ничего подобного не видели. Вожделение росло и распалялось.
Гунны остановились на левом берегу Дуная, но их слава облетела всю Европу до самой Атлантики.
«Племя гуннов, о которых древние писатели осведомлены очень мало, обитает за Мэотийским болотом в сторону Ледовитого океана и превосходит в своей дикости всякую меру. Так как при самом рождении на свет младенца ему глубоко изрезывают щеки острым оружием, чтобы тем задержать своевременное появление волос на зарубцевавшихся нарезах, то они доживают свой век до старости без бороды, безобразные, похожие на скопцов. Члены тела у них мускулистые и крепкие, шеи толстые, чудовищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей или уподобить тем грубо обтесанным наподобие человека чурбанам, какие ставятся на концах мостов. При столь диком безобразии в их человеческом образе они так закалены, что не нуждаются ни в огне, ни в приспособленной ко вкусу человека пище; они питаются кореньями диких трав и полусырым мясом всякого скота, которое они кладут на спины коней под свои бедра и дают ему немного попреть.
Никогда они не укрываются в каких бы то ни было зданиях, но, напротив, избегают их, как гробниц, отрешенных от обычного обихода людей. У них нельзя встретить даже покрытого камышом шалаша. Они кочуют по горам и лесам, с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду. И на чужбине входят они под кров только в случае крайней необходимости, так как не считают себя в безопасности под кровом… Тело они прикрывают льняной одеждой или же сшитой из шкурок лесных мышей. Нет у них различия между домашним платьем и выходной одеждой: но раз надетая на шею туника грязного цвета снимается или заменяется другой не раньше, чем она расползется в лохмотья от долговременного гниения. Голову покрывают они кривыми шапками, свои обросшие волосами ноги — козьими шкурами; обувь, которую они не выделывают ни на какой колодке, затрудняет их свободный шаг… Поэтому они не годятся для пешего сражения; зато они словно приросли к своим коням, выносливым, но безобразным на вид, и часто сидя на них на женский манер, исполняют свои обычные занятия. День и ночь проводят они на коне, занимаются куплей и продажей, едят и пьют и, склонившись на крутую шею коня, засыпают и спят так крепко, что даже видят сны. Когда приходится им совещаться о серьезных делах, то и совещание они ведут, сидя на конях.
Не знают они над собой строгой царской власти, но, довольствуясь случайным предводительством кого-нибудь из своих старейшин, сокрушают все, что ни попадется на пути. Иной раз, будучи чем-ни-будь задеты, они вступают в битву; в бой они бросаются, построившись клином, и издают при этом грозный завывающий крик. Легкие и подвижные, они вдруг нарочно рассеиваются и, не выстраивая боевой линии, нападают то там, то здесь, производя страшные убийства. Вследствие их чрезвычайной быстроты никогда не случается видеть, чтобы они штурмовали укрепление или грабили вражеский лагерь. Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воинами, потому что издали ведут бой стрелами, снабженными искусно сработанными остриями из кости, а сблизившись врукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами и, уклоняясь сами от удара, набрасывают на врага аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или уйти пешком. Никто у них не пашет и никогда не коснулся сохи. Без определенного места жительства, без дома, без закона или устойчивого образа жизни кочуют они, словно вечные беглецы, с кибитками, в которых проводят жизнь; там жены ткут им их жалкие одежды, сближаются с мужьями, рожают, кормят детей до возмужалости. Никто у них не может ответить на вопрос, где он родился: зачат он в одном месте, рожден — далеко оттуда, вырос — еще дальше. Когда нет войны, они вероломны, непостоянны, легко поддаются всякому дуновению перепадающей новой надежды, во всем полагаются на дикую ярость. Подобно лишенным разума животным, они пребывают в совершенном неведении, что честно, что не честно, не надежные в слове и темные, не связаны уважением ни к какой религии или суеверию, пламенеют дикой страстью к золоту, до того изменчивы и скоры на гнев, что иной раз в тот же самый день отступаются от своих союзников без всякого подстрекательства и точно так же без чьего бы то ни было посредства опять мирятся»[3].
Эта страница долго была знаменита. Ее десятилетиями твердили в европейских школах в эпоху превалирования классического образования. Она принадлежит Аммиану Марцеллину, сирийскому греку, служившему в войсках римского императора Юлиана Отступника и умершему в Риме около 400 года. Последователь Тацита, он набросал в своей «Истории» первый портрет гуннов. Первый и последний, поскольку эти черты застыли навсегда, тем более что историк прославился своей образцовой правдивостью. Веками этот миф питался «полусырым мясом», преющим под седлом, и питается им до сих пор.
После Аммиана Марцеллина галл Сидоний Аполлинарий, франк Проспер Аквитанский и грек Прис-кос — все трое современники Аттилы, причем двое последних встречались с ним лично, — не добавили к этому описанию ничего принципиально нового.
Гот Иордан (Иорнанд) — то ли монах из Фракии, толи епископ из Равенны, живший веком позже, — тоже входит в число канонических авторов, несмотря на разрыв во времени и тот факт, что главное его произведение — «О происхождении и истории гетов»[4] — является лишь кратким пересказом утраченной книги Кассиодора, сочиненной в 552 году.
Святому Сидонию Аполлинарию, епископу Клермонскому, было 23 года, когда Аттила умер в 453 году, женившись годом раньше на дочери Ави-та, префекта Галлии. Этот Авит убедил Теодориха, правителя аквитанских вестготов, примкнуть к коалиции франков и римлян, которая собиралась остановить гунна в Шампани, чтобы спасти Галлию и всё, что еще оставалось от Западной империи. Поддержка вестготов имела решающее значение.
В своих «Письмах», составляющих девять томов, будущий епископ приписывает внешний вид гуннов намеренным увечьям, наносимым в детстве. По его словам, нос у них — бесформенный и плоский отросток[5]. У них выступающие скулы, «…голова сдавленная. Подо лбом в двух впадинах, как бы лишенных глаз, виднеются взоры… Через малое отверстие они видят обширные пространства и недостаток красоты возмещают тем, что различают малейшие предметы на дне колодца». Наконец, он подтверждает, в более восторженном стиле, чем сириец, их качества лучников: «Вооруженный огромным луком и длинными стрелами, гунн никогда не промахнется; горе тому, в кого он целит, ибо стрелы его несут смерть!» И поэтично заключает (в отличие от пророков, среди святых поэты — редкость): «Гунн мал, когда он пеший, но велик, когда он на коне!»
К началу V века гунны господствовали во всех степях от Урала до Дуная.
Конники Баламира выказали странное терпение, стоя на берегу реки, по ту сторону которой раскинулась Римская империя. Почему они не пошли дальше? Оробели? Вряд ли. Просчитывали шансы? «Мы не знаем», — как сказал бы Рене Груссе.
О робости говорить не приходится, поскольку вестготы, которых они гнали впереди себя, разбили в 378 году под Адрианополем войско римского императора Валента, погибшего в бою. (Сегодня Адрианополь — город Эдирне на северо-западе Турции.) Никогда еще Римская империя — вся, и Восточная, и Западная, — не знала подобного разгрома. С тех пор вестготы нежились во Фракии и Мёзии, у ворот Константинополя. Они были богаты, имели рабов. Бежав от Баламира, они вознаградили себя сторицей за всё утраченное.
Неужели же гунны не могли совершить то, что удалось вестготам? Даже еще лучше? Чего же они ждали? Подкрепления? Остается только строить догадки.
Самая правдоподобная гипотеза — ждали благоприятного момента. Ибо империя оправилась после поражения. Валента сменил Феодосий, а это был воин, который очень скоро станет Феодосием Великим. Он будет последним смертным, управлявшим всей империей — и Востоком, и Западом, и Римом, и Константинополем.
Варваров этот ревностный христианин держал в узде: он принял крещение в 380 году, преследовал язычников, истреблял инакомыслящих и велел перебить семь тысяч фессалонийцев в цирке их города, чтобы отомстить за убийство одного из своих военачальников. Что же до гуннов, то, сознавая опасность, он натравливал их друг на друга, некоторые орды возводил в ранг союзников (например, против готов в 382 году), других удерживал за границей светового круга, и это давало отдачу: угрозы удавалось избежать. Он разделял, не чтобы властвовать, а чтобы свободно дышать. Избранное средство показывает, насколько грозны были гунны. Но почему же они сидели спокойно?
В империи Феодосий I был невероятно популярен. В 394 году он решил разделить ее после своей смерти между двумя сыновьями, Аркадием и Гонорием: первый получит Востоке Константинополем, второй — Запад с Римом и Равенной. Четыре месяца спустя, 17 января 395 года, он умер в Милане.
В том же году родился Аттила. Ему придется сражаться с двумя империями. Больше врагов — больше чести.
Царский сын? Так он говорил о себе сам, но у его народа было весьма расплывчатое представление о царской власти. Скорее, сын вождя. Какого вождя? Имя его отца было Мунчуг (Мундзук).
После смерти Баламира в начале V века главной ордой венгерских гуннов правили четыре брата, четыре сына «царя» Турдала (Харатона, Каратона): Охтар (Октар, Оптар), Руас (Роас, Руа, Рутила), Айбарс (Эбарс) и Мунчуг. Они правили сообща без особых трений, проводя политику примирения в отношении Римской империи.
Старший из четверых, Охтар, хуже прочих понимал эту умеренность. В этом он был самым «гунном» из всех: он проводил свою жизнь в походах, часто пересекая Дунай, к большой досаде своих братьев. И всё же он старался не связываться с собственно римлянами, нападая преимущественно на готов и бургундов, ненадежных союзников Вечного города.
Самый рассудительный, Мунчуг, был в команде распорядителем.
Айбарс заведовал «внутренними» делами, иначе говоря, отношениями с другими гуннами.
Руас был «верховным правителем», который вел переговоры с иноземными державами, поддерживал дружбу с империей, особенно Гонорием, императором Запада, но был в этом не одинок: с Римом по-прежнему многие заигрывали.
Еще один гунн, Улдин, вождь другой орды, хотел стать лучшим другом Рима, обойдя всех своих сородичей. Он беспрестанно предлагал свои услуги императору, который не остужал его пыл (под началом Улдина была лучшая конница от Урала до Дуная), но и не подпускал близко, предпочитая видеть его снаружи, а не внутри.
Аттила остается загадкой. Известно, что он был вождем гуннов, азиатских варваров, прискакавших к границам Европы в конце III века н. э.
Известно, что он основал империю от Урала до Дуная; что за несколько лет поставил на колени две державы, наследницы Рима императора Августа, — сам Рим и Константинополь, что он внезапно скончался в 58 лет накануне последнего похода на Запад, что его империя тотчас распалась и что гунны исчезли из истории, оставшись в легендах.
О подвигах Аттилы знают все, но сам этот человек — непроницаемая тайна: известно, что он совершил, но не кем он был, если не считать его внешнего облика, описанного с большой точностью достойными доверия очевидцами. У него были огромная голова, треугольное лицо, лишенное растительности, если не считать остроконечной козлиной бородки, пронзительный взгляд, он был больше в ширину, чем в высоту…
Те же свидетели уточняют, что эти не располагающие к себе черты не принадлежали невеже: он говорил по-гречески и по-латыни, а что касается его кровожадности, то большинство современных ему римских императоров значительно превосходили его в этом, хотя и не могли сравняться с ним в храбрости и уме.
Он был в большей степени дипломатом, чем воином, в личной жизни — самый лучший друг, деликатный с женщинами (по меркам V века), заботливый и даже нежный отец…
Наконец, известно, что в ту эпоху, когда божеств было пруд пруди и только иудеи и христиане верили в единого Бога, он остался верен анималистическим верованиям степняков, поддерживаемым шаманами, согласно которым прародителем гуннов был волк. Тысячу лет спустя Чингисхан выдвинет ту же версию своего происхождения, которой придерживаются и современные монголы.
Другими словами, в Бога он не верил, но нетерпимости не проявлял: хотя Аттила многих убил, но никого не преследовал. История не знает никакого другого императора-анархиста, при этом уважающего все верования: «Анархист настолько любит порядок, что не выносит ни малейшего его извращения».
Великий политик? Не то слово. Перед ним было невозможно устоять, его обаяние было неотразимо. Вот разве что пространство и время ему не поддались: первое было коварно, второе — неумолимо.
Пространство? Голова кружится.
По коням! Вперед! Из среднеазиатских степей горизонт отступает всё дальше и дальше, на восток и на запад. С одной стороны — Китай и Тихий океан, с другой — Европа и Атлантика, а вместе это единое целое, если взглянуть на них сверху.
Когда появился Аттила, Китай уже был древним. Сосредоточившись на самом себе, он — учтиво — презирал весь остальной мир.
Европа дряхлыми руками большой империи предлагала искателям приключений чарующие перспективы, порожденные уникальным сочетанием слабости и богатства.
Если замахнуться слишком широко, сил может не хватить. Римская империя Августа слишком замахнулась. Латинский гений завоеваний и организации иссяк. От Шотландии до Персии, включая
Египет и Северную Африку, поглощение множества разношерстных народов превысило, казалось бы, чудесные способности к ассимиляции и покровительству.
К моменту рождения Аттилы империя «давала течь» уже больше ста лет. Постоянно обновляемые волны варваров подтачивали ее границы. Как вода ищет щелку, так они выискивали наименее защищенные участки в длиннющем рубеже, протянувшемся от Северного до Черного моря, по Рейну и Дунаю. То тихо просачивались, то грозно вскипали.
«Богатство в людях», — напишет двенадцатью веками позже Жан Боден в царствование Франциска I. Людей Риму не хватало. Границы оказались пористыми. Гарнизоны, размещенные вдоль рек, были слишком слабы и слишком удалены друг от друга, чтобы образовать преграду. Очень скоро пришлось натравливать непрошеных гостей друг на друга, а они всё шли нескончаемой чередой: аланы, аламанны, англы, авары, бургунды, франки, германцы, герулы, юты, ломбардцы, остготы, саксы, свей, вандалы и вестготы… Из самого центра Азии и до Атлантики эту орду разных народов выталкивало, с островка на островок, продвижение непоколебимых воинов, которые почему-то решили, что их будущее — на западе.
И всё же, хотя империя раскололась и Европа созрела для нашествия, она (обе империи) всё еще была грозной: легионы, уже давно ставшие интернациональными из-за нехватки римлян-добровольцев, оставались непобедимыми, лишь бы нашелся хороший военачальник, собрал их, напомнил о долге и о прежних доблестях, основе империи, размеры, спаянность и стабильность которой до сих пор поражали воображение.
Самый знаменитый гунн родился в 395 году в деревянном дворце, где-то посреди огромной равнины в центре Европы, окаймлявшей левый берег Дуная, в современной Венгрии, к северу от нынешнего города Линц, в честь которого названа одна из симфоний Моцарта. Царский сын, маленький принц. Он умер в тех же краях почти 60 лет спустя, завершив огромный круг, который привел его из Китая в парижский бассейн через предместья Константинополя и аванпосты Рима, во главе бесчисленной конницы: сколько их было — десять тысяч? Сто тысяч? Миллион? Историки-демографы спорят об этом до сих пор. Но важно не число, а результат. Мир создан для немногих, утверждал Цезарь за пять веков до рождения нашего героя.
«Известно, что у него были огромная голова, заостренное книзу лицо, выступающие скулы, большой длинный нос, совершенно плоский на конце, темные, но намеренно выкрашенные в рыжий цвет волосы», — обобщает Морис Бувье-Ажан, автор одной из последних биографий Аттилы[6]. Невысокий. В лучшем случае метр шестьдесят… Щеки покрыты редким волосом, но на подбородке жесткая бородка клинышком. Глаза черные, глубоко посаженные, взгляд пронзительный. В общем, не красавец, но, как говорил Барбе д’Оревильи, мужчина считается красивым, если его не пугается собственный конь. (Кони гуннов не пугались ничего.) Лицо худощавое, но черты довольно правильные, а главное — оно светилось умом…
«Далеко пойдет, если обстоятельства будут тому благоприятствовать». Безупречное суждение одного из преподавателей военного училища в Бриенне о Бонапарте, тогда еще худеньком корсиканце, прозванном «Соломинкой в носу» своими однокашниками с континента, которые были более знатного происхождения и поднаторели в старорежимных тонкостях, из-за того, как он смешно выговаривал собственное имя, в точности применимо и к молодому Аттиле.
О первых годах его жизни не известно ничего, кроме того, что рассказывал он сам — выборочно. Можно прийти к заключению, что его детство сильно отличалось от детства его отца, который наверняка родился в кибитке, пока орда была в пути. Отец родился в повозке, сын — во дворце… Пусть даже деревянном и разборном, но разница всё равно впечатляет.
Как и все гунны, он научился ездить верхом, чтобы сливаться в единое целое со своим конем, стрелять из лука, бросать аркан и кинжал, охотиться, может быть, рыбачить. Но кроме того, он научился читать, писать и считать, выучил латынь и греческий и наверняка прочел все книги, которые попадали ему в руки, в форме свитков. Известно, что он обладал пытливым умом и стремился к знаниям.
Его отец Мунчуг умер в 401 году. Аттиле было шесть лет. Заботу о нем взял на себя его дядя Руас. О матери — ни слова. Мы не знаем ни ее имени, ни сколько она прожила.
Известно, что Руас дорожил хорошими отношениями с Римом. Он предложил «правой руке» императора Гонория полководцу Стилихону (он был вандалом по отцу и тем не менее получил прозвище «последнего из римлян») прислать к его двору наблюдателя. Последний сможет предметно оценить, что он собой представляет, желает ли сотрудничать и может ли быть полезным. Для тех времен это был обычный поступок, и всё же он показывает, насколько задунайские гунны той поры присмирели или притворялись, будто образумились, так что в самой империи некоторые наблюдатели считали, что они стали оседлыми.
Стилихон предложение принял. Он послал к гуннскому двору юношу пятнадцати лет по имени Аэций.
Аэций родился около 390 года, почти наверное — в Первой Паннонии (современной Венгрии), входившей в Западную империю. Эта Паннония находилась так близко от Пушты, где пятнадцатью годами раньше остановились конники Баламира, что частично накладывалась на нее. Мы сказали «почти наверное в Паннонии», поскольку одни говорят, что он родился в Мёзии, в Восточной империи[7], другие — в Риме, на вилле своей матери. История далеких времен часто строится на предположениях.
Неважно: свою юность он провел в Паннонии, где его отец Гауденций, родившийся в Скарбантии (ныне венгерский город Шопрон, к югу от Вены), был магистром конницы, потом стал наместником в Африке, потом военачальником в Галлии, где и погиб во время мятежа около 403 года. Так что Флавий Аэций знал гуннов всю жизнь и говорил на их языке. Нелишне напомнить, что его мать была римлянкой из Рима, богатой и знатной. Постоянным представителем Стилихона при Руасе сделали не первого попавшегося юнца.
Благородное происхождение и крупное состояние не мешали ему подавать большие надежды. Он уже был почетным заложником у вождя вестготов Атанариха и открыл в себе призвание к дипломатии, которое с тех пор и совершенствовал.
В 405 году эта редкая птица прилетела ко двору Руаса. Аттиле было десять лет. «Мальчик понравился юноше, а юноша мальчику». Завязалась историческая дружба. Судьба Рима, Европы и всех гуннов от Дуная до Урала зависела от нее целых полвека.
Аэций и Аттила — два чаровника, так и не отрекшиеся во всю жизнь от намерения очаровать друг друга, проявляя уступчивость, чтобы избежать непоправимого, когда их устремления сойдутся клином, но даже эти уступки помешали осуществлению грандиозных планов.
Возможно, Аэций уже был знаком с Руасом, когда Стилихон отправил его к нему. Как бы то ни было, юный римлянин прекрасно поладил с вождем гуннов, даже сделался одним из его советников, к которым он больше всего прислушивался. Благодаря инициативности он приобрел статус много выше простого заложника. Так, в 408 году он, представитель Рима, подтолкнул Руаса, несколько разочарованного своим союзом с Гонорием, заключить союз с Константинополем, не порывая с Римом: двойной союз с двойной империей.
Только что умер Аркадий, брат Гонория. Северный берег Дуная вызывал большие опасения у его сына Феодосия, сменившего его на троне. Что там затевается? Он опасался крупных катастроф и искал союзников, чтобы их предотвратить. Аэций посоветовал Руасу сблизиться с ним.
Руас последовал его совету. Феодосий II только этого и ждал. Он сразу же назначил гунна римским военачальником с ежегодным жалованьем в 350 либр золотом и велел подготовить договор: граница по-прежнему проходит по Дунаю, гунны обязуются не пересекать его без особой просьбы. Руас подписал без возражений.
Разглядел ли Аэций в десятилетнем Аттиле гения, который проявится лишь через 30 лет? Ибо Аттила вовсе не был вундеркиндом — ни Александром Македонским, ни Бонапартом. Он раскрылся в полной мере лишь к сорока годам, когда большинство мужчин, его современников, считали себя если не кончеными людьми, то слишком старыми для великих начинаний.
Вернее будет сказать, он поддался его обаянию: обаятельный Аэций наверняка различил в дичившемся ребенке, который к десяти годам умел только ездить верхом, стрелять из лука да знал несколько слов на латыни (ничему другому он выучиться не мог за неимением учителей), не только обаяние сродни его собственному, но и большие задатки.
И задатки маленького варвара могли развиться лишь благодаря ему, римлянину Аэцию. Аттила хотел знать всё. Он научил его тому, что знал сам, а кроме того, назначил ему наставника, который выучил его латыни — английскому того времени — и греческому (что-то вроде нынешнего французского). До сих пор ни один гунн еще не владел языками элиты. Аттила был неким феноменом для своих собеседников из старой империи, для которых все пришельцы извне, как бы они ни были грозны, оставались прежде всего дикарями.
Сообщничество между будущим императором гуннов и римлянином, который однажды задумается об империи — если не для себя самого, так для сына, что будет иметь трагические последствия, — за три года упрочилось и углубилось. Но пока два мальчика вместе носились по венгерской степи, которую они оба считали крошечной и не достойной того, чтобы здесь оставаться, поверяя, возможно, друг другу надежды, которые не могли открыть никому другому, мир зашевелился и выплеснулся за узкие рамки.
Мир пришел в движение. Вестгот Радагаст (Радагаз) обрушился на Италию с таким многочисленным войском, что Стилихону пришлось обратиться к Улдину — вождю гуннской конницы, сопернику Руаса, который уже давно дожидался этой просьбы. Его эскадроны разбили вестготов под Флоренцией; Радагаст был захвачен в плен и обезглавлен.
В 406 году аланы с Дона и Волги, не желая больше служить гуннам, которые чрезмерно их эксплуатировали, массово выдвинулись к Альпам и периметру Женевского озера, где встретились со своими соплеменниками, бежавшими от гуннов веком раньше. Некоторые из этих аланов, заскучав в Швейцарии, снова двинулись в путь и проникли в Галлию одновременно с отрядами вандалов. Те поселятся в Кальвадосе, где их застигнут викинги; аланы же выберут для жительства долину Роны.
Бургунды, которым досаждал гунн Охтар, дядя Аттилы, в долине Майна, забрасывали Гонория просьбами о том, чтобы перейти в Гельвецию. Гонорий императорским жестом дал им на это дозволение. Охтар этим воспользовался, чтобы напасть на припозднившихся на берегах Майна. Он потерпел поражение — даже гунны не были непобедимы. Это его так раздосадовало, что он уже не владел собой: жалкая победа, одержанная на следующий день после поражения (удалось перебить три десятка вестготов в прозрачных зарослях ивняка на безымянной речушке, потеряв лишь трех гуннских воинов), побудила его бурно отметить успех. В тот же вечер он так напился, что рухнул замертво, уткнувшись носом в кубок, сделанный из черепа вестгота.
По легенде, этот череп расхохотался, выплюнув последние зубы, точно снаряды, в помощников Охтара, которые тоже на ногах не стояли, но от этого не протрезвели.
Именно в этот момент, в 408 году, Аэций вернулся в Рим. Он уехал туда ради самой главной цели с человеческой точки зрения: жениться, обзавестись детьми, продолжить, наконец, в Западной империи тот род, которому его ученик будет грозить, как никто другой прежде него.
Тринадцатилетний Аттила тяжело переживал отъезд человека, ставшего ему за эти три года практически старшим братом.
Аэций покинул Аттилу, но они пообещали писать друг другу и увидеться снова; Аттила дорожил одиночеством почти так же, как обществом Аэция. Он погрузился в размышления, которые однажды приведут его к воротам Рима, Константинополя и Парижа с такими внушительными силами, что эти три европейские столицы (первые две — находящиеся в упадке, а третья — еще виртуальная) распахнули бы перед ним ворота, конечно, заткнув себе нос, если бы он только этого пожелал. Однако он пощадил все три, и даже сегодня нам непонятно — почему. Тем более что во всех трех случаях он, который ни во что не верил, уступил служителям религии, которая станет его худшим врагом, сплотив против него всех его противников.
Папа, канонизированная пастушка, император-святоша — все трое не похожи друг на друга, как только это возможно среди людей, но все они служили религии, которая тогда главенствовала в указанном пространстве. Этого оказалось достаточно, чтобы оправдать прозвище «Бич Божий» (язычник Аттила гордился тем, что его заслужил), которое следует понимать в самом что ни на есть христианском смысле этого слова: тот, через кого должна свершиться кара Господня. Тысячу лет спустя во Флоренции Савонарола присвоит французскому королю Карлу VIII титул Меча Господнего, словно некое божественное достоинство[8].
В начале V века, отмеченного в истории гуннской эпопеей, у всех захватывало дух при мысли о великих нашествиях, вызванных гуннами и завершившихся вместе с ними. Складывается такое впечатление, что почти целых три столетия по Европе с востока на запад шли одни за другими, без передышки и роздыха, многолюдные разношерстные толпы, сначала встревожив, потом смутив, а в конце концов ошеломив Римскую империю, пока она сама не растворилась в массе пришедших с Востока.
Возникает вопрос о числе захватчиков. Сколько было аланов, сколько герулов, сколько готов и вандалов? Судя по хроникам, бесчисленные массы затопили Европу, а за ними шли всё новые и новые, в ускоренном темпе. Как будто некий бог, враждебный империи, сеял в азиатской пустыне миллионы зубов дракона, которые, прорастая, становились воинами, стремящимися разрушить Рим.
Если ограничиться гуннами, на которых и лежит ответственность за это нескончаемое землетрясение, самые щедрые демографические оценки ставят в тупик. Непонятно, каким образом столь малое количество привело в движение столь большое — большое, если верить тогдашним хронистам. Конечно, паника сыграла свою роль, с этим не поспоришь, но ею всего не объяснить.
Население Европы того времени оценивают в 30 миллионов жителей, но о числе гуннов спорят до сих пор. Предположения варьируют от пяти миллионов до 250 тысяч, от Урала и до Дуная, но первое нелепо велико, а второе нелепо мало. Разумнее всего выглядит число в полтора миллиона, из которого получается максимум полмиллиона конных лучников: все мужчины были воинами.
Огромная цифра. Это число Великой армии, вступившей в Россию в 1812 году, но в те времена население Европы вчетверо превосходило показатель V века. И потом, эти лучники никогда не собирались вместе. Гунны рассеялись по огромной территории: если ее не охранять, то потеряешь. Какой бы слабой ни была связь между звеньями военной цепи на этих просторах, какими бы подвижными ни были конники, обеспечивавшие их охрану, она отнимала большую часть личного состава. Сколько же оставалось, чтобы перейти Дунай?
Одна из наименее подозрительных цифр, которыми располагает сегодня счетчик, — количество подкреплений, предоставленных Руасом Аэцию для Флавия Иоанна, узурпировавшего престол после смерти Гонория в 423 году. Эту цифру — 50 тысяч гуннов — мало кто оспаривает. Это большая армия, и надо полагать, что граница, проходившая по Дунаю, — крайний предел, до которого продвинулись гунны к началу V века, — была местом чрезвычайного сосредоточения их сил, свидетельствовавшего об их намерении идти дальше. Как бы низко ни пала империя, с ней всё еще было труднее сладить, чем с аланами, готами, вандалами и иже с ними, выметенными из Средней Азии на тысячи километров.
Аэций уехал, а Аттила продолжал набираться сил и ума. Вскоре он стал правой рукой своего дяди Руаса, ему давали ответственные поручения и ценили много выше его брата Бледы, который был старше, но очень рано проявил себя безобидным жуиром. Все его посредственные способности были направлены на охоту, женщин и выпивку, он даже не думал обижаться на то, что младший брат задвинул его на задний план своей энергией, умом и честолюбием (вот уж воистину счастливый и редкий характер).
Неизвестно, сам ли он до этого додумался или идея принадлежала Руасу, а то и Аэцию, но в 408 году Аттилу отправили в Рим, чтобы исполнять там ту же должность, что и Аэций при дворе Руаса: быть «почетным заложником», связующим звеном между двумя державами, заявлявшими о своей дружбе.
Откуда взялась эта мысль, неизвестно, но предложил ее племяннику именно Руас. Надо полагать, он полностью доверял тринадцатилетнему подростку, раз отправил его к насквозь прогнившему двору императора Запада. И надо полагать, что он дорожил дружбой с Римом, чтобы в энный раз предпринять шаги к сближению с человеком, который неоднократно его отвергал. Наконец, надо полагать, что другие признаки пренебрежения — со стороны Феодосия II — задели его за живое, ибо Феодосий хоть и наградил Руаса титулом военачальника и прилагающимися к нему 350 либрами золота, не только по-прежнему отказывал ему в исключительной дружбе, но и предпочитал всем прочим гуннам Улдина с его конницей.
Феодосий платил Руасу и никогда ничего у него не просил; Улдину он тоже платил, но и требовал от него многого. Например, усмирить гота Гаинаса, который, тоже состоя у него на жалованье, провозгласил себя императором земель от Дуная до Рейна… (Улдин умчался вихрем, опрокинул готов, пленил Гаинаса и лично отрубил ему голову, которую отправил в Константинополь.)
Утратив надежду превзойти такого конкурента и, вероятно, полагая, что хотя у империи две головы, тело-то у нее одно, Руас подумал, что сблизиться с Римом значит и сблизиться с Константинополем. И предложил в заложники своего племянника Аттилу — еще столь юного, но чрезвычайно любознательного, которого все находили обаятельным, несмотря на его огромную голову, кривые ноги и огненные глаза, сверкающие из глубоких глазниц.
Гонорий посоветовался с Аэцием. Аэций посоветовал согласиться. Гонорий так и сделал, выразив согласие в учтивой форме: добрая молва достигла императора раньше самого этого молодого человека, пусть он поспешит, его здесь ждут. Аттила прибыл в Рим. Ему было 13 лет, Аэцию 19. Разлука не продлилась долго, никак не отразившись на дружеских чувствах. Заступничество Аэция их даже усилило.
Говорят, что он прибыл в Рим, но возможно — в Равенну. Западные императоры того времени жили на два города. Равенна не столь впечатляла, как сказочный город, колыбель ныне расколотой империи, где воспоминания довлели так сильно, что могли раздавить порфироносца, не обладавшего закваской Диоклетиана, если уж не Траяна. К тому же Равенна была защищена большими болотами, непроходимыми как для варваров, так и для всех остальных. Оборонять ее было легко, а императоры той эпохи помышляли только об обороне.
Рим был славнее, но и беззащитнее. От Урала до Рейна (хотя мы, возможно, недооцениваем азиатских князьков, бродивших от Урала до Камчатки) не было ни одного вождя племени, достойного так называться, который не мечтал бы привести свои войска на Капитолий, не заботясь о Тарпейской скале[9]. Пусть они почти все были неграмотными, они знали главное о Западе, как и Запад о Дальнем Востоке. Вожделения Востока и Запада перехлестывались. Восток во главе с Аттилой выступит в путь первым, чтобы их удовлетворить. Полторы тысячи лет спустя маятник качнется в обратную сторону и европейская армия разграбит Летний дворец в Пекине[10].
Даже китайские военачальники — те самые китайцы, которых считали домоседами — якобы оставили в своих записях (большинство из них не сохранилось после зачистки Красной гвардией во время «культурной революции») душераздирающие призывы и навязчивые мечты о том, чтобы доскакать до самого Тибра и опочить на лаврах победителя в Золотом доме Нерона.
Аттила, еще слишком юный, но от того не менее доблестный, отныне будет делить время между Равенной и Римом. Он не оставил письменных заметок, но его дела однажды расскажут о нем красноречивее, чем все рукописи в мире.
Он будет курсировать между Равенной и Римом, встречая и тут и там прекрасный прием до самого конца своего пребывания. Одним словом, при самом упадническом, а следовательно, самом утонченном дворе в мире с ним обращались по-королевски. Этот двор кишел заговорами и предательствами, доходящими до убийств, главным из которых стало устранение Стилихона, наставника Гонория, выбранного его отцом.
Стилихон трижды спас Италию от вестготов: в 402 году при Полленце, в 403-м при Вероне и, наконец, в 408-м, выкупив уход Алариха, захватившего и разграбившего Рим и грозившего застрять там надолго. В четвертый раз он спас ее в 406-м, теперь уже от готов, но эта стычка помешала ему напасть на вандалов, которые в то же время обрушились на Галлию: нельзя находиться везде и сразу. Однако именно это Гонорий негласно ставил ему в вину: Стилихон-де ничего не сделал, поскольку дел еще пропасть.
На самом деле хилый император ревновал к авторитету и славе человека, которого Феодосий Великий нарочно приставил к нему, чтобы оберегать его от самого себя, одновременно оберегая всю империю. (Дрожащий Гонорий заперся в Равенне с перетрусившими придворными, смотрел, как варвары идут на Рим, и молился, чтобы они не остановились.)
Такова была атмосфера, когда ко двору явился Аттила — почетный гость, всё примечающий и быстрый, как ртуть.
Ему было нечего бояться. Его происхождение защищало его еще лучше, чем молодость. Гунны были необходимы для выживания империи. Они фактически являлись ее главными союзниками, и вся политика какого-нибудь Гонория или Феодосия сводилась к попыткам разделить их, предпочитая одних другим, когда какие-нибудь вестготы или вандалы принимались слишком уж досаждать, чтобы возбудить ревность в тех, кому они не бросали платок в знак своего расположения, оказываемого тем, кого они умоляли их спасти.
Вряд ли Аттила был счастлив в Равенне. Почему? На этот счет существуют разные мнения: одни полагают, что он задыхался при дворе, пропитанном продажностью и подлостью, другие — что он чувствовал себя в этой обстановке как рыба в воде, однако счастья это ему не приносило. Оба мнения дополняют друг друга: отвращение не мешает плавать. Как бы то ни было, он многое узнал.
Отношения с Аэцием возобновились; тот еще более укрепил свои позиции, в том числе блестящим браком с дочерью патриция Карпилиона, обладавшего одним из крупнейших состояний и выгодными родственными связями в Риме.
Образование продолжалось четыре года, за которые он в буквальном смысле слова изучил империю, ее повадки и привычки в тот период, когда выживание системы постоянно находилось под вопросом. Достаточно было бунта какого-нибудь легиона в Испании, Сирии или Германии, внезапного вторжения неизвестного племени, возникшего из неисчерпаемой Азии, засады в Равенне или Риме, и карты легли бы по-другому.
Дальнейшее развитие событий покажет, что он с редкой точностью оценил сильные, а главное, слабые стороны еще внушительной организации, которыми она была обязана прежде всего самой себе.
Он пользовался полнейшей свободой передвижения. Несколько раз ездил за Дунай, чтобы отчитаться перед Руасом о своих наблюдениях и передать уверения в дружбе и подарки от Гонория Руасу и наоборот.
Прошло три-четыре года, Аттиле было уже шестнадцать или семнадцать. В 411-м или 412-м с Кавказа пришли тревожные новости. Гунны сцепились с целым сборищем противников — аланов, колхов, метидов, роксоланов, — которые доставляли им тем больше хлопот, что дрались еще и между собой.
Надо было что-то делать. Младший брат Руаса Айбарс, заведовавший «внутренними делами», отправился в поход со своими конниками, чтобы навести порядок между Волгой и Уралом. Дело предстояло долгое, на этот счет никто не строил иллюзий.
Итак, Охтар умер, Мунчуг умер, Айбарс ушел надолго и далеко — из четырех братьев остался один Руас, «суверенный правитель» дунайских гуннов. Ноша была тяжела, и он созвал верных и знающих людей. Прежде всего он пожелал иметь рядом с собой племянника Аттилу и вызвал его из Италии.
Первое поручение, которое он ему доверил, было необычно для семнадцатилетнего юноши, к тому же молодожена — он только что женился на дочери какого-то князька, некой Энге, о которой мы ничего не знаем. Долгое время о женщинах варваров не будет известно ничего, да и о других крайне мало, за исключением самых выдающихся — Агриппины, Мессалины, Клеопатры или Фредегонды[11]. Энга родит ему сына Эллака, который станет любимым из его многочисленных детей, законных и незаконных, хотя он ко всем будет относиться очень хорошо.
Ему предстояло совершить поездку в Центральную Европу для изучения дипломатической и военной ситуации. Руас чувствовал, что соседей науськивает на него Константинополь, и хотел знать, как обстоят дела. Несмотря на уверения в союзе и регулярно выплачиваемое жалованье, Феодосий по-прежнему не обращал на него внимания. Когда в империю вторгались полчища остготов или вестготов, он никогда не обращался к Руасу с просьбой разбить их. Руаса раздражало, что ему платят ни за что. Будучи самым искренним союзником империи (по крайней мере, на тот момент), он видел, что с ним держат дистанцию, и хотел понять почему.
Возможно, Феодосий считал, что он опаснее всех прочих, что его было бы наиболее рискованно впустить в империю. Лестное мнение, но и ясное: если Феодосий ему не доверяет, он не тот человек, чтобы не принять предосторожностей.
Аттила уехал и вернулся. Он подтвердил опасения дяди: Феодосий ведет двойную игру, а то и тройную, если не четверную. Официально считаясь союзником дунайских гуннов, он одновременно обласкивает германские племена, которые окружают их (а то и берут в клещи) на севере и востоке. Он и им тоже платит. Золота Аттила не видел, но слышал о нем — этот семнадцатилетний юноша умел вызвать на откровенность столь же искусно, как гомеровский Одиссей. Ему также поведали, что посланники Константинополя часто настраивают их против гуннов.
Руас усилил свои летучие таможни. Вскоре на границе германских земель перехватили гонцов, нагруженных золотом.
— Куда вы с этим направляетесь?
— Никуда, просто гуляем.
— Ну так прогуляйтесь к нам.
Несчастные быстро раскололись. «Да-да, нас послал Феодосий…» Наименее стойкие уверяли: «Мы не могли отказаться, господин…»
Последние сомнения были развеяны: Феодосий II оставил за собой право по своему усмотрению выпустить германцев в тыл своим лучшим союзникам…
Руас сдержался. Он недостаточно силен, чтобы сразу напасть на Константинополь, однако он был уязвлен. Вполне правдоподобно, что он поручил отомстить своему племяннику, и тот с готовностью согласился.
Аттила был незаменим. Из любимого племянника (похоже, что у Руаса не было сыновей или же они умерли в раннем возрасте — конь лягнул, медведь задрал, в реке утонули) он превратился в приемного сына, естественного наследника, будущий светоч конных лучников, пришедших из центра мира, чтобы покорить разрозненную Европу или занять в ней главное место.
Казнив гонцов с золотом, Руас решил известить Аэция о происках императора Востока.
Возможно, только Аэций мог смягчить политику Феодосия, который, даже если бы ничего не смягчил, ничего не потерял бы от ожидания. Нужно было выиграть время.
Аэций известил Феодосия. Феодосий никак не отреагировал и не прекратил своих происков. Они обойдутся ему гораздо дороже, чем он мог себе представить.
После этого расследования, которое приблизило его к Руасу и обеспечило ему на будущее титул «суверенного властителя», в жизни Аттилы настал период, о котором мы практически ничего не знаем, продолжавшийся до 421 года, то есть с 17 до 26 лет.
Никаких конкретных сведений о нем нет, мы только знаем, что он прочно утвердился как наследник своего дяди и, преданно работая на него, не мог не понимать, что работает на себя.
Примечательная вещь, особенно в те времена, когда жизнь была коротка: он не спешил. Спокойно ждал власти. Он был не из тех домашних убийц, придворных честолюбцев, которые кишмя кишели по ту сторону Дуная в столицах обеих империй, дрались за поддержку гуннов, играли судьбой, затевая убийство людей, на чье место метили сами, меряя, говоря словами Ришелье, «свои заслуги своею дерзостью».
Аттилу долгое время обвиняли в убийстве своего брата Бледы, пьяницы, которому претило ярмо власти. Это рефлективное обвинение: в представлениях западного мира Аттила стал архетипом убийцы, а Бледа был старшим. В монархических системах честолюбивые младшие братья спят и видят, как бы убрать старшего, — французские короли всегда опасались герцогов Орлеанских[12].
Сегодня мы знаем, что братья вовсе не враждовали, возможно, даже любили друг друга, а Бледа умер, свалившись с лошади.
Аттила не убивал своего брата и был самым лояльным племянником, самой надежной опорой Руаса, укрепляя власть, которая, как он знал, перейдет к нему. Он был его постоянным представителем при множестве «подчиненных» вождей: «суверенный правитель», то есть Руас, должен был обеспечить их преданность себе, если хотел, чтобы «суверенность» что-то значила.
Посол по особым поручениям, наделенный всеми полномочиями, он был вечно в пути, от одного лагеря к другому, со всеми встречался, укреплял старые связи, устанавливал новые, терпеливо создавал что-то вроде федерации, которая должна была превратить Руаса в нетитулованного императора. Он сам произнесет это слово, присуждая себе этот титул, когда придет к власти. В 435 году, накануне своего сорокалетия.
Он сновал между Дунаем и Кавказом. Там другой его дядя, Айбарс, сумел сделаться судьей всех гуннов Придонья и Поволжья, улаживая их споры и сдерживая их врагов. Аттила стал связным между братьями, позволяя им действовать сообща.
Постоянные разъезды Аттилы и вечные переговоры с вождями кланов в несколько лет принесли ему уникальные познания об этом скопище гуннских племен, а он сам понемногу сделался человеком, который посетил наибольшее количество гуннов и почти со всеми перезнакомился. Но известность — это еще не всё, надо, чтобы тебя знали с лучшей стороны. А молодой человек создал себе самую прекрасную репутацию на свете. Откуда мы об этом знаем, спросите вы, если о тех годах ничего не известно?
Мы знаем об этом, судя по тому, что было потом, поскольку его приняли все, как никого прежде.
Согласие, проявленное после смерти Руаса, не было бы всеобщим, если бы Аттила уже не привлек на свою сторону почти всю гуннскую общину, причем задолго до того, как проявил себя как полководец.
Возможно, еще не поздно поговорить о репутации гуннов. Все известные нам источники принимают апокалипсическое звучание: с появлением гуннов началась новая эра под знаком ужаса. Гунны воспринимались как жуткая новость.
За последние два века Европа привыкла к варварам и уже не думала, что кто-то сможет ее удивить после всего, что она повидала. Пришли гунны, и слово «варвар» вдруг поблекло. Надвигалось варварство иного рода, чем самая страшная из волн, разбивавшихся друг за другом о твердыню Римской империи, после того как она прекратила продвигать свои границы за Рейн, Дунай, Евфрат и Сахару.
Варвары нового типа едва ли имели человеческий облик. У них были самые быстрые кони, самые смертоносные стрелы, бьющие дальше всех, а презрение к смерти — и своей, и чужой — они впитали с молоком матери. Презрение к смерти — презрение к жизни.
Но хронисты минувших веков не слишком отличались от нынешних журналистов: как и те, они предпочитали сенсации обыденности. Нужно поражать, а то читать никто не станет. И потом впервые в жизни историю писали побежденные, ибо победителями были варвары во главе с гуннами.
Так что нужно внести нюансы: гунны были ужасны, но не всегда. Существуют границы для грабежа и убийства. Когда больше некого убивать и нечего грабить, надо жить, как все, ухаживать за стадами, возможно, кое-где сеять хлеб, если нельзя пойти дальше, в нетронутые земли. Когда Аттила пришел к власти, дунайские гунны (о поступках которых нам известно лучше всего) уже 50 лет сидели спокойно, упорно набиваясь в друзья Римской империи и долгое время прося лишь о том, чтобы позаботиться о ее спасении.
421 год. Аттиле 26 лет. Его долгая юность закончилась. Руасу остается прожить еще 13 лет. Аттила сблизится с ним еще теснее, его влияние будет беспрестанно возрастать, а сфера деятельности — расширяться. До сих пор он мерился силами со своими сородичами, теперь ему придется потягаться с другими державами — Римом и Константинополем.
Гонорий правит Римом уже 27 лет. Его племянник Феодосий II властвует над Босфором. Это две бездарности, в равной мере пораженные болезненным безволием, но первый — извращенец, легко выходящий из себя, а второй — слабак, считающий себя утонченным, потому что хорошо разбирается в праве и богословии. Он очень гордится своим почерком и по-детски тешится своим прозвищем Каллиграф.
Вот с этими-то двумя людьми и доведется потягаться Аттиле. И тот и другой прячутся за спинами своих уполномоченных: у первого — это военные и вкрадчивые чиновники, у второго — старшие евнухи (которые каждые два года погибали от руки своего преемника — тысячу лет спустя османы возьмут эту систему на вооружение).
И тот и другой придерживались своего рода императорского аутизма, никогда не давая ответа на заданный вопрос, из-за чего накапливались нерешенные проблемы. Возможно, они утверждали еще задолго до Альфреда де Виньи: «Молчанием будь велик, оставь глупцам иное»…
Аттила наметил себе программу: пощадить Рим, где находится Аэций, и терроризировать Константинополь.
Прежде чем взяться за ее осуществление, он во второй раз вступил в официальный брак со своей соотечественницей по имени Керка, дочерью крупного вождя. До конца его дней Керка будет его главной женой, только она, когда придет время, получит титул императрицы. У этой четы родятся два сына, провозглашенных «суверенами», и несколько дочерей.
Случай для непосредственного вмешательства в дела империи представился очень быстро: в 423 году умер Гонорий.
Вопрос о престолонаследии оказался сложным. Повсюду начались беспорядки. Некто Иоганнес, высший чиновник в Равенне и большой друг Аэция, ставший премицерием нотариев, провозгласил себя императором под именем Иоанна, сразу же получив прозвище Иоанна Узурпатора в противовес естественному наследнику Гонория — его племяннику Валентиниану. Валентиниан был сыном сестры покойного императора Галлы Плацидии и доблестного полководца Флавия Констанция, за которого он выдал ее замуж, предварительно назначив его соправителем под именем Констанция III[13].
Аэций стоял горой за Узурпатора. И дело тут было не только в дружбе: Галла Плацидия была его заклятым врагом. Разгорелись шекспировские страсти: Галлой Плацидией двигала ненависть отвергнутой женщины — когда-то она была без памяти влюблена в паннонийца, а он даже не смотрел в ее сторону. Валентиниану исполнилось всего шесть лет, и риск был велик, что мать императора возьмет власть в свои руки и использует ее для мести.
Галла Плацидия обратилась к Феодосию II, который ничего не мог сделать, и воззвала к верноподданническим чувствам полководцев своего покойного брата, чтобы отстоять права своего сына. Военачальники ее не разочаровали, и Узурпатор встревожился: армии у него не было. Аэций его успокоил, сказал, что уладит это дело сам, и отправился к Руасу.
Аттила был рядом. Руас посоветовался с ним. Чего не сделаешь для друга детства, который к тому же всегда был другом гуннов. Пятьдесят тысяч конников — огромная цифра — выступили в Италию под командованием Аэция — высшее проявление доверия со стороны гуннов, на помощь Узурпатору.
Они опоздали на три дня. Приверженцы законного наследника оказались шустрее. Поверженного Узурпатора уже обезглавили. Валентиниан III был провозглашен императором. Но Галла Плацидия еще не успокоилась: гунны и римляне стояли лицом к лицу. Они еще ни разу не сходились в бою. У римлян тряслись поджилки. Всё могло измениться.
Битва не состоялась. Аэций и Галла Плацидия заключили мир, даже обнялись на виду у всего войска. Получив щедрую компенсацию за беспокойство и обманутые ожидания, гунны возвратились за Дунай. Аэций как ни в чем не бывало вернулся в Равенну, но Галла Плацидия сплавила его подальше, назначив правителем Галлии.
Щадить Рим… пока Аэций играет там важную роль. Правдоподобная гипотеза. Между Аттилой и Аэцием существовал не просто союз — некий симбиоз. Немедленная отправка пятидесяти тысяч воинов — доказательство полного согласия. У них были общие планы, выходившие за рамки понятия дружбы. Два честолюбия равного порядка и равной силы. Оба стремились к высшей власти — императорской, но, что невероятно, в полной гармонии: каждый у себя и друг за друга.
После этой демонстрации силы Аттила с удвоенной энергией взялся сколачивать империю — он будет ее создателем и единственным правителем.
Он вновь принялся курсировать между Дунаем и Кавказом, стремясь первым делом улучшить сообщение между Европой и Азией и сообразуясь со своими наблюдениями у римлян, чья сила основывалась на дорогах и почтовых станциях в той же мере, что и на легионах. Он также старался развивать торговлю. От Астрахани до Будапешта одна за другой появлялись постоянные ярмарки под защитой гарнизонов. За границей караваны следовали по путям, которые вели в Баку на востоке и в Вену на западе. Территории, из которых сложится будущая империя гуннов, вновь обрели свое старинное значение пуповины между Европой и Средней Азией, оборванной с началом великих нашествий.
Какая может быть торговля между кочевниками, от природы склонными к грабежу? Но к тому времени уже появились гунны, которые не были ни кочевниками, ни грабителями, а оседлыми земледельцами, а то и ремесленниками, и торговцами. Различались они по географическому принципу: оседлыми были кавказцы, кочевниками — дунайцы. Последние, оставаясь верны традициям монголов, не производили ничего такого, что могло бы стать обузой для конника или перегрузить кибитку его семьи. Единственным ремеслом, которым они занимались, была металлургия — воинственное искусство. Некоторые мастерские находились в окрестностях Линца в современной Австрии. Эти гунны поставляли на восток оружие и золото. Гунны с Дона и Волги присылали на запад кожи, меха, рис, глиняную посуду и вяленое мясо.
В 424 году родился второй сын Аттилы и Керки, названный Денгизихом.
Эта цивилизаторская деятельность отняла у него несколько лет, что легко объясняется огромными расстояниями и масштабностью выполненной работы, тем более что всё часто приходилось начинать заново. Когда в 431 году умер Айбарс, работа еще не была завершена.
Айбарс умер, не оставив преемника; Руас стал единственным главой гуннов.
Аттила устремился на Кавказ, навязавшись в преемники покойного, не имевшего детей. Навязавшись? Никакими свидетельствами мы не располагаем, но, скорее всего, это слишком сильно сказано. Переход власти произошел очень просто: мы не знаем, назначили ли его в преемники, но он мог претендовать на это по праву родства. Никто не обладал бо́льшим авторитетом, чем он. Он утвердил порученцев Айбарса, уточнив обязанности каждого (при покойном они были обозначены крайне расплывчато, в соответствии с архаичным делением на кланы). Посетил все ставки и дозоры, усилил общую оборону, назначил сановников, упрочил связи Кавказа с Дунаем, наконец, привел послов от двора Руаса для координации административной деятельности, возвестил о прибытии личного представителя государя, который будет отчитываться в своих действиях непосредственно перед ним. Отныне кавказцы, как он намеренно подчеркнул, стали неотъемлемой частью того, что вскоре превратится в империю гуннов, наравне с западными гуннами, под властью одного монарха.
Еще никогда не бывало, чтобы империя возникла столь мирным путем, да и после такого не повторится. Ее организация стала дипломатическим триумфом, аналога которой не найдется за всю историю человечества. Или же сплоченность гуннов (которую республиканцы 1789 года назвали бы братством) была в самом деле исключительной.
То, что воинственные орды, рассеянные на миллионах квадратных километров, позволили объединить себя в единую и действенную федерацию, свидетельствует к чести и собирателя, и собранных. Галльские племена и рядом не стояли.
Но этот почти невероятный успех очень хрупок и нуждается в защите. У объединенных гуннов есть соседи, многие из которых беспокойны, а некоторые — опасны. Аттила отправился в масштабное турне по границам земли, которую он уже без опаски называл «империей».
Он соорудил себе посольство, собрав всё, что мог, дабы произвести впечатление на тех, кого собирался посетить: самых красивых лошадей, самое красивое оружие (правда, парадное), самую красивую одежду, самые драгоценные подарки, в том числе множество золотых украшений; даже скифы бы ему позавидовали.
Он навестил нелюдимых роксоланов, вспыльчивых сарматов, несговорчивых акациров, уже давно терроризировавших окрестности Каспия и ни с кем не водивших дружбы.
Он поразит их всех. Даже китайцы не видали ничего подобного, а уж сарматы и прочие степняки даже не пытались скрыть изумления от этих дальних родственников, выходцев, как и они сами, из обширных пустынных равнин, где суровость — закон жизни. Кто бы подумал, что эти полнейшие дикари так переменятся? Что такие бродяги, как они, настолько разбогатеют?
Доброжелательство Аттилы, его явное желание понравиться, его пышная щедрость вселяли уверенность. Самые недоверчивые обезоруженно выслушивали слова мира, предложения вместе стремиться к общему благополучию, изменить жизнь.
Даже самые упорные — акациры, сами профессиональные грабители, единственные, кто не боялся гуннов, поскольку они никогда не бежали от них, — поддались его обаянию. Их вождь Куридак восторженно принял от Аттилы золотые подносы и пообещал никогда не нападать на его людей. Обещание скрепили договором.
Аттила продолжил путь на восток. Он решил добраться до самого Китая. От Каспия до Великой Китайской стены путь был еще долог. Сначала он приветствовал массагетов, поселившихся между Амударьей и Сырдарьей, впадающими в Аральское море, которые в свое время признали над собой власть Александра Великого. Потом въехал в землю Куньлунь и, наконец, добрался до земли своих предков хунну. Последние были поражены тем, что он говорит на их языке, точно апостол после снисхождения на него Святого Духа.
Не все хунну, превратившиеся в гуннов, ушли на запад 150 лет тому назад. Точно так же, как в Ирландии остались ирландцы после «картофельного голода» 1840-х годов, а во Франции — протестанты после отмены Нантского эдикта[14], между Тибетом и Сибирью оставались гунны. Наверное, жены удержали их за рукав, приводя испытанные доводы: «Мы знаем, что потеряем, а вот что приобретем — еще неизвестно», «Лучше синица в руке, чем журавль в небе»…
Встреча прошла торжественно, с привкусом грусти для хунну, оставшихся здесь, при виде великолепия тех, чьи предки ушли. Аттила раздавал мечи, острота и прочность которых восхитили получателей. Его умоляли остаться. «Я вернусь, — пообещал он, — но меня ждет Китай».
Это Китай V века, на севере которого господствовала династия тюркского происхождения из табгачской орды (Тоба). Ее вождь Тоба Куэй дал ей китайское название Вэй. Вэй не боялись гуннов, поскольку несколько раз их били. Тоба Куэй перешел в наступление на жужаней (жоужань, жуаньжуань) — монгольскую орду, состоявшую в родстве с гуннами, которая доминировала на всем пространстве от Кореи до Иртыша — в Казахстане, и в 402 году вышвырнул их далеко к северу от огромной излучины реки Хуанхэ.
В 424 году его внук Тоба Тао, сын Тоба Су, предотвратил попытку возвращения жужаней и на следующий год устроил против них контррейд. Он со своей конницей пересек пустыню Гоби и напал на каган жужаней в том же самом бассейне реки Ор-хон, откуда гунны выступили в поход на Европу 50 лет тому назад. После этого он повернул на запад, чтобы разрушить еще одно царство гуннов, основанное в Шаньси хунну из клана Хо Лиена. В 431 году клан был уничтожен, а Шаньси присоединили к царству Тоба. Через год Аттила стоял у Великой стены.
Он не прислушался к мольбам хунну, считавших, что отправляться к китайцам — просто безумие и что он рискует не вернуться назад. Он принял предосторожности, отправив вперед, на разведку, горстку своих помощников с переводчиком. Они должны были известить китайцев о том, что член императорской семьи гуннов — тех гуннов, которые владеют на западе самой обширной империей в мире, — явился к ним предложить свою дружбу.
Делегацию приняли и подвергли тщательной проверке. Когда китайцы убедились в том, что это действительно послы, а не переодетые военные лазутчики, просьба была удовлетворена: Аттилу примут подобающим его рангу образом, но им нужно несколько дней, чтобы подготовить прием, достойный его.
Когда срок вышел, он торжественно вступил в одну из столиц Вэй — вероятно, Туй-Хуань. Он преподнес китайским сановникам несколько из самых красивых своих лошадей, золотую посуду и римские золотые монеты из жалованья, выплачиваемого Руасу Феодосием II. Китайцы одарили его драгоценностями, резными кинжалами, изделиями из слоновой кости и шелковыми одеждами.
Он так понравился, что его хотели удержать. Пригласили углубиться дальше в империю Вэй, чтобы показать ее огромность и красоты. Он отклонил приглашение: его ждут при дворе гуннов. Он уехал уже давно, его дядя, «верховный правитель», который, к несчастью, уже не молод, нуждается в нем. Перед отъездом он подписал договор о дружбе с одним из правителей, который распространялся на всех Сыновей Неба. Затем быстро вернулся на берега Дуная, оставив позади, от Кавказа до Тихого океана, твердое убеждение в том, что на западе сформировалась новая держава, с которой придется считаться.
Ее представитель называл ее «империей». Слишком сильно сказано, на взгляд китайцев (римляне подумали бы то же самое), с учетом врожденной непоседливости гуннов и их неприятия стабильной организации и всего постоянного. Но китайцы согласились с этим не моргнув глазом.
Их главный вывод состоял в том, что нарождающейся империей руководит очень мудрый и миролюбивый правитель, стремящийся поддерживать наилучшие отношения с остальным миром. Похвальное поведение и, надо надеяться, долговременное, судя по любезности принца, который лично проделал такой путь, везя с собой дорогие подарки, и, как все уже поняли, унаследует трон. Путешествие Аттилы на Дальний Восток ознаменовалось небывалым успехом.
Едва вернувшись, Аттила был вынужден заняться Восточной империей. Феодосий Каллиграф продолжал плести интриги против гуннов, в особенности против Руаса, своего «римского полководца». Руас с Аттилой приобрели слишком большой вес. Отправка пятидесяти тысяч воинов на помощь Иоанну Узурпатору под командованием Аэция заставила задуматься не только Западную империю: самые проницательные советники императора Востока были чернее тучи. Руас стал слишком силен. Как его ослабить? Успеем ли? До сих пор не получалось.
Во время своего путешествия по Азии Аттила убедился, что Константинополь, вместо того чтобы склониться к миру, удвоил свою враждебность к гуннам. Теперь было уже мало оказывать предпочтение тому или иному командиру конницы, Улдину перед Руасом, ссылаясь на его эффективность, или задабривать на всякий случай германские племена к северу от Пушты.
Посланники Феодосия пошли дальше — и в пространственном отношении, и в плане вероломства. Они попытались подкупить акациров. Ранее даже подбивали клинья под Айбарса, чтобы поссорить его с братом и разорвать надвое нарождающуюся империю. Это уже было чересчур.
И Рим от него не отставал. Аэций, правитель Галлии, находился слишком далеко, чтобы умерить коварную политику Феодосия. Гуннские отряды перешли на службу к Риму, а Руаса об этом даже не известили. Через его голову различным племенам из дунайской федерации делали официальные и тайные предложения союза. Оба императора, ничего ему не сказав, обзавелись советниками из гуннов. На его территории перехватили тайных посланцев Рима, нагруженных золотом. Это уже было чересчур. Действовать. Но с кого начать?
Рим пока поберечь: Аэций еще не вышел из игры. Все шишки посыплются на Феодосия. Руас отправил ему предупреждение, в котором не было ничего дипломатического. Он потребовал от Каллиграфа прислать к нему двух уполномоченных, которым он, Руас, передаст список своих претензий и список репараций, которые только и смогут предотвратить войну.
Оглушенный Феодосий посоветовался с Аэцием, который рекомендовал ему согласиться.
С тяжестью на душе и бешенством в сердце Феодосий назначил Плинфаса и Эпигения, двух доверенных лиц (насколько таких еще можно было сыскать в Константинополе), для ведения переговоров с гуннами.
Плинфас и Эпигений возглавят посольство, которое отправится в Маргус, римский город в устье Моравы. Руас приедет туда лично со своими советниками.
Лето кончилось. Северные ветры (точнее, севе-ро-северо-восточный) установились на несколько месяцев. Похолодало. Пузатые медведи подыскивали себе пещеры, чтобы мирно впасть в спячку, если только гунны, большие охотники до медвежатины, оставят их в покое. Волки сбивались в стаи, в осенних сумерках раздавались их мрачные завывания, перекликаясь друг с другом. И всё же надо идти.
Эпигений и Плинфас продвигались к Маргусу, закутавшись в свои мантии, на приунывших лошадях, склонявших голову под порывами ветра, налетевшего с Балтики и Северного Ледовитого океана. Они с грустью вспоминали о своих дворцах в бухте Золотой Рог, теплых и проконопаченных, которым не страшна буря.
Они продвигались вперед, не зная, что Руас умер. Последний «суверенный правитель» черных гуннов с Дуная умер в конце октября или в начале ноября 434 года, точно неизвестно. Созванные в спешке вожди провозгласили его преемниками двух его племянников. Два сына Мунчуга стали двумя «верховными правителями», но только Бледа — формально, а Аттила — по-настоящему. Солнце гуннов поднялось над Европой, и Эпигений с Плинфасом первыми почувствуют это на себе.
Благодаря Руасу, Айбарсу и Аттиле, которые 20 лет трудились сообща во славу своего рода, западные гунны не ставили под сомнение главенство семьи Турдала, восточные тоже его признавали. В обеих общинах присутствовало сознание некой политической общности. Единственным представителем правящей династии выступал Аттила (Бледа числился лишь номинально).
Через несколько недель после смерти дяди, в начале 435 года, он провозгласит себя «императором, правителем гуннов». Легаты Феодосия первыми будут вынуждены его признать. В том же порыве он определит границы своей империи: с востока — по Уралу, на западе — по Дунаю, на юге — по Кавказу, Азовскому морю, Черному морю и Карпатам, включая современную Венгрию. На севере он провел две прямые линии: от Урала до верховьев Волги (к югу от Рыбинского водохранилища) и от верховьев Волги до Дуная на уровне Вены. Эта северная граница символична: внутри очерченного таким образом четырехугольника существовали огромные пространства, на которые ни разу не ступала нога гунна — да и не ступит. Неважно. Если ты велик, не стоит мелочиться.
Эти непомерные притязания никого не насмешили. Пусть империя пока существует только на словах, но то же самое можно сказать и о двух римских империях, правители которых уже давно властвуют над их обрывками, да и сами-то эти императоры держатся на одном честном слове. Аттила же существует реально, и его конники тоже. Его империя — это его конница с ним во главе. Мало не покажется.
Встреча состоится не в Маргусе, римском городе, а на моравской равнине, на правом берегу Дуная. Феодосий назначил двух послов, Аттила тоже выбрал двоих, с тем же количеством нотариев. Его самого сопровождал его брат Бледа — для мебели. Послами стали два его ближайших советника, которые оба не были гуннами: грек Онегесий и римлянин Орест — из Паннонии, как Аэций. Два этих чужеземца были ключевыми персонажами в империи. Их окружали два помощника, чистокровные гунны — Эсла и Скотта.
Великие вожди умеют подобрать свое окружение, и Аттила в этом был непревзойден. Он окружил себя выдающимися помощниками, совершенно незашоренными. В своем выборе он не руководствовался ни происхождением, ни статусом, ни прошлыми делами, для него имели значение лишь достоинства, угадываемые им в тех, кого он приближал к себе. А в проницательности ему не было равных.
Онегесий стал его правой рукой. Аттила поручал ему всё. То он становился послом, то военачальником, то заместителем императора — Аттила не колеблясь передавал ему все полномочия, когда занимался решением других задач. Онегесий, не дрогнув, принимал решения, причем самые важные, когда на кону была судьба империи. Самые могущественные вожди гуннов безропотно повиновались ему. В его лице они подчинялись своему господину. Он обладал наравне с ним самыми зрелищными атрибутами власти. Как и у Аттилы, у него был деревянный дворец в каждом месте его пребывания, а также свой двор. Его жену звали «королевой Онегесией». Он приобщил ее к политической жизни: она устраивала пышные приемы в честь иноземных государей и послов.
Орест родился под Петтавием (ныне Петтау) на Драве, притоке Дуная, в уже тогда могущественной семье. Он женился на дочери Ромула, влиятельного лица в Западной империи. Он мог надеяться на многое, однако упадок Равенны внушал ему отвращение. Отправленный с посланием ко двору Аттилы, он остался там. Надежды, которые он мог питать в Равенне, были мизерными по сравнению с посулами императора гуннов, который всегда держал слово.
Орест быстро стал совестью своего господина. Он не боялся ему противоречить, и — удивительная вещь для деспота — к его замечаниям часто прислушивались. Ему поручали вести самые трудные переговоры, и принятые им решения никогда не отменяли. В краткое время он, как и Онегесий, сколотил себе огромное состояние, но объединяло их не только это. Редчайший случай: два «принципала» этого двора не завидовали друг другу. Несколько раз они будут возражать Аттиле в серьезнейших ситуациях, например, по поводу отступления перед Римом по наущению Льва Великого.
После смерти Аттилы Орест, как и Онегесий, воспротивится разделу империи гуннов. Не встретив понимания, он вернется в Италию командовать армией императора Юлия Непота, далмата по происхождению. Убедившись в его бездарности, он свергнет его в 475 году и заменит собственным сыном Ромулом Августулом, чтобы править от его имени.
Первый Ромул основал Рим, последний станет его последним императором. Год спустя предводитель герулов Одоакр уничтожит империю, свергнет сына и обезглавит отца.
Аттила у себя дома. Он приехал первым и, вопреки римским обычаям, остался в седле. Послы Феодосия подвергли бы себя унижению, если бы спешились. Переговоры начались верхом, под открытым небом. Из-за северного ветра приходилось повышать голос. Лошадям такого слышать еще не приходилось.
Прежде чем уехать из Константинополя, плохо осведомленный Плинфас порадовался при Феодосии тому, что Аттила — еще новичок по сравнению с прожженным Руасом. Он сразу заговорил о доброте своего императора, приславшего так быстро его, Плинфаса, разговаривать с гуннами.
Никакой доброты тут нет, оборвал его Аттила, это нужда: переговоры или война. Гунны только и мечтают начать войну, и еще быстрее, чем Феодосий принял свое решение. «Но…» — начал было Плинфас. Никаких «но». Кстати, и «переговоры» — не совсем подходящее слово. Эпигений и Плинфас находятся здесь лишь затем, чтобы услышать, каким образом римский император Востока может избежать войны, на каких условиях. Они должны ответить «да» или «нет» на эти условия, список которых прилагается. Гунны не могут терять время.
Константинополь должен разрушить все союзы с гуннскими землями, порвать все отношения с дунайскими и кавказскими племенами, входящими в империю, вернуть обратно отряды, нанятые без разрешения Руаса, выдать всех перебежчиков-гуннов со своей территории, торжественно обещать никогда не помогать в какой бы то ни было форме врагам гуннов.
Переждав ветер, Плинфас взял слово: император Востока никогда не нанимал гуннских воинов, надо будет спросить об этом у Рима. Аттила промолчал. Онегесий это отметил. Тогда Плинфас перебрал одно за другим все условия Аттилы, «чтобы убедиться, что всё правильно понял»… После каждого условия он повторял вопрос: «А если император не согласится?» — «Значит, он хочет войны», — отвечал Аттила.
Посланники Феодосия онемели.
Аттила развил успех. Римские пленники бежали, а выкуп за них так и не был уплачен. Он требует вернуть их назад или уплатить по восемь золотых монет за каждого. Нужно также возместить ущерб, причиненный гуннам интригами Феодосия на Дунае и Кавказе. И наконец, сегодня дружба гуннов стоит дороже, чем вчера. Поэтому император Востока удвоит жалованье, выплачивавшееся Руасу, доведя его до 700 золотых либр, да и слово «жалованье» уже не подходит: назовем это данью — ежегодной данью императора Востока императору гуннов.
«Император никогда на это не согласится!» — взорвался Эпигений.
«Значит, он хочет войны», — бесстрастно отметил Орест и предложил послам провести эту ночь в его доме.
Одна ночь на размышление, всего одна. Аттила больше ждать не будет.
У Эпигения была с собой императорская печать, которой можно скрепить любой договор от имени императора. Так что заключить договор они могли, но как можно уступить во всем? Больше всего их беспокоила дань — единственное условие, выраженное в деньгах: казна Феодосия была пуста. Сможет ли он заплатить? Эпигений и Плинфас решили непременно выторговать скидку, махнув рукой на всё остальное.
Занимался день над равниной, образованной речными наносами. Легаты, не сомкнувшие глаз, выступили в дорогу. Их дожидались только два гунна — Эсла и Скотта, закутавшиеся в меха, не говорившие ни по-латыни, ни по-гречески и даже не раскрывшие рта. Так они и играли в гляделки, словно целую вечность, пока не соизволил появиться Аттила с Онегесием и Орестом.
В руках у Ореста был готовый договор, красиво написанный на латыни, достойной Вергилия. Плинфас заявил, что Феодосий может не согласиться на удвоение дани. Орест забрал договор обратно и сказал, что переговоры окончены. Раз император Востока хочет войны, он ее получит.
Эпигений не выдержал: «Печать у меня, можно подписывать».
Маргусский договор подписали немедленно.
«Таким, как я, не надо и показа: мы бьем уверенно и с первого же раза»[15]. Первое явление Аттилы-императора было мастерским ходом. Вонючий варвар за несколько часов покорил Восточную империю. Покорил без боя, без единого удара свел ее к положению данника. Не потеряв ни одного из своих конников, он сумел диктовать свою волю одной из двух держав, которые всё еще считали себя властительницами Европы — той Европы, о которой тогда мечтали все авантюристы мира.
Каллиграф разрывался между чувствами облегчения, стыда и бешенства. Облегчение — оттого, что грозную беду удалось отдалить; стыд от унижения; бешенство от необходимости платить 700 либр в год. И всё же чувство облегчения взяло верх: он безропотно покорился. Только бы не прогневить нового императора. Он велел схватить (странная логика) двух сыновей гуннских вождей, которые служили ему в Константинополе (почему не самих вождей?), и выдал их под Карсом в придунайской Фракии. Аттила в назидание предателям велел распять двух этих невинных людей перед строем римских гвардейцев, которые их доставили. Потом вернулся в свою передвижную столицу где-то в Пуште и сформировал правительство. Главное место в нем занял Онегесий.
«Переехав через некоторые реки, — писал грек Приск, — мы прибыли в одно огромное селение, в котором был дворец Аттилы. Как уверяли нас, он был великолепнее других дворцов, которые тот имел в других местах. Он был построен из бревен и досок, искусно выглаженных, и обнесен деревянной оградой, более служащей к украшению оного, нежели к защите». Украшали царский дворец шатровые крыши, башни и башенки, которые возвышались, как стражи, над оградой… Около царского дворца красовался терем царицы Керки, величественный и воздушный из-за своих узоров.
Еще больше, чем дворец Аттилы, Приска поразил дворец Онегесия, поскольку при нем была баня, выстроенная из камня и мрамора по образцу римских терм, с парной и купальней, построенными по планам архитектора-грека, захваченного в плен в бою, которого Онегесий оставил при себе.
Снаружи — ужас, внутри — благостность. Аттила хладнокровно велел распять двух невинных людей на глазах у доставивших их стражей, чтобы те, вернувшись в Константинополь, распустили слух о его свирепости, но он хотел, чтобы его любили так же сильно, как и боялись.
Любой, допущенный в его ближний круг, может рассчитывать на его доброту, писал тот же Приск.
Его часто описывали двойственным: с одной стороны — кровожадный, с другой — обаятельный. И многие историки утверждали, что очарование перевешивало кровожадность. Его жестокость была политической, в каком-то смысле спровоцированной неудачными обстоятельствами, в которых не было его вины, но которые ему приходилось преодолевать ради спасения империи. А потом, казни — распятие, отрубание головы, сажание на кол, сдирание кожи группам людей или по отдельности — согласовывались с нравами того времени, и злодеяния Аттилы не превосходили по своей жестокости те, что совершали самые мелкие военачальники обеих римских империй или Персии, не говоря уже о преступлениях самих императоров.
Наименее строгие отмечают, что все авторы тех немногочисленных текстов, по которым мы можем изучать этого человека, были его врагами, а то и жертвами.
Морис Бувье-Ажан из тех, кто больше верит в очарование Аттилы. По его словам, Аттила сам предпочитал эту сторону своего характера внушаемому им ужасу. Внутри него даже якобы бушевал конфликт между Грозным и Обаятельным, и ему случалось вдруг меняться, переходя от одного к другому, что выходило за рамки обычных уловок дипломатов.
Более того, он якобы предлагал на выбор: «Желаете ли вы, чтобы вас очаровали, или предпочитаете, чтобы запугали?»
В плане чар использовались пышные приемы в знаменитых деревянных дворцах, парадные залы которых были огромными и набитыми коврами, диванами и подушками, роскошные подарки, чистосердечные разговоры, во время которых император умел расположить к себе, создавая у каждого впечатление, будто для него важен именно этот человек. Дипломатические празднества в честь иноземных сановников устраивали чаще всего во дворце королевы Онегесии, императрица Керка по большей части принимала у себя гуннов.
После громкого успеха с заключением Маргусского договора, ошеломившего Европу и прогремевшего на востоке и по ту сторону Кавказского хребта, два первых года императорского правления прошли, скорее, мирно. Всё испортилось в 437 году. Хрупкое единство огромной империи подверглось угрозе и изнутри, и извне.
Некоторые гуннские кланы между Волгой и Доном претендовали на независимость. В прикаспийских степях акациры и аланы, нарушив заключенные договоры, устраивали набеги на лояльных белых гуннов; воинственные славяне появились по обоим берегам Вислы, а тевтоны опустошали правобережье Эльбы…
Тем временем Аэций упрашивал друга отдать под его начало армию, чтобы сразиться в Галлии с вестготами из Аквитании.
Аттила поспеет везде.
За спиной акациров и аланов с Кавказа маячил Феодосий II. Каллиграф не смог молча проглотить маргусский позор. Он возобновил сношения с племенами, которые когда-то выслушивали его благосклонно. С присущим ему легкомыслием он предоставил своему главному евнуху направить туда столь бестолковых послов, что они раздали всё привезенное с собой золото второстепенным вождям, а к вождю вождей, старейшине Куридаку, явились почти с пустыми руками. Уязвленный Куридак предупредил Аттилу.
Аттила лично возглавил армию, разбил наголову акацирских вождей, принявших римское золото, устроил их массовую казнь и разорил земли аланов, последовавших за ними. Потом предложил Куридаку встретиться, «дабы вместе насладиться плодами победы». Куридак опасливо уклонился от встречи. Он боялся, что эти плоды могут оказаться для него горькими, ведь хотя он и разоблачил происки Феодосия, он не мог не понимать, что в глазах Аттилы это разоблачение было вызвано разочарованием, и если бы он получил обещанное золото, то молчал бы как рыба.
Вместо того чтобы принять приглашение императора гуннов, он укрылся в надежном месте и ответил Эсле, передавшему приглашение: «Я уже стар. Глаза мои ослабли и уже не выдерживают света солнечных лучей. Как же они вынесут блеск самого солнца? Я останусь здесь, а что он ни сделает, всё будет хорошо».
Аттила-дипломат удовлетворился этим ответом; Аттила-чаровник послал старику серебряный меч в знак дружбы и обещания защищать его до конца его дней на посту вождя племени. Вероломных акациров присоединили к империи вместе с провинившимися аланами под властью Эллака, его старшего и любимого сына. Мятежников ввели в состав империи. Не стоит этому удивляться: первые состояли в родстве с гуннами, а вторые были столь малочисленны, что растворятся среди них. И те и другие, радуясь тому, что остались живы, были даже польщены тем, что отныне должны повиноваться старшему сыну своего победителя.
Так обозначилась политика этого императора нового типа: создание федеративной империи, объединение союзных царств с сохранением за собой высшей власти.
После того как акациров покарали и поглотили, белые гунны, смущенные инакомыслием, резко поумнели. Продолжая свою поездку, Аттила встречал лишь верных вождей, самые провинившиеся из которых больше всех и каялись. Он не стал их наказывать, продемонстрировав «милосердие Августа» и следя, чтобы у тех из них, кто действительно остался ему верен, было достаточно сил, чтобы поддерживать порядок. Потом он наладил связи между новыми частями империи и правителем, которого он им дал, — своим сыном.
Усмирив восток, Аттила пошел на север. Тут он призвал себе на помощь своего брата Бледу. Поселил его в укрепленном городе на Дунае, выше Вены. Этот город будет носить имя своего обитателя, пока не превратится в Буду, а потом Будапешт — столицу Венгрии… Впрочем, эта версия не доказана, как и многое из того, что касается варваров V века. Современные венгерские историки считают, что Буда — имя средневекового рода, возникшего много позже Аттилы.
Как бы то ни было, Бледа находился там лишь благодаря своему званию «верховного правителя». Брат просил его лишь об одном: олицетворять собой власть без лишнего шума. Бледа, как мы знаем, не хотел быть правителем. Власть несла с собой, на его взгляд, лишь неприятности и заботы. Он хотел охотиться, пить и есть, может, еще любить…
Тем временем Аттила отправил свои войска в германские земли до самой Балтики под командованием трех своих самых верных людей — Онегесия, Ореста и Эдекона.
Грозные германцы всюду были разбиты. Те, кто выжил, с перепугу забились в самую чащу лесов. Конники, победно выскочившие из глубин этих лесов на огромный песчаный берег незнакомого моря, усеянный кусками янтаря, порой соизволяли спешиваться и подбирать их. Весь север Европы между верховьями Рейна, Эльбой и Балтикой вскоре будет колонизирован. Империя гуннов стала обширнее Римской.
В это время Бледа умер. Говорят, его видели, когда он, пошатываясь, ходил по своему городу, веселый между попойками. Протрезвев, он подзывал коня и отправлялся на охоту. Однажды он подозвал его слишком рано и, к несчастью, сумел усесться верхом. Вцепившись в гриву, он забрался в чащу леса, где, как он знал, была медвежья берлога. Увы, запах зверя напугал его коня; тот сбросил всадника, который разбил себе голову о ствол дуба.
Эту версию подвергали сомнению. Она казалась слишком простой. Аттила Кровожадный не мог не быть замешан в смерти брата, к тому же старшего, из опасения, что тот когда-нибудь оттеснит его на второй план.
Первостатейные писатели и историки поддерживали версию об убийстве: Аттила якобы убил своего брата. Сегодня от этой версии не оставили камня на камне. И главная причина такова: эта гипотеза принижает Аттилу. Превращает его в маньяка-убийцу, который бы, как говорится, не пожалел отца с матерью, а уж брата… Аттила мог лить кровь рекой, что он неоднократно доказывал, но не это его главная черта.
Бледа ничем ему не мешал, он не мешал вообще никому. Охотился, пил, ел, счастливый тем, что может жить своей жизнью. Больше всего желавший, чтобы его оставили в покое. Первыми об убийстве завопили Равенна и Константинополь. Они утверждали, что в отсутствие брата Бледа забрал в свои руки власть, которая показалась тому опасной. Но они сами жили в обстановке убийств и двуличия. Их вопли никого не взволновали.
Аттила и ухом не повел в ответ на эти обвинения. Он упрочил свою власть, и удача была на его стороне.
В 439 или 440 году один гунн, пасший свои стада в восточных степях у Дона, примерно в 300 километрах от устья этой реки, увидел, как к нему ковыляет телушка с пораненной ногой. Заинтересовавшись, он прошел по кровавому следу до острия, торчащего из земли, и выкопал оттуда меч.
Очистил: меч оказался золотым. Это был меч Марака! Защитника непобедимых скифов, вышедшего когда-то из Аральского моря по воле богов, чтобы покарать и возглавить разнеженные степные народы. Двигаясь на запад, они вышли за Каспий и уже подступили к Кавказу, но тут их остановили киммерийцы. Они были страшны, и храбрые скифы дрогнули. Тогда Марак, вождь всех скифов, вытащил свой большой золотой меч и велел выкопать яму, положил его туда своими руками, чтобы острие торчало из земли. Затем он велел засыпать яму и, указывая на север, где были киммерийцы, заявил, что ни один скиф не сможет отступить ни на шаг за острие закопанного клинка. Возбужденные скифы ринулись вперед, оробевшие киммерийцы оставили поле боя. Скифы устремились за ними вдогонку, пленили их вождя, смяли войска Медеса, пришедшие им на помощь… В своем порыве они добрались аж до границ Египта, откуда их выпроводил фараон Псамметих I, осыпав подарками.
Дарий I, создатель огромной персидской империи, отказался от мысли их покорить. Полководцы Александра Македонского уступили им Бактриану в Афганистане и северо-запад Индии. Только правитель парфян, Митридат II Великий, сумел уничтожить несколько скифских отрядов. Римляне, достигнув вершины своего могущества, опасались с ними связываться. Скифы держали в страхе весь мир. И всё это благодаря мечу Марака! Который прагматичные римляне называли мечом Марса.
Пастуху, нашедшему священный меч, предложили отнести его Аттиле. Тот так и сделал, надувшись от гордости. Его сопровождал почетный кортеж, состоявший из самых доблестных вождей в империи.
Аттила был агностиком, но как не изобразить восхищение, признательность и почитание перед этим воплощением самых безумных суеверий людей, которые во всех странах подлунного мира считают войну самым достойным из всех людских занятий?
Аттила сыграл ту роль, которую от него ждали. Вручение меча превратило его в избранника Марса, властителя войны и мира.
Находку отпраздновали с большим размахом. Несколько месяцев меч был выставлен в столице империи. Тысячи зевак — или паломников, зачастую приходивших издалека, — шли чередой перед божественным мечом, ибо, в представлениях того времени, он стал чудесным, поскольку им владел бог. Со всего мира поступали поздравления. Равенна и Константинополь тоже включились в игру. Две столицы, называвшие себя христианскими, показывали изо всех сил, подобно язычникам, будто видят в этой находке, обнаруженной в сердце гуннской империи, знак небес. Еще чуть-чуть, и владелец меча сам превратился бы в бога — еще не так давно римские императоры претендовали на это звание. Даже китайцы прислали свои приветствия.
Аттила отвечал. Он послал Эдекона в Китай с греческими и латинскими рукописями, некогда захваченными у римлян и бургундов, чтобы передать их мандаринам. Сын Неба вручил ему самому и передал через него его отцу и высшим сановникам-гуннам знаки самого высокого отличия, какие только можно было вручить иноземцам.
Онегесий отправился в Равенну, везя с собой изделия из резной слоновой кости, которые, как он знал, обожала Галла Плацидия, а для Аэция — серебряный шлем и позолоченную портупею. Но легат, которому было поручено поблагодарить Феодосия II за добрые слова, отправился к нему с пустыми руками.
Вся эта слава к тому же возбудила всепоглощающую любовь к Аттиле со стороны сестры императора Валентиниана III, дочери Галлы Плацидии и Констанция III, очень красивой и бойкой принцессы Гонории. Умная и страстная, эта непокорная дочь доставляла множество забот своей бедной матери и брату-императору, которого она выводила из себя. Она была воплощением женских капризов, обладала вулканическим темпераментом, рано превратившим ее в самое скандальное порождение двора, питавшегося скандалами. В Равенне ее пришлось запереть в монастырь. Однако его стены оказались преодолимыми, и ее отправили в Константинополь, где за ней учредили особый надзор, но она обвела соглядатаев вокруг пальца. Она бежала и торжественно вернулась в Равенну, утратив все шансы выйти замуж, несмотря на свое происхождение. Брат хотел бы запереть ее где-нибудь далеко, в неприступной крепости, но мать не могла на это решиться. Слишком громкий бы вышел скандал. Валентиниан это понял.
В 440 году, когда был найден меч Марса, ей исполнилось 23 года. Она воспылала страстью. Написала Аттиле, прося на ней жениться, и приложила к письму кольцо — в знак помолвки, по ее словам. Что касается приданого, пусть Аттила не переживает по этому поводу: как дочь Констанция III, она получила половину Западной империи…
Бич Божий растерялся. Он отпустил гонца без ответа. Когда тот вернулся в Равенну, Гонории там уже не было. Она открылась служанке, которая немедленно донесла о ее планах Галле Плацидии. Валентиниан тут же запер ее в монастырь, слывший неприступным. Она тотчас оттуда сбежала, и никто несколько лет не знал, что с ней сталось!
Аттила сохранил письмо и кольцо. Женщины у него были, и Гонория не занимала все его мысли. К тому же в сердце его на тот момент полыхала не любовь, а жажда мести.
Мало было включить акациров в империю, предварительно разбив и покарав. Феодосий, стоявший за их изменой, не пострадал от своего коварства. Этого нельзя было так оставить. Честь гунна требовала более яркого ответа, чем успех — даже полнейший — карательной экспедиции на дальних рубежах империи самих же гуннов. Нужно было нанести удар по Римской империи.
Поскольку Маргусский договор оказался попран, именно там и предстояло атаковать.
На Маргусской равнине ежегодно устраивали одну из самых крупных ярмарок в Европе, где встречались купцы из обеих римских империй. Она приносила большие барыши Восточной империи, на территории которой находилась. Помимо представителей всех европейских народов там можно было встретить персов, индусов, китайцев… и гуннов, которые захаживали туда по-соседски. Это была ярмарка мирового уровня.
В 441 году гунны явились массово. Продавцы радовались такому наплыву клиентов. Но эти гунны не были покупателями, они выхватили из-под одежды кинжалы и мечи и приказали: «Ни с места!» Воспользовавшись слабостью полиции Феодосия, гунны захватили всё, что могли унести, а остальное сожгли. Потом угнали лошадей и рогатый скот, выпив всё имевшееся спиртное.
Извещенный об этом Феодосий спросил у Аттилы, были ли то простые разбойники, которых император гуннов сможет наказать, или же креатуры самого императора.
Разбойников у гуннов нет, ответил Аттила. То, что произошло под Маргусом, было сделано по его повелению. Но ничего бы не случилось, если бы император Феодосий не нарушил Маргусский договор. Это была двойная кара. Во-первых, покарать Феодосия; во-вторых, епископа Маргуса, Андоха, поскольку он осквернил могилы гуннских вождей, похороненных у Дуная, чтобы выкрасть оттуда оружие и драгоценности. Аттиле сообщили, что Андох находится в столице своей епархии, и тот решил похитить его, чтобы отобрать награбленное. К несчастью, секретность этих планов оказалась нарушена. Партия отложена…
Каллиграф был как громом поражен. Будучи слишком слаб, чтобы вести войну, он обратился к праву. Известно, что он был прожженный юрист. Он сам прекрасно знал, что нарушил Маргусский договор, поэтому он вцепился в дело епископа. Императору гуннов сообщили, что ему, Аттиле, владельцу меча Марса, полагается подать жалобу, вызвать епископа в суд и добиться возмещения ущерба. В цивилизованных странах не принято вершить правосудие самому.
Правосудие гуннов иное, чем в Риме, ответил Аттила, не лукавя. Гунны карают злодеев, как только уличат их в преступлении, без всяких судебных проволочек. Он сожалеет об ограниченности римской юриспруденции, бесстыдно предполагающей, что иноземный император обратится к ее посредству!
Аттила требовал лишь соблюдения международного права, понятие о котором сам же и ввел. Он требовал экстрадиции епископа Андоха и выдачи его правосудию гуннов, правосудию Аттилы, который тотчас велит его повесить безо всякого крючкотворства. Если Феодосий хочет убедиться в его правоте, пусть призовет к себе епископа и допросит сам, прежде чем выдать…
И вот Андох предстал перед Феодосием. Он возмущен: не осквернял он никакие могилы. Он знать ничего не знает о погребениях вождей на Дунае…
Представители правосудия отправили его обратно в Маргус и, чтобы расследование продвинулось вперед, запросили у Аттилы перечень и расположение оскверненных могил. Аттила ответил, что требовал выдачи виновного, а не начала судебного разбирательства. И поскольку выдать его не хотят, он сам за ним явится — и осадил Маргус.
Епископ Андох смог оценить слабость Феодосия: гунны творили всё, что хотят, на моравской равнине. Жалкие римские гарнизоны не могли им противостоять. Хотя епископ укрепил свой город, зная, что крепостные стены остановят гуннов, он понимал, что никто его не спасет, и решил вступить в переговоры.
Он предложил открыть ворота Маргуса при условии, что город останется резиденцией епископа, а он сам — епископом. Аттила согласился. Епископ и духовенство торжественно явились приветствовать его в лагерь и вернулись в город вместе с ним и его охраной, чтобы сдать Маргус. Аттила обнял Андоха — и всё. Константинополь без боя потерял ключевое укрепление на своей северной границе и ярмарку, бывшую одним из основных источников дохода.
Феодосий будет умолять Валентиниана III, императора Запада, бросить свои легионы на захватчика. Валентиниан посоветуется с Аэцием — своим главнокомандующим. Аэций ответит отказом, мол, сейчас не время.
В Западной империи положение было не лучше, чем в Восточной. Вандалы, державшие в своих руках Африку, захватили Сицилию — житницу Рима. Пираты господствовали в Средиземноморье; надо было оснастить новый флот, чтобы очистить море и перевезти войска в Карфаген. В Галлии постоянно бунтовали багауды, вестготы были неукротимы, аланы — непримиримы. Наконец, гунны были друзьями Запада, а потому, при данных обстоятельствах — необходимы.
Сразу возникло предположение о тайном сговоре между Аттилой и Аэцием. Этот договор якобы преследовал далекоидущие цели: они поделили бы между собой Европу с останками обеих империй. Однако доказать ничего не удалось.
И вот Аттила ступил на оба берега Дуная. Этот успех трудно переоценить: несмотря на неослабные усилия, правда, исключительно дипломатические, Руас всю жизнь оставался зажатым к северу от этой реки. Но с Восточной империей еще не было покончено. Месть оказалась неполной, а главное, честолюбие не было удовлетворено. Феодосий не мог пошевелиться, и Аттила стал продвигать вперед свои пешки, то есть свои отряды.
Выступив из Будапешта, он захватил Виминаций (ныне Костолац в Сербии) — оплот гарнизонов к югу от Дуная, взял Ратиару, перебив ее защитников, потом явился под стенами Белграда, который тогда назывался Сингидуном. Узнав об участи Ратиары, гарнизон предпочел сдаться, пополнить собой ряды войск Аттилы и вместе с ним пойти на запад долины Савы, чтобы завладеть Второй Паннонией, бывшей под протекторатом Восточной империи. Он подступил к Сирмию (ныне Сремска Митровица). Сирмий был одной из важнейших крепостей в империи, и его внушительный гарнизон был настроен обороняться. Однако отрядами гуннов командовал паннониец Орест, соплеменник осажденных.
Заговорил голос крови: начались переговоры. Пришли к выводу о том, что сражение будет братоубийственным. Сирмий открыл ворота.
Аттила предоставил гарнизону военные почести и предложил такой выбор: уйти в Первую Паннонию, то есть в Западную империю, или пополнить собой гуннскую армию Второй Паннонии… Большинство высказалось за второй путь. Теперь месть Аттилы была полной.
Сирмий повелевал Иллирией, Далмацией, Мёзией, Македонией и Фракией. Между Константинополем и Бичом Божьим больше не лежало никаких препятствий.
Аттила задержался в Сирмии, чтобы насладиться победой. Вызвал туда своих «мушкетеров» — Онегесия, Ореста и Эдекона — и устроил самый грандиозный пир на памяти гуннов в каменном доме римского градоначальника, которого выгнали оттуда накануне.
Когда веселье улеглось, они вспомнили о долге: завершить унижение Восточной империи.
Эдекон довел до конца завоевание Мёзии. Спустившись по долине Марицы, он углубился во Фракию, захватил Филиппополис (ныне болгарский Пловдив) и устроил ставку в Аркадиополисе, на берегу Мраморного моря, в двух переходах от Византия (современный Текирдаг в Турции). Аттила приказал ему оставаться там.
Онегесий собирался захватить Македонию, но тут Феодосий, собрав волю в кулак, бросил на него достаточно мощную армию, чтобы тот встревожился. Он сумел собрать эти войска, заключив позорный мир с персидской династией Сасанидов, обнажив африканский фронт (против вандалов) и отозвав с Сицилии свой флот, который должен был урезонить их же. Сколоченная таким образом армия состояла в основном из готских наемников. Командовал ею римлянин Аспар, друг Аэция, которому помогали два германских полководца — Ареобинд и Арнегиздон.
Эту армию последней надежды взяли в клещи Онегесий, наступавший с запада, и Эдекон, шедший с востока (который при этом не обнажил константинопольский фронт). Надо было отступать. Аспар отдал приказ. Белокожие и рыжеволосые готы в ярости отошли к Золотому Рогу через нижнюю Фракию.
Избавившись от этой угрозы, Онегесий вновь двинулся к Эгейскому морю, достиг Галлиполи (ныне Гелиболу в Турции), занял крепость Афирас — практически пригород Константинополя. Аттила послал ему приказ стоять там.
Сам император гуннов выехал из Сирмия в Мёзию и город Наисс (Ниш в нынешней Сербии). Это была родина Константина Великого, превратившего Константинополь в столицу Римской империи. Аттила захватил ее и приказал немедленно разрушить. Мщение свершилось.
Константинополь затаил дыхание, укрывшись за огромными новыми крепостными валами, сооружение которых было, надо полагать, величайшим свершением Феодосия Каллиграфа, завершенным лет за десять до появления гуннов. Это были внушительные оборонительные сооружения, они простоят века, их остатки и сегодня поражают путешественника, но столица Восточной империи была деморализована и уже представляла себя захваченной.
Армии Онегесия и Эдекона держали ее в своей власти. Они ждали Аттилу, чтобы тот один покрыл себя славой ее завоевателя.
Аспар со своими готами ждал штурма, не строя иллюзий. Конечно, гунны не лезут на стены. У них нет осадных машин и необходимого терпения для захвата столь хорошо укрепленного города. Но они крепки духом, а город охвачен тихой паникой, отравляющей умы, которая того и гляди взорвется. Те, кто выйдет сражаться, не надеются на победу.
Аттила приехал к Эдекону в Аркадиополис и собрал там свой штаб: Ореста, Онегесия, Скотту и Берика. Он приказал всем оставаться в боевой готовности. Надо быть начеку, но выжидать. Его помощники не задавали вопросов. Они молча повиновались.
Отказ от взятия Константинополя — первая из трех великих загадок Аттилы. В дальнейшем он откажется от взятия Рима и Парижа. Трижды он развернулся и ушел от трех городов, смирившихся со своим захватом. И неважно, что Париж в V веке был просто селом по сравнению с Константинополем и Римом, важен этот уход.
Почему он передумал? Высказывалось предположение о том, что не идти дальше его попросил Аэций. Предполагали, что ради сохранения жизни своих людей (штурм крепких стен Константинополя обошелся бы слишком дорого) он ждал, что Феодосий с отчаяния начнет переговоры. Думали, что он хотел дать уставшим войскам отдохнуть в удобной, хорошо снабжаемой местности. Полагали, что наученный примером Римской империи, не сумевшей удержать захваченного, он отказался от рокового разбухания своей империи.
Последние два предположения выглядят непоследовательными: отряды Онегесия и Эдекона уже давно сидели без дела к тому времени, когда состоялся военный совет, на котором было решено не идти дальше. Что же касается масштабов завоеваний, то сам по себе Константинополь — несколько квадратных километров, занятых различными постройками — не увеличил бы его владений до роковых размеров.
Наконец, предполагали, что тревожные новости с Кавказа и Поволжья заставили его отказаться от атаки.
В самом деле, белые гунны восстали против чиновников, назначенных Аттилой в бывшие владения своего дяди Айбарса; акациры, над которыми он поставил своего сына Эллака, тоже зашевелились: им было тесно в своих землях, и они хотели завоевать другие; наконец, орды гуннов из Средней Азии, повинуясь извечному побуждению, бывшему у них в крови, двинулись на запад и произвели на своем пути те же разрушения, что и их предшественники. Лагеря, разбросанные от Кавказа до Карпат для обеспечения безопасности империи, были недостаточно сильны, чтобы их удержать. Требовалось принять решительные меры.
Наверное, это и было главной причиной отказа от Константинополя: судьба империи решалась в нескольких тысячах километров от Золотого Рога.
В конце 444 года Аттила покинул Аркадиополис вместе с Бериком и устремился на восток. Нужно было не только поправить положение, но и укрепить целостность огромного образования, основы которого он заложил шестью годами ранее.
За этой экспедицией тянулся долгий кровавый след, но цели своей она достигнет: империя оформится окончательно. Это была уже не расплывчатая конфедерация кочевников, многие из которых и не догадывались, что входят в нее, поскольку никогда о ней не слышали.
Были проведены подробные подсчеты общих репрессий и отдельных зачисток, хотя и не всем данным можно верить.
Сорок тысяч человек погибли в бою с отрядами Аттилы и Берика. Еще сорок тысяч были ликвидированы во время массовых казней, устроенных теми же отрядами. Поскольку время поджимало, или потому что временами не удавалось сдержаться, а то и попросту в назидание, Аттила якобы лично, своей рукой отправил к праотцам точно неизвестное, но все же внушительное количество противников. Еще десять тысяч подданных империи пали в боях между враждующими ордами — Аттила бросал своих сторонников на тех, кто были верны ему в меньшей степени. Двести пятьдесят вождей кланов якобы были убиты, став жертвами «несчастных случаев на охоте», наряду с тремя тысячами недовольных низшего разбора. Среди казненных вождей подавляющее большинство составляли старики, тотчас замененные молодыми, для которых, естественно, Аттила олицетворял собой прогресс.
В результате этой чистки империя, наконец, стала соответствовать своему названию: Аттила по-настоящему сделался ее властителем. Пусть она еще оставалась рыхлой, но централизация, замешенная на крови, утвердила его авторитет.
Верноподданнические чувства выражались в преподнесении большого количества женщин в знак союза или подчинения. Аттиле с Бериком их досталось по сотне каждому — дочерей или вдов разных вождей, вернувшихся на путь истинный. Самые важные стали супругами, прочие — наложницами. Большинство они раздали своим подручным.
В этих заботах прошел весь 445 год.
Тем временем Эдекон всё еще дежурил под Константинополем, а Онегесию разрешили проникнуть в Македонию. Они вместе составили план кампании. На их пути могли попасться римские войска двух видов: наемники-варвары и дисциплинированные легионы. У гуннов была примерно та же картина. Были классические гунны, степные лучники-индивидуалисты, сроднившиеся со своими лошадьми, и пехотные подразделения, обученные на римский манер, — достойное подражание знаменитым легионам. При каждой стычке в ход пустят те отряды, которые лучше сумеют сладить с врагом. Эдекон в особенности ратовал за сооружение осадных машин, отсутствие которых вынуждало гуннов обходить попадающиеся на пути крепости или брать их измором: в первом случае в тылу оставался непобежденный противник, во втором приходилось тратить время и терять преимущество от скорости.
На эти приготовления требовалось время. Феодосий успокоился. И был неправ.
Онегесий вступил в Македонию в конце 445 года. Родину Александра Великого обороняли плохо. Наемники Каллиграфа заперлись в своих укреплениях и боялись оттуда выходить, оставив всю страну гуннам.
Онегесий не спешил. Он спокойно опробовал баллисты и катапульты, которыми снабдил его Эдекон, на гарнизонах, считавших себя в безопасности за своими стенами. Машины можно было усовершенствовать, но результаты и так оказались неплохие: крепости падали одна задругой, их защитников истребляли — или принимали в свои ряды.
Он перешел в Фессалию, оставив за спиной Олимп. Две римские армии по очереди попытались его остановить. Он бросил на них в лоб свои легионы и охватил с флангов конницей. Обе армии были уничтожены. Те, кто выжил, бежали в Афины или в Константинополь, где, влившись в войска Аспара, способствовали их разложению.
Всё это заняло около полутора лет. Осенью 447 года, оставив Эдекона под Константинополем, Онегесий отправился завоевывать Грецию и дошел до Фермопил.
Итог кампании (хотя проверить это сегодня не представляется возможным) — 85 захваченных и разрушенных крепостей: 19 —в Македонии, 9 — во Фракии и 57 — в Фессалии.
В конце года торжествующий Аттила с большой помпой вернулся в Аркадиополис. Онегесий, прибывший из Греции, устроил маневры своей армии перед Афирасом на глазах у защитников Константинополя. Показательные стрельбы его артиллерии, постоянно усиливаемой новыми машинами, окончательно деморализовали последних солдат Каллиграфа. Аттила решил, что можно начинать переговоры.
Он вызвал Ореста, велел ему связаться с Аспаром, с которым тот был знаком, и дал все инструкции, в которых искусно сочетались жар и холод.
Полководец Феодосия сначала услышал, что император гуннов полон решимости взять Константинополь чего бы это ни стоило, даже если ему придется обнажить границы и набрать наемников в самом Китае для пополнения войск. Если паче чаяния победа будет за Аспаром, Феодосию придется править только трупами и голодающими…
Но Аттила не желает ни покончить с Восточной Римской империей, ни разорить ее. Он хотел только отомстить. Это уже свершилось. Он отплатил сторицей за оскорбления, которые ему когда-то нанесли. Он удовлетворен и хочет только мира. Пусть Феодосий попросит о нем, и всё будет хорошо. Принимая во внимание ситуацию, с просьбой о мире должен выступить именно он.
Какова будет цена? — спросил Аспар. Золото. В основном золото. Конечно, придется кое-где подправить границы, но Аттила хочет золота. Золото всегда завораживало гуннов, напомнил грек Орест римлянину Аспару, и потом, Аттила разорен. Разорен своими завоеваниями.
Аспар всё понял. Отправился в императорский дворец и шепнул Феодосию, чтобы просил о мире, как советует ему Аттила.
Мир? Каллиграф не верил своему счастью. Он-то уже думал, что погиб.
Начались переговоры. Аттила направил на них Скотту (чистокровного монгола, уродливого, грязного, вонючего), чтобы изложить свои условия. Феодосий отказался принять это отталкивающее существо. Пусть обратится к его меченосцу, велел он передать Скотте: тот уполномочен на всё. Меченосец был одновременно главным евнухом. Звали его Хрисафий.
Вот каковы были условия.
Главный евнух подтвердит, что переговоры начались по настоятельной просьбе императора Востока. Это он просит о мире.
Поход, который был вынужден совершить Аттила, повлек затраты, которые надлежит возместить. Хрисафий удивился: пострадала-то Восточная империя. Возможно, ответил Скотта, но поход, ставший необходимым из-за немыслимого поведения императора Востока, расстроил хозяйство гуннов. Нужно возместить ущерб. Хрисафий умолк.
Согласно Маргусскому договору, римлян, бежавших из плена, следовало выкупить за восемь золотых монет каждого. Однако денег недодали, причем существенно. Следовательно, цена увеличивается с восьми монет до двенадцати.
Ежегодная дань, выплачиваемая Восточной империей империи гуннов, возрастет до 2100 золотых монет.
Хрисафий соглашался на всё.
Остается территориальный вопрос, намекнул он всё-таки с тревогой. Об этом после, ответил Скотта.
Феодосий молча подписал договор, представленный ему главным евнухом. Скотта отвез его Аттиле.
Самолюбие Хрисафия было слегка уязвлено, однако он потирал руки. За финансы отвечал он. Именно ему придется собирать дополнительные налоги, которые пойдут на уплату дани. Его личное состояние от этого не пострадает.
Два месяца спустя Скотта вернулся, повышенный до ранга посла. На сей раз побрезговавший им император был вынужден его принять. Главный евнух рухнул с небес на землю: Аттила поручил Скотте проследить за сбором налогов для выплаты репараций. Невероятное вмешательство в чужие дела, несравненная наглость. Феодосий и на это согласился. Скотта со своими счетоводами будет всё проверять. Хрисафий будет кипеть от бешенства и не простит этого никогда.
Вот теперь месть свершилась. Император и Восточная империя — отныне просто слова, само существование которых зависит только от корректности императора гуннов. «Лучше создать новое имя, чем влачить свое», — бросит однажды Вольтер кавалеру де Рогану, упрекнувшему его за псевдоним[16], словно вспомнив Аттилу и Феодосия. Феодосий II был теперь императором только номинально. Что это за император, если он платит дань?
Ситуация, веками господствовавшая в сфере влияния Рима, в корне изменилась: теперь варвары собирали дань. Аттила сохранил свои войска, которые могли бы обломать себе зубы о Влахерны[17], и обогатился. Он был хозяином Европы и ее грозой.
И всё же он не вступил в Константинополь, и вся Европа задавалась вопросом — почему? Из-за некоего тайного договора? Или из слабости? В V веке столица государства имела такое же символическое значение, как и всегда. Вступление в столицу врага было самым неопровержимым доказательством победы. Аттила отказался его предоставить.
Все терялись в догадках.
Якобы Аэций сказал давнему другу: «Ни шагу дальше».
Или Аттила удовлетворился тем, что поставил на колени (почти в прямом смысле) слабого императора; взвалить на себя бремя Восточной империи, добавив его к грузу своей собственной, ему якобы не улыбалось.
Вступить в Константинополь? Тщеславие. Гунн — человек степей, для него города — тюрьмы. Его царство — бесконечность, его столица там, где он сам.
Кое-кто (их мало) наделяет его чувством умеренности, которое есть высшая мудрость. В глазах большинства гунн, неисправимый кочевник, неспособен возвыситься над вымогательством и выбиванием выкупа. Он понял лучше других: разграбить Константинополь было бы замечательно, но содрать с него выкуп еще лучше, изощреннее, поскольку это значит унизить его.
Его противники не хотели признавать за ним такой изощренности. Для них гунн всегда останется гунном. Он может говорить по-гречески и по-латыни, выстраивать самые замысловатые комбинации, проявлять ошеломляющие способности в дипломатии, но он всё равно варвар.
В меньшинстве остаются те, кто считает, что император гуннов и не собирался захватывать Константинополь. В их представлении он исхитрился заставить в это поверить, собираясь на самом деле осуществить иные замыслы, непостижимые как в 448 году, так и в 2005-м. Поэтому их и не принимали всерьез.
И всё же из нагромождения рациональных гипотез выбивается вопрос совершенно другого порядка: а не был ли Аттила сумасшедшим? На сюжет о безумном правителе написано немало книг и поэм. Безответственный монарх (это плеоназм, только об этом мало кто думает) — классика мировой драматургии. В чем же могло заключаться безумие Аттилы?
Страх победить, боязнь раздавить, зайти слишком далеко, слишком высоко, слишком сильно. Нежелание слишком возвеличиться. Не злоупотреблять и так уже несравненными талантами. Метафизическая забота о скромности не только у завоевателей, но и у посредственных людей.
Уход из-под Константинополя стал первым в череде подобных поступков вплоть до отступления из Шампани после сражения на Каталаунских полях. Судьба распорядится так, что оно станет окончательным, но ничто не мешает думать, что если бы он сумел развернуть большое наступление на агонизирующую Западную империю, которое тогда готовил, и там вышло бы так же.
В заключительный момент, когда предстояло нанести роковой удар обреченной формации, что-то снова помешало бы ему нарушить некое непреложное и неопределенное (потому что неопределимое) правило, непостижимое для обычных людей, чтобы закрепить свой триумф.
Аттила, этот необыкновенный человек, соблюдал это правило сам с собой, поскольку оно было понятно только ему. А всеобщее непонимание с оттенком ошеломления прошло сквозь века.
Гипотеза о некой форме безумия сливается с предположением о безучастности: Бич Божий не стремился к нарочитым триумфам (вступить победителем в Константинополь и Рим); любители показухи объявили его безумным, поскольку подобное равнодушие не укладывалось у них в голове. Всем известно фанфаронство Барреса[18] («Всё иметь, чтобы всё презирать») — выражение мелочности, тем более удручающей, что он видел в нем величие, поскольку в его представлении «всё иметь» подразумевало лишь получить почести и материальные блага, достижимые в его время, на рубеже XIX–XX веков, а они всё те же — награды, знаки отличия и титулы, которые приходится принять, а то и выклянчить, так что презрение, которое к ним якобы выказывают, на самом деле лишь презрение к самому себе. Аттиле не придется себя презирать.
Репарации достигнут шести тысяч либр. Под руководством Скотты и его счетоводов их соберут очень быстро.
Похоже, пришлось прессовать богатых, поскольку из бедных много денег было не вытрясти.
Наверное, именно в тот момент император гуннов в полной мере соответствовал своему великолепному прозвищу — Бич Божий, которое связывало его непосредственно с «Песнью Богородицы» из Библии, где сказано, что Бог «богатящияся отпусти тщи». Богачи Восточной империи будут слезно рыдать, Аттила же не станет пересчитывать деньги, которые он у них отнял, у него были дела поважнее: вести переговоры по существу вопроса. Довести до конца великие переговоры, которые должны были разрешить Восточный вопрос.
А теперь поговорим, — предложил Аттила.
О чем? Переговоры… Тайна, сводящая с ума императора — столь слабого, что само это слово поразило его страхом, поскольку он — справедливо — видел в нем лишь ускорение своего падения. Феодосию это казалось тем более очевидным, что, предваряя новое унижение, Аттила прислал к нему двух своих главных помощников после Онегесия — Эдекона Несговорчивого и Ореста Непоколебимого.
Начинался 449 год. Эдекон и Орест прибыли в Константинополь вместе с легатом Вигилой, встретившим их на границе. Феодосий принял их согласно протоколу. Никогда еще требования протокола так не разнились с побуждениями сердца. Затем Вигила разместил их в апартаментах главного евнуха.
За 30 лет карьеры Хрисафий забрал в свои руки такую власть, что мнил себя неуязвимым, особенно потому, что был в милости у императрицы Афинаиды, оказывавшей на своего мужа-императора такое же влияние, как маршальша д’Анкр на Марию Медичи: «Мой ум, который тверд, и ясен, и силен! Над глупою толпой меня возносит он»[19].
Хрисафий организовал убийство своего предшественника. Он одновременно исполнял должности меченосца, инспектора финансов, а потом и главного министра. Феодосий без него и шагу ступить не мог. Поэтому после тридцати лет постыдного успеха он считал себя неотразимым и глупо верил, что всё покупается, а у него к тому же есть на это средства.
Ореста он опасался. Он сказал Феодосию (и Орест об этом узнал): «Как смеет Аттила требовать у тебя выдачи гуннов, перешедших на твою службу, если его главный помощник — римский перебежчик?»
Эдекон казался ему доступнее. Выходец из суровых степей был ошарашен блеском византийского двора. Мрамор, порфир, позолота, нефрит, узорчатые ткани на стенах — он никогда не видел ничего подобного и не скрывал своего восхищения. Надо будет его прощупать.
Хрисафий пригласил его на ужин одного. Трапеза была удивительно утонченной и роскошной. Одно за другим появлялись блюда, о которых гунн и мечтать не мог; он переставал владеть собой. Хрисафий перешел в наступление: Эдекону достаточно только пожелать, чтобы обладать всем этим… Широким жестом руки главный евнух указал не только на стол, зал, дворец, но и намекнул на самое большое богатство в мире, поддающееся исчислению. Но каким образом? После смерти Аттилы Феодосий падет к ногам Эдекона.
Дерзкая задумка, — отозвался Эдекон.
О том, что было дальше, рассказывает Приск — грек, назначенный послом Феодосия к Аттиле.
Эдекон вступил в игру. Если он согласится, ему для начала потребуется некая сумма, весьма скромная, чтобы подкупить нескольких воинов. Скромная? Пятьдесят либр.
Хрисафий тотчас предложил вручить ему эту сумму немедленно. «Нельзя, — рассудил Эдекон. — Какой бы скромной ни была эта сумма, она всё же слишком внушительна, чтобы ее можно было легко скрыть. Меня заподозрят. Как быть? Включить Вигилу в посольство, которое пошлет Феодосий для ведения переговоров, и дать золото ему». Хрисафий восхитился этой уловкой. Они ударили по рукам.
Эдекон всё же попросил тайно увидеться с императором для подтверждения этих планов. Конечно, согласился Хрисафий. Но Феодосий еще ни о чем не знает, надо сначала его уговорить. Хрисафий берет это на себя, но к императору нельзя заявиться просто так, на это дело потребуется несколько дней. Эдекон понимает.
Каллиграф ни сном ни духом не ведал о планах своего меченосца, но требования Аттилы, которые раскроют через несколько часов (переговоры по существу дела должны были начаться на следующий день), наверняка будут таковы, что он не сможет сдержаться. Взбесится и одобрит его план, рассчитал Хрисафий.
Требования императора гуннов на следующий день изложил Орест. Их было семь.
Аннексия земель, завоеванных к западу от Дуная, с установлением границы в пяти днях ходьбы от его западного берега.
Аннексия Второй Паннонии и юго-востока Первой Паннонии вместе с Сирмием.
Наисс, родной город Константина Великого, станет пограничным городом, а большие дунайские ярмарки Восточной империи, в том числе в Маргусе, войдут в империю гуннов.
В Афирасе и Аркадиополисе разместятся постоянные гарнизоны гуннов.
Запрет всем римлянам возделывать землю и вести торговлю в новых владениях гуннов без дозволения.
Немедленная выдача всех перебежчиков.
Обязательство направлять послами к императору гуннов только высокопоставленных римлян.
Марциалий, магистр оффиций, ведавший дворцовой администрацией и представлявший Феодосия вместе с Хрисафием, «сильно опасался», что его господин согласится на эти драконовские условия. Эдекон был уверен, что ответ может быть либо да, либо нет, но всё же добавил, что послы здесь не для того, чтобы уладить этот вопрос, а чтобы «изложить вашему императору намерения нашего». Они хотят, чтобы император их принял и сам сказал, что передать Аттиле.
Хрисафий отчитался Феодосию. Претензии Аттилы непомерны. Пока Аттила жив, императору не будет покоя, намекнул он. Тот с ним согласился, но спросил: что же делать?
— Предоставьте дело мне, — ответил Хрисафий.
— Но как?
— Аттила должен исчезнуть.
Феодосий одобрил. Хрисафий ему открыл, что уже принял меры, и подробно разъяснил миссию Вигилы. Феодосий снова его одобрил.
Он всё же отправит к Аттиле очень значительного посла, как того требовал гунн ради престижа своей империи. Им станет комит Максимин, человек знатного происхождения, самый высокопоставленный дипломат Восточной империи и к тому же — всякое бывает — честный до невозможности. Он будет полномочным послом и возьмет с собой печать империи.
Феодосий призвал к себе Максимина, сообщил, что не ожидает от его посольства ничего хорошего, поскольку с Аттилой сладить невозможно, он хочет только унизить римлян. «Не позволяйте себя унижать», — настоятельно посоветовал император, ни словом не намекнув на то, что замышлялось.
После Максимина он принял Вигилу, подтвердил ему задачу (убрать Аттилу), пообещав крупное вознаграждение.
Максимин потребовал лично подобрать свою свиту. В нее вошел молодой грек Приск, который будет вести дневник путешествия — главный источник сведений о гуннах вообще и об Аттиле в частности, а секретарем стал Вигила, «поскольку он уже хорошо знаком с послами Аттилы».
Хрисафий был донельзя доволен. Он не смел и надеяться на то, что Максимин сам ничтоже сумняшеся возьмет с собой участника готовящегося преступления.
Большая аудиенция, которой потребовал Орест, состоялась в тот же вечер. В кои-то веки Феодосий предстал на ней настоящим императором. И безумцем, поскольку, чтобы навсегда уладить спор с императором гуннов, он предложил третейский суд и выбрал в арбитры доверенного человека Аттилы — самого Онегесия.
Этот яркий поступок стал апогеем правления Феодосия. Апогеем непоследовательности — настолько загадочной, что она выходит за рамки разумения. До сих пор никто не сумел дать ему серьезного объяснения. Феодосий предал себя в руки своего врага. Это настолько из ряда вон, что в этом даже хотели разглядеть христианское стремление к искуплению грехов с намеком на поползновения к святости. Или же Феодосий вышел из себя и устроил истерику. Если только не был настолько уверен в убийстве Аттилы, что позволил себе говорить невесть что — это уже неважно… Мы этого так и не узнаем.
«Ваш господин может быть уверен, что я полностью подчинюсь приговору Онегесия» — таковы якобы были его последние слова перед тем, как он величественно удалился в свои покои.
Потом он тайно принял Эдекона (считая его участником заговора) в присутствии Хрисафия и Марциалия: «Всё, что сказал и пообещал тебе мой верный и преданный щитоносец, вдохновлено, приказано и гарантировано мною». Эдекон поклонился, вышел и пошел рассказать обо всем Оресту.
Орест тотчас понял, что в руки плывет неслыханная удача: увенчать Аттилу ореолом жертвы, нарядить степного волка ягненком. С помощью этих лохмотьев они смогут шантажировать Константинополь.
Эдекон и Орест застали Аттилу в Буде. Император гуннов не отличался наивностью, но и он был поражен услышанной новостью и даже как будто прижал обоих к своей груди — редчайшее изъявление чувств.
Послали за Онегесием. Квартет настроил инструменты. Позвали Эслу. Он тотчас выехал в Константинополь, чтобы сообщить Феодосию ответ Онегесия на предложение выступить в качестве арбитра. Это был отказ: Онегесий бесконечно польщен, но не может согласиться. Он разъяснит свою позицию Макси-мину, как только будет иметь честь с ним встретиться.
Два дня спустя Феодосий II дал ответ на требования Аттилы в присутствии руководителей посольства, готового выехать к гуннам, — Максимина, Вигилы, Приска и их непосредственных заместителей.
Демаркацию новых границ гуннской империи за Дунаем нельзя проводить по расплывчатому принципу «в пяти днях пути» от реки. Этим займется постоянная смешанная комиссия, которая будет принимать во внимание историю данных территорий и интересы коренных жителей. Комиссия будет единственно уполномочена выдавать римлянам и гуннам разрешения на обработку земли, торговлю и перемещение по ту сторону границ.
Обе Паннонии отойдут к Аттиле, как он того желает.
Равнины и долины Маргуса и Нишавы станут ничейными. Созданная таким образом зона со своими традиционными ярмарками будет находиться под контролем смешанной полиции с равным участием гуннов и римлян.
Что же касается гуннских гарнизонов, затребованных Аттилой у Константинополя, Феодосий вновь предлагает смешанные отряды, за исключением Афираса, где Аттила, если захочет, сможет держать только гуннов.
Наконец, Феодосий в очередной раз согласился выдать перебежчиков. Их он насчитал 17 человек.
С этим посланием, императорской печатью и семнадцатью перебежчиками Максимин отправился в Афирас, где его дожидалась охрана, чтобы сопроводить к императору — никто из римлян не знал, где он находится.
Аттила.
Фреска Э. Делакруа. Около 1840 г. Фрагмент
Молодой Аттила. Гравюра. XVII в.
Император Западной Римской империи Гонорий.
Гравюра. 1836 г.
Последний император единой Римской империи Феодосий I Великий. Гравюра. XIX в.
Императоры Феодосий I, Аркадий и Гонорий.
Гравюра А. Дюрера. Начало XVI в.
Нападение гуннов на аланов.
Рисунок Д. Н. Гейгера. XIX в.
Аттила (Атли).
Иллюстрация к изданию "Старшей Эды" 1893 г.
Император Восточной Римской империи Феодосий II. Римский бюст
Император Западной Римской империи Валентиниан III, его сестра Гонория и их мать Галла Плацидия. Миниатюра. V в.
Гуннские всадники и пленный. Реконструкция
Нападение гуннов. Рисунок
Флавий Аэций. Гравюра. XVIIв.
Аттила. Медаль. VII в.
Пир Аттилы. Картина М. Тана. 1870 г.
Империя гуннов
Святой Лу упрашивает Аттилу пощадить город Труа. Гравюра. XVIII в.
Святая Женевьева. Париж. Церковь Сент-Этьен-дю-Мон. Скульптор П. Эбер. XIX в.
Император гуннов Аттила.
Иллюстрация к "Нюнбергской хронике". 1493 г.
Битва на Каталаунских полях.
Средневековая миниатюра. Фрагмент.
Гунны в битве на Каталаунских полях.
Рисунок А. де Невилля. XIX в.
Аттила. Гравюра Ф. Л. Ланглуа. XVII в.
Гунны, возглавляемые Аттилой, вторгаются в Италию.
Иллюстрация Ульпиано. 1890-е гг.
Встреча папы Льва I с Аттилой.
Миниатюра из Венгерской хроники. 1360 г.
Костер Аттилы. Гравюра. XVIII в.
Аттила.
Будапешт. Монумент 1000-летия обретения родины. Скульптор Д. Зала. Фрагмент
Из Афираса гунны за 13 дней довели посольство до Сардики, лежавшей в руинах. Там провели один день и одну ночь. Именно там была произнесена фраза, по которой о гуннах судили в последующие века. Принадлежит она не Аттиле и вообще не гунну. Она приведена в записках Приска:
«Мы пустились в путь в сопровождении варваров и приехали в Сардику, город, отстоящий от Константинополя на тринадцать дней пути для доброго пешехода. Остановившись в этом городе, мы заблагорассудили пригласить к столу Эдекона и бывших с ним варваров. Жители Сардики доставили нам баранов и быков, которых мы закололи. За обедом во время питья варвары превозносили Аттилу, а мы — своего государя. Вигила заметил, что было неприлично сравнивать божество с человеком; что Аттила человек, а Феодосий божество[20]… Один из нас намекнул на разрушительную ярость конников: “Там, где гуннский конь ступил, трава не растет”. Услышав эти слова, которые должны были повергнуть их в стыд, гунны издали торжествующие крики. Можно было подумать, что они в самом деле приняли их за похвалу».
Далее «…мы прибыли в Наисс и нашли этот город безлюдным и разрушенным неприятелями. Лишь немногие жители, одержимые болезнями, укрывались в священных обителях. Мы остановились поодаль от реки, на чистом месте, а по берегу ее все было покрыто костями убитых в сражении». Жители привели быков и баранов для пропитания посольства и сопровождения. Гунны разрывали зубами кровавое мясо, а римляне его жарили. Через реки перебирались на однодеревках-долбленках, которыми ловко управляли перевозчики из варваров, избегая водоворотов. Так перебрались за Дунай (Истр), и гунны исчезли.
Растерявшиеся римляне разбили лагерь на равнине.
«Тогда Эдекон, Орест, Скотта и некоторые из важнейших Скифов пришли к нам и спрашивали о цели нашего посольства. Столь странный вопрос удивил нас. Мы смотрели друг на друга. Скифы, беспокоя нас, настоятельно требовали, чтобы мы дали им ответ. Мы объявили им, что о причине нашего прибытия царь велел нам говорить с Аттилой, а не с другим кем-либо. Скотта с досадой сказал, что они исполняют приказание своего государя и что не пришли бы к нам от себя, для удовлетворения личного любопытства. Мы заметили, что не так ведется в посольствах, чтобы посланники, не переговорив с теми, к которым они отправлены, и даже не видав их, сообщали им о цели своего посольства посредством других; что это небезызвестно и самим Скифам, которые часто отправляют посольства к царю; что надлежало и нам пользоваться такими же правами и что иначе мы не объявим, в чем состоит цель нашего посольства. Тогда Скифы уехали к Аттиле и возвратились к нам без Эдекона. Они пересказали нам все то, что было нам поручено сказать Аттиле, и советовали уезжать скорее, если нам более нечего сказать. Слова их еще более изумили нас, потому что мы не могли постигнуть, каким образом обнаружилось то, что втайне было постановлено царем».
У Максимина перехватило дыхание от такой наглости и проступавшей за ней измены, но ему хватило хладнокровия, чтобы последовать совету Феодосия: он не знал о провокации и отдал приказ готовиться к отъезду.
«Уже мы вьючили скотину и хотели, по необходимости, пуститься в путь ночью, как пришли к нам некоторые Скифы с объявлением, что Аттила приказывает нам остановиться по причине ночного времени. К тому же месту пришли другие Скифы с присланными к нам Аттилой речными рыбами и быком. Поужинав, мы легли спать. Когда рассвело, мы еще надеялись, что получим от варвара какой-нибудь кроткий и снисходительный отзыв, но он прислал опять тех же людей с приказом удалиться, если мы не можем сказать ничего другого, кроме того, что ему было уже известно. Не дав на то никакого ответа, мы готовились к отъезду: между тем Вигила спорил с нами, утверждая, что нам надлежало объявить, что у нас было еще что сказать Аттиле».
Почему он так надрывался, настаивая на продолжении посольской миссии?
Утром Приск переговорил с галлом по имени Рустиций, который приехал разведать, какую торговлю он мог бы вести с гуннами. (На самом деле Рустиций был агентом Аттилы.) Он не входил в посольство, но Максимин позволил ему следовать вместе с ними. Он бегло говорил на языке гуннов и неоднократно беседовал со Скоттой. «Если хотите, чтобы Аттила вас принял, всё очень просто, — уверял он. — Пойдите со мной к Скотте, захватите подарки и попросите его замолвить словечко перед Аттилой, чтобы тот принял ваше посольство, не заставляя его ждать далее».
Приск увидел, что Скотта сразу стал очень любезен и сделал всё от него зависящее. Не успел Приск отчитаться перед Максимином, как Скотта уже прискакал к ним: Аттила хочет видеть их немедленно.
Спешно собранные римляне прошли через лагерь Скотты в большой шатер, «охраняемый многочисленной толпой варваров».
Аттила в белых одеждах и выбритый на римский манер сидел на деревянном табурете в окружении сановников, облаченных в тонкие и пестрые ткани, как пишет Приск, вероятно, украденные у китайцев и персов, расшитые птицами и цветами, самой лучшей работы.
Приск сразу решил, что шелка краденые: это многое говорит о том, как невысоко он ставил гуннов вообще.
Максимин вручил Аттиле послание Феодосия и одновременно передал ему пожелания доброго здоровья.
«Аттила отвечал: “Пусть с римлянами будет то, чего они мне желают”. Затем, обратив вдруг речь к Вигиле, он называл его бесстыдным животным, потому что решился приехать к нему, зная, что при заключении мира между ним и Анатолием было постановлено посланникам римским не приезжать к нему, пока все беглецы не будут выданы гуннам».
Вигила возразил: все беглецы здесь, их семнадцать. Строго по списку императора.
Аттила велел зачитать собственный список: в нем было три сотни имен.
Максимин хотел вставить слово, Аттила велел ему молчать и снова обратился к Вигиле. «Аттила, воспламенясь гневом, еще более ругал его и с криком говорил, что он посадил бы его на кол и предал бы на съедение птицам, если бы, подвергая его такому наказанию за его бесстыдство и за наглость слов его, не имел вида, что нарушает права посольства, ибо перебежчиков из его народа у римлян множество. <…> Аттила велел Вигиле выехать из его земли без малейшего замедления, сказав притом, что он пошлет вместе с ним Ислу (Эслу. —
Максимин хотел что-то сказать. Аттила снова велел ему молчать. Тогда Максимин повернулся к нему спиной и направился к своему шатру, сделав знак своим спутникам следовать за ним. Аттила встал и заговорил. Вопрос о перебежчиках — дело принципа. Он не может допустить, чтобы гунны состояли на жалованье у иноземной державы. Вигила должен был исполнить этот пункт соглашений, заключенных между ним и императором Востока. Он дает ему возможность исправить свою ошибку. Максимин счел это справедливым. Аттила, наконец, попросил его остаться при нем вместе со своим посольством и сопровождать его в столицу гуннов, куда он вскоре направится. Именно там он передаст ему свой ответ Феодосию, поскольку там состоится совет.
Максимин позволил Вигиле уехать с Эслой, вручил императору гуннов предназначавшиеся ему подарки и удалился в отведенный ему шатер, обитый изнутри роскошными мехами.
Отъезд в столицу Аттилы состоялся несколькими днями позже. Прошло еще несколько дней, и Скотта сообщил Максимину, что тому придется продолжить путь одному, поскольку Аттиле надо сделать остановку, чтобы жениться на дочери скифского князя Эскама, одного из своих советников, а ни один иноземец не может присутствовать при этом обряде.
Приск в своих записках насмешливо отзывается об этом браке, поскольку, по его словам, Аттила был уже женат больше двухсот раз.
Римляне с трудом продвигались вперед по пустынной и болотистой равнине. Налетевшая буря сбросила палатки в реку. Наконец они достигли какого-то селения. Там их радушно приняла одна из вдов Бледы, которая «прислала к нам кушанье и красивых женщин к удовлетворению нашему. Это по-скифски знак уважения. Мы благодарили женщин за кушанье, но отказались от дальнейшего с ними обхождения», поскольку изнемогали от усталости. Максимин преподнес княгине в качестве ответного подарка «три серебряные чаши, красных кож, перцу из Индии, финиковых плодов и других сластей, которые ценятся варварами, потому что там их не водится», как довольно безответственно заключает Приск, хронически недооценивающий познания гуннов.
Они снова двинулись в путь, повстречали караван, где говорили на латыни — на превосходной латыни «без варварского выговора, который неистребим у местных племен, сколь долго они бы ни прожили в Риме…».
Этот караван был посольством императора Запада, направленным к Аттиле, чтобы уладить последствия серьезного инцидента. Руководил им комит Ромул, один из высочайших вельмож в Риме, к тому же тесть Ореста, а его помощником был благородный Татулл, отец Ореста. Ах, как тесен мир!
Оба посольства поехали вместе и прибыли в столицу империи гуннов. Терема, деревянные дома, шатры, повозки, каменные бани Онегесия, который
Приск, наконец-то пораженный, опишет во всех подробностях.
Неизвестно, где располагалась эта агломерация, бывшая, несомненно, Этцельбургом (то есть городом Аттилы) из легенды о нибелунгах. Предположительно — где-то к востоку от Тисы в великой Пуште. Несмотря на многочисленные раскопки, не удалось отыскать следов даже самой прочной ее постройки — бань Онегесия.
Римлян разместили рядом с дворцом Онегесия. Максимин, не откладывая в долгий ящик, изложил ему пожелание своего императора: пусть он выступит судьей между гуннами и римлянами. Онегесий возмутился. Это невозможно. Он больше не грек, он теперь совершенный гунн, как и его жена и дети. Никогда он не выступит против государя, наградившего его своим доверием. Кстати, Эсла сейчас едет в Константинополь с его ответом императору Феодосию.
Судя по этому рассказу из записок Приска, можно понять, что Онегесий подумал, будто от него требуют если не предать, то, по меньшей мере, презреть интересы Аттилы, выступив в качестве третейского судьи. Максимин ходил к Онегесию без Приска, и тот смог привести только краткий отчет об этом разговоре.
Он также пишет, что послы Феодосия были слегка разочарованы этими словами, поскольку надеялись на помощь грека в своем деле. Об этом и речи не шло, дело было заранее проиграно. Плохой из Приска политик.
В очередной раз став молодоженом (точные подсчеты невозможны из-за отсутствия домашних архивов), Аттила вернулся в свою столицу. Молодые девушки, одетые в белое, несли балдахин, под которым проходили другие девушки по семеро (счастливое число), распевая приветственные песни. За ними следовали супруги, которых приветствовала своими криками толпа, сгрудившаяся вдоль дороги. Молодая была действительно молода и красива. Девушки отвели ее в ее дом, а Аттила направился в свой дворец.
Дорога шла мимо дворца Онегесия. Того не было дома, его жена, стоявшая на пороге, поклонилась императору, который остановил своего коня. Она попросила его не побрезговать угощением. Он согласился, оставшись в седле. Два воина подняли серебряный стол, покрытый яствами и наполненными кубками. Аттила поел, попил, поблагодарил и уехал. Появились музыканты и встали во главе кортежа. Аттила вошел к себе, сказал, что устал, и попросил его не беспокоить.
Римляне из обоих посольств, пристально следившие за этой новой для них церемонией, разошлись по домам. Там их ждало приглашение королевы Онегесии отужинать у нее в тот же вечер. Там они застали всех «главных лиц в государстве».
Два дня спустя их пригласил к себе Аттила.
«Скамьи стояли у стен комнаты по обе стороны; в самой середине сидел на ложе Аттила; позади его было другое ложе, за которым несколько ступеней вели к его постели. Она была закрыта тонкими и пестрыми занавесками, для красы, подобными тем, какие в употреблении у римлян и эллинов для новобрачных. Первым рядом для обедающих почиталась правая сторона от Аттилы; вторым левая, на которой сидели мы; впереди нас сидел Верих (Берик. —
Когда все расселись по порядку, виночерпий, подошел к Аттиле, поднес ему чашу с вином. Аттила взял ее и приветствовал того, кто был первый в ряду. Тот, кому была оказана честь приветствия, вставал; ему не было позволено сесть прежде, чем Аттила возвращал виночерпию чашу, выпив вино или отведав его. Когда он садился, то присутствующие чтили его таким же образом: принимали чаши и, приветствовав, вкушали из них вино. При каждом из гостей находилось по одному виночерпию, который должен был входить в очередь по выходе виночерпия Аттилы. По оказании такой же почести второму гостю и следующим за ним гостям Аттила приветствовал и нас наравне с другими, по порядку сидения на скамьях. После того как всем была оказана честь такого приветствия, виночерпии вышли. Подле стола Аттилы поставлены были столы на трех, четырех или более гостей, так, чтобы каждый мог брать из наложенного на блюде кушанья, не выходя из ряда седалищ. Первый вошел служитель Аттилы, неся блюдо, наполненное мясом. За ним прислуживающие другим гостям ставили на столы кушанье и хлеб. Для других варваров и для нас были приготовлены отличные яства, подаваемые на серебряных блюдах; а перед Аттилой ничего более не было, кроме мяса на деревянной тарелке. И во всем прочем он показывал умеренность. Пирующим подносимы были чарки золотые и серебряные, а его чаша была деревянная. Одежда на нем была также простая и ничем не отличалась, кроме опрятности. Ни висящий при нем меч, ни шнурки варварской обуви, ни узда его лошади не были украшены золотом, каменьями или чем-либо драгоценным, как водится у других скифов.
После того как наложенные на первых блюдах кушанья были съедены, мы все встали, и всякий из нас не прежде пришел к своей скамье, как выпив прежним порядком поднесенную ему полную чару вина и пожелав Аттиле здравия. Изъявив ему таким образом почтение, мы сели, а на каждый стол поставлено было второе блюдо, с другими кушаньями. Все брали с него, вставали по-прежнему; потом, выпив вино, садились.
С наступлением вечера зажжены были факелы. Два варвара, выступив против Аттилы, пели песни, в которых превозносили его победы и оказанную в боях доблесть. Собеседники смотрели на них; одни тешились стихотворениями, другие воспламенялись, вспоминая о битвах, а те, которые от старости телом были слабы, а духом спокойны, проливали слезы.
Пользуясь весельем пиршества, пред Аттилой предстал Зеркон Маврусий и видом своим, одеждой, голосом и смешенно произносимыми словами — ибо он смешивал язык латинский с гуннским и готским — развеселил присутствующих и во всех их, кроме Аттилы, возбудил неугасимый смех. Аттила один оставался неизменным и непреклонным, и казалось, не говорил и не делал ничего, чем бы обнаруживал расположение к смеху: он только потягивал за щеку младшего из сыновей своих Ирну (Эрнака. —
Такие пиры устраивали каждый день, чаще всего во дворце Керки, а вопрос о Восточной империи даже не поднимался. Наконец однажды вечером Аттила объявил Максимину, что хочет с ним говорить. Но речь пошла всего лишь о нарушении Феодосием своего обещания. Тот пообещал богатую невесту Константу, галлу из канцелярии Аэция, которого тот отпустил к Аттиле в секретари, но не сдержал слова. Император непременно сдержит его — только и мог ответить несколько сбитый с толку Максимин. Аттила продолжал: император Востока не получит никакого ответа до возвращения Вигилы с перебежчиками. Он разрешил посольству вернуться в Константинополь. Максимин дипломатично возразил: не затем он сюда приехал, чтобы отправляться обратно, не поговорив о главном. Но ничего не подействовало: уже на следующее утро Аттила велел принести членам делегации прощальные подарки. Его советник Берик проводит их до Константинополя, из дружбы к Максимину, хоть Вигила и не вернулся. Берик повезет его личный ответ императору Востока, который известен только ему одному. Это была хлесткая пощечина Максимину.
Римляне, дорожный рацион которых сводился к жареному мясу и кумысу, с сожалением вспоминали о пирах у Аттилы. Дорога была длинная, путешествие однообразным. Вдоль дороги стояли столбы с распятыми, повешенными и посаженными на кол. Одному несчастному перерезали глотку у них на глазах. Берик сказал, что это предатели, шпионы, дезертиры. Аттила карает их таким образом из соображений безопасности. На границе они повстречали Вигилу, возвращавшегося к Аттиле. Он сообщил им, что имеет очень важное поручение, и в его улыбке был заключен намек на далекоидущие планы.
В Константинополе Хрисафий спросил его, почему Аттила до сих пор не убит. Вигила ответил, что пришлось «подмазать» больше стражников, чем предполагалось. Нужно не 50, а 100 либр золота. Полсотней больше, полсотней меньше — подумаешь, важность… Главный евнух был убежден: Аттила за сотню монет — всё равно что даром.
Дополнительные средства ему выдали тут же. К уже собранным дезертирам добавили еще семерых для ровного счета. Хрисафий заверил Вигилу, что богатство ему гарантировано. Подбодренный таким образом, тот настолько воодушевился, что взял с собой своего двадцатилетнего сына Профима, чтобы показать ему, как избавляются от неудобного императора.
Едва они прибыли в столицу гуннов, как приставленный к ним Эсла указал Профиму отведенное для его проживания место — палатку со стражей. Потом велел разоружить свиту его отца и отвести ее в загон, окруженный воинами. Вигилу тут же связали и бросили в подземелье.
На следующий день его привели пред очи Аттилы, которого окружали Эдекон, Орест и другие «официальные лица». Профим тоже там был — сидел на скамейке между двух стражей.
Аттила спросил Вигилу, почему тот позволил бросить себя в тюрьму, не потребовав поговорить с ним, как полагается, и рассказать о своей поездке. Тот ответил, что ему и слова не дали сказать.
Почему при нем было столько золота? — спросил Аттила. Что значит «столько»? Пятьдесят либр — не золотые горы, не дрогнув ответил Вигила. И добавил, что должен был вручить их Аттиле.
От кого и в честь чего? От Хрисафия, в виде выкупа за беглых. А остальные? Еще пятьдесят? На них надо было купить лошадей. Аттила запретил членам римских посольств покупать что бы то ни было в его империи, потому-то деньги и остались непотраченными.
Тогда Аттила спросил, уж не хотел ли он вместо лошадей купить себе сообщников.
— Всё это ложь, — отпирался Вигила, — клевета Эдекона, хотевшего его подкупить.
— Ты слишком богат, чтобы тебя подкупали, — издевался Аттила. — Кто велел тебе убить меня руками Эдекона?
— Никто!
— Не хочешь говорить? Ну что ж. Твой сын скажет.
— Я ничего не знаю, — сказал Профим.
Проигнорировав его ответ, Аттила стал его расспрашивать.
— Я ничего не знаю, — отвечал бедный Профим.
— Ладно, — решил Аттила. — Он ничего не знает и ни на что не годен. Тогда пусть умрет.
— Он ничего не знает! — завопил Вигила. — Ничей я не сообщник! Я всё придумал сам!
— Ты для этого слишком глуп, — отрезал Аттила.
Профима поставили на колени, над его головой занесли меч.
— В последний раз спрашиваю, — произнес Аттила без всякого гнева, — кто тебя послал?
— Хрисафий! — крикнул Вигила и лишился чувств.
— Я давно это знал, — сказал Аттила.
Можно ли поверить в то, что случилось потом?
Когда Вигила пришел в себя в своем узилище, перед ним стоял Эсла. Вигила спросил, что с ним собираются сделать.
— Ничего, — ответил Эсла.
— А мой сын?
— Завтра уезжает в Константинополь с Орестом.
Эсла также сообщил Вигиле о том, что его переводят в палатку сына и освободят, когда Феодосий заплатит символический выкуп. Вигила не верил своим ушам. Он якобы сказал: «Феодосий не заплатит!» А Эсла якобы ответил: «Выкуп будет чисто символическим, заплатит».
Константинополь. Хрисафию сообщили о прибытии гуннской делегации. Полный надежд, он устремился ей навстречу. Посольство возглавлял Орест. Его сопровождал сын Вигилы. Не обращая внимания на главного евнуха, Орест проследовал прямо в императорский дворец, где Феодосий в горячке ждал доброй вести. Орест протянул ему послание Аттилы. Разнервничавшись, император прочел вслух непростительные слова:
«Твой меченосец — убийца, пришли мне его голову, иначе я приду и обезглавлю его сам».
Хрисафий упал в обморок. Император опомнился:
— Ты получишь ответ завтра.
— Через час, — отрубил Орест.
Через час он вернулся. Феодосий вручил ему договор, в котором были тщательно соблюдены все условия Аттилы. Орест даже не взглянул на свиток, сунул его в рукав и сказал: «Я пришел не за договором, а за головой твоего евнуха».
Феодосий воскликнул, что это невозможно, и стал предлагать вперемешку всякие виды компенсации: земли, женщин, дворец для Аттилы в Константинополе… Орест ничего этого не хотел, он требовал голову главного евнуха.
— Приходи завтра, — предложил император.
— Даю тебе еще один час.
Явился Хрисафий, стал умолять и грозить: если его убьют, будет переворот. Император ответил, что сам это знает и не станет его убивать.
— Я оставляю Хрисафия при себе, — возвестил он Оресту, который пришел час спустя.
— Как хочешь, — ответил Орест.
Потом, по приказу Аттилы, вручил Феодосию мешок с золотом Вигилы. Император спросил, что они сделают с Вигилой. Орест ответил, что его отпустят лишь тогда, когда будет уплачен выкуп. Какой выкуп? Одна либра золота, Вигила большего не стоит. Феодосий уплатил. Орест ушел.
Вигилу отвезли в Константинополь. При нем было послание Аттилы — копия того, что уже вручил императору Орест: «Твой меченосец — убийца. Пришли мне его голову, иначе…»
Но когда Орест явился к Аттиле, тот сказал:
— Надеюсь, этот дурак не убил своего евнуха?
— А что?
— У нас есть прекрасный повод возобновить войну, когда мы сочтем нужным.
Дипломатия Аттилы была главным образом интуитивной и персонализированной. Она всегда соотносилась с собеседниками, причем с такой точностью, будто все их мысли и душевные порывы были известны наперед, а они сами — открытая книга.
Аттила с поразительной проницательностью и дьявольской изощренностью видел своих визави насквозь. Слабых он вел, куда хотел, менее слабых — куда мог, но всегда одерживал верх. Это был несравненный игрок в «кошки-мышки». Восточной империи он явил себя мастером этой игры, переполошив ее правительство. Феодосий уже потерял голову, когда предложил довериться суду Онегесия (это всё равно, как если бы поляки в 1938 году попросили Гитлера рассудить их в вопросе о Данциге), да так ее и не нашел.
Не хотим никого обидеть, но обаяние, под которое попали столько вождей кавказских, поволжских и донских племен, храбрых и гордых, донельзя свободолюбивых, которых он покорил в первую очередь, не является неопровержимым доказательством его гения. Тех он покорил или обаял бы в любом случае, потому что был их сродственником, и они признавали в нем свои амбиции, которые самые дерзкие из них лишь лелеяли в своей душе, наконец, потому, что он был сильнее. Но не будь они ему верны, он не смог бы выйти за пределы родной степи.
Всегда ненадежная покорность мрачных кочевников, которых он понимал как никто (стимулирующая ненадежность для такого темперамента, как у него), однако, позволила ему приобрести стратегический глубокий тыл и присвоить себе, не боясь показаться смешным, титул императора, ставивший его вровень с номинальными государями европейского Востока и Запада.
За его головокружительную карьеру (вся эпопея Аттилы уложилась в 12 лет, с 441 по 453 год) войне отводилось гораздо меньше места, чем обсуждениям, переговорам, соглашательствам. Наверняка он сознавал непрочность собственной позиции, прежде всего в демографическом плане: гунны, как мы видели, не размножались, как кролики. Степной лучник, способный неутомимо мчаться галопом, не заводил достаточно детей, чтобы обеспечить благоденствие империи после своей смерти. Поэтому Аттила гораздо бережнее относился к своим людям, чем Наполеон или главнокомандующие Второй мировой. Бич Божий никогда не разил вхолостую.
Убедившись в надежности своих тылов на востоке (китайцы не смогут мгновенно пробиться к Уралу), Аттила уступил западному тропизму великих нашествий. Римская империя, ставшая двуглавой после смерти Феодосия-старшего в 376 году, за 20 лет до его рождения, была его неизменной целью.
Какую голову отрубить в первую очередь? Ближайшая, восточная, могла бы оказаться самой грозной, если бы там вдруг объявился император, достойный этого звания. Прежде чем идти дальше на Запад, он подчинил своей власти Восток.
Наверное, Феодосий Каллиграф был противником, о котором можно только мечтать. Нерешительный, впечатлительный, подверженный влияниям, трусливый до крайности, в душе ненавидящий царствовать; помыкаемый то своей женой Афинаидой, то своей старшей сестрой Пульхерией, то своим главным евнухом; избегающий своих обязанностей, предаваясь охоте, богословию, юридическим комментариям и каллиграфии, в которых он поднаторел, что и служило для него хоть какой-то опорой.
И всё же он был главой державы, престиж которой при ином правителе не был бы всего лишь фикцией. А Аттила без единого выстрела сделал его своим данником. Он понял, что Феодосий заплатит любую цену, лишь бы не было войны. Оккупировать Восточную империю не имело смысла, она и так уже была завоевана в 449 году. В этом плане хватило дипломатического устрашения. Полки Аттилы остались нетронутыми, а его сокровища стали баснословными.
В общении с Восточной империей Аттила разыгрывал дерзость (от его иронии у византийских послов кровь стыла в жилах), гнев или отстраненность, как заправский актер. Набранное им окружение с неизменной эффективностью будет проявлять безграничную преданность ему. Его доверенные люди изображали веселость и непринужденность, сбивавшие с толку их противников. Такое впечатление, что они становились на него похожими или же веселый и шутливый нрав был присущ темпераменту гуннов.
В этом плане показательно поведение Берика, сопровождавшего в Константинополь посольство Максимина. Максимин спешил отчитаться перед Феодосием в безрезультатности своей миссии. Он пришел вести переговоры? Не о чем тут разговаривать.
Чрезвычайный посол глупого императора, о чем он подозревал, при всей своей лояльности к нему, не знал, что этот человек был настолько слаб, что безропотно одобрил план убийства своего «альтер эго» (по порядку империй и имперскому протоколу, бывшему в ходу в V веке), к которому и послал его для ложных переговоров. Не о чем было разговаривать, разве что подтвердить сдачу бездарного правителя.
У Максимина были сомнения, но не было уверенности. Он совершенно не знал о планах убийства, иначе бы и не поехал.
Аттила выпроводил его чрезвычайно учтиво и не просветил на этот счет — невероятно.
Поезжайте, будет с вас, скоро сами всё узнаете, словно хотел он сказать, — душа-человек: в глазах императора гуннов добродетельный человек заслуживал почтительного обхождения. И доверил честного человека (в данном случае это комплимент) своему помощнику Берику, гунну самой высокой пробы. Иначе говоря, внешне жестокому и переменчивому, а на самом деле — самому надежному.
Однако Берик поначалу был груб, почти невыносим с людьми, отданными под его защиту. Беспрестанно провоцировал инциденты, которые приходилось улаживать немедленно, чтобы не задерживаться в пути из-за обид. Одним словом, он обращался с послами императора Востока, как будто те не люди. Потом, когда чаша терпения наполнилась до краев, он смягчился, потребовал у местных старшин, встречавшихся на пути, чтобы те достойным образом принимали послов, сносивших его обиды. По приказу Аттилы в каждый, самый захудалый, лагерь устраивали торжественный въезд. На речи, возлияния и пиры уходила уйма времени.
Максимин был приятно удивлен такой переменой обращения. «Но нельзя ли сократить эти церемонии? — спросил он. — Меня ждет мой император, он уже не молод и слаб здоровьем».
Нельзя, ответил Берик. Посланник императора Востока, хранитель имперской печати, должен получать почести соответственно своему рангу. Время шло. Радость Максимина и его спутников притупилась. Понемногу они убедились в том, что Берик насмехается над ними, что это всё маскарад. Берик возражал: не похоже, чтобы Максимин мчался вскачь. Не похоже, чтобы посланцы Феодосия неудержимо стремились вперед… Максимин с ним согласился, но всё же император ждет его.
Тогда Берик заболел и был вынужден продлевать привалы, чтобы набраться сил. Вскоре он уже не мог сесть в седло. Его валили с ног приступы удушья, заставляя опасаться печального исхода. Вблизи Афираса он уже умирал и не хотел долее откладывать передачу послания Аттилы императору Востока, что должен был исполнить лично.
Берик поразмыслил, а потом решился передать это послание комиту Максимину, попросив принести за него извинения. Максимин не заставил себя упрашивать. Взял послание и помчался вперед, пообещав больному прислать к нему своего врача.
Едва римляне скрылись из виду, Берик вскочил на коня и умчался в обратном направлении.
Когда Максимин добрался до места, Феодосий II был болен. Он прогнал свою жену, императрицу Афинаиду, ставшую совершенно невыносимой (она поселилась в Иерусалиме под именем Евдокии и занималась теперь только поэзией и богословием). Пока же Феодосий вернул обратно свою старшую сестру Пульхерию, которую Афинаида отправила в ссылку. Максимин вручил ему письмо с печатью Аттилы. Пульхерия распечатала его. Это был чистый лист.
У Максимина раскрылись глаза. Теперь он всё понял. Коварство Хрисафия, жалкое двуличие его императора, глупость Вигилы, свою собственную наивность, а главное — невероятное милосердие Аттилы, вершину двусмысленности: для империи оно было оскорбительным, для ее граждан — великодушным. Император гуннов отпустил домой с подарками всех тех, кого любой другой велел бы распять, в том числе невинных послов человека, согласившегося на его убийство.
Хрисафий, ненавидимый Пульхерией, затаился в своем дворце. Безупречно честный Максимин быстро уладил дело о браке секретаря Константа, присланного Аэцием к Аттиле. Он пригласил Константа в Константинополь и женил его на богатейшей вдове по имени Сатурния (невеста, обещанная ему Феодосием, к тому времени уже вышла замуж). Потом стал настаивать на исполнении договора.
Аттила потребовал, чтобы посланники Восточной империи при его дворе были высокопоставленными особами. Нужно назначить на эту должность двух имперских патрициев, Анатолия и Нома (достоинство имперского патриция было самым высоким в империи). До сих пор такой чести удостаивали только персидского шаха. Отныне Аттила встал наравне с государем, извечным противником Рима, который выстоял против всех попыток завоевания. Легионы, отважившиеся дойти до Плодородного полумесяца[21], сохранили об этом тяжелые воспоминания.
Анатолий и Ном привезли дань и роскошные подарки. При виде такой честности и добропорядочности Аттила проявил милосердие, достойное Августа. Он даже отказался от выдачи оставшихся перебежчиков и вернул римских пленных, добавив, однако, что не поверит в стремление Феодосия к миру, пока не получит головы его евнуха.
Он так ее и не получит, но, по крайней мере, Восточная империя больше не доставит ему хлопот.
Рим
А теперь — Рим. Аттила принял разом два посольства, от Востока и от Запада, которые повстречались на границе его империи, движимые одной заботой: уладить с ним взаимные недоразумения.
С Римом ситуация была проще. Речь шла о сосудах из Сирмия, деле семилетней давности. Ромул изложил его суть Приску.
Во время осады этого города в 443 году его епископ, готовясь к худшему, вступил в сношения со знатным осаждающим, галлом по имени Константин, секретарем Аттилы, и доверил ему ценную утварь своей церкви в залог выкупа, если он будет захвачен в плен. Если такое случится, Константин продаст сокровища и выкупит его; если он умрет, Константин всё равно их продаст, чтобы выкупить других пленников.
При взятии города епископ был убит. Константин в самом деле продал церковную утварь ростовщику Сильвану, но никого не выкупил. Опьяненный неожиданно привалившим богатством, он тратил деньги без счета. Аттила об этом узнал. Константин был допрошен. Признался. Был распят. Потом Аттила потребовал у Валентиниана III вернуть ему похищенные сокровища как часть его добычи или выдать Сильвана.
Ему ответили, что Сильван купил товар по-честному и его трогать не будут. Равеннская канцелярия сочла необходимым добавить, что сокровища из Сирмия, состоящие из священных предметов, могут служить только для отправления культа. А посему они теперь находятся у италийского епископа, купившего их у Сильвана, — тоже по-честному. Они используются по назначению. Трогать их нельзя.
Кроме того, подобные предметы нельзя передавать мирянину.
Аттила спросил, уж не смеются ли над ним. Неужели ни один мирянин из римлян никогда не крал церковного имущества? Ему ответили, что возместят стоимость сосудов золотом. Но золото ему было не нужно, он требовал «сосуды или негодяя», иначе война.
Как всегда, когда дело касалось Аттилы, за советом обратились к Аэцию. Что это? Каприз? Махинация? Каприз и махинация, — ответил Аэций.
Но всё равно надо отвечать. Надо его успокоить.
Аттила хочет принять два посольства от Римской империи, представляющих обе ее части, Восток и Запад, для возвеличения своей собственной? Хорошо, пусть будет так. Восток уже выслал Максимина, надо подсуетиться… Готовность обеих империй удовлетворить запросы гунна выдавала их слабость.
Спешно собрали посольство, столь же славное, как и у Феодосия, с отцом и тестем Ореста — возможно, самого близкого из помощников Аттилы, — и роскошными подарками.
Оба посольства, как мы помним, встретились по дороге, прибыли к императору гуннов, выполнили свою задачу — каждое в свой черед. Мы знаем, что случилось с посольством Востока; римское посольство, несмотря на всё свое великолепие, произвело на него небольшое впечатление. Он был польщен, но не слишком. Похоже, единственное удовлетворение ему доставила присылка к нему Аэцием своего секретаря Константа. Он был невероятно любезен, всех принял роскошно, предложил гостям разъезжать по всему его государству, но подарки его не умилостивили (он сам преподнес равные им по стоимости), он требовал «сосуды или негодяя».
Ромул решил вернуться в Равенну. «Уладим это позже, — сказал он, — через секретаря Константа, между Аттилой и Аэцием, как это часто бывало». Прощаясь, он спросил, что ему передать от Аттилы Валентиниану. «Что я приду его проведать», — сказал Аттила.
На мгновение Ромул смешался. Что значит «приду»? Во главе ста тысяч воинов? Но он тотчас взял себя в руки и успокоился: мы же друзья — все эти подарки, празднества, обмен любезностями… На кону престиж. Аттила хочет быть принят императором в Равенне как равный, — убеждал себя Ромул. Жажда признания у императора гуннов не имеет границ. Другие его аппетиты тоже были безграничны.
449 год, ознаменовавшийся окончательным унижением Восточной империи и ускоривший деморализацию Западной, закончился для Аттилы в большой печали. Керка, любимая жена, единственная титулованная императрица, умерла в ноябре после нескольких месяцев тяжелой болезни. Обезумевший от горя Аттила велел сжечь дворец, где она устраивала роскошные и изящные приемы для всех важных особ Европы. В декабре вторая по рангу жена, дочь Эскама, тоже скончалась, разродившись сыном, которого назвали Эрнаком. В несколько недель Бич Божий потерял двух женщин, которых больше всего любил.
Эти личные драмы дали повод публично продемонстрировать крушение союза, последствия которого для развития Европы будут непредсказуемы. Дружба, от которой уже почти 30 лет зависело равновесие на континенте, разбилась: Аэций и Аттила, долго бывшие сообщниками, теперь станут противниками.
После смерти Керки со всех сторон хлынули соболезнования. После кончины Эски они удвоились. Аттила ответил всем, кроме Аэция, отметившегося оба раза. Что он ставил ему в упрек, раз не отреагировал на знаки внимания, которые должны были тронуть его больше прочих после сорока лет дружбы, не подорванной их общим стремлением к власти в одной и той же местности? В чем состоял расчет Аттилы? Какой сигнал он хотел подать?
Причину, если не смысл его, с ошеломлением обнаружил Констант: Аттила послал тайных гонцов в Галлию. Конкретнее — к багаудам. (Багауды — галлы, недовольные Римом, — вывели из-под его власти обширные территории галльских земель и жили там, неподвластные римским чиновникам и сборщикам налогов.)
В V веке римская Галлия была лишь красивой легендой. На деле ее поделили между собой мирные варвары, союзные варвары, враждебные варвары, игнорируемые варвары, несогласные галлы и «римские» анклавы, составлявшие теперь в общей сложности лишь малую толику жемчужины империи. Раздробленность царила везде. Даже багауды разделились: они управляли занятыми областями или опустошали их, в зависимости от темперамента тех, кого считали своими вождями.
Аттила не сблизился бы с багаудами, если бы в голове у него не созрел какой-то план против Рима — иначе говоря, против Аэция, как заключил Констант, который потерял сон, пока Аттила не послал его к Аэцию с тайным поручением.
Значит, связь между ними еще не порвана, с облегчением решил Констант. Аттила хочет расставить всё по своим местам: до сих пор амбиции друзей дополняли друг друга, а теперь их пути расходятся.
Аттила считал, что настало время поговорить о судьбе Западной империи. Восточная вышла из игры. Страх перед Аттилой заставлял ее сидеть тихо и платить дань. Но Запад предстояло завоевать, Аттила был к этому готов, но хотел узнать о намерениях своего друга. Чего он хочет?
Чего хочет Аэций? Восток после Феодосия? Разделить Запад со своим другом?
Он, Аттила, удовлетворился бы Галлией и передал бы ему свои завоевания на востоке — Вторую Паннонию, Фракию и Фессалию.
Или же Аэций хочет перераспределить всё? Или предпочитает править вдвоем?
Аттила хотел обсудить это с ним.
Констант уехал, получив эти инструкции, и вернулся с ответами. Аэций не хочет ничего менять.
У каждого из них, считает он, достаточно дел в своей сфере влияния, чтобы не ввязываться в новые авантюры. И потом, Аттила — император, а Аэций — всего лишь патриций. Любая перемена была бы преждевременной.
Преждевременной! Аттила понял, чего ждет Аэций: свадьбы своего дорогого сына с дочерью императора, благодаря которой дорогой сын станет наследником империи, а любящий отец — фактическим императором, хоть и без титула.
Похоже, Аттила упал с небес на землю. Друг отверг его великолепные предложения ради весьма ненадежного союза с императором, учитывая жгучую ненависть Валентиниана III к незаменимому, а потому невыносимому Аэцию. Между ними обнаружилось непримиримое различие. Аэций избегал главных ролей, даже доверился Валентиниану, который был воплощением коварства. Далеко же он ушел от мечтаний их юности.
Император гуннов окончательно охладел к извечному другу. Открывшись Аэцию, он потерпел неудачу, после чего произошел разрыв с несоизмеримыми последствиями, подтвердив то, о чем тогдашние наблюдатели могли догадываться: главная цель Аттилы — Рим.
Завоевания на Востоке, Балканы, Македония, Греция — лишь разменная монета. Как и всех его восточных предшественников, этого гениального азиата неудержимо тянуло на Запад. Притягательность Европы затмевала весь остальной мир.
Именно в этот период его жизни (ему было 55 лет) в поведении императора гуннов стали появляться признаки расстройства. Шантажист закусил удила, царственный шут слетел с катушек. В припадке мании величия он совершенно терял голову. Несравненный дипломат тогда скатывался до недостойного шутовства.
Два из таких приступов произошли в 450 году.
14 июля в 11 часов утра и в двух тысячах километров друг от друга два гонца императора гуннов явились во дворцы Феодосия и Валентиниана с одинаковым посланием: «Аттила, мой и твой повелитель, приказывает тебе подготовить для него дворец, ибо он скоро явится».
На следующий день Констант предстал перед Аэцием. Сообщил ему по приказу Аттилы об этих двух посланцах и не стал скрывать своего замешательства: что у императора гуннов в голове? Аэций не нашелся, что сказать: он знал о любви Аттилы к подобным шуткам.
Две недели спустя, 28 июля, Феодосий упал с лошади, разбил себе голову и умер на месте. Его тело выставили в большом аудиенц-зале его дворца. Хрисафий вышел из дома, чтобы проститься с покойным, его сопровождала малая свита. По дороге его узнали, освистали, свита перепугалась и разбежалась. Его забили камнями.
По завещанию Феодосия империя переходила к его сестре Пульхерии. Она тотчас вышла замуж за своего ближайшего друга, полководца Марциана Флавия, ставшего императором Марцианом. Выбор был недурен, Марциан был энергичным и порядочным иллирийцем, прославленным воином, хорошим управленцем пятидесяти девяти лет.
Констант явился приветствовать его от имени Аттилы и прояснить некоторые вопросы.
Со смертью Феодосия и Хрисафия отпали два невыполненных требования его господина, то есть предоставление в его распоряжение дворца в Константинополе и присылка головы главного евнуха. Но это не отменяло выплату дани, которой обложили империю, а не императора.
«Золото у меня для друзей, а для врагов — только железо», — ответил Марциан. Констант ушел от него с пустыми руками. Аттила не настаивал. Он притворился, что не обратил внимания на этот ответ, не заботясь о пословице «молчание — знак согласия».
Однако, как отмечает Бувье-Ажан, большинство современных историков считают, что этот ответ произвел на него неизгладимое впечатление. Рим отвлечет его от этой неудачи.
В октябре 450 года в Вечном городе скончалась Галла Плацидия, мать императора Валентиниана. Ее сыну было 33 года. Трудный ребенок в детстве, извращенец в отрочестве, он превратился в чудовище — скрытное, вспыльчивое, находящее себе всегда отвратительные развлечения. Империей управлял тогда Аэций, мечтая передать ее своему единственному сыну, любезному Гауденцию, которого рассчитывал женить на Евдоксии, единственной дочери Цезаря. Валентиниан его не расхолаживал, напротив, поощрял эти мечты благожелательными намеками и возобновляемыми обещаниями, потому что боялся Аэция так же сильно, как и ненавидел.
Именно этот момент выбрал Аттила, чтобы ответить на предложение о браке пятнадцатилетней давности, которое сделала ему Гонория, сестра Валентиниана. Известная своим беспорядочным поведением, она неоднократно подвергалась заключению в монастыри, в том числе в Константинополе. Со временем она как будто присмирела, и ей позволили вернуться в Равенну. Тут же ее буйный нрав дал о себе знать. Брат запер ее в другой монастырь, откуда она выходила только под конвоем, чтобы изредка появляться при дворе, где ее показывали, точно диковинного зверя.
Аттила созвал расширенный совет, пригласив на него всех своих помощников — Онегесия, Эдекона, Ореста, Берика, Скотту, Эслу… и секретаря Константа. Он узнал, объявил он, что его невеста, письменное предложение руки и кольцо которой он хранит уже 15 лет, подвергается дурному обращению. В своем письме она предлагает ему половину Западной империи, положенную ей в наследство от отца Констанция III. Он не ответил ей сразу, поскольку не мог предложить ей титул ниже титула императрицы.
После смерти Керки и Эски это место освободилось. Поэтому Констант отправится в Равенну и сообщит Валентиниану, что Аттила согласен жениться на его сестре после пятнадцати лет раздумий — срок приличный — и что она станет императрицей гуннов.
Римляне пришли в ужас. Но не утратили способность здраво рассуждать. Валентиниан спешно вернул Гонорию из монастыря и немедленно выдал ее замуж за Флавия Кассия Геркулана, согласного на всё, после чего дал ответ императору гуннов.
Гонория отнюдь не находилась в заточении, сказал он, и даже только что вышла замуж за великолепного Геркулана. Увы, ей уже не возвыситься до императрицы гуннов; Валентиниан очень об этом сожалеет. После пятнадцати лет упустить такое счастье ради нескольких недель! Что же касается раздела империи Констанция III, то римское законодательство не предусматривает подобного дележа. Женщины могут быть регентшами, но не имеют никаких прав на владение землей.
Аттила знал это с раннего детства и всё же обрадовался столь серьезному ответу на свое легкомысленное предложение. По серьезности ответа на гигантскую провокацию можно было судить о том значении, которое ему придают, и об осторожности, с какой к нему относятся, по меньшей мере, в Риме. Валентиниан — это тебе не Марциан.
Констант вновь отправился в Равенну с ответом Валентиниану.
Аттила прекрасно понимает, что теперь, выйдя замуж, Гонория не может сдержать прежнего лестного обещания. Он рад тому, что она свободна и счастлива. Он отдает императору письмо его сестры и кольцо, которое она к нему приложила и которое он носил, не снимая, на своей руке. Он лишь жалеет о чести быть зятем императора Запада, императора Рима. Пусть тот примет серебряный меч, который привез ему гонец, и знает, что во всем мире у него нет более преданного друга, чем он. В ближайшее время он наверняка получит тому доказательство…
Валентиниан принял всё это за чистую монету. И похвалился перед Аэцием: вот как надо обходиться с этим варваром… Аэций не поверил. Учтивость императора гуннов его встревожила. Он прощупал Константа. Тот ответил, что не видит ничего плохого в этих любезностях. На его взгляд, Аттила развлекается. Аэций этого не отрицал, но развлечения Аттилы редко были невинными. Поэтому он лично отправился проследить за укреплением границы, проходившей по Рейну и Дунаю.
Новый гонец от Аттилы к Валентиниану III, Теодорих, король вестготов из Аквитании, пообещал выдать ему дезертиров и подписать с ним договор о дружбе, но не сделал ни того ни другого. Теодорих строит козни, чтобы отделить других готов от гуннского союза. Наконец, он плетет заговор против императора Запада. Но Аттила восстановит порядок. Он просит у Валентиниана позволения перейти Рейн, чтобы раз и навсегда научить вестгота уму-разуму…
Валентиниан польщен. Смирение готов в Галлии будет ему на руку. Однако из природной недоверчивости он всё же посоветовался с Аэцием. Гонцу велели ждать. Явился Аэций, узнал новость, схватился за голову. Итак, гунны ворвутся в империю с дозволения Рима…
Всё это ложь, — заявил он Валентиниану. Дезертиров выдумали, как и обещанный договор о дружбе. Отношения между вестготами и остготами накалены до предела, к тому же Аттила еще и растравляет их под сурдинку. Что касается гепидов, то они считают себя бо́льшими гуннами, чем сами гунны, план их поссорить — утопия. И это еще не всё.
Аттила старается обаять франков. Он хочет, чтобы все они примкнули к его лагерю. Аэций кое-что об этом разузнал: будучи в Рейнской области, он с большим трудом помог выстоять франку Рамахеру против франка Вааста, официального союзника гуннов, когда последний хотел проглотить первого.
Наконец, Теодорих, вовсе не собираясь противостоять Риму, предложил ему совместно бороться со всеми варварами, кроме готов, поскольку ему самому досаждал в Испании вандал Генсерик, повелитель Африки и Сицилии и на данный момент самый деятельный враг Рима.
Возникает вопрос, почему император всего этого не знал, но судя по письменным источникам, относящимся к той эпохе, дело обстояло именно так: Аэций знал всё, а Валентиниан — ничего.
Валентиниан, вытаращив глаза, терзался жестокими муками: что ответить Аттиле, который ждет полного согласия на всё? Аэций посоветовал проявить осторожность и ответить так.
Император Запада благодарит императора гуннов за послание. Он понимает его доводы, но не может предпринять карательного похода против вестготов, не убедившись в нарушении законов римского гостеприимства. Если он в этом убедится, то накажет их сам, без помощи извне. Принимая во внимание действующие договоры, напасть на вестготов — значит напасть на Римскую империю. Переход армии гуннов через Галлию, какой бы дисциплинированной она ни была, вызовет ненужные беспорядки. Император Запада уверен, что император гуннов поймет его доводы, как он понял его собственные, и воздержится от всяких действий против вестготов, за лояльностью которых следит Рим.
Аттила тянул с ответом. Он оттачивал тактику красной тряпки, посылая шар в лузу от борта.
В Рим явился легат Теодориха с копией послания от гунна. Аттила сообщает, что намеревается вторгнуться в Галлию, чтобы уладить с Римом кое-какие личные счеты. Валентиниану он был вынужден сказать, что поход будет направлен против вестготов. Но «могущественному Теодориху», который знает, как велика дружба к нему Аттилы, нечего бояться. Аттила хочет лишь сломить хребет Римской империи. Он предлагает вестготу прийти ему на помощь, и как только Рим потерпит поражение в Галлии, Аттила и Теодорих разделят его между собой по-братски.
Готский епископ и историк VI века Иордан, ученик Кассиодора, который сам был учеником Сидония Аполлинария, современника Аттилы, приводит такой ответ Валентиниана Теодориху, составленный Аэцием. Это мольба, исполненная неподдельной тревоги: откровенное признание того, что поджилки трясутся. Вот что он пишет в своем труде «О происхождении и деяниях гетов»:
«Вы, самые храбрые из варваров, проявите всю свою проницательность, соединившись с нами для обуздания вселенского тирана, алчущего поработить весь мир, которому хорош любой предлог, чтобы развязать войну, который считает законным всё, что ему заблагорассудится. Свои затеи он мерит на свой аршин, свое честолюбие утоляет безудержностью своих прихотей. Не считаясь ни с правом, ни со справедливостью, он выставляет себя врагом всего сущего… Могущественные своим оружием, подумайте о собственных страданиях. Соединим же наши руки; спасите республику, членами которой вы являетесь».
Теодорих пришел в ярость. Видя, что его вовлекли в сомнительную борьбу, он не скрывал своего гнева. Он обвинил римлян в том, что те превратили Аттилу и «в его врага тоже». Однако он встанет на сторону Рима.
Никто не торопится. Время есть. Жребий брошен — вот пусть там и валяется. Не стоит спешить. Римская империя не склонна искушать судьбу. Аттила ищет союзников, а в этом деле спешка не нужна: она тревожит и отталкивает.
Ему 55 лет. Его гнет всё ближе к земле. Ноги стали совсем кривые. Он отпустил бороду — три волосинки на подбородке. Его волосы почти побелели. Поступь всё такая же важная. Иордан так преподносит то, что слышал от Кассиодора, слушавшего Сидония Аполлинария:
«Это был человек, отмеченный судьбой, явившийся в мир, чтобы ужаснуть народы и поколебать землю».
Союзы ненадежны, надо их укреплять, раз нельзя заключить другие.
Багауды образовывали неуловимое облако. Кое-какие из их скоплений были благорасположены к Аттиле, большинство избегало его предложений: он внушал страх. Он сам этого хотел, но результат оказался палкой о двух концах: мог и привлечь, но и отпугнуть. Двойной эффект этого страха наблюдался повсюду.
За франков с ним яростно спорил лично Аэций, сами они были разобщены. Кто их вождь? Где он? Есть ли он вообще? Скорее, их несколько десятков, что существенно осложняет задачу вербовщиков. Хлодион Длинноволосый, самый могущественный из титулованных вождей, умер в глубокой старости около 435 года. Знаменитый Меровей, которого считают его сыном, — на самом деле миф. Был один Меровей, считавшийся королем и даже участвовавший вместе с Аэцием в галльском походе против Аттилы, но он не являлся отцом Хильдерика[22]. Этот Меровей поддержал римлян лишь тогда, когда стал ясен исход сражения.
Зато Хильдерик был абсолютно реальным лицом и в самом деле отцом Хлодвига[23]. Когда он уже был взрослым, его усыновил Хлодион, а уже потом он распустил слух о своем происхождении от морского чудища, якобы надругавшегося над его матерью на берегу; именно он был главным полководцем в 451 году. Но сколько лет ему тогда было? Четырнадцать или двадцать три? Этот вопрос до сих пор не решен. В молодости он выглядел старше своих лет, а в старости — гораздо моложе, это известно из надежного источника.
Аэций сумеет привлечь на свою сторону большинство франков, но они воевали по обе стороны.
Аттила собирал свои силы по берегам Дуная. Силы были огромными. Охваченные ужасом современники насчитали 500 тысяч воинов, а то и 600 или 700. Известная склонность древних хронистов к преувеличению заставляет пересмотреть эти цифры, которые сразу стали считать запредельными. Великая армия Наполеона состояла из 500 тысяч солдат, набранных по всей Европе, население которой со времен Аттилы увеличилось в десять раз.
Сегодня арифметические заскоки V века считаются уже не столь далекими от истины. Опираясь на прогресс современной исторической науки, специалисты сотню раз перепроверили подсчеты, и у них вышло не меньше 450 тысяч, так что 500 тысяч — не слишком большое отклонение. Возможно, мы как-то упустили из виду, что в те времена все мужчины были воинами с отрочества до могилы.
Как бы то ни было, Аттила собрал на берегу Дуная огромную рать. От перечня составлявших ее народов кружится голова. Настолько он длинен, а куда потом девались эти племена — одному Богу известно. Помимо остготов, гепидов, аланов и гуннов (само собой — белых и черных), которые всем памятны, там были еще невры, белловаки, гелоны, руги, тукилинги, скиры и два десятка других, перечисление которых внесет не больше смысла, чем схожие подробности, приводимые Флобером в «Саламбо» из постромантического педантизма.
Каким образом он смог собрать такую силу? По двум причинам. Аттила давал возможность восточным народам пройти на Запад, о чем все они мечтали в своих степях и лесах — это доказано историей на протяжении жизни нескольких поколений. Вооруженная миграция обладала большой притягательностью, поскольку сама масса эмигрантов делала ее непобедимой. «Вместе весело шагать по просторам». Каждый день на берег Дуная подтягивались новые отряды, последние сомнения развеялись: эта сила сметет любую другую, вздумавшую ей противостоять. Кроме того, созванные племена были прирожденными воинами. Для этих кочевников или полукочевников война всегда была величайшим развлечением, источником всех богатств и всего величия. Как Бонапарт поманил свою жалкую итальянскую армию богатейшими равнинами в мире, так Аттила гарантировал своим соратникам баснословную добычу.
450 тысяч воинов — как минимум. А против них — Аэций, у которого в три, а то и в четыре раза меньше людей. Ибо его император не дал ему италийские легионы. Оставил при себе три четверти, чтобы охранять побережье «сапога», опасаясь, наверное, вандалов и их союзников-пиратов, державших в своих руках Средиземноморье (по правде говоря, в этом смысле вандалы находились гораздо ближе к Равенне, чем Аттила).
Аттиле оставалось прожить три года, и сейчас самое время задуматься о причинах его одержимости Западом.
Главным фактором, обусловившим вторжение в Галлию, стала тяга на Запад, которой были подвержены варвары с Востока. Сторона заката обладала в их глазах неотразимой притягательностью, выражавшейся в относительно легкой жизни по сравнению со скитаниями кочевников, у которых нет постоянной крыши над головой. Еще до того, как они выступили в путь, уверенные в своей победе, они были побеждены — побеждены своими мечтами и своими завоеваниями, точно так же, и даже в большей степени, чем Рим, покусившийся на Грецию: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила»[24].
Варваров можно понять. Сегодня, через 15 веков после их эпопеи, во всем мире, как никогда, грезят Европой или, на худой конец, ее американским продолжением, считая ее безотказным лекарством от нищеты и беззащитной жизни, суровости мира и собственной слабости. Однако уже во времена Аттилы Галлия, сердце Европы, считалась страной, где молочные реки текут в кисельных берегах.
Помимо общих грез Аттилу толкнули к Западной империи три частные ошибки.
Первая состояла в том, что он был уверен в выжидательной позиции галлов. Он воображал, что потомки Верцингеторига[25] настолько ненавидят в глубине души римское владычество, что и пальцем не шевельнут для защиты империи. Он не вполне заблуждался: галлы были враждебны Риму, и многие, в первую очередь багауды, старались освободиться от него. Но не для того, чтобы перейти под власть другого господина, особенно гунна, репутация которого и рядом не стояла с отвращением, внушаемым к себе Римом со времен Ромула.
Вторая ошибка, вытекающая из предыдущей, заключалась в его расчете на массовую поддержку багаудов. Конечно, багауды воевали с Римом, но ради самих себя, а не для Аттилы.
Третьей ошибкой была его вера в союз франков, бургундов и даже вестготов. Он поманил их перспективой раздела Римской империи. Но все они и так уже находились на ее территории. Большинство из них обладало статусом союзников, который тем крепче и выгоднее привязывал их к Риму, чем слабее становился Рим… Они знали, что время работает на них и что ни багауды, ни вообще галлы не желают работать на другого.
Наконец, Галлия была христианской: почти повсюду власть в ней находилась в руках епископов, восполнявших упущения со стороны светских властей. Аттила был знаком с епископами. Они попадались на его пути с самого Дуная, но его закоренелое неверие не позволяло ему принимать в расчет метафизический фактор.
С Дуная его полчища выдвинулись к Рейну. Он подготовил переправу, велев срубить леса и построить деревянные мосты и тысячи лодок. Так что его войска смогли одновременно форсировать самую стратегическую реку Европы.
Тем временем Аэций прогулялся в Овернь[26]. У этой прогулки была цель: он хотел повидаться с Флавием Марцеллом Авитом. Бывший претор Галлии в свое время провел переговоры о заключении договора о союзе между Римом и вестготами, сумев переломить негативный настрой последних. Он сохранил с тех пор большое влияние на короля Теодориха. Нужно было убедить Теодориха вступить в войну с Аттилой на стороне римлян. Теодорих не горел желанием. К нему уже явился с этой целью гонец от Валентиниана, но получил от него лишь такой ответ: «Римляне навлекли на себя грозу, пусть выпутываются сами!»
Авит согласился исполнить поручение, доверенное ему Аэцием. Он убедил Теодориха, что победа Аттилы не будет поражением одной лишь Римской империи, что он сам тогда всё потеряет: разбив римлян, император гуннов не даст ему спокойно отсидеться в Аквитании. Теодорих поверил и даже лично возглавил свое войско. Его зять Сидоний Аполлинарий так напишет об этом в своем стихотворном панегирике: «Отряды, облаченные в шкуры, выступали позади римских труб».
Авит заручился для Аэция поддержкой багаудов в обмен на обязательство не тревожить их после этой кампании по поводу прошлых мятежей.
Аттила форсировал Рейн и приступил к осуществлению программы опустошения, которую наметил себе для распространения ужаса и предотвращения попыток сопротивления. Он разделил свои силы для «зачистки» как можно большей территории. Это был первый пример «выкашивания местности», задуманного Генштабом кайзера Вильгельма II перед началом Первой мировой войны и известного как «план Шлиффена», — огромный вал прокатился от Северного моря и Ла-Манша до Швейцарии.
Сам император двинулся к Триру[27], захватил его и разграбил. Эдекон при поддержке остгота Теодемира перешел границу Гельвеции, двигаясь в сторону современного Эльзаса. Он разрушил Базель[28], Виндиш[29] и Кольмар[30]. Там он был атакован бунгундом Гондиоком, союзником Аэция, и обратил его в бегство. Его передовые отряды продвинулись до Безансона[31]. Орест вместе с гепидом Ардарихом взял Страсбург[32], Шпейер[33], Вормс и Майнц[34]. Онегесий на северном фланге, опираясь на помощь Скотты и Вааста, захватил Тонгр[35] и Аррас. Другие отряды, беспорядочно рассыпавшиеся повсюду между основными направлениями удара, достигли Реймса[36], Крэйля, Амьена, Бове[37], Руана[38] и Кана. От них не оставили камня на камне. Устроив ставку в Трире или в Люксембурге (этот вопрос до конца не выяснен), Аттила уже начал тревожиться за успех своего предприятия, поскольку утратил контроль над войсками.
Подобие армии, собранной им на берегу Дуная, распалось в несколько дней. Командования больше не было. Оттесненный в сторону Бич Божий с досадой наблюдал за порочными последствиями своей тактики.
Разрушение Трира должно было послужить уроком захваченному населению, разом подорвать их боевой дух, после чего нашествие превратилось бы в обычную военную прогулку. Богатые города Галлии сами бы открывали ворота, умоляя о пощаде.
Однако разграбление Трира стало уроком прежде всего для кровожадных и разрозненных банд, составлявших основу его войска: лично разграбив Трир, главнокомандующий подал сигнал о том, что теперь им всё позволено. Летучие отряды шныряли там и тут, сталкиваясь, не узнавая друг друга, словно муравьи в разворошенном муравейнике, и всё дальше, в смятении и беспорядке, несли опустошение, которое Аттила теперь хотел бы остановить.
500 тысяч дикарей, опьяненных грабежом и разрушением, бесцельно носились по территории от Бельгии до Луары и от Рейна до Ла-Манша.
Главная сила армии состоит в дисциплине. Аттила всегда это знал, но не успел приучить к ней своих людей: вековые привычки в несколько лет не изменишь. Нужно было всё начинать сначала. Он созвал своих верных помощников.
Навести порядок? Какой? У гуннов никогда не было порядка, только ненадежное признание власти вождя. Тогда хоть как-то собрать воедино эти анархические толпы, иначе весь поход пойдет насмарку.
Участники совета разделились, обозначив три зоны концентрации, где предстояло собрать банды, рассыпавшиеся по северной половине Галлии: Мец[39] — Бар-ле-Дюк и Лангр — Шатильон-на-Сене и Реймс — Шалон-на-Марне.
Эдекон, командующий артиллерией, должен был взять под свое руководство, развить и усовершенствовать свой парк баллист и катапульт, начиная с машин на конной тяге, ибо многие города еще посмеивались из-за укреплений над захватчиками, неспособными их смести.
Послали гонцов во все концы на поиски растворившихся отрядов, которые воевали сами за себя и не подавали о себе вестей. Убедить «вольных стрелков» явиться к месту общего сбора было очень непростой задачей.
Был отдан приказ грабить как можно меньше.
Со своей стороны, Аттила объявил о взятии Меца. Город еще не был взят, но он не сомневался в успехе, хотя Мец был самым укрепленным на севере Галлии. Потому-то Аттила его и выбрал: тем славнее будет победа. Его престиж еще больше упрочится.
После этого он с максимально возможной скоростью выступит на юг Галлии в надежде выманить на себя Теодориха, который захочет помешать ему достичь Аквитании. Уничтожив Теодориха, он повернет к Альпам, подождет там Аэция и разобьет его.
Можно было выбирать между двумя дорогами: Лангр — Шалон-на-Соне — Лион[40] и долина Роны или Реймс — Труа — Орлеан[41] — долины Луары и Вьенны. Он выбрал вторую в надежде встретить там подкрепление от луарских аланов, уже сотню лет живших в Солони и Турени.
Эти аланы, сородичи гуннов, занимались охотой, рыболовством, скотоводством и земледелием, спокойно процветали, вербуя последователей в своих бывших землях между Доном и Волгой, которые тайком пополняли их ряды. В конце концов они создали собственную общность, которая ни с кем не смешивалась, с самопровозглашенным королем Сангибаном. Он держал свой двор где-то между Шамбором и Шеверни, располагая небольшим войском, которое называл своей охраной, с которым время от времени ходил «на разведку», неизменно возвращаясь оттуда с добычей. Это был циничный и осторожный грабитель. Чтобы привлечь его на свою сторону, Аэций поручил ему охрану Луары, но Аттила, зная его лично, думал, что сможет отвлечь его от этой скучной обязанности.
Аттила пошел на Мец и заключил его в большое кольцо. Но его лазутчики обнаружили многочисленные отряды франков, носившиеся в окрестностях. Надо было прежде избавиться от них, а уж затем приниматься за сам город. Аттила надеялся оттеснить их к Мецу, прижать к крепостной стене и перебить. Но франки были неуловимы. Они исчезли. Перед громадой армии гуннов они осторожно отступили.
Его ждало второе разочарование: багауды, на которых он так рассчитывал, не пришли к нему на помощь. Багаудов из Шато-Салена — банду, состоящую в основном из дезертиров, а не из крестьян, — перебил отряд из Нанси[42], выступивший против нашествия. Отряд из Коммерси, один из самых крупных в Лотарингии, заключил договор с галло-римским гарнизоном Бар-ле-Дюка.
Началась осада Меца. Все призывы о сдаче были отвергнуты. Глашатая, подошедшего слишком близко, убили стрелой в лицо. Несколько дней прошли в бездействии. Стены выглядели внушительно, осажденные были полны решимости. У них как будто всего было вдоволь. Наконец Аттила велел таранить ворота; защитники города перебили почти всех воинов, несших тараны; уцелевшие бежали.
Немного позже, среди ночи, на четыре лагеря гуннов, устроенных по четырем сторонам света, обрушился град снарядов, произведя большие опустошения. На следующее утро Аттила пустил в ход свои осадные машины, но результат оказался жалким: стены были слишком мощными и едва выщербились.
Осада затягивалась. Пора было с этим кончать. Последний глашатай, закованный в надежные доспехи, объявил последнее предупреждение, пообещав сохранить жизнь женщинам и детям, иначе осада продлится, пока не наступит голод и вымрут все. В виде ответа к его ногам швырнули мешок с мукой.
Аттила вызвал к себе Эдекона с «последним доводом королей». Стенобитные орудия с железными наконечниками и «когтями» для разрушения стен, гигантские катапульты. Начали рыть подкопы. Стенобитчики надели особые шлемы, широкие, как зонтики, под которыми им были не страшны ни кипящее масло, ни стрелы.
Осаждающие так плотно подступили к Мецу, что теперь им пришлось перенести лагерь подальше, чтобы самим не пострадать от крушения — по мнению многих, точного и неминуемого — крепостных стен.
Тараны ничего не протаранили. Стенобитные орудия ничего не пробили. От подкопов ничто не рухнуло.
Аттила был в бешенстве; у него не было сил смотреть на собственное бессилие — он решил отступить. Потребовал соблюдать безупречный порядок, чтобы опровергнуть репутацию шалых дикарей. Ошарашенных гуннов командиры выстроили в когорты, как легионеров. И — вперед, шагом марш! Скрипя зубами от злобы.
Прежде чем сняться с места, незадачливый артиллерист Эдекон выпустил все снаряды по Мецу. Последние каменные ядра безрезультатно ударились в недрогнувшие стены, и он тоже ушел. Насмешки ликующих осажденных еще летели ему вслед, как вдруг раздался страшный грохот и земля содрогнулась. Вся южная стена Меца рухнула разом. Зияющий вход в город открылся перед гуннами.
Эдекон позвал обратно основные силы. Бешеный поток хлынул в Мец, не обращая внимания на императора, желавшего его удержать. Аттилу больше никто не слушал. Все было истреблено. Убивали всё, что движется, — мужчин, женщин, детей, собак, кошек, крыс, мышей. Никого не насиловали, ничего не украли. Некогда было насиловать, некогда красть. Красота первейших красавиц не дала им никакой отсрочки. Убивали, ломали. Всё было уничтожено, добычи не взяли никакой. Собранные припасы выбрасывали на улицу. Победители удостоили своим вниманием только вино из запасов, обнаруженных в пылу разрушения. Его жадно выпили. Оно ударило в голову, пробудив еще большую кровожадность. Теперь терзали трупы.
Когда Аттила вступил в Мец, ничто не шевелилось, все были мертвы. Жители — по-настоящему, его люди — мертвецки пьяны. Судя по некоторым признакам, еще до этой катастрофы — крушения его власти, столь же неожиданного, как и обрушение стены, — его звезда начала клониться к закату. Он был один на один со своей судьбой и горсткой помощников, столь же беспомощных, как и он сам, перед лицом дикости его войск. Его власть никогда не упрочится.
Еще в начале пути, совсем недавнем, но уже столь далеком, ему пришлось спешно восстанавливать порядок между Доном и Кавказом, противостоять акацирам, аланам и даже гуннам, которых, как ему казалось, он убедил в величии и полезности империи. Теперь безумное разрушение Меца было куда более серьезным делом. Когда поволжские гунны свергли его власть, позабыв о добровольно взятых на себя обязательствах, он был далеко, на другом конце империи. Без кота мышам раздолье. А сегодня его воины, за исключением, может быть, личной охраны, практически сбили с его с ног, одержимые жаждой крови. Покарать их? Ему пришлось бы заставить одну половину армии перебить другую, и тогда он вообще обратится в ничто.
Что делать с этими животными? Гнать их вперед, дальше вперед, не давать роздыху, подстраиваться под их атавистическое стремление к тупому разрушению, но до каких пределов? Какую империю можно построить и укрепить с такими дикарями, глухими к доводам рассудка? Рабами своих инстинктов. Его охватило чувство страшной уязвимости.
Его воинству, опьяненному вином и кровью, потребовалось два дня, чтобы проспаться. Трезвым военачальникам с большим трудом удавалось находить часовых для охраны баллист, катапульт и их товарищей, изнуренных ими же устроенной резней.
Куда теперь, после всего этого? В Реймс.
Когорты Ореста гордо обошли этот город. В образцовом порядке они переправились через Маас и Эн, преодолели ущелья Аргонна, оставив там усиленную охрану, подошли к Лану[43], уничтожив по пути две франкские группировки, с трудом захватили этот город и не оставили в нем ни одной живой души, но так приказал Орест.
Избиение прошло дисциплинированно, добычу поделили в строжайшем порядке. Потом Орест велел поджечь город. После Лана настал черед Сен-Кантена, наконец он отправился к Реймсу, где должен был встретиться с Аттилой.
Реймс был плохо укреплен. Епископ Никазий решил не сопротивляться. Он торжественно вышел из города навстречу Бичу Божьему. Во имя Всемогущего Господа молил императора гуннов пощадить город, предложив себя в заложники. Некогда Цезарь пощадил Реймс, напомнил он Аттиле, подозревая, что это имя знакомо его собеседнику, что тот, возможно, питает к нему уважение, с каким крупные хищники порой относятся друг к другу, и ему может прийти в голову последовать его примеру.
Аттила выслушал его как будто со вниманием, склонившись к шее своего коня. Никазий всё говорил, но тут один воин растолкал окружавших его священников и отрубил ему голову. После убийства дикая орда ринулась в город. Вскоре от Реймса осталась одна зола. Аттила даже не вошел в него. Чуть отодвинулся в сторонку со своей охраной из-за жара. Неизвестно, наказал ли он убийцу епископа.
Во второй раз за несколько дней император гуннов не сладил со своей армией.
Подробности этих рассказов проверить нельзя. Они представляют Аттилу человеком, который плывет по течению, а не вождем. Какой-то рядовой принимает решение о захвате города и — почему бы нет? — об исходе всей кампании. Какой же после этого Аттила император?
Нужно было вернуть себе инициативу. Он отвел свою армию на запад от Эперне и выступил перед ней с речью на тему порядка. Запреты сыпались один за другим: запрещается выходить из рядов во время переходов, запрещается заниматься мародерством, запрещается грабить, запрещается нападать на малейший хутор без его приказа, запрещается насиловать и убивать без приказа.
Вопросами снабжения поручили заниматься специальному подразделению фуражиров, которые будут действовать убеждением (силой отбирать ничего нельзя) и под командованием Эслы.
За соблюдением запретов будет следить особая полиция под командованием Берика. Берик был зверь, известный вплоть до Аральского моря. Он никогда не испытывал сомнений, Аттила был его богом. Орды вздохнули и подчинились. Аттила перевел дух: он всё еще император.
Усмиренная таким образом армия промаршировала мимо Шалона-на-Марне, потом мимо Труа. Жители обоих городов в изумлении смотрели, как она удаляется в сторону Бар-на-Обе, даже не взглянув в их сторону. Именно там предстояло соединиться с Онегесием и Орестом.
Военный совет. Аттила прежде предоставил слово Оресту. Выслушал его без комментариев, в свою очередь рассказал о своем походе, предоставив Эдекону описать и проанализировать действие артиллерии, творившей чудеса под Мецем. Потом перешел к главному вопросу: невыносимое, неприемлемое, недопустимое поведение его войск… Он признал, что не справился с командованием. Невозможно навязать хоть малейшую дисциплину и избежать ненужных эксцессов.
Стереть с лица земли Мец, не согласившийся на предложение сдаться, — да, в назидание другим; но не таким образом. Эта бойня была величайшей ошибкой. Под Реймсом была допущена еще худшая ошибка: Реймс предложил сдаться сам, не дожидаясь предложения. Теперь все знают, что с гуннами без толку говорить. Вместо того чтобы ослабнуть, как и положено перед лицом террора, сопротивление только усилится. Отныне противник будет действовать с упорством отчаяния.
Дисциплина архиважна. Нужно навести ее и соблюдать. Приближаются римские легионы. Что они станут делать с когортами, маневрирующими, как один человек?
Помощники с ним согласились. Больше порядка. Больше — не то слово, поправил их Аттила. «Больше» не получится, потому что порядка нет совсем. Помощники снова с ним согласились. Потом заговорил Орест. Еще не всё потеряно. Гунны умеют и повиноваться. Его же послушали. Под Ланом, например.
В Лане резня началась только по его приказу. После методичного уничтожения населения добычу тщательно рассортировали и поделили по всем правилам. Пожар устроили по его распоряжению. Никто не бросал факелов без его дозволения.
Онегесий вовсе не проникся самодовольством Ореста. Он поступил не лучше, а хуже. Как это хуже? — вскинулся Орест. Да, гораздо хуже. Почему? Орест путает «пряник» и дисциплину, дисциплину и лицемерие. Его люди ждали его приказов, зная, что он их отдаст. Ожидание вознаграждения — дополнительное наслаждение. После травли свора собак сдерживается в ожидании раздачи добычи. Дисциплина, которую он якобы установил, — чистейшей воды комедия, как и его приказы.
Атмосфера в азиатском штабе накалилась до предела, а Аттила молчал.
Согласно некоторым историкам, Скотта сотворил чудо. Он похвалил всех: Ореста, Онегесия, Берика, сотню других, их людей и лошадей, и тем более Аттилу, и предложил поднять тост за победы гуннов — прошлые, нынешние и будущие.
«Nach Paris!»[44] Крик немецких солдат кайзера Вильгельма II, еще в остроконечных касках, в августе 1914-го, до битвы на Марне и 15 веков спустя после завоеваний великого Аттилы, был не громче воплей гуннов на стерне шампанских полей, когда наконец-то был отдан приказ идти на Лютецию.
Можно подумать, что невежественные и неграмотные всадники-монголоиды, составлявшие ударную силу его войска (сила есть — ума не надо), угадали, какая судьба уготована этому бесформенному поселку, только-только перебравшемуся с центрального острова на оба берега Сены. Париж стал Парижем совсем недавно. Еще несколько лет назад его чаще называли Лютецией[45]. Как бы то ни было, перед глазами азиатских лучников предстал именно Париж. Они обосновались вдали от крепостных валов в будущих пригородах. Незаметные, вездесущие.
Парижане не знали, что им делать. Сражаться? Это было трудно себе представить. Сдаться, чтобы выжить? Но выживут ли они? Обещания Аттилы могут обернуться против них. Наконец пришли к консенсусу: женщины и дети уйдут из города. Они направятся к нынешним Сен-Клу и Версалю под надежной охраной, которая вступит в бой, если потребуется, а впереди пойдет парижское духовенство, чтобы молитвой отверзать дорогу.
А мужчины? Мужчины ночью выберутся на запад: с одной стороны — на Рюэй, с другой — на Аржантей. Обе эти дороги как будто свободны. На восточной стене произведем имитацию деятельности, чтобы уверить императора гуннов, будто главный удар готовится именно с той стороны, где Бич Божий и разбил свой императорский шатер. Если этих людей схватят, они подставят шею под нож, как жертвенные агнцы, умоляя, однако, сохранить им жизнь, а взамен дав понять, что в городе всего вдоволь. Угощайтесь, победители.
И тут пришла Женевьева (Геновефа), дочь галла Севера и галлки Геронтии, землевладельцев из Нантера. Ей было 29 лет, и ей уже давно являлись видения. Епископы Герман из Осера и Лу (Луп) из Труа (будущие святые, как и она сама) уже давно взяли ее под свое покровительство. Она уже сотворила несколько чудес: один хромой бродяга стал неутомимым ходоком, одна служанка внезапно излечилась от застарелых колик, девочка-заика стала говорить как по-писаному. Авторитет ее был высок.
Городское руководство изложило ей свой план. Даже не думайте, сказала она. А что же делать? — спросили несчастные. Молиться — молиться, и всё, ответила она. Если молиться, гунны не нападут. Только молиться надо изо всех сил. Не нужно охранять ворота и крепостные стены. Женщины уже заперлись в церкви Святого Стефана и базилике Божьей Матери вместе с детьми. Они отрекаются от трусов, которые думают только о бегстве и все будут перебиты.
Мудрые люди задумались, уж не сошла ли она с ума. Мелькнула мысль и о том, уж не подкупил ли ее Аттила.
Бросились в церкви — проверить, вправду ли там заперлись женщины. Двери оказались заложены изнутри, оттуда слышались песнопения, в городе не было видно ни одной женщины. Самые вспыльчивые с воплями вернулись к Женевьеве. Кое-кто стал бросать в нее камнями — но не попал. Она встала на колени и начала молиться. Горлопаны остановились, обнажили головы, тоже преклонили колени и стали повторять за ней. На заре гунны ушли.
Так говорится в предании. В чудо можно не верить, но загадка остается загадкой. Аттила ушел от Парижа после того, как осадил его. Уже во второй раз император гуннов отказывался от захвата города, обладание которым или разрушение усилило бы если не его власть, то его влияние.
Ни о каком сравнении между Парижем и Константинополем в V веке не могло быть и речи. Роскошная столица Восточной империи подавляла бывшую Лютецию, прославившуюся единственно тем, что ее отличил Юлиан Отступник, бывший в 355 году префектом Галлии до своего восшествия на императорский трон. Несчастный деятель реставрации язычества в противовес государственному христианству своего дяди Константина Великого, погибший в бою с персами в 363 году, преобразил этот город. Он сделал его столицей своей префектуры и построил на левом берегу Сены комплекс зданий — цирк, театр, термы — и красивые дома, придававшие ей величественный вид. Но куда ей было тягаться с великолепием Византии. Но не суть, главное, что Аттила отступился — неважно, от чего именно.
Гипотез нагородили целую кучу. Болота и крепостные стены заставили его отказаться от приступа. Гуманность возобладала над свирепостью: не желая новой резни, которой было не избежать из-за недисциплинированности его войск, он предпочел не рисковать. Он опасался, что осада затянется надолго, Аэций успеет перейти через Альпы и напасть на него, опираясь на массу вестготов; оттачивая эту гипотезу, даже выдумали, что Женевьева якобы убедила его в неодолимости Парижа и неизбежности подхода легионов. Та же Женевьева якобы послала к нему посольство из священников, которые якобы убедили его отступить, потому что это принесет ему больше славы, чем разграбление очередного города. Король аланов из Солони Сангибан, любитель поживиться за чужой счет, якобы прислал к нему гонцов, сообщая, что к югу от Луары формируется мощная группировка галло-романских войск и что если Сангибан останется один, его сметут.
Как бы то ни было, Женевьева уже при жизни стала покровительницей Парижа.
Возможно и то, что осаду сняли, потому что надо было торопиться. Разбить вестготов на аквитанской дороге, потом повернуть навстречу Аэцию у выхода с Альп — план безупречный. Просто наполеоновский (вспоминается Итальянский поход и Французская кампания). Всё основано на скорости. «Живей, живей, быстро!..» — французский император вложил в эти три слова одну из своих последних директив до Ватерлоо[46]. Аттила всегда действовал согласно этому девизу. И вдруг — то ли возраст сказался, переутомление? — пятидесятилетний Аттила стал медлительным, если не вялым. Он потерял много времени в Лотарингии и Шампани. Осада Меца стала первой ошибкой: она продолжалась слишком долго. Крушение южной стены в последний момент оказалось ловушкой судьбы. Безначальное разграбление Меца подтвердило главную слабость: гунн не умеет себя вести, а если бы и умел, ничего бы не изменилось, потому что он этого не хочет. Можно напустить на Европу 100 тысяч, 200 тысяч, 500 — всё равно: они будут каждый сам за себя, преследуя лишь свои собственные, частные и мелкие цели. Начиная карьеру императора и завоевателя, Аттила прилагал усилия для исправления этого поведения. Старался внушить конникам заинтересованность в единстве, которое умножило бы их общую мощь. Ему казалось, что он в этом преуспел, несмотря на волнения на Кавказе и на Волге, после того как он, заложив основы регулярной империи, повернулся к ним спиной.
В 437 году он довольно легко восстановил порядок — подобие очень непрочного порядка. Но после полутора десятков лет военных походов, крупных маневров и значительных завоеваний его обезумевшие люди ворвались в Мец, промчавшись мимо него, словно его тут и не было, уже опьяненные резней, в которую они ринулись. У него раскрылись глаза. Его войска — стадо безответственных животных. За 15 лет они ничему не научились.
Он будет терпеливо их урезонивать, внушать им в последний момент азы жизненной необходимости — дисциплину. Несколько дней, неделю, вряд ли больше, между катастрофой в Реймсе и походом на Париж. Это была лишняя неделя. Что же касается Парижа, всё-таки большого города по тем временам, уже обширного, внушительного, — когда-нибудь он будет стоить мессы[47], но сейчас не стоит осады.
Не может быть, чтобы там, на юге, вестготы сидели без дела, а римляне ничего не предпринимали. Так что Париж… Счастливые тем, что остались живы и сохранили свое добро, после того как думали, что уже погибли, парижане не ударят ему в тыл. Время не ждет. Вперед, на вестготов. Орда потекла к Орлеану. Куда, возможно, войдет без боя, если поможет Сангибан.
Эслу отправили к «королю» Солони с просьбой поторопиться: «Живей, живей, быстро!» Аттила добрался до Фонтенбло, и тут Эсла соскочил с коня и объявил, что поручение выполнено. За это время армия, возглавляемая Аттилой, преодолела лишь пятую часть того же расстояния.
Сангибан сулил императору гуннов золотые горы. Не волнуйтесь, я всё беру на себя… Он сдержал слово. Явился к Орлеану со своими разбойничьего вида отрядами в кроличьих шкурах, сбрызнутых железистыми выделениями хорьков, потрясавшими бесформенными клинками, которые наносили ужасные раны, дико вопившими о своей непреодолимой любви к городу святого Эньяна. Откройте, не пожалеете, увещевал Сангибан. Эньян тогда еще не был святым, но уже заслуживал этого звания.
Молодой наместник епископа вышел на крепостной вал и попросил аланов подождать. Он переговорит с отцом епископом и сообщит ему о их желании. Вернулся он часа через два. Помощь аланов принимается, но только в чистом поле, вокруг города. Внутри для них мало места, гарнизон и так слишком велик. Раздосадованный Сангибан ушел обратно в свои земли.
Аттиле пришлось отказаться от надежды войти в Орлеан без осады. Время поджимало, причем всё больше: три всадника прискакали из Лиона запыхавшись, почти загнав своих коней. Аэций не медлит. Он ближе, чем думал Аттила. Он уже перешел через Альпы и находится в Арле[48].
Весь план Аттилы рухнул. Разбить вестготов прежде столкновения с Аэцием не представлялось возможным. Что делать?
Отказаться? Бросить всё? Вернуться на Дунай? Наверное, он думал об этом. Да как он мог об этом подумать? Неужели его 450 или 500 тысяч воинов недостаточно против 150 тысяч солдат Аэция и Теодориха? В этом проявилась странная уязвимость или назойливый здравый смысл самого дерзкого завоевателя первого тысячелетия. Три против одного — этого недостаточно.
Не будь Онегесия, он бы всё бросил, соглашаются историки. Развернулся бы и ушел вглубь своей империи степей и ветра. Онегесий верил в освободительную миссию гуннов, которым уготовано избавить Европу от римского ига. Наверное, он доказал своему императору (которого избрал себе сам), что силы его огромны и что он может многое себе позволить, в том числе в одиночку противостоять римской коалиции.
Повернули обратно на Орлеан. Сделали остановку в Монтаржи, потом в Бон-ла-Роланд; сомнения еще не развеялись. Онегесий из кожи вон лез, чтобы укрепить Аттилу: нельзя отрекаться, твердил он, нужно взять Орлеан, иначе больше никто не поверит в императора гуннов.
Епископ Эньян отправил одного священника сообщить Аэцию в Арле о продвижении Аттилы. Священник должен был сказать патрицию, что Орлеан долго не продержится, так что пусть его легионы прибавят ходу.
Посланный вернулся. Аэций удручен. У него мало людей, Валентиниан оставил при себе три четверти италийских легионов, а других набрать негде. На самом деле он так слаб, что даже не знает, когда сможет выступить в путь. Эньяну нужно как-нибудь продержаться подольше.
Аттила шел, волоча ноги. От молниеносной быстроты первых гуннов осталось одно воспоминание. Их основные силы растянулись между Шатонефом-на-Луаре и Витри-о-Лож, в то время как Аттила вел переговоры с багаудами и аланами. Ибо огромного численного превосходства было недостаточно. Неустанный дипломат, он всё еще искал союзников — всегда и всюду. Или же глухая тревога, которую Онегесий, знавший о ней, заклинал его никогда не выказывать, мешала ему верить в свои силы и заставляла беспрестанно их укреплять для собственного спокойствия.
Из-за этой тревоги, нерешительности и вытекавшей из нее медлительности Аттила в Галлии был совсем не похож на Аттилу на Балканах, который задумал и провел молниеносную кампанию, поставив на колени Восточную империю и оказавшись у ворот Константинополя.
Выйдя из Меца 10 апреля, он добрался до Орлеана 19 мая. За 40 дней покрыл 400 километров. Десять дней спустя город взяли в глухое кольцо, можно было начинать осаду. Аланы Сангибана, выйдя из своих лесов, встали на южном берегу Луары, гунны — на северном.
Сновали гонцы. Стало известно об официальном союзе между вестготами и римлянами. Теодорих решил не мелочиться и собрал две армии. Первой (ударной) командовал его сын Торисмунд, горячая голова, второй (резервной) — его сын Теодорих, рассудительный и осторожный, правая рука отца, которого уже тогда прозвали Теодорихом II. Нельзя было надолго застрять под стенами Орлеана.
Обстрел начался 12 июня. Ему мешали заграждения из фашин, засыпанных землей, которые осажденные возвели перед крепостными стенами. Два дня ушло на то, чтобы их раскурочить и расчистить поле для обстрела баллистами и катапультами. Зажигательные ядра вызывали в городе пожары, которые быстро тушили, воды у осажденных было вдоволь. Камни катапульт выщербляли стены, не потрясая их основ. Тараны даже не удавалось поднести к воротам: их останавливали дождь стрел и потоки кипящего масла. Баллисты Орлеана смогли уничтожить баллисты Эдекона. Гунны топтались на месте, а епископ Эньян получил послание от Аэция. Он будет здесь 20 июня. Невероятная скорость, но епископ никогда не сомневался в Провидении.
Настал вечер 20-го: Аэция нет. Масло кончилось. Вода на исходе. Стены дрогнули. Эньян попросил о встрече с Аттилой. «Завтра в пять», — принес ответ глашатай, передавший его просьбу, вернувшись всего через четверть часа.
Летом в пять утра уже почти светло. Эньян вышел через северные ворота в окружении горстки дьяконов. Онегесий ждал его пешим и проводил к своему господину.
Епископ поздоровался, гунн встал и предложил ему сесть.
О том, что было потом, сообщает аббат Жак Поль Минь, знаменитый автор латинской и греческой «Патрологии» в 380 томах, оставшейся незаконченной из-за пожара в его парижской типографии в 1868 году, уничтожившего 650 тысяч оттисков на шесть миллионов франков золотом.
Епископ Орлеанский попросил императора гуннов снять осаду, предлагая себя в заложники. Аттила отказался. Тот спросил:
— Чего ты хочешь?
— Сдачи безо всяких условий.
Эньян возражал. Аттила ответил, что у него нет выбора. Тот притворился, что у Орлеана выбор еще есть, он еще может сопротивляться, ждать подкрепления. Он уже ждал, а оно не пришло, возразил Аттила. Тогда Эньян воззвал к человечности гунна. Аттила его похвалил:
— Наконец-то ты образумился…
— Император, я верю тебе.
— Возможно, ты неправ, — сказал император.
Эньян заявил, что велит открыть ворота, возле которых осажденные сложат свое оружие. Он просил никого не убивать и оставить в церквях священные сосуды, хищения которых Бог не простит.
— Ты спас свой город, — сказал ему Аттила.
Часом позже, около шести, Аттила услышал нарастающий звук песнопений. Все ворота Орлеана разом открылись. Аттила отдал приказы. Артиллерия отступила и перегруппировалась в ожидании новых переделок. Около полудня вперед выдвинулись повозки с командами, которые будут собирать оружие осажденных, сваленное у ворот, и забирать метательные снаряды орлеанцев. К пяти часам Аттила объявил о своем вступлении в город. Он явился в сопровождении тысячи конников, которые оставили своих лошадей перед стенами города, и пошел пешком к собору. Эньян ждал его на паперти один. Оба приветствовали друг друга, наклонив голову.
Площадь была завалена сосудами, посудой, мебелью, амфорами и бурдюками. По знаку Аттилы Берик велел перевезти всё это в лагерь. Другие отряды обходили дома, сметали там всё ценное — украшения, деньги, пригодные для использования ткани — и показывали их Аттиле, прежде чем сложить в небольшие повозки, реквизированные на месте. Когда они закончили обход, Аттила ушел, приказав оставить ворота открытыми.
На следующий день, 22 июня, в строжайшем порядке делили добычу. С согласия гуннов союзникам дали поблажки, чтобы крепче привязать их к себе. Аланы, которые всего лишь охраняли южный берег, получили свою долю добычи, чтобы никому не было завидно. В лагере начался пир, а в город никто не вошел.
23-го отдыхали. Уход был назначен на 26-е. Основные силы поднимутся по Луаре до Роанна, оттуда пойдут на Вильфранш до Лиона и спустятся по долине Роны навстречу Аэцию, вышедшему из Арля. Отдельный корпус гепидов и готов пойдет на Тур[49], Пуатье[50], поднимается по долине Вьенны до Лиможа[51] и Перигё[52]. Если они так и не встретят на пути вестготов, Аттила скажет, идти ли дальше на Тулузу[53] или повернуть на восток для соединения с главной армией.
Днем ядро гуннской армии во главе с Онегесием вступило в Орлеан. Напуганные жители смотрели, как мимо их домов идут монголы, не похожие ни на что привычное. Онегесий обговорил с командиром гарнизона условия нейтрализации города. Ему вернут кое-какое оружие для защиты, но, разумеется, горожанам запрещено оказывать любую поддержку римлянам.
Онегесий еще разговаривал с градоначальником, когда раздался страшный шум. Онегесий поднялся на городскую стену. Аттила вышел из шатра. Огромная армия показалась вдали, на севере, еще одна подходила с запада. Аэций и Торисмунд, римляне и вестготы.
Аттила обладал численным перевесом. Он тотчас решил ударить по врагу. Неожиданность только подстегнет гуннов, мастеров неистовой конной атаки.
Но подошедшие армии не разворачивались в боевой порядок. Они устраивались на ночлег. Они изнурены. Они слишком долго шли быстрым шагом. Аттила размышлял: что делать? Налететь на них?.. Он еще был погружен в свои мысли, когда к крепостным стенам выдвинулся отряд с повозками и баллистами, поставил большой шатер, окопался и выставил часовых. Когда это было сделано, Аттила увидел, что из шатра вышел Аэций и встал в позу, привлекая к себе его взгляд.
Аттила подозвал Константа и велел ему подняться одному на верх крепостного вала, напротив входа в шатер Аэция, на пороге которого всё так же картинно стоял патриций. Констант помчался на вал. Аэций узнал его и помахал рукой. Констант ответил, пытаясь дать понять, что хочет с ним поговорить.
Аэций согласился: отослал свою охрану назад. Констант спустился с вала, вышел из Орлеана, и они оба закрылись в шатре.
Аэций раскрыл свой план. Он не хочет сражаться. Его единственное желание — чтобы Аттила вернулся восвояси самой короткой дорогой, той самой, по которой пришел. Аттила должен уйти ночью, чтобы его не увидели две армии, вставшие напротив него. Он должен разделить свои войска на две части: одна пройдет к востоку от вестготов, а вторая — к востоку от римлян, вдали от выставленных часовых, которые ничего не услышат. А потом воссоединятся в Бельгарде.
Изложив свой план, Аэций доказал, что тот превосходен. Все в выигрыше. Армии останутся целы. Аэций освободит Галлию от ее «освободителей». Аттила обманет Аэция, ускользнув от него, и сможет заняться восстановлением порядка в своей империи, потому что на Волге вновь начались волнения. Пора уже наведаться туда.
Констант отчитался Аттиле. Аттила был доволен. В семь часов, светлым летним вечером близкого солнцестояния, он объявил о ночном отступлении, разделе войск на два корпуса, воссоединении между Бельгардом и Бон-ла-Роландом, великом возвращении на Восток, где их ждут новые победы.
Было что-то невероятное в повиновении императора гуннов римскому патрицию. Он собрал 500 тысяч воинов, чтобы завоевать Западную империю, — самую многочисленную армию за всю историю Европы, а встретившись, наконец, с противником, который к тому же располагал втрое меньшими силами, покорно возвращается в исходную точку.
Во второй раз после Константинополя противник — на расстоянии вытянутой руки, практически в его власти, а он меняет решение, отказывается от боя, уходит. В обоих случаях влияние Аэция сыграло главенствующую роль, но во втором оказалось настолько сильно, что Аттила превратился в ничто. Уходи, возвращайся домой, сказал римский полководец императору гуннов, и император гуннов пошел домой со своей огромной армией. Загадка отступления под Орлеаном будет почище отступления герцога Брауншвейгского после сражения при Валь-ми (которое настолько поразило его современников, что долгое время ходили слухи о подкупе пруссака королевскими бриллиантами)[54].
Тайна прояснилась бы, если бы Аттила угодил под Орлеаном в ловушку, рисковал проиграть сражение, несмотря на превосходство в силе. Тогда он последовал бы подробным указаниям друга детства, лишь чтобы выбрать подходящее место. Присовокупить топографию к численному превосходству, чтобы нанести решающий удар, который принесет ему Галлию, подчинит вестготов, откроет путь в Италию и предоставит Западную империю его власти.
Что могло произойти между Аттилой и Аэцием, когда первому было десять лет, а второму пятнадцать, при дворе в Равенне и у Руаса? Какой договор они заключили в возрасте великих клятв, чтобы, уже состарившись, в решающие моменты римлянин из Паннонии до такой степени помыкал гунном, что тот следовал не только его советам, как под Константинополем, но и четким указаниям, как под Орлеаном?
На рассвете римляне обнаружили, что гунны исчезли. Два всадника во весь опор помчались на юг. Они спешили в Рим, сообщить Валентиниану III, что их главнокомандующий — изменник. Гунны были в его власти, а он позволил им уйти, организовав их бегство. И вот Аэций стал врагом Рима, хотя только что его спас.
Аттила шел на Труа, который обогнул на том пути. Городом управлял епископ, будущий святой Лу — покровитель святой Женевьевы наряду со святым Германом, — которому было 68 лет (он доживет до девяноста шести). Он ждал Аттилу у ворот своего города, в окружении духовенства. Аттила остановил перед ним коня и попросил через Константа отойти и оставить ворота города открытыми.
Епископ стал его увещевать. Зачем Аттиле входить в Труа? Это мирный город лавочников и ремесленников, в нем нет гарнизона. Бойня ничего не даст. Епископ заявил, что готов вместе с клиром последовать за Аттилой, но просил смилостивиться над городом. Тут он опустился на колени и стал молиться.
Аттила немного подумал, потом сказал Константу, указывая на епископа: «Пусть встанет и следует за нами». И продолжил путь, не входя в город. Через несколько сот шагов он подал знак, остановился и отпустил прелата восвояси. Труа он не тронул.
От Труа гунны дошли до Арсис-на-Обе. Там они соединились с гепидами Ардариха, разбившими лагерь у слияния Оба и Сены. Аттила перешел Об и расположился в Шалоне и его окрестностях. В последующие два-три дня он расставлял войска, поджидая Аэция, передовые отряды которого должны были появиться с минуты на минуту. Ибо римлянин шел за ним со всеми своими силами. Мало того что он следил за отступлением гуннов через посредство союзников-багаудов, он преследовал их со всей своей армией, с разницей в четыре дня пути. Под Орлеаном Аэций сражаться не хотел, а теперь готов сражаться, неважно где.
Во второй части галльской кампании есть нечто парадоксальное, если не сказать нелепое. Получается, что хотя Аттила почувствовал себя под Орлеаном в такой опасности, что с точностью выполнил все советы Аэция, Аэций почувствовал, что утратит это преимущество, если позволит гуннам уйти и выбрать поле боя. Или же Аттила всполошился, неизвестно, из-за чего, — странный поступок для такого военачальника, как он.
Он тревожился, это факт. Неисправимый агностик сзывал к себе шаманов, гадателей, авгуров, колдунов и прорицателей, сопровождавших его орды, на великий праздник волхвования. Возможно, он не ждал для себя никакого откровения, но язычники, составлявшие подавляющее большинство его войск, с большим доверием относились к телодвижениям этих медиумов.
На главной площади Шалона несколько часов подряд состязались конкурирующие пророки, бессовестно злоупотребляя чужой доверчивостью. На фоне повальной истерии одни жертвоприношения и обряды следовали за другими, самые темные предсказания воспламеняли воображение, возбужденное запахом крови, экскрементов, костей и волшебных трав, которые сжигали, чтобы гадать по золе.
Пришлось отдать несколько резких приказаний, чтобы прекратить этот дурдом. После чего главные ясновидящие, в некотором смысле распорядители ритуалов, удалились на совещание и назначили своего представителя, который ответит на вопросы императора. Это был их старейшина.
Аттила задал только один вопрос:
— Можно ли меня победить?
— Это всегда возможно, — ответил старец, — но в ближайшем бою падет твой злейший враг.
— Мой злейший враг — это я сам…
Аттила знал это уже давно. Но у него нет права упражняться в остроумии. На данный момент враг — Аэций. Что бы там ни говорили, остается только ждать сражения.
Гепиды Алариха, первыми прибывшие на место и вставшие там лагерем, выполняли роль часовых. Они раньше всех заметят приближение врага. Их задача — как можно дольше мешать ему переправиться через Арсис.
Однако они никого не увидели и были застигнуты врасплох. Франки Меровея (короля салических франков, сына или зятя Хлодиона Длинноволосого, основателя династии Меровингов и деда Хлодвига) налетели на них с топорами. Храбрые гепиды, лучше прочих солдат Аттилы обученные воевать сомкнутыми рядами, беспорядочно контратаковали и были порублены в куски. Полегло десять тысяч гепидов против двух тысяч франков. Это была первая бойня в так называемом сражении на Каталаунских полях, которое в Западной Европе веками преподносилось как спасительное для Запада.
Оправившись от шока, оба военачальника повели себя как разумные люди. Они объявили перемирие. Меровей не стремился истребить гепидов, ему было бы довольно, если бы они перешли в Арсисе обратно на северный берег Оба. Ардарих, которому, несмотря на потери, удалось выстроить прочную линию обороны к югу от Оба, предложение принял. Франки заняли их лагерь.
Ардарих с остатками гепидов направился к Шалону. Им навстречу попались остготские разведчики, потом мощный отряд гуннов, шедший на помощь. Ардарих им подтвердил, что франки на месте, а значит, Аэций с остальными тоже недалеко. Гунны остановились в ожидании приказаний.
Аттила пересмотрел свои позиции. Нужно заставить Аэция как можно больше растянуть свои войска, чтобы их ряды были неглубоки и их легче было бы прорвать.
Равнина, простирающаяся к югу от Шалона, была для Аттилы ключом к сражению. Он оставил ее за собой. Слева поставил Валамира с остготами, справа — Ардариха с гепидами. На крайнем правом фланге Берик присматривал за акацирами и гелонами.
Напротив них Аэций встал на левом фланге с галло-римлянами, лицом к гепидам. Центр он доверил бургунду Гондиоку и победителю при Арсисе, франку Меровею, которым помогали багауды и аланы Сангибана, а позади них поставил армориканцев, которые не позволят Сангибану уйти с поля боя (Аэций ему не доверял, да и Аттиле не следовало этого делать).
Правым флангом заведовали вестготы под началом старого короля Теодориха и двух его сыновей — непоседливого Торисмунда и осторожного Теодориха II.
Аэций считал, что Аттила поведет массированное наступление в центре против аланов Сангибана, который его предал. Он рассчитывал, что эта атака замедлится, когда дело дойдет до армориканцев, которые сумеют ее остановить. А в это время определенные подразделения вестготов, галло-римлян и франков отделятся от флангов, повернут на четверть оборота и нападут на них с боков, взяв в кольцо. Это был известный прием. Его применил Ганнибал в битве при Каннах в 216 году до Рождества Христова, сломал хребет римской мощи, но не сумел этим воспользоваться.
Аттила ринулся на Сангибана. Аэций ликовал. Но Торисмунд оставил свое место на правом фланге и бросился на гуннов со своей конницей, нанеся им такой мощный удар, что те побежали, хотя их никто не преследовал. Аттила обратился к ним с речью, побуждая вернуться в бой, писал Иордан через 100 лет после этих событий, приходя в возбуждение. Торисмунд удерживал занятую позицию. Оба Теодориха собирались присоединиться к нему.
Воспламенившись от речей своего императора и усиленные остготами, гунны повалили обратно, прежде чем вестготы начали свой маневр. Они опрокинули Торисмунда, смяли Сангибана, который едва успел убежать, и врезались в армориканцев, которые уже начали подаваться назад, когда Аттила заметил маневр Аэция, лично поворачивавшего левое крыло, чтобы напасть на него, в то время как оба Теодориха атаковали на другом фланге, а Торисмунд, оправившись, старался отрезать ему путь к отступлению.
Невероятным усилием он пробился через армориканцев и устремился на восток, в направлении к Ревиньи, чтобы вырваться на простор, разметав растерявшихся вестготов обоих Теодорихов. Неукротимый Торисмунд увлек своих людей в погоню, за ним шел Аэций, который уже не знал, что ему делать, и держал свои легионы в бездействии, в то время как Аттила уходил всё дальше.
Он направлялся к заграждению из повозок, устроенному в долине Орнена под усиленной охраной; за ним по пятам следовал Торисмунд. Часть воинов Аттилы прошла сквозь заграждение, остальные разделились на два рукава, охватившие его с обеих сторон. Торисмунд ринулся в загон, думая лишь о том, чтобы ударить по гуннам. В мгновение ока в него вонзились стрелы и дротики, превратив в колючий клубок. Его подхватили свои, поддерживая на коне с боков; теперь нужно было выбираться из ловушки. Окруженные гуннами, силы вестготов таяли, как снег на солнце, а Торисмунд умирал.
Но на подходе были бургунды и франки. Аттиле не улыбалось сражаться на два фронта. Он приказал выпустить вестготов из окружения. Гунны расступились, вестготы устремились в просвет и умчались, унося умирающего вождя. Они не ушли далеко.
Аттила бросил на них два отряда, стоявшие по бокам от повозок, которые уже несколько часов томились от бездействия и только того и ждали. Снова сражаться или умереть — у вестготов Торисмунда не было другого выбора. Прибытие франков и бургундов поддержало их морально.
Они вместе пошли против бушующего потока свежих сил гуннов и остготов. Остготы и вестготы извечно друг друга ненавидели, и люди Валамира с радостью в сердце расправились с остатками вестготов. Торисмунд был еще жив, его переправили в Шалон.
Аэций преодолел минутную слабость. Теперь ему противостояли гепиды, акациры и гелоны под командованием Берика. Вооруженные огромными косами гелоны подрезали ноги римским лошадям, но всадники прогнали их своими копьями. Так в тысячный раз было доказано превосходство в рукопашной колющих ударов над рубящими, требующими больше времени и пространства: в схватке негде было размахнуться, да и замах, усиливая удар, при этом открывал того, кто его наносил, делая мишенью для наконечника копья его противника.
Бились уже несколько часов. Шесть, восемь, десять, больше? Точно неизвестно. По сравнению со своими хилыми потомками из XXI века люди той поры конечно же отличались невообразимой выносливостью: стальные мускулы, легкие кузнеца, железные мозги… Кроме того, для всех, включая наемников, война была высшим развлечением, вратами славы и рая.
«Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений, — писал Блез Паскаль в XVII веке. — А что один идет на войну, другой не идет — это зависит от одного и того же стремления, которое присуще им обоим, но сопровождается различными взглядами на счастье». Так вот, все, кто копошился в тот июльский день на Каталаунских полях, находили свое счастье в войне. Это было в духе времени.
Но у человеческих сил существует предел, тем более что способ питания сражавшихся, отстоявший далеко от современных диетических норм (гунны ели только мясо, сырое или жареное, и пили, надуваясь, как бочки), не позволял им найти в себе внутренние резервы.
Как бы то ни было, они уже несколько часов яростно избивали друг друга, поэтому они устали, копья уже не так проворно устремлялись в грудь врага, палицы медленнее обрушивались на черепа, мечи разили не так уверенно. И так с обеих сторон. И побоище прекратилось.
Аттила, его гунны и остготы начали потихоньку отступать. Это движение, поначалу почти незаметное, стало явным, потому что их противники поступали точно так же: франки, бургунды, уцелевшие вестготы тоже делали шаг вперед и два шага назад. Ничейная полоса, покрытая трупами представителей всех народов Европы, Азии и даже некоторых африканцев (в рядах римлян), вскоре разделила противников, с трудом переводивших дыхание и утиравших лоб от пота, смешанного с кровью.
Расстояние между двумя массами увеличивалось медленно, сдерживаемое ранеными, которые еще держались на ногах, опираясь на ненадежную помощь. Когда рассеялись последние сомнения по поводу того, что на сегодня всё кончено, жуткий вопль вознесся к небу со стороны вестготов. Они оплакивали короля Теодориха, старейшего из шестисот тысяч людей, сражавшихся в тот день. Старик Теодорих погиб, убитый во время атаки на левый фланг гуннов, в самом начале сражения. Свои нашли его под кучей тел воинов, которые погибли, защищая его.
Аттиле сообщили об этом, и он вспомнил: вот чем было вызвано замешательство среди вестготов, когда он ринулся к заграждению из повозок. Теодорих был очень стар, но всё равно его смерть — большая удача, тем более что его кипучий сын Торисмунд тоже, наверное, скоро испустит дух.
А что Аэций? — спросил он. Увы, Аэций жив-здоров. И даже разогнал акациров и гепидов.
Сто шестьдесят тысяч человек были убиты и ранены, большинство раненых скончались бы в ближайшие дни: в те времена медицина находилась в зачаточном состоянии, а среди гуннов был распространен обычай кончать с собой, если раны слишком серьезные. Погибли также десятки тысяч лошадей. Река Об была красна от крови. Жесточайшие сражения наполеоновской империи никогда не сравнятся с этим результатом, несмотря на изобретение пороха и развитие вооружений среди гораздо более многочисленного населения. Только пулемет однажды сдвинет с пьедестала холодное оружие.
До сих пор неизвестно, каким было соотношение потерь. Сколько гуннов, сколько римлян, сколько галлов, галло-римлян, остготов, вестготов, гепидов, гелонов, герулов и аланов…
Сражение на Каталаунских полях стало самым крупным на Западе с древнейших времен до Первой мировой войны. По сравнению с ним битва при Лейпциге в 1813 году, которую немцы до сих пор называют Битвой народов, была лишь большой стычкой. Ее исход стал спасением для Западной Европы — но не для Римской империи, которая империей-то уже давно была чисто номинально. Этого оказалось достаточно, чтобы поразить воображение и вдохновить летописцев, большинство из которых приводили гораздо более страшные цифры сражавшихся и погибших.
Расчищать поле битвы выпало будущему святому Jly. Епископ Труа взялся за дело, как только ушли различные орды, уничтожавшие друг друга между Сеной и Обом, скалами Шампани и лесом От в отрогах Аргонна. Ибо главное столкновение между Аттилой и Аэцием сопровождалось множеством боев местного значения, сеявших смерть на огромной территории. В квадрате со стороной в 100 километров рыскали наудачу соперничающие банды, которые не знали друг о друге совершенно ничего, кроме того, что, сойдясь лицом к лицу, надо драться. Чему они и предавались от всей души.
Прежде чем уйти, поредевшие армии наспех собрали трупы в кучу и засыпали их землей, образовав высокие курганы. Но слой земли поверх разлагавшихся тел был слишком тонким и не обеспечивал непроницаемости могил. Дикие звери запросто могли бы до них докопаться, а гниение, усиленное жарой, способствовало бы распространению эпидемий. После избиений, которыми сопровождалось продвижение Аттилы, и «божьего суда» на Каталаунских полях Шампани, конечно, только этого и не хватало.
Что же касается бродячих банд, сталкивавшихся то тут, то там, зачастую очень далеко от главного сражения, победители в этих бессвязных стычках, порой принимавших размах форменной баталии, чаще всего старались похоронить погибших как следует, но вот побежденные бежали, оставляя своих мертвецов на поле боя. Поэтому повсюду валялись брошенные тела, гнившие на июльском солнце под открытым небом. На сегодняшний день наиболее вероятной датой генерального сражения считается 4 или
5 июля, но на территории, очерченной императором гуннов, люди выпускали друг другу кишки почти целую неделю.
Команды могильщиков и уборщиков, составленные епископом Труа, несколько недель будут возвращать местности привычный вид. Они сожгут множество конских и человеческих трупов, в частности, из курганов, которые пришлось раскопать и очистить огнем. Очистка рек станет делом потруднее. В Обе плавало столько трупов, что река затопила поля.
Когда сражение прервалось, вестготы, несомненно, пострадавшие больше прочих, первыми покинули поле битвы. Они сразу же оказали последние почести убитому королю и провозгласили его преемником Торисмунда, хотя тот сам умирал, — возможно, именно поэтому. Потом, через три дня после окончания великой бойни, они ночью ушли с мест своих испытаний и набирались сил между Сезанном и верховьями Соммы, прежде чем вернуться в свою Аквитанию.
Аттила на следующий же день ушел далеко на север от Шалона. Франки пойдут следом за ним, держась на приличном расстоянии.
Два дня спустя бургунды Гондиока выступили в направлении Шомона по дороге, ведущей в Бургундию.
Аэций разбил свой лагерь между Марной и Виерой. Он отправил команды выкопать братские могилы и наполнить их телами. Пятнадцать веков спустя на нынешнем поле Майи обнаружили большое количество скелетов. Оставшись единственным хозяином поля боя из-за повального бегства, Аэций, через четыре дня после бургундов, повел свои легионы по дороге на Орлеан.
Прошло 16 веков, но загадка так и не прояснилась. Почему вслед за уходом Аттилы разошлись и все остальные? Если предположить невозможное — что все потери понесли только гунны, — у него всё еще оставалось бы 350 тысяч человек, которым противостояло вдвое меньше. Гораздо меньше: вестготам здорово досталось, легионы и франки тоже пострадали, никто цел не остался. Итог огромных усилий, предпринятых Азией против Европы, в целом оказался положительным. И всё же Аттила ушел. Вернулся непобежденным, если не сказать нетронутым, к Рейну и Дунаю.
Часто задавались вопросом, не навело ли его на эти мысли сопротивление галлов. Не встревожился ли он оттого, что слишком углубился в страну, жители которой защищались столь яростно, что он не мог считать себя здесь желанным гостем. Несмотря на свои дипломатические таланты, прежде повсюду приносившие ему успех, он не сумел никого привлечь на свою сторону. Аланы, поселившиеся в центре Галлии, его предали; багауды, столь враждебные римлянам, отвергли его дружбу; вестготы не позволили себя провести. Никто его не принял. А показательный террор, который должен был подавить попытки к сопротивлению, не достиг желаемого эффекта. Резня в Меце, Лане и Реймсе оказалась напрасной. Даже навредила ему… Выставлять себя освободителем и истреблять освобожденных — противоречиво.
Возможно, надо было взяться за это иначе, сказал себе, наверное, Аттила. Поразмыслить, а потом вернуться, действуя по-новому. Вполне вероятно. Одержимость Западом никогда его не оставит. Он всё равно бы вернулся.
И всё-таки Аттила увел с Каталаунских полей все свои силы (всё, что осталось, а оставалось еще очень много), тогда как Аэция покинули все его союзники — багауды, бургунды, вестготы и франки (аланы покинуть его не могли, поскольку их всех перебили, зажав между гуннами и армориканцами). В распоряжении Аэция оставались только жалкие легионы, которые ненавистный император Валентиниан согласился ему доверить для спасения его империи.
Так что приведенные выше рискованные оценки сил после великого столкновения 4 или 5 июля 451 года в Шампани следует серьезно пересмотреть. Соотношение было уже не три к одному в пользу гуннов, а четыре, а то и пять к одному. История не знает другого примера подобной сдержанности, проявленной Аттилой. Какая любовь, какой расчет, какая грусть заставили его повернуть вспять?
Вполне понятно, почему Аэций, ослабленный потерями и уходом союзников, не стал его преследовать.
Если верить Приску, по пути от Шалона до Рейна Аттила оставил позади себя от восьми до девяти тысяч умерших с Каталаунских полей, которых наскоро закопали в мягкой земле по берегам рек. За франками, шедшими позади, тянулся такой же след, но они могли оставлять своих раненых в монастырях, попадавшихся по дороге.
Переправившись через Рейн под взглядом разведчиков Меровея, которые далее не пошли, Аттила собрал свои силы в районе Штутгарта на перекличку, за которой последовал общий совет.
Там были Эдекон, Онегесий и Орест. Берика не было, Константа тоже, о них больше речи не идет. Вполне вероятно, что они погибли в Шампани.
Тон задавал Аттила: «Мы на этом не успокоимся, в Галлию мы еще вернемся, но нас ждет более неотложное дело — Италия, сердце Западной империи и ближайшая цель». Решение напасть на Италию принято до возвращения на родной Дунай, на границе вражеских территорий.
Аэций, возможно, ожидал триумфа в Риме за то, что принудил его, Аттилу, к отступлению. Он был разочарован. Когда он подошел к Равенне во главе армии, считавшей его величайшим полководцем своего времени, император его даже не принял.
Аэций встревожился, навел справки: он, оказывается, предал дважды. На Каталаунских полях произошло то же самое, что и под Орлеаном. Аэций во второй раз дал уйти Аттиле, который находился в его власти. Он — сообщник гунна.
Под ногами кандидата в триумфаторы разверзлась пропасть. Оклеветан, и уже не впервые. Валентиниан его на дух не выносит, Аэций это давно знал, но он всегда был нужен императору. Неужели теперь это не так?
Фаворит Валентиниана Максим Петроний увиделся с ним и всё подтвердил. Победителя битвы на Каталаунских полях в Равенне считают предателем.
Аттила узнал об этом очень быстро. Фортуна повернулась к нему лицом. Валентиниан льет воду на его мельницу. Как хорошо он сделал, что ушел за Рейн!
Он подумывал было сам устремиться на восток, чтобы в третий раз навести порядок между Вислой и Каспием. Он даже будто бы призвал к себе сына Эллака и предоставил ему все средства править вместо него без забот между Доном и Кавказом. Онегесий его отговорил: здесь, перед лицом Римской империи, он незаменим. Онегесий вызвался идти в поход вместо него, но Аттила удержал его, приведя тот же довод: «Ты нужен мне здесь». Онегесий выставит стражу вдоль Рейна и напротив Альп, когда он будет в Италии. Эдекон тоже; он усилит артиллерию. Орест отправится на Восток и должен будет поспешить, если хочет побывать в Италии — это ведь его самая большая мечта. А то Аттила уйдет без него.
Орест тотчас снялся с места. Ему пришлось подзадержаться на Руси, чтобы помирить обитателей полей и лесов — грейтунгов (ветвь остготов) и тервингов (ветвь вестготов). Первые жаловались на вторых, что те выскакивают из своей чащи и топчут их посевы. Еще ему пришлось усмирить роксоланов, неспокойных и коварных, доставлявших поводы для опасений. Кавказские и каспийские племена враз притихли при его появлении. Только аланов не удалось усовестить: они вечно уклонялись от разговора.
Аттила войдет в Италию через Сирмий на Саве, в Нижней Паннонии. Потом осадит Аквилею, самый укрепленный город на всем полуострове, к северо-востоку от Венеции, на побережье Адриатики, которая считается неприступной. Взяв Аквилею, он оставит там военный контингент, чтобы предотвратить всякое вмешательство Восточной империи, которая, возможно, предпримет какие-то действия, если к ней обратятся за помощью.
Венетия (нынешняя Венеция), Лигурия, Этрурия (Тоскана) будут следующими этапами его пути к Риму, который он намерен захватить лично. После чего, в зависимости от обстоятельств, он, возможно, вернется в Аквилею к оставленному там контингенту, и оттуда, все вместе, они пойдут на Константинополь, о вступлении в который мечтать не запрещается. Грандиозный подвиг — пленить одну за другой две столицы Римской империи!
Наметив этот план, надо было набрать союзников. Тут, как всегда, возникли трудности. Остготы сохраняли ему верность, но они устали после галльской кампании и хотели какое-то время отдохнуть на Тисе, где они процветали, а уж потом переходить через Альпы. Их король Валамир, большой друг Аттилы, пришлет ему контингент, но основные силы великанов-остготов, не привыкших отступать, к нему не придут.
Гепиды из Дакии (современной Румынии) тоже ему верны, и их король Ардарих большой почитатель императора гуннов. Но в Галлии они понесли тяжелые потери, и Дакия, как и Тиса, пленила их в свои сети, не отпуская от себя. Отряд будет предоставлен, но тяжелая пехота гепидов, которую боялись римские легионы, не надавит на них всей своей тяжестью.
Герулы из Северной Венгрии сражались в Галлии, как львы, но вожди, оставшиеся дома, перессорились между собой с такой злобой, что по возвращении вся армия раскололась на фракции по числу кланов. Среди герулов царила анархия. Аттиле придется про них забыть.
Так что союзников мало, ну да ладно. Вперед, в Италию!
Всё это время Аэций не находил себе места. Он опасался возвращения Аттилы, понимал, что Италию будет трудно защитить, и советовал Валентиниану переселиться вместе с двором в Галлию — в Тур, Блуа, Орлеан — ради его же безопасности. Чтобы сблизиться с франками, которые так хорошо себя проявили на Каталаунских полях.
Этот совет вызвал бурю. Валентиниан не сдвинется с места ни под каким предлогом. Тогда Аэций стал заклинать его покинуть хотя бы Равенну. Равенна — не самое лучшее место. Защищающие ее болота можно использовать и для того, чтобы к ней подобраться. Императору лучше поехать в Рим. Мысль о том, чтобы укрыться в Риме, не показалась римскому императору возмутительной. Валентиниан не стал возражать. Но римские укрепления обрушились. Аэций получил все полномочия, чтобы их восстановить. Он немедленно выехал в Рим. Несколько месяцев каторжного труда — и стенам Вечного города были возвращены их мощь и великолепие. Император может приезжать, тут ему нечего бояться.
Аэций же отправился в Константинополь просить помощи у Марциана, ратовать за совместную оборону от императора гуннов. Марциан не видел в этом необходимости. Он считал, что Восточной империи ничего не угрожает. Аэций хотел бы привлечь его к защите Аквилеи. Марциан не думал, что Аквилея находится в опасности. Аттила туда не пойдет. А если и пойдет, то не станет ее осаждать. Аквилея неприступна. Он пойдет морем к Риму.
В настоящий момент Восточная империя ничего предпринимать не собирается. Если Аттила явится, Аэций сможет остановить его на реке По, и тогда он, Марциан, ударит с севера. Гунн окажется между двух огней. Но Марциан в это не верит. Аттила на такое не осмелится. Когда он отказался платить дань, вытребованную у Каллиграфа, Аттила никак на это не отреагировал. Марциан думал, что усмирил его. Ну-ну, подумал Аэций.
Январь 452 года. Аттила созвал совет в Буде. Онегесий, Эдекон, Орест и Эсла, явившийся с Каспийского моря. Сообщил им, что болен. Вот уже несколько месяцев ему нехорошо. Несварение желудка, рвота, страшная головная боль, беспрестанные кровотечения из носа, кровохарканье, обмороки. Три его лекаря, галл, грек и гунн, часто пускают ему кровь; это приносит облегчение, но отнимает силы. Он посылал Онегесия на восток, боясь, что доведет себя до истощения, если поедет туда сам.
Соратники подавлены.
Но теперь ему уже лучше. Гораздо лучше. Возможно, он выздоровеет. Но кто его знает. Возможно, его хватит удар. Нужно подготовить будущее империи, с которой завтра сможет сравниться только один Китай.
Подробнее: его преемником станет старший сын Эллак; ему будет помогать Онегесий; ему придется много разъезжать, чтобы обеспечить сплоченность империи, периодически наведываться во все ее части, царства и провинции. Эрнак, самый младший из сыновей, будет править Галлией и Италией, которые мы завоюем. Эдекон станет его наставником. Четыре остальных сына — Узиндур, Денгизих, Гейсм, Эмнедзар — получат во владение конкретные территории. А именно: от Одера до Днепра, от Днепра до Волги, от Паннонии до Черного моря, от Волги до
Аральского моря и вплоть до восточных границ империи. Если Эллак умрет, императором станет Эрнак. (Один вещун предсказал, что Эрнак скончается последним из его сыновей.)
Соратники поклялись выполнить эти распоряжения. На следующий день состоялся пир, на котором Аттила назвал день выступления в поход: 20 марта, из Сирмия.
«Поток гуннов течет через альпийские перевалы. Ты главнокомандующий империей, ты один способен ее спасти».
Послание Валентиниана доставили два крупных сановника в сопровождении почетной охраны. Аэций вскочил на коня. Он отправился в Рим, послав человека в Равенну с просьбой к императору тоже выехать туда. Рим выстоит за своими новыми стенами.
Из Рима он написал Марциану, сообщая, что займет позицию к югу от реки По, и заклиная перерезать гуннам пути к отступлению. Написал он и Авиту, умоляя второй раз просить вестготов о помощи. Но после Каталаунских полей вестготы убивали друг друга, и Авит даже не стал ничего предпринимать.
Аэций расставил свои войска к югу от По. Задача у него была противоречивая: выстроить как можно более длинный и как можно более широкий фронт. Затем он усилил гарнизон Аквилеи и нескольких других городов. К северу от По не было ничего.
Проспер Аквитанский напишет в своей «Хронике» за 452 год: «…жители, парализованные страхом, были неспособны обороняться».
Аттила прошел через Эмону (ныне Любляну) и Наупорт (Врхнику) в Словении, пересек Юлийские Альпы, перебил гарнизон так называемого лагеря Холодной реки, расположившегося по ту сторону перехода, не пощадив пленных, выдвинулся к Сонтийской заставе — второму эшелону римских войск, на реке Сонтий (Изонцо). На месте этой заставы теперь находится город Гориция.
Заставу смели в один момент, гарнизон перебили, как и у Холодной реки. После Сонтия на пути гуннов к Венетии больше не было никаких препятствий. От Венетии не осталось камня на камне. Потом Аттила повернул на Аквилею, остававшуюся у него в тылу и стоявшую на полуострове, разделявшем Адриатику между Далмацией и линией лагун, где три века спустя начнет подниматься Светлейшая республика Венеция.
Аквилея получила название Неприступной после неудачи вестгота Алариха, разграбившего Рим в 410 году. Это был самый красивый порт на Адриатике, крупный торговый центр и северо-восточные ворота Италии. Началась осада. Через месяц осаждающие не только не добились никаких успехов, но и начали голодать. Они так хорошо подчистили все окружающие поля, что есть там больше было нечего. Аттила посылал за провиантом команды фуражиров, которые уходили очень далеко, а привозили жалкие крохи. На пустой желудок осаждающие страдали животом. Стоны больных доносились даже до центра Аквилеи.
Прошел еще месяц — безрезультатно. Аттила уже собирался снять осаду, как до него сделал Аларих, после чего взял Рим. Но тут он увидел аистов, улетающих из города в поле. Это знак. Город обречен. Нужно проявить упорство.
Шли дни. Страдавших от диареи лечили кумысом. Катапульты продолжали метать камни. Саперы рыли подкопы. Наконец рухнула первая стена: пусть она была внешней, и ее крушение не позволило войти в город, всё равно приятно.
Однако радоваться было нечему: они застряли тут на три месяца, а император Востока зашевелился. Марциан послал легионы в Мёзию. Нельзя было терять ни секунды. Обстрел повели с удвоенной силой. Умножили команды саперов. Наконец рухнули и настоящие стены. Большая часть осажденных убежала на запад по берегу моря, к лагунам будущей Венеции. Гунны вошли в Аквилею и перебили всех остальных по приказу Аттилы, чтобы другим было неповадно. Вот что бывает с теми, кто ему сопротивляется.
Резни оказалось недостаточно: Аквилею стерли с лица земли.
Весть об этом поразила ужасом всех проживающих в долине реки По. Сто городов — Альтино, Падуя[55], Виченца, Местре, Арколе, Эсте, Ровиго, Феррара, хоть и лежавшая к югу от По, — были покинуты своими жителями, укрывшимися среди лагун. Другие открывали ворота и просили пощады. Никакой пощады. Смерть всем.
Гунны рассыпались по Ломбардии, Пьемонту и Лигурии, методично сея разрушения. Мантуя, Верона, Кастильоне, Кремона, Брешиа, Бергамо, Лоди, Павия, Милан, Комо, Новара, Верчелли, Чильяно, Мортара, Маджента, Виджевано были разграблены. Аэций не тронулся с места. Он оставался к югу от По, считая, вероятно, себя слишком слабым, чтобы прийти на помощь жертвам нового предприятия по уничтожению в Европе.
Аэций не двигался, но Онегесий не сидел на месте: он спокойно переправился через По между Кремоной и Пьяченцей[56]. Аттила назначил сбор своим ордам к югу от Мантуи, у слияния По и Минчио, на дороге, ведущей в Рим через Апеннины. Поскольку убийцы рассеялись по всей Северной Италии, на сбор ушло несколько недель. Он завершился около 20 июня 452 года. И Аттила объявил, что дальше они не пойдут. Ошеломление в рядах. А как же Рим?
Точно так же был ошеломлен Аэций, когда узнал о форсировании По Онегесием. Придя в себя, он принял два решения: гнаться за Онегесием и непременно раздробить его отряд, чтобы сосредоточить силы в ожидании Аттилы. Ибо он был убежден, что Онегесий командует передовым отрядом гуннов, а за ним подойдет Аттила с основными силами. Аэций поспешно собрал мощный заслон между Кремоной и Пьяченцей, где прошел Онегесий. А кстати, где он прошел? — попутно встревожился Аэций. Ибо его разведчики возвращались с пустыми руками или не возвращались вообще.
Обманывая их, Онегесий рассылал небольшие группы во всех направлениях, даже в самых невероятных, — например обратно к По, вместо того чтобы идти на юг. Эти группы не ограничивались своей ролью обманки. Они устраивали засады, дожидались преследователей и рубили их в капусту. Неуловимые гунны навязали Аэцию этакую партизанскую войну. Тот вызвал всю свою конницу с южного берега По для усиления отрядов преследования и разведки, чтобы понять, наконец, куда движется противник, полностью от него ускользавший. Всё тщетно.
Онегесий постоянно возникал в тылу у римлян. Он одновременно был везде и нигде. Вот он нарочито сосредоточивает в определенном месте крупные силы, рассчитанные таким образом, чтобы римляне были уверены, что побьют их, если постараются. Римляне толпой устремляются туда — никого. Гунны рассеялись, растворились. Аэций уже не знал, что и думать.
Наконец ему сообщили, что в Эмилии, к югу от Пармы, обнаружено слишком крупное скопление сил, чтобы и оно тоже играло в прятки. Ему сказали, что эти силы выступили по дороге на Каррару с явной целью пройти берегом Средиземного моря к Риму. Крайне встревоженный, Аэций повел свои основные силы от По в Этрурию.
Онегесий же собрал свои войска между Каррарой и Массой. Это может быть только прелюдия перед походом на Рим… Но Онегесий в очередной раз рассеял свои войска от Массы и Каррары до Пизы и Флоренции, словно хотел «зачистить» страну перед походом на столицу империи. Аэций молился всем богам. Зря он так волновался: Аттила по-прежнему сидел в Мантуе.
Он сидел в Мантуе по трем причинам: болезни, истощение, паника в Риме.
Во-первых, во второй половине июня жаркая погода в болотистой равнине реки По вызвала новую эпидемию лихорадки и кишечных расстройств, обезоруживших часть гуннов.
Во-вторых, грабители Пьемонта, Ломбардии и Венетии вернулись из своих набегов совершенно измученными (они совершили все бесчинства, к каким их побуждало богатство этих земель, а перевозка огромной добычи отняла у них последние силы).
В-третьих, Рим был готов капитулировать. Рим метался в страхе. Валентиниан и его советники даже не представляли, чтобы Аэций смог остановить Аттилу. Оставалось только пытаться предотвратить самое худшее. Добиться любой ценой, чтобы он пощадил Рим.
Было решено отправить к нему посольство, чтобы узнать о его условиях. Делегации, нагруженной роскошными подарками для завоевателя, строго-настрого приказали не важничать; придется умолять; согласиться на выплату ежегодной дани, которая может оказаться весомой, если он не потребует земельных уступок.
Кого послать к нему? Естественно, Аэция. Но Аэций откажется. Депутацию от сената? Собрали сенат. Сенат единодушно согласился капитулировать. Отобрали сенаторов. Но вот еще какое дело: народ. Что он подумает? Вдруг решит, что император и богачи его предали. Созвали народ на общее собрание. Объяснили, что надвигается угроза: разрушение Рима и истребление его жителей. Чего хочет народ? Мира или войны?
Мира!
Народ предпочитает ждать Аттилу или послать к нему послов?
Послов!
Сенат собрался в присутствии императора. Кто возглавит посольство? Больше всего боялись того, что Аттила никого не примет. Возможно, даже самого императора… Поднялся видный сенатор Геннадий Авиен: «Он примет папу».
Об этом никто и не подумал. Все согласились.
Кто был папой? Тосканец лет семидесяти по имени Лев. Лев I. Вскоре он станет Львом Великим, позднее — святым Львом.
Он папа уже 12 лет. Философ по образованию, он боролся с ересями — манихейством, присциллианством, монофизитством, — выказывая недюжинные ум и энергию. Монофизитство, утверждавшее, что Христос был только человеком, считалось самой опасной ересью. Папа подавил ее мощной рукой.
Тремя годами ранее, в 449-м, он издал свое Догматическое послание, в котором уточнял католическую доктрину о единстве личности и двойственности природы Христа — Бога и человека. В предыдущем, 451 году он созвал Халкидонский собор, разгромивший монофизитство.
Лев I принял поручение, возложенное на него, от имени императора, Геннадием Авиеном и еще одним сенатором, префектом Рима Тригецием.
Встреча состоялась 4 июля. За несколько дней до того папа отправил к Аттиле епископа с дьяконами, верхом, с папским штандартом и большим серебряным крестом (штандарт подтверждал, что гонец является представителем понтифика). У мантуанского моста епископ наткнулся на Аэция, охранявшего мост со своими легионами. Полководец был удивлен посольством папы к императору гуннов. О чем речь? — спросил он епископа. Тот не знал. Послание секретное, его задача — только его передать. Аэций предложил дать ему свиту и глашатая. Епископ отказался и поехал через мост. На том конце его остановил часовой. Прошло полчаса, явился Орест. Папский штандарт был ему знаком. Оставив охрану у выхода с моста, он подъехал к посольству, велев и ему выступить вперед. Епископ спешился, Орест тоже, что примечательно. Они приветствовали друг друга. Епископ изложил причину своего визита: послание папы к императору гуннов. Орест велел отвести делегацию в парадный шатер, накормить и напоить, взял письмо и сказал, что вернется.
Вернулся он через два часа. Аттила приветствует папу и благодарит за то, что тот о нем вспомнил. Он примет его 4 июля. Встреча состоится на Амбулейском поле, по которому течет Минчио. Он просит, чтобы до тех пор римляне никуда не уходили, сам он тоже никуда не уйдет.
Епископ поручился за римлян: перемирие приветствуется, они не уйдут. Орест передал ему запечатанное послание — ответ Льву от императора гуннов. Епископ сел в седло и вернулся в Рим.
4 июля, около одиннадцати, папа явился к Мантуе вместе с Авиеном, Тригецием и Проспером Аквитанским, служившим секретарем. За ними следовали десять дьяконов в белых одеждах, с папским штандартом и серебряным крестом. В свите было также десять легионеров в парадном облачении. Авиен представлял императора Запада, что подтверждала грамота с императорской печатью.
Аэций встретил их и проводил к мосту через Минчио. По ту сторону их ждал Орест. Лев спросил, когда состоится первая встреча. Орест ответил, что сегодня, в любое удобное для него время.
Аттила хочет, чтобы папа отдохнул, и приглашает его сегодня вечером отужинать, сидя напротив него, чтобы они оба оказались во главе стола, продолжал Орест. Собственно переговоры начнутся завтра, в час, назначенный понтификом. Удивительная предупредительность со стороны гунна к наместнику Христа.
Лев на всё согласился. Он отдохнет до пяти часов и будет ждать Ореста в папском облачении, чтобы оказать честь императору гуннов. Он согласен на ужин, польщен тем, что будет сидеть за одним столом с императором, и назначает начало переговоров на девять часов утра.
Для встречи с Бичом Божьим папа надел шелковую митру с золотом, закругленную на восточный манер, пурпурную ризу и омофор с небольшим красным крестом на правом плече и другим, побольше, на левой стороне груди.
Аттила был одет по-римски: длинная белая тога, отороченная горностаем у ворота, драгоценные цепи, низко спускающиеся на грудь.
Ужин начался и закончился. Было похоже, что оба главы — император-дикарь и папа-философ — понравились друг другу. Между ними установилось взаимопонимание. Как ни странно, они симпатизировали друг другу.
Переговоры, назначенные на завтра на девять утра, перенесли. Аттила и Лев решили увидеться наедине после полудня. Встречу с участием обоих сенаторов и Проспера Аквитанского с одной стороны и Онегесия, Эдекона и Ореста — с другой назначили на следующий день на шесть утра.
Неизвестно, о чем говорили Аттила и Лев с глазу на глаз 5 июля после полудня. Об этом теперь никто не узнает. Но неожиданный результат этого разговора удивляет до сих пор.
На следующий день на общем собрании Аттила объявил, что всё улажено. Он уйдет из Италии 8-го числа. Император Запада будет выплачивать ему в течение пяти лет подъемную дань. Он обещает оставить в покое Галлию и Италию, если только ему самому не будут чинить козней. Он просит Валентиниана побудить Марциана выплачивать ему дань, в соответствии с обязательством его предшественника Феодосия Каллиграфа. И ожидает от Марциана, чтобы тот не беспокоил его, как и Валентиниан.
Иначе он ни за что не отвечает. Потом он простился со Львом I, заявив, что весьма польщен посещением «мудрейшего человека в мире».
По словам Проспера Аквитанского, записывавшего всё, что не вызывало сомнений, папа был так взволнован, что не мог проронить ни слова.
К ошеломлению присутствующих, они молча обнялись. Папа удалился. Сменил торжественное облачение на обычные белые одежды и попросил подать ему коня.
Орест проводил римское посольство до моста через Минчио. С той стороны ждал Аэций. Он спросил у Авиена, что ему делать. Готовиться к уходу, ответил сенатор. Когда выступаем? Самое позднее — завтра к вечеру. А Аттила? Аттила тоже уходит. Когда? Послезавтра. Куда он пойдет? Куда захочет. А мне куда идти? В Рим. Сбитый с толку Аэций переспросил: это приказ? Да, приказ императора.
Аттила ушел 8-го, как обещал. Его армия ликовала. Добыча огромна. Каждый был тем более доволен, что Аттила раздал войскам большую часть собственной доли награбленного, которая была колоссальной. Пусть они были кочевники и обожали сражаться, гунны были счастливы вернуться домой, наконец-то разбогатев.
Они поднялись вверх по течению Адидже через Альпы. Добравшись до Инсбрука, повернули к Боденскому озеру, оттуда дошли до Аугсбурга[57]. Дунай уже недалеко, осталось только спуститься по течению Леха, прямо на север.
Но близость неясной родины, где им будет ровным счетом нечем заняться, разве что наслаждаться добытым состоянием, растравила грусть, вечно таившуюся в сердцах конных лучников: они хотели в последний раз побыть самими собой, прежде чем истомиться в венгерских степях. Они умоляли императора позволить им разграбить Аугсбург. Аттила колебался, потом сказал: давайте, только быстро! Ему подчинились.
Третье отступление Аттилы привело Европу в изумление. Он презрел Константинополь, это уже было уму непостижимо. Ушел с Каталаунских полей, уводя армию, втрое — вчетверо превышавшую западную коалицию, что тоже странно. Но отказаться от Рима! Этого понять не мог никто.
Следовало ли поверить в чудо? В череду чудес, сотворенных для спасения Запада? Вмешательство Льва I способствовало этой вере. Люди были суеверны. В те времена Церковь остерегалась охлаждать воодушевление, которое было ей на руку. Поверили в чудо.
Лев I разом превратился в Льва Великого, его канонизация была неизбежной. По словам Проспера Аквитанского, Лев якобы сказал Валентиниану по возвращении в Рим: «Возблагодарим Господа, который спас нас от великой опасности». А мог ли папа сказать что-нибудь другое?
Следуя той же логике невероятного, для объяснения исчезновения Аттилы выдумали легенду о «Даре Елене». Елена якобы была юной римлянкой, прекрасной, чистой и благочестивой, жившей в окрестностях Мантуи. Она осталась одна в родительском доме, покинутом ее родными перед приходом гуннов, потому что не боялась ничего — только прогневить Господа.
Аттила проезжал мимо, попросил накормить его, она его угостила. Они поговорили наедине. Она сообщила ему о своем решении посвятить свою жизнь Богу, Богу любви и мира, и подивилась тому, что он беспрестанно воюет и убивает бедных людей. Аттила ответил, что он Бич Божий и должен выполнять свое предназначение. Когда же оно будет исполнено? — якобы спросила Елена. Может, оно уже свершилось? Аттила вроде бы смутился, пообещал подумать. После раздумий он и решил повидаться с папой.
По другой версии, император переспал с молодой христианкой, которая пожертвовала ему своей девственностью за обещание уйти.
Те же самые предположения, которые уже строили после ухода из-под Константинополя и с Каталаунских полей, всплыли после отказа от Рима. Их можно свести к трем основным гипотезам.
Во-первых, исход любой битвы не предрешен до самого конца. Аттила, и так уже будучи победителем, не стал лишний раз рисковать. По мнению одних, он выказал высшую мудрость, презрев славу от вступления в столицу Западной империи — Рим Цезаря и Августа. На взгляд других, это была странная слабость, дававшая надежду на реванш.
Во-вторых, мятежи, вспыхнувшие на востоке его империи, побудили его вернуться туда, не задерживаясь на осаде, которая отнюдь не была плевым делом, грозила затянуться надолго, и в результате он потерял бы на Востоке больше, чем приобрел бы на Западе.
Наконец, Аттила страдал маниакально-депрессивным психозом и в экстремальных ситуациях впадал в апатию. Боязнь победить его парализовала. Одним словом — псих.
Вопрос о безумии — определенной форме сумасшествия, боязни завершения, — стоит на повестке дня и 15 веков спустя. Когда Морис Бувье-Ажан взялся написать биографию императора гуннов, герцог де Леви-Мирпуа, специалист по истории Средних веков, поддержал его начинание, сказав: «Вот вы мне и объясните, был ли Аттила бесноватым».
Три вышеупомянутые гипотезы применимы ко всем трем самым примечательным случаям загадочного отступления. Четвертая относится лишь к отказу от Рима и уходу из Италии. Болезнь, о которой Аттила рассказал своим помощникам январским вечером 452 года в Буде, могла настолько развиться, что он уже чувствовал себя обреченным. Поэтому, чтобы уладить вопросы престолонаследия, он поспешил в свою столицу и отдал соответствующие распоряжения.
Вернувшись на дунайские равнины, он пропал на несколько дней. К нему допускали только врачей. Посредником служил Онегесий.
Когда Аттила снова стал появляться на людях, то первым делом занялся Восточной империей. Послал в Паннонию армейский корпус под командованием Ореста, одно появление которого вызвало отступление в Мёзию легионов, выдвинутых императором Марцианом для облегчения участи Италии. После этого отступления Орест послал в Константинополь делегацию с требованием дани, которую согласился выплачивать Феодосий II, а Марциан отказался. Марциан не ответил, но встревожился: усилил свои гарнизоны на Балканах.
Другую делегацию Аттила послал в Рим. Дань, на которую дал согласие Валентиниан, до сих пор не выплачена. Промедление недопустимо. Валентиниан III подчинился, извинился и сослался на бюрократические проволочки.
Аттила послал оружие рипуарским франкам (жившим по берегам Рейна), которые были его союзниками во время Галльского похода, — он ими дорожил. Он возобновил сношения с бургундами, которые были союзниками Аэция, причем не из последних. С удовлетворением узнал о несчастьях галльских аланов: солонский приживала Сангибан, предавший его под Орлеаном, погиб где-то в землях вестготов. Прочие аланы достали всех в Галлии и Испании, так что их почти всех перебили.
Зато аланы с Волги, Кавказа и Каспия оправились и доставляли кучу хлопот его сыну Эллаку, которому снова пришлось прийти на помощь: речь шла о спасении империи.
Аттила созвал свой штаб. Заявил, что совершенно здоров и лично отправляется в восточные степи, чтобы навести там порядок. После чего они все вместе дадут последний бой шатким римским империям. Никогда он еще так откровенно не раскрывал своих намерений.
Значит, ни от чего он не отказался. Три отступления — перед Константинополем, в Шампани и под Римом — были просто тактическими приемами. Отойти назад, чтобы разбежаться и дальше прыгнуть.
Как и обещал, он отправился в варварскую Азию во главе конницы. Никакой пехоты, никакой артиллерии. Возвращение к истокам: по коням — арш! Там ему встретятся только конные кочевники, которые мигом умчатся за горизонт, если ему не удастся их окружить. Ему удастся. Он отобрал лучших лошадей из бесчисленных табунов, откормленных на несравненных пастбищах Пушты. Дело было быстро улажено. Мятежники, оставшиеся в живых через три месяца, массово молили о пощаде. Он прощал уже не так щедро, как раньше: время было дорого. Он харкал кровью, порой был слаб, как младенец. Горе империи, которой правит младенец!
В последний раз он наделил всеми полномочиями Онегесия, велел подготовиться к решающему походу. Сразу по возвращении — Константинополь; Рим падет вслед за ним, как созревшее яблоко.
На Кавказ и к Аральскому морю отправились в сентябре; к Рождеству всё было улажено — надолго ли? — и он вернулся после фантастически быстрого похода: шесть тысяч километров скачки, переговоров и сражений.
Конницу разделили пополам. С одной половиной Орест двинулся на север, а сам Аттила спустился на юг до того места, где сейчас находится Одесса (герцог Арман Эммануэль де Ришелье построит тут настоящий город для Александра I 14 веков спустя). Он прошел берегом Черного моря и, начиная от нынешнего Севастополя, стал зачищать степь, лежащую между Доном, Волгой и Кавказом. Зачистка свелась к истреблению аланов, которых решительно было невозможно держать в покорности. В тот год кавказские и каспийские аланы были вычеркнуты из истории, о них больше не упомянут ни словом. Между Ростовом-на-Дону и Астраханью ему повстречались те же ребята, которые, должно быть, заинтересовали Ореста; они говорили на том же языке, что и акациры. Этим неведомым племенем были хазары.
Они уже давно жили здесь, заняв низовья Волги, но были так малочисленны и необщительны, что их никто не замечал, думали даже, что они и вовсе исчезли, пока они не возникли много позже в Крыму, намереваясь воссоздать империю Аттилы.
Перебив аланов и укротив акациров, он переправился через Волгу и продолжил свою работу до северного побережья Аральского моря. Что было дальше — неизвестно.
Орест же пересек Украину к северу от Киева и вышел к Волге неподалеку от Нижнего Новгорода. Достиг Камы в районе Перми, потом подобрался к западному склону Уральских гор.
Он неоднократно натыкался на неизвестных противников, рассеянных повсюду небольшими группами, ловко наносивших неожиданные удары и неуловимых. Внешне они были не связаны между собой, однако явно состояли в родстве: телосложение, одежда, оснащение, реакция, возгласы были сходными.
Они попадались ему в окрестностях Киева, в долине Буга, по течению Днепра. Между Волгой и Камой их стало больше. А еще больше — между Камой и Уралом, словно они шли с востока, как все, и их переселение только началось. Орест перебил как можно большее их количество, но осталось всё равно довольно много.
Они были большими дикарями, чем гунны. Неотесанные, в звериных шкурах, с примитивным — но действенным в их руках — оружием: топорами, копьями, стрелами и пращами грубой работы, в шлемах и со щитами из плохо выделанной кожи.
Он думал, что они пришли из-за Урала, но потом узнал, что Урала они не знали, да и не смогли бы его преодолеть. Что само по себе странно, поскольку Урал никогда не представлял собой непреодолимого препятствия. Возможно, они обогнули его, следуя из Сибири?
Наконец, Орест заключил договор о дружбе с башкирами с Южного Урала и вернулся к Волге, переправился через нее, направляясь в Смоленск, а оттуда — в Белоруссию и Польшу, пересек Вислу и вернулся в Буду, дожидаться там императора.
Два направления в науке спорят о том, как глубоко продвинулся Аттила: первое ограничивает его путь устьем Амударьи, второе позволяет зайти гораздо дальше. Пройдя по левому берегу Амударьи, он якобы пересек Туркмению, отправив попутно посольство к персидскому шаху, и вступил в Бактриану, некогда одно из греческих государств, переживших Александра Великого.
Вторжение гуннов в Бактриану в середине V века — исторический факт. Но о каких гуннах идет речь? Вот этот-то вопрос и стал яблоком раздора между двумя историческими школами.
Первая придерживается мнения Рене Груссе, который считал, что эти захватчики были белыми гуннами с побережья Каспия, продвинувшимися на юг в степи, отделяющие Каспийское море от Аральского, а затем дошедшими до Гиндукуша на севере Афганистана. По мнению второй школы, это были гунны Аттилы. Но во втором случае возникает вопрос времени.
Аттила ушел из Центральной Европы в сентябре и вернулся к Рождеству. Получается, что меньше чем за четыре месяца он дошел до Аральского моря, за шесть тысяч километров. Вторжение в Бактриану добавило бы к этому еще тысячи две. За 100 дней он якобы преодолел восемь тысяч километров, ведя переговоры, сражаясь и воссоздавая разрушенную администрацию. Конечно, он был гений, но подобные подвиги стоит отнести к области воображения.
Он вернулся через Одессу и Восточную Румынию на Дунай к Буде, где ждал его Орест. Утомленный темпом этой гигантской экспедиции, он потратил остаток зимы на последние приготовления к решающему штурму римских империй.
С приближением весны он решил вступить в новый брак, чтобы разогреться перед походом на Рим. Сколько раз он был женат? Подсчитать невозможно. Имя его избранницы тоже неизвестно.
Приск называет ее Ильдико, но это имя сомнительно.
Ей было 16, Аттиле 58. Возможно, она была франкской принцессой, из рипуарских франков, или дочерью какого-нибудь вождя остготов или аламанов, или датской принцессой, которая бросила всё, чтобы последовать за ним, или бургундской княжной, бросившей своего жениха, чтобы отдаться императору гуннов, которым она всегда восхищалась. Или принцессой вестготов из Аквитании, тоже им покоренной. Или дочерью царя Бактрианы, плененной несколько месяцев тому назад.
Как мы видим, наверняка ничего сказать нельзя, кроме того, что красотка была принцессой.
Приск наделяет ее греческой внешностью и длинными светлыми волосами до пояса. Больше о ней ничего не известно.
Аттила женился на ней примерно 15 марта 453 года, устроив великолепный пир. Крупное сосредоточение военных сил было связано не только со свадебным торжеством: он решил выступить в поход сразу после брачной ночи.
Похода не будет. Брачной ночи тоже не будет. Только-только удалившись в свой шатер с последней избранницей, император гуннов стал харкать кровью и умер.
На следующий день к полудню он всё еще не выходил, его жена тоже. Это было на него не похоже. Эдекон и Онегесий постучались к нему вместе с несколькими охранниками и кое с кем из его сыновей. Ответа нет. Эдекон высадил дверь, за ним влетел Онегесий.
Аттила навзничь лежал на постели, его лицо, шея и грудь были залиты кровью. Он был мертв. Его невеста забилась в угол, закутавшись в меха, и дрожала всем телом, не в силах вымолвить ни слова.
Позвали трех лекарей — галла, грека и гунна. Они не обнаружили ничего подозрительного. Никаких следов насилия или отравления.
Апоплексический удар, вызвавший удушье, — вот что убило императора гуннов. Врачи не удивились. Он уже давно харкал кровью. Вчера кровохарканье усилилось — и вот вам. Перепил вина, переел мяса, перевозбудился. От судьбы не уйдешь.
Расспросили невесту. Они легли рядом, но он не дотронулся до нее. Рухнул сразу, сраженный вином, и заснул мертвым сном. Потом пробудился; его стошнило. Он сказал: «Не зови никого». Она встала, завернулась в меха, забилась в угол. Вскоре его уже рвало кровью, он икал и трепыхался, а потом вдруг затих.
«Не зови никого»… Хотел ли он сказать, что отказывается от лечения?
Из большого зала свадебного пира вынесли всё, что там было. Посередине поставили парадное ложе и возложили на него тело Аттилы, облаченное в меха, с мечом Марса в правой руке и серебряной пикой в левой, с почетным щитом в ногах.
У входа во дворец собралась огромная толпа, вопя от бешенства и требуя выдать убийцу. В зале, где собрались все сановники империи, Онегесий и Эдекон, сидя возле ложа, плакали, не скрывая слез. Скотта вышел первым и обратился с речью к толпе.
Успокойтесь, сказал он, убийцы не было, смерть произошла от естественных причин. Завтра, на равнине, где Аттила будет покоиться под шелковым шатром, устроят траурные игры. А тем временем в тайном месте выкопают ему могилу, чтобы ее не смогли осквернить.
Шатер поставили в сумерках. Аттилу перенесли туда и положили на ворох мехов и драгоценных ковров. Его сыновья, Онегесий, чужеземные короли, в том числе гепид Аларих, всю ночь стояли в почетном карауле.
Траурные игры — лошадиные скачки, метание копья, стрельба из лука, танцы, шествия, имитация боя, декламация былин во славу покойного — продолжались весь следующий день, когда где-то далеко копали могилу.
Кто копал и где?
Неизвестно. Ее долго искали, но так и не нашли. Деревянный дворец, где он поместил свою пассию, поставили на берегу Тисы, левого притока Дуная, которая течет с севера на юг по большой венгерской равнине на протяжении нескольких сотен километров, но найти так ничего и не удалось. Утверждали, что его погребли прямо в русле реки, которую отвели на время, чтобы вырыть могилу, а потом спрятали ее под водой.
Место погребения должно было оставаться тайной, поэтому землекопы работали далеко от толпы, собравшейся на свадьбу и удержанной похоронами. Можно себе представить несколько концентрических линий часовых, которые никому бы не позволили приблизиться к центру этих кругов, находившемуся довольно далеко от самого широкого из них, ведь на плоской равнине конному видно гораздо дальше, чем пешему.
Можно предположить, что могильщиков и устроителей погребения — наверняка роскошного — казнили, чтобы обеспечить их молчание, как бывает в схожих исторических обстоятельствах. Это много говорит о том уважении, с каким гунны относились к мертвому императору. Но истории с удушением ради сохранения тайны грешат нелепостью: душители тоже знают тайну, нужно тогда и их удушить. И так далее, пока не прервется весь человеческий род, если только, выполнив свою работу, душители не передушат друг друга. Да и это не оптимальное решение. Нет никаких гарантий, что грифы или другие любители падали, выписывавшие круги над трупами, не сообщили бы их местонахождение самым нетерпеливым из расхитителей гробниц.
Прошло 15 веков, могила, возможно, уже давно разграблена, и никто об этом не знает. Воры похваляются своим воровством, только если им это выгодно. В случае с Аттилой мстителей за века не стало бы меньше.
Сегодня принимают на веру сведения, которые приводит Иордан, готский историк, писавший через 100 лет после событий. Однако его экзальтированный стиль побуждает усомниться в его словах, тем более что он не упоминает о своих источниках.
Он пишет, что до и во время свадьбы Аттила постоянно был весел. Никогда еще жених, особенно царственный, не выказывал подобной веселости. Никакое мрачное предчувствие не омрачило его чела.
Иордан также пишет, и с этим проще согласиться, поскольку такой обычай был не редкостью для сильных мира сего, что для Аттилы изготовили тройной гроб: железный, куда положили тело, серебряный, в который вложили первый, и золотой — внешний. Странный порядок; кажется, логичнее было бы сделать наоборот. Неужели тело прославленного завоевателя не заслужило покоиться в золоте, металле, не подверженном изменениям, а не в железе, которое ржавеет и рассыпается?
Всё это опустили в могилу ждать конца света; при этом присутствовали несколько близких людей, которые тоже сохранили тайну. В это время на приличном удалении от того места, в лагере под надежной охраной, вся армия собралась на гуннскую тризну — «страву»: огромную попойку с горами сырого или жареного мяса, коллективный всплеск жизни, превращающий смерть в ничто или пустяк.
Аттила исчез, и его империя тут же развалилась. Не прошло и года после его смерти, как взбунтовались остготы и гепиды, гуннов разбили в Паннонии, а его старший сын Эллак был убит в бою. Другой сын Аттилы, сводный брат Эллака, Денгизих увел гуннов в русские степи. Еще три сына — Эрнак, Эмнедзар и Узиндур потребовали земли у румын. Эрнак поселился в Добрудже, а двое остальных — в Мёзии.
Полтора десятка лет спустя Денгизих в последний раз поведет своих гуннов на Восточную империю, в нижнем течении Дуная. Его разбили и убили, а голову выставили в цирке в Константинополе, в 468 году.
Последний известный потомок Аттилы, его внук Мунд, был полководцем императора Восточной империи Юстиниана и погиб в 560 году. По иронии судьбы это произошло во время стычки с гуннами, которые уже давно были неспособны угрожать империи.
Римская империя пережила Аттилу на 23 года. Захватил ее Орест, а сын одного из ближайших помощников Аттилы Эдекона, начальника его артиллерии, ее доконал. Мальчика звали Одоакр (Одовакар). Он был сыном Эдекона и принцессы из племени скиров и стал вождем герулов с Черного моря.
Римлянин Орест вернулся в Италию после смерти своего господина. Став магистром армии императора Юлия Непота, он счел его бездарным, низложил в 476 году и провозгласил императором своего собственного сына Ромула Августула.
Несколько недель спустя Одоакр вторгся в Италию, захватил Рим, сверг Ромула Августула, обезглавил Ореста и, провозгласив себя патрицием, отправил в Константинополь, где тогда правил Зенон, имперские знаки, формально восстановив единство империи и одновременно покончив с Западной империей, которую Восточная переживет на тысячу лет.
395 — рождение Аттилы. Римский император Феодосий I разделяет императорскую власть между своими сыновьями Гонорием и Аркадием. Первый получил Западную Римскую империю со столицами в Риме и Равенне, второй — Восточную со столицей в Константинополе. Смерть Феодосия I.
405 — появление при дворе гуннского правителя Руаса молодого римского аристократа Аэция, присланного Гонорием, где тот подружился с Аттилой, племянником Руаса.
408 — прибытие Аттилы ко двору Гонория, встреча с Аэцием. Император Востока Феодосий II жалует Руасу звание римского полководца.
412 — возвращение Аттилы к Руасу. Поддержание хороших отношений между Римом и гуннами.
413—421 — Аттила учится править и беспрестанно разъезжает между Дунаем и Кавказом. Он быстро становится «правой рукой» своего дяди Руаса.
423 — смерть императора Западной Римской империи Гонория. Императорство Иоанна Узурпатора.
425 — провозглашение императором Валентиниана III, сына Галлы Плацидии, сестры Гонория, которая становится регентшей.
431 — смерть Айбарса. Единственным главой гуннов становится Руас.
432 — гунны — «главные союзники» Рима, но отношения с Константинополем плохие.
434 — смерть Руаса. Аттила становится вождем, а с 435 года провозглашает себя императором. Маргусский договор с Византией, исключительно в пользу гуннов. Первое поражение Восточной Римской империи от Аттилы, первый триумф Аттилы.
435—437 — гунны поддерживают римлян Аэция против бургундов, галльских багаудов и вестготов.
438 — отражение агрессии славян и германцев. Смерть Бледы.
440 — принцесса Гонория, сестра императора Западной империи Валентиниана III, предлагает свою руку Аттиле.
441—443 — осада гуннами Магруса и его сдача римлянами. Походы в Мёзию и Паннонию. Взятие Сирмия. Прорыв во Фракию, войска гуннов подходят к Константинополю. Уничтожение Наисса.
444—445 — военная экспедиция на восток для укрепления единства империи гуннов.
446—447 — нападение на Восточную Римскую империю. Аттила держит ее в своей власти, но отказывается от взятия Константинополя, заключив перемирие.
449 — мирный договор между гуннами и Восточной империей. Триумф Аттилы. Заговор в Константинополе с целью убийства Аттилы и его провал. Полное унижение Восточной империи.
450 — смерть императора Восточной империи Феодосия II, ему наследует Марциан. Аттила требует выплаты ежегодной дани, Марциан отказывается. Аттила уведомляет императора Западной империи Валентиниана III, что он «дает согласие» на свой брак с его сестрой Гонорией. Римляне предпринимают меры, чтобы брак не состоялся. Подготовка нападения на Западную Римскую империю в Галлии.
451 — вторжение в Галлию. Взятие Меца, Лана, Сен-Кантена, Реймса. Осада Парижа. Аттила снимает осаду.
452 — нападение на Западную империю в Италии. Империя в его власти, но он отказывается от захвата Рима по просьбе папы Льва I Великого. Поход по восстановлению порядка в центральных и восточных областях империи гуннов.
453 — Аттила готовится к последнему походу против империй римлян, но в марте умирает. Распад империи гуннов.
Grousset R. L’empire des steppes: Attila, Gengis-Khan, Tamerlan. Paris: Editions Payot, 1939.
Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни; под ред. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Алетейя, 1994.
Бувье-Ажан М. Аттила: Бич Божий. М.: Молодая гвардия, 2003.
Иордан. О происхождении и деяниях гетов: Getica. СПб.: Алетейя, 2001.
Сказания Приска Панийского / Пер. С. Дестуниса // Ученые записки 2-го отделения Императорской Академии наук. Кн. 7. Вып. 1. СПб., 1861. С. 408–457.