Феликс Чуев
Стечкин
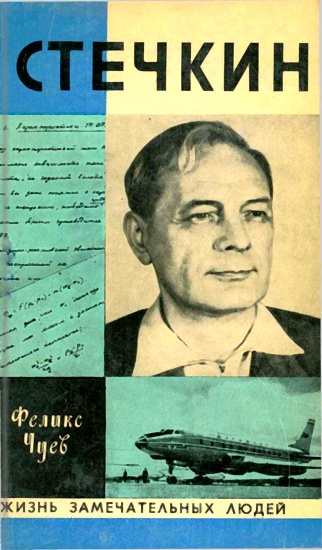
«Уважаемый товарищ!
Отделение физико-технических проблем энергетики Академии наук СССР, Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике, Министерство авиационной промышленности СССР, Министерство высшего и среднего специального образования СССР и Научно-мемориальный музей профессора H. Е. Жуковского приглашают Вас на заседание, посвященное памяти Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, выдающегося ученого по гидроаэромеханике, теплотехнике, тепловым двигателям, основоположника теории воздушно-реактивных двигателей академика Бориса Сергеевича СТЕЧКИНА в связи с 80-летием со дня его рождения».
В ноябрьский день поздней московской осени к музею Николая Егоровича Жуковского, что на улице Радио, подходило необычно много народу. У каждого пригласительный билет, на нем фотография — умное красивое русское лицо. Люди пришли почтить ученого в день юбилея, до которого он немного не дожил. Прославленные конструкторы, известные авиаторы, ученые, летчики, с детства знакомые по книжным и музейным портретам. Здесь, в зале, на сцене, они сидят живые, и каждый говорит о нем, о Стечкине. Он был нашим современником, Борис Сергеевич Стечкин. Основоположник теории воздушно-реактивных двигателей, «главный моторист Советского Союза», как называли его в авиации. Ученик Жуковского, он сам оставил немало последователей, и не просто учеников с мировыми теперь именами — он создал свою школу.
«По существу, все авиационники, двигателисты, турбинисты и компрессорщики нашей промышленности являются в той или иной степени его учениками, и это есть главный вклад Бориса Сергеевича в дело создания авиации и авиационной промышленности, ибо прогресс в этих областях решается в первую очередь кадрами», — говорил ученик Стечкина, академик С. К. Туманский.
«Роль Стечкина в развитии авиации огромна. Я учился по его трудам и высоко ценю их», — говорит летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза В. И. Севастьянов.
«Замечательный ученый и удивительный, оригинальнейший человек» — так характеризует Стечкина заслуженный летчик-испытатель СССР Герой Советского Союза Г. К. Мосолов.
Прожил Стечкин почти 78 лет, но это оказалось слишком мало, ибо мысль его с каждым годом, до последней минуты, набирала скорость, как летательные аппараты, над которыми он работал. В наш век трудно придумать что-то новое в науке, но теория ВРД навсегда останется за Стечкиным. Даже сам термин «воздушно-реактивные двигатели» введен в мировую литературу им. К 1929 году, когда о таких двигателях в авиации понятия не имели, он создал их теорию, которая, как он сам напишет, «установила наш русский приоритет в этой области». Его работа стала фундаментом для создания реактивной авиации.
Ученые могут спорить, кто внес больший вклад в освоение неба: аэродинамики, прочнисты, металлурги? И когда мы называем имена, с каждым из них связано нечто новое и главное. Жуковский открыл тайну подъемной силы крыла, Ветчинкин разработал динамику самолета, Сабинин — теорию ветряка, Журавченко — теорию штопора, Юрьев — экспериментальную аэродинамику. Чаплыгин, Пышнов... Это мировые приоритеты.
И все-таки главным в современной авиации стал вопрос двигателя. Мощность мотора определила возможности самолета. И то, что мы сейчас за два часа попадаем из Москвы в Тбилиси, стало реальным благодаря воздушно-реактивным двигателям. Их создают люди десятков профессий. Стечкин разработал теорию их расчета. Полвека он был впередсмотрящим науки, старейшиной советского двигателестроения. Наши летательные аппараты — лучший и самый высокий памятник академику Стечкину.
У него были и взлеты, и мировое признание, и немалые трудности. И все же в целом у него счастливая судьба. Его любимая наука, его педагогическая работа всегда имели успех. Он любил создавать машины, и он их создавал.
Об этом говорили многие, кто дождливым ноябрьским вечером 1971 года пришел на улицу Радио отметить 80-летие ученого.
Борис Сергеевич родился 20 июля (5 августа) 1891 года. «Жизнеописание инженера-механика Б. С. Стечкина», — любил он называть первые автобиографии. Одна ив последних — от 21 июня 1964 года — начинается так: «Родился в 1891 году в русской дворянской семье. Отец, Сергей Яковлевич Стечкин, был литератором, газетным работником, писал под псевдонимом С. Соломин. С 1895–4896 годов никакой земельной собственности семья не имела, и я жил с матерью Марией Егоровной, которая о отцом не жила и до 1914 года работала земской акушеркой-фельдшерицей. Отец умер около 1914 года, а мать убита немцами в 1942 году».
... Стечкины считали себя столбовыми дворянами, записанными в 6-ю часть дворянской книги Тульской губернии. Был и свой герб. Насколько доныне известно, этот знатный, ведущий свою историю со времен Ивана Грозного род в поколениях пращуров не дал знаменитых людей, во всяком случае, история мало отмечает Стечкиных. Некогда были они в родстве с князьями Струйскими — в семейной хронике упоминаются Стечкины-Струйские. Да, да, те самые — есть волшебные стихи Николая Заболоцкого:
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас!
Это — о дальней в веках родственнице Бориса Сергеевича... Но главная и единственная привилегия, которую получили Стечкины от истории, — мягкий знак. Их фамилия долгое время была единственным исключением из правил русского языка — в ней между буквами «ч» и «к» стоял мягкий знак. Все Стечкины очень дорожили им и всегда ревниво следили, чтобы он не забывался при написании в разных деловых бумагах. «Стечькин» — гордо красуется на первой визитной карточке Бориса Сергеевича. Происхождение фамилии связано с высочайшей ошибкой императрицы Екатерины II: литера «ц» перешла в «ч» и «ь», и одна из ветвей знатных помещиков Стецкиных стала Стечькиными. А. С. Пушкин среди казненных Пугачевым дворян отмечает «гвардии прапорщика Ивана Стечькина с женою Василисою Петровою». В пушкинские времена Стечкины не только числились дворянами, но и владели землей. И поныне есть в Тульской области деревня Плутнево — их бывшее родовое имение, последняя земля. Ее проиграл в карты дед Бориса Сергеевича, Яков Николаевич, могучий человек недюжинной силы. В книге «Дворянское сословие в Тульской губернии», составленной в 1907 году В. И. Чернопятовым, Яков Николаевич Стечкин в 1856–1858 годах значится депутатом комитета для раскладки земских повинностей по Алексинскому уезду. Здесь же упоминается и прадед нашего героя, заседатель палаты уголовного суда в 1823–1825 годах. В ревизских сказках начала девятнадцатого столетия рядом с поручицей Настасьей Григорьевной Стечкиной находим знакомое имя: «Капитан Юрий Лермонтов...»
Поколение Стечкиных конца прошлого века, не связанное с собственной землей, существовало бездоходно и пошло в интеллигенцию. Отец, тетя и дядя Стечкина были русскими литераторами, малоизвестными, но далеко не бездарными. Старшая из них, Любовь Яковлевна Стечкина, имела немалую природную склонность к изящной словесности. Жила Любовь Яковлевна в Плутневе, знакомств с журнальным миром не вела, в столицу не ездила. Свою первую повесть, законченную в 1874 году, она чисто переписала и отправила в «Отечественные записки».
После долгого молчания рукопись вернули в той же оберточной бумаге, в какой была послана, — видать, ни одна редакторская рука к ней не прикоснулась. Набравшись смелости, Любовь Яковлевна отправилась в Москву, в «Русский вестник», к небезызвестному М. Н. Каткову. Редактор нашел повесть (она называлась «Первая гроза») интересной и напечатал ее в июльском номере журнала за 1875 год, сделав, однако, некоторые сокращения и изменения, которые очень не понравились автору. Любовь Яковлевна стала бурно возмущаться, на что получила издевательский катковский ответ в сентябрьской книжке журнала за тот же год.
В начале 1879 года тетушка написала повесть «Кривые деревья» и решила спросить совета у незнакомого ей лично, но горячо любимого писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Она посылает ему в Париж свою рукопись и вскоре получает ответ: «Я прочел Вашу повесть и вот что имею сказать Вам: у Вас талант несомненный, оригинальный, живой и даже поэтический... Вижу в Вас дарование, из ряду вон выходящее... Словом, из Вас может выйти писатель очень крупный, у Вас на то все данные. Разве вы сами возьмете да испортите себя».
Переписываясь с Тургеневым, Любовь Яковлевна с его помощью значительно улучшила повесть и дала ей новое название. «Гнилые болота, кривые деревья... Нет, это не годится, — писал Тургенев. — Лучшее заглавие, по-моему, «Варенька Ульмина» — просто и беспритязательно. Очень много капитальных вещей озаглавлено таким образом: Оливер Твист, Адам Вид, Евгений Онегин, Анна Каренина и т. п. Желаю Вашему роману участь, подобную участи поименованных произведений».
В начале августа 1878 года Тургенев прибыл из Парижа в Тулу и пригласил для беседы Любовь Яковлевну, а 1 сентября сам приехал к ней. На тульском вокзале его встретил младший брат Любови Яковлевны, 24-летний Николай Стечкин, и полтора часа на другом поезде они ехали до станции Суходол Сызрано-Вяземской железной дороги. А там всего верста на лошадях до деревни Плутнево Алексинского уезда.
Любовь Яковлевна встретила Ивана Сергеевича на суходольском вокзале. Начальник станции, большой поклонник Тургенева, специально сделал на рельсах деревянный помост и даже хотел покрыть его красным сукном... Тургенев пробыл у Стечкиных весь день, гулял по большому саду, хвалил плутневские яблоки, говорил о своей жизни во Франции и, конечно, о литературе.
... Глубокой ночью Николай Стечкин проводил Тургенева на вокзал. Уже из вагона Иван Сергеевич крикнул:
— А сестре скажите — пусть пишет! Ей сам бог велел писать!
Известно, что критик Тургенев был строгий.
«Вареньку Ульмину» напечатали в ноябрьском и декабрьском номерах «Вестника Европы» за 1879 год.
Любовь и Николай Яковлевичи еще не раз встречались с Тургеневым и до самой смерти писателя, в августе 1883 года, были с ним в дружеской переписке. Сын Н. Я. Стечкина Вячеслав Николаевич часто вспоминал, как Тургенев подарил ему деревянную лошадку...
Любовь Яковлевна заболела туберкулезом и отправилась с матерью за границу. Лечение в Швейцарии, Фракции, Италии дало ей возможность прожить в болезни еще 19 лет. Она умерла 30 декабря 1900 года, всего на четыре месяца пережив свою мать Любовь Николаевну.
... Борису Сергеевичу тогда минул девятый годок, и он запомнил «тетушек», как называл тетю Любовь Яковлевну, а заодно и бабушку Любовь Николаевну. Он побывал у них в Одессе, где они доживали свой век, вспоминал о тетушках с юмором и как анекдот рассказывал об их поездках «по Европам» — им, мол, так понравилось, как в Швейцарии стирают, что, вернувшись, они решили отправлять туда свое белье.
Николай же Яковлевич с «благословения» Тургенева стал литературным критиком, заведовал редакцией одесской газеты «Новороссийский телеграф», издавал газету «Народ», научно-популярный журнал «Воздухоплаватель», писал интересные, хотя не во всем справедливые, с точки зрения сегодняшнего дня, статьи о русской литературе, о Максиме Горьком, смело говорил об общественно-политических проблемах. Работы его противоречивы: в одних он отрицает революцию, а в брошюре «Исторический момент», изданной в 1906 году, прямо заявляет, что «решительная минута расчета со всем старым миром близка». Во всяком случае, он, как и сестра, был человеком литературно одаренным, но с куда менее прогрессивными взглядами, чем его брат, Сергей Яковлевич, отец героя книги. Братья были разными. Сергей пошел путем народовольцев, отбывал ссылки, а Николай стал тяготеть к монархии.
В августе 1898 года прошел слух, что известный ученый-аэродинамик H. Е. Жуковский собирается лететь на воздушном шаре. Двоюродный брат ученого, Н. Я. Стечкин, известил об этом читателей. Жуковский писал ему: «Многоуважаемый Николай Яковлевич! Я был очень недоволен той заметкой, которую ты поместил в «Народе» о моей решимости лететь на шаре. Не знаю, откуда ты получил сведения по этому делу; почему ты не спросил прежде меня? В начале лета я было хотел сделать полет вместе с Кованько, но так как это был бы мой первый опыт, то я бы стал преждевременно волноваться и не смог бы спокойно вести дела съезда...» Основоположник и создатель теории полета ни разу в своей жизни ни на чем не поднялся в воздух.
Другой двоюродный брат H. Е. Жуковского, отец Стечкина, был литератором из окружения Александра Ивановича Куприна, и Куприн его очень ценил. Рассказы Сергея Соломина печатались в 1909–1913 годах в основном в бульварных изданиях, таких, как «Аргус», «Женщина», «Синий журнал». Самое значительное его произведение!— сборник новелл «Разрушенные терема. Эпизоды из великой войны между мужчинами и женщинами». Вышла книга в 1913 году приложением к журналу «Женщина» — 26 рассказов в двух томах.
Пожалуй, наиболее интересно в этой книге вступление, вера в человеческое общество без угнетенных и угнетателей. И еще один момент не может не остановить наше внимание: отец ученого-авиатора предрекает большое будущее делу, которому посвятит себя его сын, — «колоссальному развитию воздухоплавания».
Человек нрава горячего и беспокойного, Сергей Яковлевич Стечкин не обходил стороной события родины. Смолоду написал нечто неугодное самодержавию, и его сослали в Архангельскую губернию. Жил он там с женой Марией Егоровной в уездном городке Холмогорах на берегу реки Курополки. Есть у Сергея Яковлевича автобиографический рассказ «Ледоход», где показан могучий разлив северной реки. Двое ссыльных спасаются, взобравшись на ель, а после говорят исправнику, считавшему их погибшими: «Разве вы не знаете, что казенный человек в огне не горит и в воде не тонет?»
Отчаянный был Сергей Яковлевич, чем-то напоминал Раскольникова и, если не убил какую-нибудь старуху процентщицу, то, говорят, только потому, что случай такой ему не представился.
После ссылки Стечкины вернулись в родные места и поселились недалеко от Плутнева, в деревушке Труфаново. Содержать семью Сергей Яковлевич не мог, часто уезжал в столицу, где перебивался репортерством, мелкими гонорарами, обедал не каждый день и, не имея собственного угла, ночевал в редакциях на газетах. Однажды оп навсегда остался в Питере, бросив жену с тремя детьми. В столице он женился на редакционной машинистке, и от этого нецерковного брака родилось тоже трое детей, но звались они Соломины. Сергей Яковлевич вновь был сослан, теперь на Урал, потихоньку спивался, прожил 51 год, и после его смерти Мария Егоровна сочла своим долгом помогать второй его семье. И детям своим тоже велела помогать Соломиным.
Борису Сергеевичу было всего три года, когда отец покинул их, но отца он запомнил. Он вообще рано начал помнить себя: как сам утверждал, с года, но говорить об отце он не любил.
Воспитывала его мать, женщина волевая, с сильным характером. Мэрия Егоровна рано познала жизненные тяготы, хлебнула горя с мужем, а еще больше, когда осталась без него с тремя малыми ребятишками. Разница в возрасте каждого составляла два года: Шура родилась в 1887 году, Яша — в ссылке, в Холмогорах, в 1889-м, Боря — в 1891-м.
О матери Стечкина надо рассказать особо.
Родилась она в Епифани Тульской губернии в семье Егора Панова, представителя фирмы по продаже скота, только тогда это, наверное, проще называлось — прасол скорее всего. Помер он рано. Осталась жена Матрена Васильевна Мазурина с двумя малыми детьми, на пропитание которых зарабатывала продажей глиняных горшочков. Из поколения в поколение у Стечкиных передается легенда о том, как по Епифани проходил святой старец и Матрена Васильевна спросила у него совета, как ей, вдовой, прокормить детей? Странник ответил немногословно: «Купишь горшочек за копеечку, продашь за две». Совет был принят, и с помощью этой мелкой и нехитрой торговой операции Матрена Васильевна сумела взрастить и выучить детей. Дочь ее, Мария Егоровна, стала фельдшером, а получить среднее медицинское образование в 80-е годы прошлого столетия бедной девушке «неблагородных кровей» было не так-то просто.
Ее направили в Суходольскую земскую больницу рядом с Плутневом, где обитали обедневшие Стечкины. После крупного карточного проигрыша Якова Николаевича напоминанием о прежней роскоши остался у них все-таки домишко. Сергей Яковлевич приезжал туда летом из Питера подышать кислородом после прокуренных редакционных коридоров да поесть знаменитых яблок. Здесь и познакомилась с ним Мария Егоровна, и в 1886 году они поженились. Достатком похвалиться не могли и некоторое время кормились даже у тетушек в Одессе, где родилась дочь Александра. После северной ссылки Сергея Яковлевича от плутневского имения не осталось и следа. (У Евгении Яковлевны Хвостовой, племянницы Бориса Сергеевича, в Москве на Войковской стоят два кресла из Плутнева. Старинные деревянные коричневые кресла...)
Пыльная летняя дорога мимо леса ведет к уютной деревушке Труфаново — несколько дворов всего. Средняя Русь, холмистая, желто-зеленая летом, черно-белая зимой, с ясным небом в погожие дни, с васильками у дороги и яблоками в садах. Заросший пруд похож на огромную миску с окрошкой. Конечно, никто здесь теперь не помнит старого времени. Когда-то над прудом стоял господский дом помещика Шацкого. Рядом жили после ссылки Сергей Яковлевич и Мария Егоровна. Там теперь непроходимый квадрат затененной дубом крапивы, которая почему-то всегда буйно растет на месте бывшего жилья. 5 августа 1891 года здесь и родился Борюшка, третий ребенок в семье...
Мария Егоровна служила фельдшерицей и всю свою жизнь посвятила этой профессии. До глубокой старости, когда она и работать-то не могла, к ней окрест ходили за помощью больные или еще за каким иным советом наведывались. И уважали ее за безотказность и непоседливую работящность. Врачевала от всех болезней: и роды принимала, и оперировала сама. Как-то стучат к ней в окно: мужика привезли, жеребец повредил ему ногу — копытом разбил колено. Посмотрела Мария Егоровна рану, промыла, перевязала. Покачала головой и твердо сказала:
— Надо в Алексин везти, ногу отнимать придется!
А мужика кум доставил на своей телеге, стоит рядом, наблюдает за фельдшерицей:
— Ой, Егоровна, да как же это ногу отнимать-то?
— Очень просто: лоскут кожи завернут, мышцы подрежут, кость перепилят, зашьют — останется такая культяпочка. Костыль к ней приделает, научится ходить. Хорошо, что вовремя привезли, а то б заражение, и все.
Через два дня снова привозят к ней этого мужика — на перевязку, кровь, говорят, пошла неожиданно. Смотрит Мария Егоровна: ноги нет, отрезана, кровь течет.
— А кто делал операцию?
Сделать ее могли только в Алексине и только два человека, но никто из них, как Марии Егоровне было известно, мужика этого не оперировал.
Люди мнутся. Помялись — признались:
— Да как ты рассказала, так мы и сделали. Четверть самогону с ним выпили — он обмяк совсем, я ему дверью ногу придавил, а пила у меня вострая. Да я и лоскут ему завернул, как ты сказывала. А потом суровыми нитками зашили... Да ты не думай, Егоровна, мы не без понятия, нитки прокипятили. Все как надо, как ты сказывала, по науке...
«Вот и говори им!» — подумала Мария Егоровна и только руками всплеснула. А мужик выжил все-таки. Через месяц ходить приспособился, и ничего. «Жгутом надо, а они дверью!
Строга была Мария Егоровна. Побаивались ее и уважали. Был мужичок один вороватый — Никита. Не удержался, стащил что-то и у Егоровны. Да сам же пришел и повинился перед ней — совесть, стало быть, заела. Еще и в саду взялся помочь задаром. А сама она к хозяйству не очень расположена была и по характеру своему, и по здоровью не ахти какому. Всюду чувствовалась запущенность, что создавало особое раздолье для ребятишек. Любили они свой небольшой садик с ульями. Пчелы были страстью Марии Егоровны, и -завела она в Труфанове особенных, кавказских. Жало у них подлиннее, чем у обычных, и мед, значит, могут добывать с глубины, с самого донышка цветка, и даже с такого недоступного для простой пчелы растения, как клевер. Давным-давно нет ни сада, ни дома, где жили Стечкины, а кавказские пчелы прижились на тульской земле и, как бы в память о стараниях Марии Егоровны, населяют ульи современных труфановцев.
Ребятишкам по сердцу пришлась эта страсть матери, хоть и боялись они пасеки. Медку хочется, а пройти к ульям непросто — не успеешь моргнуть, как ж-жжих! — и долго пухнет ужаленное место, наливаясь зудящей болью. Но Борюшке медку от мамы отламывалось чаще других. Он самый младший был и, как считали брат и сестра, самый любимый. Сам же Борюшка был твердо убежден, что мамин любимчик — Яша. Может, потому он так думал, что Яша был единственным из детей, кто остался на время учебы жить с матерью. Всех троих Мария Егоровна после окончательного ухода мужа содержать не могла, и старшую, Александру, пришлось устроить на житье и учебу к дальним родственникам по стечкинской линии, Заблоцким. Эти Заблоцкие дружили с Гликерией Николаевной Федотовой, у которой когда-то встречалась с Тургеневым Любовь Яковлевна Стечкина. Юная Шурочка была очарована великой актрисой, решила пойти по ее стопам и начинала свою сознательную жизнь на подмостках Малого театра. Но, увы, в искусстве одного желания и старания мало, а особых сценических задатков Александра Сергеевну не проявила, и, как ни больно, пришлось ей расстаться с дорогой мечтой. Вышла замуж за присяжного поверенного Александра Альбертовича Сура, дел» го не могла найти себя в работе, после Октябрьской революции пошла служить инспектором в сберегательную кассу. И много лет проработала в Министерстве финансов РСФСР...
Устроив дочь у Заблоцких, Мария Егоровна уехала с сыновьями Петербург, стала сестрой милосердия в больнице и получила комнату. Борис Сергеевич не раз вспоминал, что раннее его детство прошло на петербургских улицах, и, когда приходилось бывать в Ленинграде, обычно останавливался в «Асторин», ходил по знакомым местам. Вообще любил Ленинград.
Летом 1901 года Марии Егоровне удалось устроить Борюшку в Орловский кадетский корпус имени Бахтина. Да не просто, а на дворянский счет, как сын» дворянина, что стоило ей немалых стараний и хлопот. Эта льгота, полученная от тульского дворянского собрания, оказалась потом очень важной для Бориса.
Матери хотелось, чтобы все трое выучились, и для этого она не щадила ни себя, ни скудных семейных средств. Рано пришлось ей постареть в заботах. Маленькая, сухонькая, ходила быстро-быстро, трусцой, как обычно пожилые бабушки; может, потому еще она и казалась старше своих лет. Очень подвижная, всем интересовалась, все бегала, шустрила. Не было такого, чтоб она лежала, охала. Болезней-то у нее хватало, да она в них не замыкалась. И силенок еще смолоду немного было, но внутренний заряд до старости сохранился, и немалый. Детей вырастила, и каких — сильных, умных, уважаемых людьми. Посмотрит на них уже взрослых — у самих дети давно, — а видит, как и всякая мать, их малыми и несмышлеными. И не раз вспоминала, как возила Берюшку в Орел, в военное заведение. Такой маленький, а уже дисциплина, муштра, форма, погончики с большими буквами ОБ — Орловский, Бахтина...
О подобных учебных заведениях начала XX века рассказано в повести А. И. Куприна «На переломе». Старшие закабаляли младших, преподаватели нередко пили, издевались над воспитанниками, пороли их. Корпус многих калечил душевно, но воспитывал силу и ловкость. Здесь были «отчаянные» и «закалы», «тихони» и «слабенькие», «подлизы» и «фискалы»... Орловский корпус мало чем отличался от Московского, где учился Куприн, — в провинции не слабей секли розгами, да и карцер не был уютней. Так же процветала зубрежка, так же по ночам воспитанники устраивали «темную» провинившемуся сверстнику, накрывая его шинелью и избивая чем и куда попало. Старшие любили делать младшим «велосипед»: смоченную керосином суровую нитку пропускали меж пальцев ног спящего и поджигали.
Борюшке немало помогло то, что рос он среди драчливой детворы деревни и петербургских трущоб, где смелость и выносливость были не в меньшем почете, чем у кадетов. Стечкина в детстве свирепо дразнили, и за него всегда вступался старший брат Яков, но потом и Боря стал давать сдачи. Сперва в Труфанове, а потом в столице он прошел мальчишечью школу улицы. Да и по природе силой отличался, отменным драчуном стал, так что в кадетском корпусе ему куда легче жилось, чем многим ровесникам. Здесь он занялся боксом и, приезжая на каникулы на Тульщину, от избытка сил мог отважиться на такую выходку: с товарищем врезались с разбегу в крестный ход и всех расталкивали. Верующие, оскорбленные неслыханным богохульством, разумеется, их избивали, но задача друзей заключалась в том, чтобы как можно дальше пробиться в толпу — это на спор делалось. У Стечкина выдавался вперед подбородок, волевой, мужественный. Обидчик призадумается, прежде чем полезть к нему, ибо сам вполне может «заработать на орехи». Хоть в этом смысле Стечкин и оказался в несколько привилегированном положении, приятных воспоминаний о жизни в кадетах он сохранил немного. Да и говорить об этом не любил. Осталась на память татуировка, которую ему выкололи одноклассники на уроке закона божьего под лампадный голосок преподавателя. Борис поспорил, что не издаст ни единого звука во время всей иглоколотельной процедуры и ничем не привлечет внимания старого попа. Спор он выиграл, и всю жизнь на левой руке академика Стечкина синело выколотое сердце в виде медали с ленточкой и литерой Б внутри, а на правой руке, у запястья, рисунок мальчики сообразили менее оригинальный, но более мрачный и грозный: череп и кости...
В кадетском корпусе Стечкин пытался писать стихи. Сохранилось его стихотворение того периода, которое он приводит в письме от 8 февраля 1962 года к своему внуку Борису:
«Дорогой Борюшка! Поздравляю тебя с днем рождения. Как раз в твои годы (внуку исполнилось 12 лет. —
На бале были: лицеист,
Чтоб вальс плясать без перерыва,
Я просто так,
И два студента — выпить пива.
Сперва судьба ко мне благоволила,
Я с нею вальс два раза танцевал,
Студенты выпили по кружке пива,
А лицеист еще не приезжал.
Потом случилось превращенье,
С ней лицеист все время танцевал,
По-прежнему студенты пили пиво,
А я — я спасовал.
Что такое лицеист, спроси у папы. Передай мой привет маме, поцелуй ее. Всего доброго. Твой дед Б. Стечкин.
Из этого письма мы узнаем, что он рано, с двенадцати лет, начал самостоятельную жизнь, сам зарабатывал себе на хлеб, понимая, каково приходится матери. Репетиторством он продолжал заниматься и когда стал студентом. Узнаем мы и еще любопытную деталь: «купил охотничье ружье». Страсть к охоте Стечкин сохранил до последних дней своих...
Вкуса к военной службе кадетство ему не привило, перспектива юнкерского училища не привлекала, зато увлекся физикой, математикой и по этим предметам учился на все двенадцать баллов. Здесь он чувствовал себя куда уверенней, чем в русском языке. И вот наконец получена семь лет жданная и необходимая бумажка — «от Орловского — Бахтина кадетского корпуса дан сей аттестат кадету 6 класса Борису Сергеевичу Стечкину, сыну коллежского регистратора, в том, что названный кадет при удовлетворительной нравственности успешно окончил полный курс кадетского корпуса и на основании результатов окончательных испытаний получил нижеследующую оценку познаний...». Дальше пиит баллы, удостоверяющие, что среднее образование он все-таки получил — со средним баллом 10,79. А то, что он учился в корпусе на дворянский счет, дало ему право довольно легко выйти в отставку и подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение;
Летом 1908 года семнадцатилетний Стечкин приезжает в Москву и не без робости идет в Мыльников переулок. Еще бы! Сейчас он будет разговаривать с самим Жуковским, знаменитым профессором,, и, хоть знает, что Николай Егорович ему родственник, все равно волнуется: как-то примет ученый незнакомого племянника?
Мать Жуковского, Анна Николаевна, урожденная Стечкина, была родной сестрой Якова Николаевича, деда Стечкина. Говорят, Борис Сергеевич — вылитая Анна Николаевна, особенно нижняя часть лица... Аннета Стечкина вышла замуж за молодого инженера вопреки воле брата, не желавшего видеть сестру женой какого-то мелкопоместного дворянина. Родился сын. Первенца назвали Николаем, он и станет великим ученым, гордостью нашего Отечества.
Вот к нему на квартиру и пришел его юный родственник. Николай Егорович тепло встретил: племянника,, со вниманием отнесся к нему и, заметив в юноше удивительные способности к точным наукам, посоветовал поступать в, свободное по общим тогдашним понятиям, техническое училище, где сам читал лекции. Он подготовил Стечкина к приемным экзаменам, тот их успешно выдержал и был принят на первый курс механического отделения. Началась нелегкая и, конечно, такая интересная, какой может быть только студенческая, жизнь.
Стечкин слушает лекции Жуковского и вступает в его авиационный кружок. Авиация определила, жизнь Бориса Сергеевича, с нее началась его научная работа.
Авиация! Самых смелых, самых светлых людей звала она к себе. Она окрылила зарю XX века, и лучшие умы стали думать, как дать энергию крыльям, чтобы высоко поднять их. «Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу собственного разума», — пишет Жуковский.
Человек смотрит в небо, ему пора летать. Но как поднять в воздушные струи крылья, кабину, хвостовое оперение — «се то, что названо словом «самолет»? Александр Федорович Можайский опередил время: двигатель на его самолете был паровой, тяжелый — высоко не поднимешься, далеко не улетишь.
Развитие автомобилизма дало новую силовую установку, и в 1903 году на самолете с бензиновым мотором взлетели в небо американцы братья Райт. Машина эта бережно хранится в Вашингтонском музее авиации и астронавтики.
Итак, появился новый мотор. Газы, возникающие при сгорании топлива в цилиндре двигателя, толкают поршень, он .проводит в движение вал с насаженным винтом, а винт, отбрасывая назад воздух, тянет за собой в небо тяжелый аппарат с человеком, управляющим им.
Успехи вызвали новую трудность. При взаимодействии аппарата и воздуха возникали неведомые силы, природу которых надо было знать, чтобы подниматься в небо без опаски. Наука летания писалась кровью смельчаков.
«Русские крылья будут могучи и сильны, как сама нация», — говорил Жуковский. В 1904 году он организует первый в мире аэродинамический институт под Москвой, в Кучине. Позже появляются лаборатории Эйфеля в Париже и Прандтля в Геттингене. Жуковский создает вихревую теорию крыла, открывает людям тайну подъемной силы, ставит на научную основу теорию винта, и это станет началом нового раздела аэродинамики. Жуковский и Чаплыгин показывают, какими должны быть крылья самолета, Чанлыгин пишет работу «О газовых струях»... У людей появилась возможность не на глаз, не наобум строить самолеты, а точно рассчитывать их.
Конечно, и до появления теории подъемной силы крыла талантливые инженеры находили нужные формы своих летающих конструкций. Не одну сотню часов потратили Райты на продувку моделей в самодельной аэродинамической трубе, прежде чем подняли в воздух свой аэроплан. Однако именно теория Жуковского позволит позже разработать толстое консольное крыло с внутренними, а не внешними расчалками — крыло, и поныне применяемое в металлическом самолетостроении.
В трудные годы взлетала Россия в небо. Потерпела поражение революция 1905 года. Проиграна война с Японией. К общим добавились и частные неприятности. Неудачно сложились отношения Жуковского с миллионером Рябушинским, на средства которого был построен Кучинский институт.
— Рябушинский — человек неглупый, — говорил о нем Стечкин, — больше меценат, чем радетель науки. Ему хотелось чем-то себя обессмертить, не давали покоя лавры Эйфеля — башня в Париже, потому он одно время и помогал Николаю Егоровичу.
Жуковский уходит из Кучина и разрабатывает проект нового научно-исследовательского института с большим кругом задач. Однако правительство признало создание такого центра «пока нецелесообразным, тем более что ныне не представляется даже возможности судить, будет ли контингент слушателей подобных учреждений настолько велик, чтобы оправдать их самостоятельное существование». Время показало, что за контингентом слушателей у Жуковского дело не стало, и какие это были слушатели! То, что не представлялось возможным чиновничьей рутине, стали на деле осуществлять студенты Императорского московского технического училища Стечкин, Ветчинкин, Юрьев, Ушаков, Сабинин, Архангельский, Туполев, Мусинянц — энтузиасты авиационного кружка Жуковского, будущие теоретики и конструкторы. Жуковский заразил авиацией техническое училище. Заболел ею на всю жизнь и студент Стечкин. Он стал старостой авиационного кружка. Андрей Николаевич Туполев вспоминал: «В кружке Жуковского каждый из нас имел свое прозвище. Так вот про Стечкина Николай Егорович сказал: «Это наша голова!»
Родственник Жуковского, Борис Сергеевич стал его любимым учеником. Может, это явление и случайно, но алмаз гранят алмазом.
Стечкин помогает профессору создавать расчетно-испытательное бюро в ИМТУ, курсы авиации, а затем и авиационный отдел. Если профессор болен, студент вместо него готовит и читает лекцию. В студенческой тетради по гидромеханике у Стечкина записано: «Этим и кончились лекции H. Е. Должно еще три лекции по отделу сопротивления. Они будут готовы ко вторнику». Отец русской авиации увидел в юном Стечкине ученого и именно ему еще до окончания ИМТУ поручил читать курс авиадвигателей будущим инженерам. Позднее, в 1920 году, Жуковский настолько оценит выдающиеся знания Стечкина, что из всех талантливых учеников ему доверит читать свой, Жуковского, курс гидродинамики в Техническом училище и в Институте инженеров воздушного флота. И Борис Сергеевич семь лет с гордостью читал эти лекции.
Дни и ночи он работает над книгами, изобретениями и не ставит себе цель получить инженерный диплом. В процессе учебы и работы в качестве инструктора по моторному делу он становится инженером. Однако приходится писать прошения на имя директора ИМТУ профессора А. П. Гавриленко о продлении срока пребывания в училище.
Надо биться за помещение для кружка, средства. Ни того, ни другого долго достать не удавалось. Жуковский хочет, чтобы Россия научилась летать. Он доказывает, что из его кружка при достаточной поддержке можно сделать «выдающееся учреждение, дающее возможность проводить научные исследования различных вопросов воздухоплавания и достойное той энергии, которую проявили студенты училища в аэродинамической лаборатории... У нас в России есть теоретические силы, есть молодые люди, готовые беззаветно предаться спортивным и научным изучениям способов летания».
Эти молодые люди часто собирались на берегу Яузы в старинном, петровских времен, Лефортовском парке. Когда проходишь сейчас по Дворцовой набережной, контуры дерев, да, именно дерев, а не деревьев, напоминают старинные гравюры, где каждый листик перевернут оборотной стороной и приглажен ветром. Отсюда зимой, с крутого берега Яузы, кружковцы начинали летать. Сначала на планере Лилиенталя — знаменитый немец подарил один из своих летательных аппаратов Жуковскому. Потом сами смастерили большой планер — биплан, и Андрей Туполев, крепко ухватившись за ручки под крыльями и разбежавшись, взмыл в московское небо. Да, несколько метров над землей уже были небом, тем самым, которое — дайте срок — примет в свои объятия реактивные Ту...
Рядом с Лефортовским парком стоит здание, где долго работали вместе Стечкин, Туполев, Архангельский... А шестьдесят с лишним лет назад они, ухватив снизу планер и неся на себе, разбегались против ветра и на несколько секунд отрывались от земли. Всего несколько секунд, но какое счастье, какое ни с чем не сравнимое ощущение самостоятельного полета! Ты в воздухе, ты в небе, ты управляешь машиной и своим телом, ты летишь!
Озорной Стечкин, сухощавый, по-джентльменски подтянутый Архангельский, черноволосый, усатый Туполев, углубленный в думы о своем геликоптере Юрьев...
Одержимые идеями Жуковского, Ветчинкин и Стечкин ведут все теоретические расчеты в кружке, и сейчас они заняты новым, необычным делом. Военный летчик поручик Петр Николаевич Нестеров задумал выполнить «мертвую петлю» и обратился за консультацией к Жуковскому. Профессор поручил двум своим кружковцам сделать расчет петли. Большие друзья, Стечкин и Ветчинкин решили сами научиться летать на самолете, чтобы знать о нем все, и, к величайшей радости учеников, Николаю Егоровичу удалось раздобыть старенький «фарман».
Летать! Надо уметь летать — пусть даже ремесло летчика и не станет твоей пожизненной профессией, но ты, мужчина, обязан хоть раз в жизни почувствовать себя крылатым. Сама причастность к авиации придает человеку силы — кажется, ты все можешь. Аэродромное поле, зимний воздух, белый и хрусткий, а летом настоянный на травах и цветах, солнце, от которого коричневеет и приятно стягивается кожа на лбу и щеках... А небо, какое небо над летным полем! Растянешься на волнистой траве, и хочется долго глядеть на облака и синеву. Но здесь отдыхать некогда. Небо — тяжелая, сдержанно нервная работа.
У Стечкина с детства неважное зрение, и, когда в кадетском корпусе он щеголял в пенсне, это считалось особенным шиком. Иные стопроцентно зрячие воспитанники носили пенсне с простыми стеклами. Но сейчас Борису не до форсу. Чтобы летать в небе, надо видеть землю. Роковым барьером для многих, жаждущих неба, в наши дни стала медицина. Строгая врачебная комиссия, наверное, появилась в авиации после первой катастрофы из-за неважного самочувствия летчика в воздухе. Может, он не увидел земли... Эта беда не позволит мечтателю стать пилотом. Курсант не может, не способен вовремя определить момент выравнивания, а затем выдерживания и посадки самолета. Даже с очень-то хорошим зрением не получается, а тут пенсне и поверх него огромные автомобильные очки-«консервы».
Стечкин стал летать. Пусть не столь искусно, как Уточкин и Заикин, Нестеров и Крутень, которые дразнили всю страну своими полетами, но летать научился, попробовал небо и, вылетав программу на «Фармане-4», перешел на «вуазен». Сохранился приказ по школе авиации Московского общества воздухоплавания № 267 от 22 сентября 4917 года:
«... Параграф 15. Объявляю полеты обучающихся в школе за 12, 13, 44, 15, 16, 18, 20, 21 сентября сего года. Инструктор прапорщик Веллинг. Самолет «вуазен». Студент Борис Стечкин с инструктором — 24 минуты».
В кожаной куртке, в завязанной ушанке осторожно влезает он на плоскость «вуазена». Самолет хрупкий, как коробчатый змей, кажется, ступишь на крыло, и весь развалится. Стечкин садится в переднюю кабину, сзади — Веллинг. Тот самый, которому позже, в 1918 году, доверят пилотировать единственный самолет на первомайском параде нового государства...
Пока не ревет мотор, инструктор дает последние указания. Один из учлетов резкими движениями толкает пропеллер, два других встали у плоскостей, придерживая машину. Фыркает, взревает мотор, пропеллер превращается в скошенный, сужающийся крест, потом в белый матовый диск, самолет тянется вперед, быстрей, еще быстрей... По бокам, держа плоскости, бегут сопровождающие, машина набирает скорость, люди уже не в силах состязаться с ней в беге, отпускают крылья, и «вуазен» вырывается из земной человеческой опеки. Он слегка, самую малость, отрывается от вмятой в землю порыжелой травы, потом снова как бы невзначай касается ее и плавно, как нож в масло, уходит вперед и вверх. Кажется, все Ходынское поле невидимыми струями привязано сзади к нему, и он натягивает его, как простыню, и ведет за собой до тех пор, пока связи не оборвутся и земля не вернется на свое место, зеленая, с коробками строений и кустиками деревьев. А самолет уже летит отдельно от нее, и ветер, бивший на взлете в лицо, теперь подгоняет в спину, и никакого страха уже, а сперва он был, и почему-то при отрыве от земли наплывал от пяток волнами по всему телу, к горлу, к глазам... Никакого страха теперь, только красота земли и неба и ощущение себя, меняющего картины этой красоты. Сверху — нежно-голубая бездонность, переходящая на горизонте в белую, в кучевые облака. Однако не до любований — машина в управлении строга, надо как можно больше взять от каждого полета, чтоб не дрогнуть, когда требовательный, блестящий летчик Веллинг скажет тебе: «Слетаешь сам?»
Как запросто говорит инструктор эти слова! А сколько значат они для него, и особенно для курсанта, которому он впервые по-настоящему доверяет!
Стечкин закончил школу авиации и получил пилотское свидетельство. Полвека спустя, проезжая мимо Центрального московского аэровокзала, Борис Сергеевич каждый раз посмотрит в боковое окно машины...
Это был один из тех, тогда еще немногих аэродромов, где училась летать наша Родина. Здесь в 1918 году на параде перед Лениным прошли первые части Красной Армии, ставшие потом авиацией и артиллерией. Здесь поднимались в воздух Шестаков и Громов, Чкалов и Водопьянов... Здесь по праву должен бы стоять монумент Вечной славы советскому летчику.
Глянет в окно машины Борис Сергеевич и с гордостью скажет кому-нибудь из попутчиков: «А ведь здесь я научился летать!»
Еще до летного свидетельства Стечкин получил водительские права. В 1912 году московский градоначальник издал «Обязательные постановления о порядке движения по городу Москве автоматических экипажей». Разрешение на управление автомобилями и мотоциклами выдавалось лицам не моложе 21 года, грамотным, умеющим объясняться по-русски. Стечкин сохранил страсть к автомобилю на всю жизнь. У него были самые старые в стране водительские права.
Каждая эпоха украшена своей романтикой. В средние века — лошади, рыцарство, в начале нашего века — автомобили.
Стала популярной петербургская песенка:
На острова летит стрелою
Мотор вечернею порою.
Шофер с поникшей головою
Руль держит твердою рукою.
Вскоре шоферское дело стало обычным, уступив место романтике авиации.
В наши дни уже и самолетом никого не удивишь. То, что совсем недавно казалось героическим, как прыжок с парашютом, стало достоянием тысяч людей. Космос! Там пока еще были немногие...
... Иногда кружковцы прилетали на «фармане» к Жуковскому в деревню Орехово, за станцию Ундол Московской железной дороги. Как-то Ветчинкин сел на скошенное клеверное поле. Самолет, да еще в деревне, был величайшей редкостью. Один дед даже на колени упал:
— Все. Начинается светопреставление. Диавол во человеческом лике летит по небесам, аки птица!
А сельские мальчишки, обгоняя друг друга, мчались на клеверное поле. И первым оказался у самолета Саша Микулин, киевский студент, приехавший на каникулы к своему дяде. Мать Саши — Вера Егоровна — родная сестра Жуковского. Николай Егорович очень любил свою сестру и был закадычным другом ее мужа, инженера Микулина, которого, как и Сашу, звали Александром Александровичем. Он защищал диплом в ИМТУ позже Жуковского, закончившего Московский университет, и советовался с другом, какую тему взять для дипломного проекта. Выбрали «Приборы охраны труда рабочих». Представитель старого дворянского рода, отец Саши стал одним из первых в России фабричных инспекторов по охране труда. В работе «К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике», написанной в августе 1898 года, В. И. Ленин неоднократно упоминает «старшего фабричного инспектора Херсонской губернии г. Микулина», опираясь на его книгу о цифровых данных промышленных предприятий губернии. Инженер работал на Прохоровской мануфактуре во Владимире, потом в Одессе и Киеве, куда приезжал читать лекции о воздухоплавании Жуковский. И каждый раз Николай Егорович непременно бывал в доме сестры и друга юности. Особое удовольствие эти посещения доставляли их сыну, ибо Саша увлекся авиацией и каждое лето стал приезжать к дяде. У Жуковского он и познакомился с Ветчинкиным.
И сейчас, подбежав к Ветчинкину и зная, что тот любит его, Саша сразу же стал упрашивать:
— Владимир Петрович, я вас умоляю, возьмите меня полетать, вы же знаете, что я занимаюсь авиацией!
Микулин строил модели самолетов и на конкурсе в Киеве разделил первое место со своим другом Игорем Сикорским, будущим известным конструктором самолетов и вертолетов.
Пока ореховские ребятишки бежали к аэроплану — деревня немалая, больше чем на полкилометра тянулась, — Саша успел усесться позади Ветчинкина, и аппарат пронесся над домами, к ужасу микулинской родни, особенно Веры Егоровны, которую долго пришлось успокаивать Жуковскому.
Летом 1912 года семнадцатилетний Микулин после окончания Киевского реального Екатерининского училища приехал к дяде в Орехово, чтобы как следует подготовиться к конкурсным экзаменам в Киевский политехнический институт. Как обычно, в деревню отправились всей семьей — Жуковский рад был видеть у себя Микулиных. Утром приехали, а к вечеру Николай Егорович позвал Сашу к себе в кабинет:
— Шура, у меня есть для тебя очень важные новости.
— Дядечка, какие?
— Нам удалось пригласить к тебе одного нашего родственника, Стечкина Бориса, он твой троюродный брат, студент третьего курса Московского технического училища, очень хорошо знает математику и механику. Он тебя и подготовит к поступлению в институт.
Саша обрадовался: вдвоем готовиться куда приятнее.
— Когда же он приедет?
— Должен на днях.
И действительно, через несколько дней на тенистой аллее у дома зазвенел колокольчик, домочадцы высыпали на балкон, показалась пара лошадей с бубенцами на дуге. В бричке сидел престранный человек — лохматая, непричесанная, в вихрах, черноволосая голова, нос уточкой, с огромными железными очками на нем. На человеке была красная косоворотка, в каких ходили революционно настроенные студенты. Вера Егоровна шепотом спросила у мужа:
— Неужели это и есть учитель Шуры?
— Подожди, подожди, разберемся...
Молодой человек тем временем вылез из брички, хмуро и деловито поздоровался со всеми. Он оказался длинным и худощавым, причем еще длинней его делали короткие, не достающие до щиколоток, видавшие виды брюки.
— Шура, вот твой брат, — сказал Жуковский, — он будет тебя готовить к экзаменам.
«Я посмотрел на него с ужасом, с опаской, не представляет ли он собой цербера, — говорит известный конструктор советских авиационных двигателей Герой Социалистического Труда академик Александр Александрович Микулин. — Он похлопал меня по плечу: «Ну, ничего, займемся», — и пошел в отведенную ему комнату. Когда сели обедать, ел он с большим аппетитом и тут же начал с Жуковским какой-то спор по механике, в котором никто, кроме них, ничего не понимал. Бабушка Анна Николаевна старалась увести разговор на общую тему, однако это не получалось.
На другой день начались занятия, и оказалось, что учитель «цербером» не был, а был очень мягким человеком. Он удивительно просто и интересно умел преподавать математику — сухие премудрости, не очень-то любимые начинающими студентами. Стечкин сразу переходил на примеры, он был из «школы Жуковского» и считал, что принципам математики и механики надо давать геометрическое толкование. Позже появилось другое направление, где за основу брался аналитический метод мышления. При этом методе все выводы завершаются сложнейшими уравнениями, порой на две-три строки. Не всякий средний инженер может пройти сквозь эти дифференциальные лабиринты, и потому многие гениальные труды аналитиков слабо используются на практике. Большинство же работ Жуковского можно применить в инженерном деле для постройки машины. Николай Егорович говорил: «Я делаю маленькие допущения, ничтожно, на полпроцента изменяющие результат формулы, но после них она становится настолько удобной и применимой к жизни, что каждый инженер может ею воспользоваться». За это Жуковского называли инженером-математиком.
«Мы со Стечкиным замечательно занимались, — продолжает А. А. Микулин. — Если я делал ошибки, он поправлял меня, пользуясь каждой погрешностью, чтобы вскрыть неправильный ход моего мышления, приведший к ней. С момента нашего знакомства и на всю жизнь он стал моим главным учителем, соратником, другом».
В Киеве был конкурс — 600 заявлений на 100 мест. Чтобы поступит ь, нужно получить одни пятерки. Микулин даже по литературе за сочинение «Время» получил «отлично» и был принят.
Весной 1914 года, когда Микулин заканчивал второй курс института, в Киев приехал Жуковский и попросил родителей Саши отпустить к нему их сына. Одной из причин тому была смерть матери Николая Егоровича. Тоскливо стало ему.
— Шура будет помогать мне готовить лекции, делать диапозитивы, демонстрировать приборы, — сказал Жуковский.
После слез и стенаний Веры Егоровны сына отпустили, он был переведен в Московское техническое училище, где ему зачли все сданные в Киеве экзамены. Так Микулин стал учиться в одном заведении со Стечкиным. В первый же день в Москве он встретил Бориса, и они поднялись по лестнице в одно из крыльев большого здания технического училища.
— Куда ты меня ведешь? — спросил Микулин.
— Мы идем в самое интересное место в нашем училище.
И они вошли в большую комнату, где несколько парней в студенческих куртках что-то рубили, пилили, строгали... Здесь создавалась аэродинамическая лаборатория профессора Жуковского. И строили ее студенты, члены воздухоплавательного кружка, старостой которого был Стечкин.
Борис — частый и желанный гость в Мыльниковом переулке, а летом — в Орехове.
Не раз он приезжал к Жуковскому со своими товарищами по училищу. Отправлялись с Курского вокзала, проезжали на поезде Орехово-Зуево, Покров, Петушки... Выходили на станции Ундол — это был значительный промышленный центр, с известной Собинской мануфактурой. На станции садились в присланный Жуковским тарантас, запряженный тройкой, и ехали в Орехово. Деревня состояла дворов из тридцати, расположенных в виде ломанной под прямым углом линии. В центре — дом, принадлежащий матери Жуковского Анне Николаевне. Имение было небольшим — десятин пять земли, но с прекрасным парком и прудом — то, что досталось Анне Николаевне по наследству. Каждое лето, как только кончались экзамены у студентов, Жуковский с престарелой матерью (Анна Николаевна прожила 93 года), детьми Леной и Сережей приезжали в Орехово. Матери детей давно нет в живых — Надежду Сергеевну Антипину убил туберкулез. Анна Николаевна, женщина крутого стечкинского склада, так и не позволила сыну жениться. И Надежда Сергеевна, жена Жуковского, формально таковой не считалась до самой своей смерти. Несчастливой оказалась судьба и детей Николая Егоровича: их в молодости тоже унесли болезни. Леночка, ставшая женой одного из учеников Жуковского, Б. Н. Юрьева, сошла в могилу в 1920 году, опередив отца.
А пока они совсем молодые люди, моложе всех приезжавших в Орехово к Николаю Егоровичу, который объединял не только три ветви: Жуковских, Стечкиных и Микулиных, — но и всю дружную семью своих учеников по аэродинамической лаборатории. По-юному радостно шли дни в Орехове. Молодежь устраивала спектакли — играли в основном А. Н. Островского. Но одна Леночка не могла справиться со всеми женскими ролями, и тогда, к величайшему удовольствию зрителей, на сцене в дамском одеянии появлялся Стечкин.
Устраивали пикники, ходили по грибы — Стечкин очень любил их собирать, хотя грибник из него, прямо скажем, незавидный был. И зрение подводило, да и не о грибах он, пожалуй, думал, когда ходил по лесу — умно, сосредоточенно, по системе «зигзаг». Собирали орехи, их много росло — оттого и Орехово.
А Жуковский был страстным охотником, любил подолгу бродить с ружьем, и, несмотря на свой возраст — за 60 все-таки, огромный рост и тучность — сто двадцать килограммов весил, он умудрялся «захаживать» своих учеников так, что те плелись, изнемогая от усталости. А Николай Егорович идет как ни в чем не бывало, несет ружьишко, ягдташи. Рядом бежит любимая Изорка. У Жуковского всегда были удивительные собаки, и каждая отличалась каким-нибудь чудачеством. Изорка не могла хладнокровно видеть жабу. Как только в лесу попадалось ей это земноводное, она накрывала жертву лапой, моментально проглатывала и засыпала так, что никаким арапником не разбудишь. Тогда устраивали привал. Стечкин и Микулин усвоили эту собачью слабость и, устав тянуться за Жуковским, находили жабу и палкой подсовывали Изорке. Операцию с жабой чаще приходилось проделывать Микулину, который был младшим в лесной компании и быстрее других уставал. Изорка поглощала жабу и засыпала, а Николай Егорович садился отдыхать. Стечкин, в широкой куртке, в огромных старых сапогах Жуковского, опускал на траву тульскую двустволку, доставал из сумки хлеб — черный, мягкий, пахнущий сухой степью и печкой, свежие в твердых пупырышках огурцы и жбан с квасом. Жуковский не любил спиртного, и все его ученики в то время были совершенно непьющими, потому-то в Орехове процветал квас, но такой восхитительно крепко настоянный да еще на воздухе пьющийся — голова кругом шла от этого ядреного напитка!
Вот тут-то, на лесной поляне, начинался настоящий университет для Стечкина. Жуковский говорит о механике, о вселенной, мироздании... О налетах. Николай Егорович берет семена клена, ловко подбрасывает вверх — они, кружась, медленно приземляются... Нередко разгораются математические споры между Жуковским и Стечкиным. Микулина заставляют счищать траву, и прямо на земле возникают интегралы. Разница в четыре года между ним и Стечкиным казалась Саше чудовищна непреодолимой, он многого не понимал в спорах, но часами мог наблюдать, как дядя и старший брат остро обрезанными веточками чертят на земле свои формулы, сопровождая их недоступными пока математическими словами.
Просыпалась Изорка и, почуяв добычу, — р-раз в кусты, только уши торчат. Собака с отменным чутьем, но больно непослушна: даже по следу идет, а заметит зайца — сразу в сторону! И сейчас Жуковский, оставив спор, звонко кричит: «Изор! Изора!» Он разговаривал и лекции читал фальцетом. Собака возвращается. Николай Егорович поворачивается к Стечкину: «Так на чем мы остановились?» — и спор продолжается. Начинает смеркаться...
По вечерам ходили за деревню глядеть на хороводы. Стечкин любил народные песни. Слушать умел по-своему — деловито и скромно. Долго плывут песни над белым речным туманом:
Харашо было свыкатда,
тяшка раставатца.
Што свыканья была тайна,
расставанья была явна...
Завтра с утра в Москву. Каждую неделю Микулин, которого Жуковский поселил у себя догма, на диване, приходит к Смоленскому рынку, где Стечкин снимал комнату, и часа три-четыре у них идут интересные беседы по аэродинамике.
Позанимаются, и Борис говорит:
— Ну, Микулин, теперь отдыхать!
Отдых выглядел так. Стечкин скручивал из ватманской бумаги трубку толщиной в мизинец, обвязывал ее нитками, потом из ватмана же делал длинный фунтик — конический снаряд, в острие которого изнутри вставлялось стальное перо, и фунтик вкладывался в трубку. Теперь нужно было взять ее в рот и дуть изо всех сил.
Фунтик расправлялся, опираясь о стенки трубки, и вылетал с неимоверной скоростью из этого длинного орудия — размеры ватманского листа, как известно, 1000 на 800 миллиметров. Так из открытой форточки каждый раз минут пятнадцать велась стрельба по воронам — своеобразный перерыв между занятиями. Прекратила эти увлечения страшная неприятность. У стечкинской хозяйки была толстая рыжая кошка. И конечно, Борис Сергеевич попал ей в глаз. На дикий крик любимицы вылетела хозяйка — высокая, худая, неуклюжая, с длинными тонкими ногами женщина, с папильотками на рыжей голове:
— Вон, вон из моей квартиры!
Пришлось съехать. Стечкин поселился на Вознесенке, в одной из комнат большого кирпичного дома, в котором помещалась аэродинамическая лаборатория. Борис давно человек самостоятельный, давно приучил себя жить независимо — помощи ждать неоткуда. Приехал он в Москву из деревни Верхний Суходол, где жила в ту пору его мать, и не раз вспоминал деревенскую жизнь. В Москве, как в Суходоле, не поешь. Возьмешь бутербродик с колбасой, маленький такой, и ломтик колбасный просвечивается, а рот-то после деревни привык открываться на большой кусок, полностью, по-провинциальному, по-тульски... Существовал Стечкин в основном уроками, в летние каникулы готовил к конкурсным экзаменам окончивших среднюю школу. Чем только не приходилось ему заниматься в студенческие годы! Развозил газеты на велосипеде, обучал купеческих сынков боксу и приемам французской борьбы. Но заработки непостоянные, а жить на что-то надо. Поэтому и пришлось несколько раз делать большие перерывы в учебе. В 1912–1913 годах работал помощником чесального мастера на прядильной фабрике братьев Дербеневых на станции Новки Владимирской губернии, потом был слесарем, фотографом, калькулятором на Тульском оружейном заводе... А вскоре война.
В 1914 году Стечкин еще не задумывается над характером этой войны, над тем, кому она нужна. Как многие русские интеллигенты, он стремится внести и свою долю в грядущую победу над Германией, не мысля себе иным окончание войны. Он работает на оборону в лаборатории H. Н. Лебеденко. Здесь началась творческая деятельность Бориса Сергеевича. В небольшой комнате лаборатории ему сразу же дали стол, стул, бумагу и попросили написать теорию и полный расчет бомбосбрасывающего аппарата для самолета «Илья Муромец».
Руководитель этой любопытной лаборатории Николай Николаевич Лебеденко не был капитаном, как о нем напишут, а был самым штатским инженером, талантливо оборотистым и ловким. Он и организовал небольшое предприятие, которое именовало себя «Лабораторией по военным изобретениям инженера Н. Лебеденко». В своей лаборатории Николай Николаевич делал «москвит» — взрывчатое вещество. Он показал сие вещество военным чинам, что-то с его помощью разорвал на полигоне, получил деньги на производство этого «москвита», но, видно, не очень веря в его перспективность, сразу же стал заниматься бомбосбрасывающим аппаратом и обратился к Жуковскому, чтобы тот порекомендовал ему математика для расчетов. Николай Егорович ответил: «Только Стечкин сможет». И декабрьским утром 1914 года Лебеденко позвонил Стечкину:
— Борис Сергеевич, я вас срочно прошу приехать ко мне по неотложному делу.
Стечкин отправился на Садовое кольцо к дому князя Щербатова, где помещалась лаборатория. Дверь открыла очаровательная горничная в накрахмаленном кокошнике, за ней тут же появился сам хозяин и пригласил Стечкина в свой кабинет. Тщательно, на два оборота ключа, Лебеденко запер дверь и задвинул перед ней бархатную темно-вишневого цвета тяжелую портьеру. Сел за стол и на листе бумаги написал: «Обязуюсь ни в коем случае никому и никогда не доверять секрета, который я услышу от Лебеденко Николая Николаевича».
— Ставьте подпись!
Ничего еще толком не понимая, Стечкин расписался, и Лебеденко кратко рассказал ему о своей лаборатории:
— Военное ведомство поручило мне сделать бомбосбрасывающий аппарат. Вас рекомендовал Николай Егорович...
Это была первая реальная работа Стечкина для авиации. Прежде он только читал, делал теоретические выкладки у Жуковского и снова читал — в основном Ньютона и Аппеля. Закончив расчеты, Стечкин сказал Лебеденко:
— Теперь мне нужен конструктор.
— Где возьмем?
— У Жуковского. Микулин.
Лебеденко не возражал.
Так после главного теоретика, каким утвердили Стечкина, лаборатория обзавелась и главным конструктором. Вскоре при помощи Микулина Стечкин целиком и полностью сконструировал оригинальный бомбометатель своей системы.
«При боевом действии аэропланов, — писал H. Е. Жуковский, — с них сбрасываются бомбы или стрелы. Бомбы бывают взрывчатые или зажигательные, а стрелы производят поражение только приобретенною при падении с аэроплана скоростью наподобие ружейных пуль. Для сбрасывания бомб употребляют особые уключины или кассеты, а также и прицельные приспособления для верного попадания. Стрелы ввиду их большого количества бросают без особых приспособлений». В этой же работе «Бомбометание с аэропланов» Николай Егорович рассказывает о прицелах Толмачева, Стечкина и Лебеденко. Стечкинский прибор состоял из угольника и секундомера и в обиходе назывался «раз-два». Существует документ от 11 декабря 1915 года — заключение Военно-промышленного комитета России по этому бомбометателю:
«Прибор Б. С. Стечкина имеет в основании определение момента сбрасывания бомбы по двум предшествующим моментам прохождения поражаемого предмета через визирные линии. Прибор отличается простотой и остроумной комбинацией и, по мнению комиссии, может конкурировать с другими, более сложными аппаратами. Прибор был демонстрирован Великому князю Александру Михайловичу в Аэродинамической лаборатории Императорского технического училища, и, по предложению Его Императорского Высочества, один экземпляр этого прибора будет отправлен для испытания в Севастопольскую военно-авиационную школу. Комиссия находит полезным для целей обороны выдать изобретателю 900 рублей на устройство пяти приборов».
По расчетам Стечкина техник Микулин выполнил чертежи разрезов, и было сделано несколько прицелов, которые установили на «Муромцах» Сикорского. Испытывал приборы в полете прапорщик Веллинг.
Но что сбрасывать? Бомб-то еще не было. В Земском союзе Жуковский объявил конкурс на первую зажигательную бомбу. Считали, что главной работой авиации на лето должно стать уничтожение хлебных полей противника. И почти все ученики Жуковского стали изобретать бомбы. Среди кружковцев выделялся невысокий, плотный, черноволосый, с усиками студент. Он предлагал делать самолетные зажигательные стрелы и во дворе лаборатории рассказывал о своей идее товарищам. Рядом студент Микулин возился с пустым десятилитровым бидоном с вырезанным дном. К бидону припаивали двойное дно с порохом между стенками, наливали бензин, а в горлышко вставляли обыкновенный ружейный патрон с мелкой дробью. Бомбу эту придумал Микулин и патроны для нее таскал тайком у Жуковского. Сейчас он готовил очередную партию таких бомб для испытания и, засыпав порох, смело стал запаивать отверстие. Тут кто-то схватил его за плечо и отдернул руку с паяльником. Саша вскочил, обернулся: перед ним стоял этот самый усатый студент. Он продолжал крепко держать Микулина за РУКУ.
— Вы что, с ума сошли! Ведь порох-то от паяльника вспыхивает! Давайте покажу! — и насыпал кучку пороха, поджег — порох взорвался.
— Вы спасли мне жизнь, — благодарил его Микулин.
— Пустяки! Давайте знакомиться! — Протянул руку: — Туполев Андрей.
Когда конкурсные бомбы всех конструкций были готовы, летчик Б. И. Россинский стал поднимать их в воздух на «сопвиче» и сбрасывать над Ходынским полем. Среди бомб были и такие, что взрывались. Микулинская, к примеру, вызвала пожар саженей десять диаметром. Автор был отмечен аттестатом с красивыми виньетками, подписанным Жуковским, а также денежным вознаграждением, коим поделился с братом.
Лебеденко вызвал к себе Микулина:
— Я придумал танк в виде трехколесного велосипеда, два колеса у него будут диаметром по десять метров. Согласны ли вы взяться за разработку конструкции?
Микулин согласился, и вскоре они со Стечкиныи сели за расчет и конструирование металлического чудовища, которое окрестили «Нетопырем».
По чертежам вырисовывалась огромная махина с башней для людей и вооружения, на двух больших колесах впереди и металлическом катке сзади, который должен был нести на себе треть веса конструкции. Танк строился строго секретно. Печать не раз упоминала о «боевой колеснице капитана Лебеденко и инженера Микулила». Почему-то только не всегда называют имя Стечкина, который сделал полный расчет «Нетопыря». Лебеденко же осуществлял организационное руководство строительством танка, в основном добывая финансы. Правда, и это было непросто и заслуживает особого рассказа.
Когда проект полностью завершили, Николай Николаевич попросил сделать действующую модель танка. Стечкин и Микулин соорудили чудесную игрушку на трехсотмиллиметровых колесах. Зажигались лампочки, высовывались орудия. Модель ездила по лаборатории, преодолевая искусственные препятствия. Внутри танка была граммофонная пружина, которую нужно было упорно заводить, чтобы игрушка могла долго ездить. Танк покрасили, колеса отникелировали — невероятной красоты модель получилась! Лебеденко велел сделать для нее дорогой, красного дерева ящик с посеребренными и позолоченными застежками. И в один прекрасный день Николай Николаевич — вкрадчивые манеры, медовые, бархатные подстриженные усы и дивные темно-вишневого цвета улыбающиеся глаза, — в один прекрасный день собрался в путь-дорогу. Он нарядился в великолепный черный фрак, который ему очень шел, нацепил на лацкан нечто вроде орденка на красной ленточке (где-то раздобыл по случаю), захватил с собой шкатулку с моделью и отправился в Петербург к князю Львову, председателю «земгусаров», как называли в лаборатории Земский союз. Выслушав Лебеденко, Львов позвонил военному министру и сказал, что появился изобретатель, который решит исход войны в три дня. Министр немедленно приехал, посмотрел модель, покрутил головой, что-то промычал, но взять на себя ответственность не решился:
— Надо показать государю.
Об этом-то и мечтал Лебеденко! Получив разрешение на высочайшую аудиенцию, он вновь облачился в свой ответственный черный фрак с никому не ведомым отличием на лацкане, напомадил усы и двинулся с моделью во дворец. Царь принял Николая Николаевича одного, «без лишних глаз и ушей». Тот артистично, мягкими словами обрисовал модель, упирая на ее достоинства, завел ее и подготовил к самому главному эффекту, который был тщательно отрепетирован в лаборатории:
— А сейчас, ваше величество, я покажу вам проходимость моего танка!
И надо сказать, «проходимость» модели оказалась столь же высока, как и самого Лебеденко. В царском кабинете стоял шкаф с толстенными томами «Сводов законов Российской империи». Николай Николаевич разбросал их по полу и пустил модель. Танк запросто прошел через все «законы», и царю это до того понравилось, что он сел на ковер и полчаса забавлялся невиданной игрушкой. А Лебеденко, усиливая эффект, в это время мурлыкал над императором:
— Кроме того, ваше величество, мой танк можно сделать на плаву, что позволит не только за три дня закончить войну с немцами, но и в считанные часы, да, в считанные часы, ваше величество, взять Босфор и Дарданеллы, — и Николай Николаевич зажмурился от удовольствия.
Царь поднялся с ковра и сказал:
— Знаете что, вы мне оставьте эту штуку. Что от меня вам нужно?
— Деньги, ваше величество, — не моргнув, сказал Лебеденко.
— У вас есть какая-нибудь бумажка? — спросил царь. — Давайте я напишу.
Бумага мигом оказалась под высочайшим пером, и Лебеденко уехал от царя с открытым счетом. «Это факт! — вспоминает Микулин. — И мы стали строить «Нетопырь».
Корпус делали в специальном ангаре в Хамовниках, на теперешнем Комсомольском проспекте (здание сохранилось и поныне), а колеса строили под Дмитровом. Весь «Нетопырь» решили собрать тайно в лесу у большой березы, и лес этот охранялся солдатами.
В это время стали призывать в армию и старшекурсников — младшие уже отличались на поле брани. Стечкина почему-то не трогали, а Микулина не обошли повесткой. Он тут же позвонил Лебеденко:
— Николай Николаевич, кончилась наша совместная работа. Завтра я должен явиться в третью школу прапорщиков.
А танк только начали собирать...
— Александр Александрович, сегодня ровно в девять вечера приезжайте в Хамовнический ангар, — ответил Лебеденко.
Микулин явился на казенном «харлее», добытом в свое время тоже с помощью всемогущего Лебеденко. У ворот ангара стоял роскошный автомобиль «дедион-бутон» последнего выпуска. «Кого это Лебеденко привез?» Вошел в ангар — тишина. Только маленький электрический фонарик бегает по корпусу танка, установленному на бревнах. У танка стоял Лебеденко с каким-то военным в светло-серой шинели. Увидев Микулина, Николай Николаевич торжественно объявил:
— Господин министр, разрешите вам представить мою правую руку — наш главный конструктор Микулин!
Военный протянул сухую маленькую руку:
— А мы осматриваем вашу работу.
— Извините, я вам сейчас сделаю свет, — сказал Микулин, выбежал из ангара, втащил свой мотоцикл, поднял его на защелку и включил фару, а она у «харлея» мощная — все осветила.
Министр посмотрел, стал прощаться. Лебеденко трясет ему руку и говорит:
— У нас большое горе, господин министр...
— Что, что случилось?
— Большое несчастье... Вот моего помощника, — Николай Николаевич указал на Микулина, — завтрашний день забирают в школу прапорщиков.
— Что за глупости какие! — Высокое лицо открыло свой небольшой портфельчик, достало визитную карточку «Военный министр Российской империи», перевернуло и написало под мягкую, ненавязчивую диктовку Лебеденко: «Предъявителя сего А. Микулина в 3-ю школу прапорщиков не зачислять. Об нем последует особое распоряжение».
«И оно не последовало до сегодняшнего дня! — спустя 60 лет смеется Александр Александрович. — Я бы, конечно, сохранил эту карточку, если бы не должен был отдать ее начальнику школы прапорщиков».
Два дня Микулин и Стечкин отмечали удачу. Купили икры красной и черной, осетринки и прочей закуски от Елисеева и пригласили Лебеденко.
И продолжали строить «Нетопырь». Для него нужен был мощный двигатель. В России таких еще не было, и Лебеденко ухитрился заполучить два мотора «майбах» с немецкого «цеппелина», упавшего на русской территории. Двухсотсильный «майбах» давал 2000 оборотов в минуту, и нужна была цепь для передачи вращения от мотора на десятиметровое колесо. Оно должно было вращаться медленно — один оборот в минуту, но с большим крутящим моментом, который, как известно, обратно пропорционален числу оборотов колеса. Таким образом, длина окружности получалась свыше 30 метров. Какую же цепь нужно было сделать для такого колеса? Микулин и Стечкин обошлись вообще без цепной передачи.
Колеса были таврового сечения, полки их покрывали досками. Наши изобретатели взяли два автомобильных колеса, прижали их железнодорожной рессорой к колесу танка, к его полке, и оно вращалось за счет трения. Собирали танк у ствола большой березы с умыслом, чтобы проверить, рухнет ли дерево, когда пойдет «Нетопырь». Стечкин завел двигатель. Микулин сел за руль, дал газ, «Нетопырь» двинулся, береза, затрещав, рухнула, солдаты вокруг закричали «ура!». И все было хорошо, пока танк шел по гати, но, как только гать кончилась, задний каток ушел в мягкую сырую землю. Место было болотистое, и вытащить увязший «Нетопырь» силенок у двух «майбахов» не хватило. Так он и остался на добрых три десятка лет ржаветь в подмосковном лесу...
Создатели танка столкнулись еще с одной неприятностью. Немецкие моторы работали неважно, часто ломались, и друзья решили сделать свой двигатель.
Первый мотор, который они вдвоем спроектировали и построили, назывался АМБеС (Александр Микулин, Борис Стечкин). Двигатель был двухтактный, самый мощный в ту пору — давал 300 лошадиных сил мощности и 3000 оборотов в минуту. Цельнометаллический, стальной, он состоял из вала, на котором под углом были укреплены две шайбы. От шайб шли шатуны, а на их концах внутри шести цилиндров стояли поршни. Жесткость всей конструкции придавали два полушария с шарикоподшипниками для вала, на который насаживался пропеллер. В этом авиационном двигателе, также выполненном в лаборатории Лебеденко на средства военного ведомства, в 1916 году впервые был осуществлен впрыск топлива в цилиндры бензинового мотора. Только несколько десятилетий спустя за рубежом стали применять этот метод.
Двигатель работал, но после запуска через минуту-полторы останавливался, и, когда его разобрали, выяснилось, что шатуны гнутся из-за деформации корпуса. Стечкин исправил ошибку, но мотор продолжал барахлить. Кредиты, отпущенные Военным ведомством, кончились. Однако Лебеденко не пал духом. Организатор он был отменный. Стечкин не раз потом вспоминал о своем начальнике, у которого долго был заместителем по научной части, интересовался его дальнейшей судьбой. После Великого Октября Лебеденко бесследно исчез, и никто о нем больше не слыхал.
«Наверно, погиб где-нибудь, — говорил Борис Сергеевич. — О таком, как он, мы бы обязательно услышали. Значит, нет в живых — обязательно объявился бы!»
А в 1916 году Николай Николаевич повернул дело так, что АМБеСом заинтересовались иностранцы. В один из августовских вечеров Лебеденко пригласил Стечкина и Микулина в ресторан «Националы). За столиком их ожидали два американца.
— Людям с таким талантом, как у вас, — сказал один из них Стечкину и Микулину, — нужен простор для работы, нужен американский размах. Мы покупаем ваш двигатель, а вам предлагаем переехать в Северо-Американские Соединенные Штаты, где вы будете жить, как говорят у вас в России, припеваючи, — американец сказал все это по-русски, с удовольствием сказал, засмеялся и затянулся сигаретой. Потом положил ее на край пепельницы и вновь сделал деловое лицо: — Для начала мы будем платить вам по тысяче долларов в месяц, а потом устроим общество во главе с вами, разумеется, господа Стечкин и Микулин, общество по эксплуатации вашего двигателя.
— О, вы будете богатыми, очень богатыми людьми! — вставил второй американец.
А Лебеденко достал из портфеля плотный лист бумаги — договор с американцами, протянул Стечкину подписать. Борис Сергеевич посмотрел на своего начальника, на иноземцев, прочитал договор и медленно разорвал его на четыре части:
— Русские инженеры за границу не продаются.
Как бы громко ни звучали эти слова в нашем повествовании, но Стечкин тогда сказал именно эту фразу.
... Шла империалистическая война, и каждая из воюющих сторон пыталась впервые применить в боях достижение века — авиацию. В шестнадцатом году «Русские ведомости» пишут: «17 января германский дирижабль стал приближаться к Парижу, над которым появился несколько позже десяти часов вечера, был обстрелян специальными батареями и атакован аэропланами, однако успел сбросить несколько бомб, не причинивших, по имеющимся до сих пор сведениям, никаких повреждений. Жертвами «цеппелина» являются, как и всегда, преимущественно женщины и дети. Нынешний налет будет, конечно, предметом ликования в Берлине... Эти совершенно бесцельные преступления не производят ровно никакого впечатления ни в военном отношении, ни в психологическом. Это было подтверждено лишний раз вчера, когда появление «цеппелина» вызвало лишь большое любопытство у населения Парижа».
«Нашим воздушным кораблем «Второй» сброшено десять двухпудовых и пять пятипудовых бомб и ящик стрел».
«Появившись над городом Несвижем, германский аэроплан был атакован в воздухе нашим летчиком штабс-капитаном Крутенем и после короткого боя сбит. Неприятельские летчики и аппарат захвачены нами».
Летчик Крутень, друг и соратник Петра Николаевича Нестерова...
«Состоялись похороны авиатора С. И. Уточкина. Уточкин похоронен в Александровско-Невской лавре, близ могилы авиатора Шпицберга...»
Пилоты гибли на войне, гибли и без войны, и не меньше — от несовершенства техники. И пока авиаторы в аппаратах с опознавательными знаками воюющих держав, встретившись в небе, стреляли друг в друга из пистолетов или, подобно Нестерову и Крутеню, вели первые воздушные бои, применяя высший пилотаж, в это время на земле разрабатывались новые пушки, пулеметы, строились аэропланы. Ученик Жуковского, В. А. Слесарев, сконструировал в Петрограде тяжелый самолет «Святогор» — больше «Ильи Муромца». «Святогор» мог летать со скоростью 114 километров в час, поднимать груз в 3,25 тонны и держаться в воздухе 30 часов. Это была большая победа отечественной авиации. Но запустить «Святогор» в серийное производство оказалось куда сложней, чем сконструировать. Кроме того, доставлявший немало хлопот серийный выпуск «Муромцев» тем не менее приносил солидные доходы членам Петроградского воздухоплавательного комитета, которых не интересовала новая машина. Жуковский пытался пробить дорогу в небо «Святогору». Для экспертизы Николай Егорович создал комиссию, в которую вошел и Стечкин. Комиссия проверила проект, провела контрольные продувки в аэродинамической трубе, одобрила новую машину и стала ее защищать. Но военные чиновники оказались сильнее таланта Слесарева и его защитников. «Святогор» не пошел. Не помог даже авторитет Жуковского, к которому частенько обращались военные организации с просьбой провести аэродинамические испытания самолетов. В разгар войны эти просьбы стали постоянными, и небольшая аэродинамическая лаборатория Технического училища по могла справиться с огромным объемом работ по исследованию качества военных самолетов, выяснению их недостатков и способов устранения. На базе лаборатории Жуковский создает расчетно-испытательное бюро. В. П. Ветчинкин и Б. С. Стечкин руководят в нем расчетами и вычислениями, а лабораторными установками ведает А. Н. Туполев. Здесь исследуется лобовое сопротивление, управляемость и устойчивость машины в полете, изучаются ускорения и связанные с ними перегрузки. Жуковский пишет работы, вместе с учениками создавая новый раздел авиационной науки — динамику полета.
Вот несколько брошюр Николая Егоровича, которые всю жизнь бережно хранил Стечкин. Большого формата, добротно полиграфически сделанные научные работы с диаграммами, рисунками, фотоснимками. Плотные, пожелтевшие страницы... На двух брошюрах «Динамика аэропланов в элементарном изложении (Лекции, читанные в 1913 году для офицеров — летчиков Московского общества воздухоплавания)» бесценные дарственные надписи: «Дорогому ученику Борису Сергеевичу Стечькину от автора». На полях многих работ Жуковского карандашом аккуратным почерком Стечкина даны различные выкладки, соображения и даже исправления учеником формул и расчетов учителя.
Две работы Жуковского, «О гидравлическом ударе в водопроводных трубах» (1899 г.) и «Вихревая теория гребного винта» (1914 г.), вместе со статьей С. А. Чаплыгина «О пульсирующем цилиндрическом вихре» Стечкин хранил почему-то отдельно, завернутыми в газету... Надо сказать, классической гидродинамикой Стечкин занимался всю жизнь — как и теорией авиационных двигателей...
Война. С Александровского, ныне Белорусского, вокзала везут раненых. Публикуются списки убитых. Среди них есть друзья и знакомые Стечкина. Погиб Петр Николаевич Нестеров, творец «мертвой петли», над расчетом которой работали Ветчинкин и Стечкин. Нестеров стал легендой при жизни и ушел из нее геройски, совершив первый в мире воздушный таран. «Слава тебе, русский герой!.. Слава богу, что русские таковы!» — сказал в газете «Новое время» от 21 сентября 1914 года Евграф Николаевич Крутень. В советские годы наши летчики совершат сотни таранов, и напишет Алексей Толстой: «В истории авиации таран совсем новый и никем и никогда, ни в одной стране, никакими летчиками, кроме русских, не испробованный прием боя. Впервые на таран пошел знаменитый летчик Петр Николаевич Нестеров».
Много жертв принесено, а войне конца не видать. Империалистические державы ценой солдатской крови на поле брани продолжают жестокий спор за сферы влияния на мировом рынке. Те, кто готовил войну в России, к тому ж надеялись приливом патриотизма отвлечь народ от недовольства и возмущений — война, надо терпеть. Газеты 1916 года сообщают о дороговизне, повышении цен, об остром недостатке молока в Москве и мясном кризисе. В кино «Арс» идет драма «Любовь сильна не страстью поцелуя», 11 февраля в Большой аудитории Политехнического музея К. Д. Бальмонт прочтет лекцию «Любовь и смерть в мировой поэзии», оштрафован за спекуляцию антрацитом провизор А. Ш. Перельман, рекламируются папиросы «Эклер» и «Зефир», господа Левин и Набатов устроили погром на частной квартире, в Екатеринославле судят писателя Гегориуса за антипатриотические настроения, в Софии судят русофилов... Повторяются призывы подписаться на военный заем 1916 года: «Всякий рубль, идущий на войну, колючею проволокою преградит путь врагу, меткой пулей догонит его... Ваши деньги превратятся в патроны и снаряды. Враг должен быть сломлен. До того не может быть мира». В газетах, даже правительственных, все чаще появляются белые прямоугольники в верстке — вымарано цензурой.
Стечкин, как и Жуковский, патриотически желает быстрейшей победы над Германией. Но начинает понимать, что счастье родины не в этой победе.
От стен императорского Технического училища идут студенческие колонны с лозунгами о мире. У Земляного вала их встречает полиция, казаки хлещут нагайками, а особо упрямых хватают и уводят в часть. Стечкин всегда с товарищами. Ни в одну из партий он не записался, но был привержен к вольно настроенной группе студенчества, ходил на все училищные митинги, забастовки, сходки... Привлекала его и возможность открыто высказать свои взгляды, да и просто любил он в молодости покричать на сборищах. Озорно!
В трактире на студенческой сходке, которая закончилась отчаянной дракой с полицией, Стечкин разбил бутылкой люстру. Арестовали. В первый раз он попал в камеру с железными решетками на узких окнах. Но просидел недолго: вступилась за него Гликерия Николаевна Федотова. Актриса добилась приема у московского градоначальника, и студента Стечкина дозволили ей взять на поруки.
Однако политика его интересовала меньше науки, он весь был в научных идеях и проблемах и вырастал в революционера техники.
Все глубже уходя в науку, он стал заведовать лабораторией Н. Лебеденко, который остался ее техническим руководителем. Работа в расчетно-испытательном бюро при ИМТУ, на курсах авиации, где еще задолго до окончания училища Стечкин стал правой рукой Жуковского, на все не хватает дня. Есть ночь для чтения. Часто можно было видеть молодого Стечкина сидящим за шкафом Жуковского с книгой. Согнувшись, положив ногу па ногу, он, казалось бы совсем в неудобной позе, мог часами читать Ньютона, предпочитая это занятие любому развлечению, разве кроме охоты с Жуковским. И вроде бы ничего не происходит вокруг, настолько он ушел в книгу.
В молодые годы он многим казался замкнутым, настолько ушедшим в себя, будто в невидимой прозрачной оболочке он жил и вынашивал свои идеи. И невозможно было понять, весело ему или грустно. Но скучно никогда не было. Он мог казаться безынициативным в отличие, скажем, от Микулина. Но угадывалось в нем основное, главное. Падает снежинка, рядом другая, третья... Можно слепить ком, катить его, увеличивая, можно что-то вылепить из него. Но первая снежинка есть первая, вокруг нее образованы все наслоения. В каждом человеке, в каждом характере есть такая первая снежинка. Нужно только пробиться к ней через все наружное, порой случайное, заслоняющее основное и нередко дающее ошибочное впечатление. Нужно снять наслоения, отбросить в под увеличительным стеклом внимания к человеку взглянуть на первую снежинку. Думается, Стечкин формировался в ту пору как мыслитель, у него была страсть к познанию. Познавал он так много, что еще в двадцать пять лет стал буквально энциклопедией знаний по математике, механике, гидродинамике, аэродинамике. Его укоряли друзья, что он слишком щедро раздает свои знания и идеи, а сам своего делает мало. И тогда он садился за изобретения. Не всегда они завершались удачей.
С мороза, веселый, раскрасневшийся, в заиндевелой шапке набок, влетает в лабораторию: «Я изобрел новый способ превращения тепла в электричество!» — и тут же рисует диаграмму. Потом посидит, подумает, сам все проверит и скажет: «Да, наврал я. Ничего не выйдет».
И снова пишет свои формулы. Если уж засел — никуда его не вытащишь — ни погулять, ни в театр.
К музыке он не питал особого пристрастия, но, как почти все, не имеющие ни голоса, ни слуха, любил петь и отвечал на смешки товарищей тем, что Наполеон за всю жизнь научился правильно насвистывать только «Мальбрук в поход собрался».
«Каштанка, не вынося музыки, завыла», — иронизировал он.
К пониманию Октября и Советской власти Стечкин пришел не сразу. Рушился старый мир, трещали привычные устои, в которых воспитывался Борис Сергеевич, и во время московского белогвардейского мятежа он вместе с инженером Л. В. Курчевским оказался на контрреволюционном броневике. Стечкин никогда не отрицал этот малоприятный факт биографии и в анкете 1944 года на вопрос: «Принимал ли активное участие в Октябрьской революции, гражданской войне, когда, где и в чем выразилось Ваше участие?» — ответил: «Был в Москве и выступал на стороне белых», — хотя все его выступление началось и закончилось неудачной поездкой на броневике. Рассказывая об этом, Стечкин подчеркивал, как трудно было многим разобраться в политической обстановке страны, тем более таким, как он.
Немало талантливых русских людей, не понявших и не принявших Октября, уехали за границу. Рахманинов в своей швейцарской усадьбе пытался сажать березки, но они не приживались... Уезжали крупные писатели, ученые, артисты. Но Жуковский остался. Чаплыгин остался. Туполев остался. Стечкин остался. Они не покинули родину. И новая власть не обошла их вниманием. С 1 сентября 1918 года Борис Сергеевич Стечкин работает помощником заведующего секцией винтомоторных групп Экспериментального института Комиссариата путей сообщения. Директором института стал профессор Технического училища Николай Романович Брилинг, которого Стечкин высоко ценил и считал одним из главных своих учителей.
Все чаще бывает он в Мыльниковом переулке. Прежде его сюда тянуло к Жуковскому, а сейчас появилась и иная причина. В большом сером пятиэтажном доме напротив — Мыльников, 10, квартира 9, на пятом этаже — живут Шиловы.
Профессор Николай Александрович Шилов, как и Жуковский, преподавал в Московском университете. В 1911 году он, тогда еще приват-доцент, присоединился к ректору Мануйлову и покинул университет в знак протеста против реакционных действий царского министра просвещения Кассо. Жуковский и Шилов часто встречались и как соседи по переулку. Жуковский иногда устраивал у себя балы, на которых бывал и Стечкин. В один из таких вечеров Борис познакомился с дочерью Шилова Ириной. Она была на семь лет моложе, тоже студентка.
Николай Александрович Шилов — всемирно известный ученый-химик. В первую мировую войну действительный статский советник Шилов был первым начальником химической службы русской армии, организовал полевую лабораторию на фронте для защиты солдат от ядовитых газов и отравляющих веществ.
Летом 1918 года Стечкин чаще, чем в Орехове, стал бывать на даче Шиловых в деревне Пруссы, и весь роман проходил там. Это та самая дача, где жил Алексей Иванович Абрикосов, выдающийся русский врач. В Москве, на Новослободской улице, недалеко от комбината «Правда», на одном из домов есть мемориальная доска, посвященная академику медицины Герою Социалистического Труда А. И. Абрикосову. Он был родственником жены Шилова Веры Николаевны, урожденной Абрикосовой. Сын Алексея Ивановича стал известным физиком, артисты Абрикосовы тоже родственники Шиловых, а теперь, стало быть, и Стечкиных.
Ирина Николаевна была дочерью строгого профессора. Николай Александрович крайне неодобрительно смотрел на роман своей дочери и молодого человека. Вечный студент, десять лет не может закончить свое училище, неизвестно, чем занимается, и характер какой-то невзрослый, хоть и 27 уже. Правда, он работает техником и материально обеспечен.
Когда Борис Сергеевич сделал предложение Ирине Николаевне и они пошли к Шилову, Николай Александрович ответил категорическим отказом, сказав, что дочь свою он за недоучку не выдаст. Шилов так посмотрел вслед уходящему Стечкину, что тот даже на спине почувствовал его взгляд и съежился в дверях. Волей-неволей пришлось Борису Сергеевичу срочно закончить свой, как мы теперь говорим, вуз. Но долго еще Шилов считал, что дочь его сделала мезальянс. И только в 1920 году, когда у молодых родился сын, а еще через год тридцатилетний зять был утвержден в звании профессора, отношения между профессорами Шиловым и Стечкиным окончательно урегулировались.
Итак, в 1918 году Борис Сергеевич наконец формально завершил свое обучение в техническом училище, успешно защитив дипломный проект по авиационному мотору АМБеС-Д. Руководителями проекта были Николай Егорович Жуковский и Николай Романович Брилинг. Сохранились чертежи двигателя с правкой Жуковского и дарственной надписью Стечкина В. П. Ветчинкину.
Получен заветный документ, дающий не только звание инженера, но и кое-какие шансы на благосклонность Шилова:
От Высшего Московского Технического Училища дано сие свидетельство Борису Сергеевичу Стечькину в том, что он окончил ныне полный курс учения в означенном училище с званием инженера-механика. Диплом на это звание с надлежащими подписями будет выдан означенному лицу по отпечатанию.
Свидетельство сие не может служить видом на жительство.
При получении диплома настоящее свидетельство должно быть возвращено в училище.
Свидетельство подписано проректором училища профессором И. Куколевским, крупным ученым-гидравликом, впоследствии много поработавшим в области строительства наших гидростанций.
Существует и другой интересный документ:
«В Механическое Отделение Высшего Технического Училища
Заслуженного профессора H. Е. Жуковского
Покорнейше прошу оставить при Высшем Техническом Училище для занятий авиационными двигателями окончившего в этом году курс Бориса Сергеевича СТЕЧЬКИНА. Борис Сергеевич во время своего пребывания в В. Т. У. занимался авиационными двигателями, состоя несколько лет механиком и инструктором по делу авиационных моторов при Авиационных Курсах Управления Военнаго Воздушнаго Флота, учрежденных при В. Т, У.
Как специальный проект в Государственную Экзаменационную Комиссию Стечькин представил изобретенный им вместе с техником Микулиным оригинального типа авиационный мотор, проект которого был одобрен Управлением Военнаго Воздушнаго Флота и выполнен по его заказу.
В настоящее время Б. Стечькин исполняет в Расчетно-Испытательном Бюро Управления Военнаго Воздушнаго Флота должность инженера по моторному делу и состоит помощником заведующего винтомоторной группы Экспериментальнаго Института Путей Сообщения, для которого проектирует камеру низкого давления для испытания работы мотора на большой высоте. Этот важный вопрос аэропланнаго дела до сих пор остается открытым.
Привлечением к В. Т. У. инженер-механика Б. Стечькина оно бы выиграло в получении специалиста по авиационным моторам и расширило бы средства полнаго проектирования летательных машин.
В созданном по инициативе Ленина Совете Народного Хозяйства стали появляться ученые. Пригласила Жуковского. Он привел своих учеников, и они вместе стали работать на оборону нового государства рабочих и крестьян.
«Настоящим прошу о принятии меня в Высший Совет Народного Хозяйства на двухнедельное испытание в качестве заведующего винтомоторного отдела... Последнюю службу оставил вследствие ликвидации Экспериментального института путей сообщения. Рекомендации имею. Б. Стечкин, 7 декабря 1918 года».
Отныне Стечкин — сотрудник отдела изобретений ВСНХ, а Микулин, с 27 октября 1917 года работавший в автомобильной секции Московского Совета, стал председателем ученого экспериментального совета по делам изобретений ВСНХ. В 1918 году на средства Управления Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота они, усовершенствовав свою прежнюю конструкцию, построили авиационный мотор АМБеС-Д, двухтактный, 200 лошадиных сил, 2000 оборотов в минуту, с воздушным винтом типа НЕЖ (Николай Егорович Жуковский). Здесь Стечкин предложил свое оригинальное решение вариационной задачи о наивыгоднейшем винте. Этот двигатель, как и первый, опытный АМБеС, был снабжен непосредственным впрыском топлива в цилиндры.
Шла гражданская война, и военные придавали большое значение строительству аэросаней. В конце 1918 года была создана организация КОМПАС — Комиссия по постройке аэросаней. Стечкин сразу же стал активным ее членом. Председателем комиссии был H. Р. Брилинг, и в нее, кроме Стечкина, входили А. А. Архангельский, П. Д. Карельских, А. С. Кузин, А. А. Микулин и Е. А. Чудаков. Построенные КОМПАСом аэросани очень помогли в ликвидации кронштадтского мятежа в марте 1921 года. И всего-то пять штук их успели сделать, по восемь лыжников брали они да пулемет еще. А тогда пулемет многое решал.
Так Стечкин стал работать на революцию, принимая прямое участие в создании Красного Воздушного Флота. Он сотрудничает в ВСНХ и продолжает вести научную и педагогическую работу в техническом училище. Из прошения Жуковского мы узнаем, что Стечкин проектирует камеру низкого давления для испытания работы мотора на большой высоте. В России этими проблемами пока не занимались.
Молодая Советская Республика оборонялась от врагов, внутренних и внешних, и понятно, что почти все изобретения Стечкина были военного характера.
Среди архивных документов найден такой мандат:
«Научно-технический отдел ВСНХ настоящим удостоверяет, что предъявитель сего инженер Б. С. Стечкин командируется в Петроград в Военно-инженерную академию для доклада о роли газовых турбин в военном деле.
Научно-технический отдел просит оказывать всемерное содействие инженеру Стечкину при исполнении возложенных на него поручений.
Срок мандата — 2 недели.
Очень знаменательный документ! Еще настоящих газовых турбин и нет, а Борис Сергеевич уже делает о них доклады. Это в стиле Стечкина. Пройдут десятилетия, и газовые турбины надолго займут его время и мысли.
В конце 1918 года при Научно-техническом отделе ВСНХ под руководством Жуковского образовалась аэро-гидродинамическая секция. В ее коллегию вошли Стечкин, Ветчинкин, Туполев, Красовский. Они-то и разработали практический проект создания Центрального аэрогидродинамического института — будущего знаменитого ЦАГИ. Стечкин обдумывает план винтомоторного отдела ЦАГИ. Советское правительство, Владимир Ильич Ленин поддержали эту инициативу. 1 декабря 1918 года стало вехой в истории советской авиации. Экспериментальный институт НКПС был реорганизован в ЦАГИ. Один из основателей ЦАГИ, Стечкин, становится членом его коллегии и заведующим винтомоторным отделом.
А. Н. Туполев вспоминает, как они с Жуковским 1 декабря 1918 года возвращались из ВСНХ. «На радостях, что удалось договориться об организации института, мне захотелось сделать ему приятное. Годы были трудные. Я предложил пойти по Кузнецкому и съесть в каком-нибудь кафе по стакану простокваши. С трудом мы нашли молочный магазин, нам подали простоквашу, но без сахара, а Николай Егорович и я любили, чтобы простокваша была очень сладкая. Пошел я к прилавку, и удалось мне достать немного меду. Мы очень обрадовались и вот этой простоквашей с медом отпраздновали организацию ЦАГИ».
Общетеоретическим отделом в ЦАГИ стал заведовать Ветчинкин, аэродинамическим — Юрьев, авиационным — Туполев, винтомоторным — Стечкин. Все роли распределил сам Жуковский.
Борис Сергеевич и Ирина Николаевна живут на Вознесенке, 21, в шестиметровой комнатушке, в которой, кроме как на большой печи, ни на чем примечательном глаз остановиться не мог. Это была одна из комнат второго этажа аэродинамической лаборатории Жуковского. Сейчас там, на месте нескольких комнат, большой музейный зал. Почти полвека спустя Борис Сергеевич придет в этот зал посмотреть свой скульптурный портрет...
Еще далеко до создания Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ), и винтомоторный отдел ЦАГИ был в молодой республике единственной научной организацией, занимавшейся авиационными двигателями. На Вознесенской улице стояла старая кирха, известная москвичам тем, что в ней был похоронен петровский военачальник Брюс. «И Брюс, и Боур, и Репнин...»
Кирху снесли в тридцатые годы. До наших дней сохранились старые деревья — они и поныне украшают улицу Радио. Винтомоторный отдел разместился на первом этаже теперешнего здания музея H. Е. Жуковского, часть оборудования отдела позже перенесли в кирху.
Туполевцы нашли себе пристанище поблизости, в бывшем трактире, одноэтажном деревянном домике. Посреди большой комнаты стоял вагонный буфер, на котором клепали. Тут и строили первые советские самолеты. Авиационный и винтомоторный отделы считались в ЦАГИ самыми главными. Оно и понятно: Туполев строил самолеты, а Стечкин занимался теорией авиационного двигателя, экспериментальными и конструкторскими работами.
Винтомоторный отдел был меньше авиационного и даже аэродинамического, но решал задачи особой важности. Сначала он занимал две маленькие комнаты и мастерскую с двумя токарными станками и экспериментальной одноцилиндровой установкой. Во дворе возвышалось сооружение из толстых деревянных брусьев, а на них стоял итальянский двигатель «Фиат-А-12», служивший для изучения процессов в авиационных моторах.
Так начинался отдел ЦАГИ. Помещение коллегии института было на втором этаже, рядом с комнатой Стечкина, спешно оклеенной обоями перед визитом тестя и тещи.
Первой проблемой отдела стал выбор экспериментальных объектов. Закупили за границей английские моторы «нэпирлайон», «люцифер» и «ягуар» и гоняли их на стендах. Одновременно вели и свои разработки и довольно быстро спроектировали и построили несколько экспериментальных двигателей, а затем и компрессоров. Борис Сергеевич выполнил проект мощного мотора, который в шутку прозвал «недоноском» — считал, что мало поработал над ним.
В первые годы сотрудники уделяли много внимания теории расчета быстроходного авиационного двигателя внутреннего сгорания. Борис Сергеевич рассматривает основные положения теплового расчета В. И. Гриневецкого не как средство вычисления мощности и коэффициента полезного действия двигателя, а для теоретического анализа моторов и построения их характеристик по расходу воздуха и по эффективному КПД. Эта теория тогда еще слабо была разработана. Труды Гриневецкого, отдельные статьи Брилинга, посвященные тепловому расчету двигателя, относились к тихоходным моторам. Авиационный двигатель, быстроходный, с большим числом оборотов вала, требовал особого подхода к расчету. В частности, большое значение здесь имеет аэродинамика всасывающих устройств, вопросы сгорания. Эти особенности и стал исследовать Стечкин со своим коллективом.
На специальной одноцилиндровой установке работал Вячеслав Иосифович Дмитриевский. Здесь создавалась методика расчета расхода воздуха — совершенно новая, учитывающая пульсирующий характер потока. Кроме того, Стечкин очень дальновидно предусмотрел создание высотных двигателей. Нужно поднять потолок машин. «Летать выше всех, быстрее всех, дальше всех!» — потребует Родина. Великая Отечественная война внесет в этот лозунг свои коррективы, но повышение высотности будет главным надолго. Им и стал заниматься крохотный винтомоторный отдел. Но не только этим. Еще и способами увеличения мощности авиационного двигателя путем наддува и повышения давления воздуха, поступающего в цилиндры. Мощность двигателя прямо пропорциональна весовому количеству воздуха, поступающего в цилиндры, а весовой расход воздуха можно увеличить за счет его начального давления. Поэтому, чтобы двигатель такого малого веса и объема, каким является авиационный мотор, развивал как можно большую мощность, нужно обеспечить его сжатым воздухом, иными словами, нужен наддув. Воздух загоняется в мотор специальными агрегатами, Эти агрегаты — турбокомпрессоры, приводные нагнетатели — разрабатывались в отделе, здесь они испытывались, здесь создавалась их теория.
Стечкин предложил построить камеру низкого давления и разработал ее проект. Строили ее даже не кустарным, а бог весть каким способом, и людей-то в отделе было немногим более десяти человек. Но сделали здорово: металлический цилиндр диаметром 4 метра и длиной 8 метров! В него входили довольно объемистые двигатели, их запускали, насосом «эксгаустер» из камеры отсасывали воздух и выхлопные газы, имитируя высотность до 5 тысяч метров. Сама камера походила на большой котел, куда на рельсах вкатывали двигатель. 400-сильный «либерти» в нее входил, и даже 600-сильные моторы она брала. Имелось и дистанционное управление. Много поработали над этой камерой вместе со Стечкиным инженеры Курт Владимирович Минкнер, Константин Адамович Рудский и Евграф Владимирович Кузнецов. Они ставили опыты по детонации двигателя и ее подавлению, устанавливали октановые числа для высотных и невысотных машин. Впервые пришлось работать и с тетраэтилсвинцом. Опытным путем устанавливалась детонационная характеристика каждого двигателя в зависимости от высотности, нагрузок и других параметров — Стечкин учитывал все. Это была первая такая камера в стране. Впоследствии она работала в Центральном институте авиационного моторостроения и принесла немало пользы при исследовании высотных свойств двигателей. В отделе построили несколько одноцилиндровых установок, чтобы не весь двигатель, а один цилиндр испытывать на режимах с повышенным давлением воздуха. Потом строили и исследовали мотор в натуральную величину.
В 1929 году Борис Сергеевич проводит опыты по исследованию камеры сгорания двигателя. Авиационный мотор не только должен быть легким, но и с единицы рабочего объема давать как можно большую мощность.
Одновременно Стечкин изучает процессы наполнения цилиндра, сгорания топлива в камере в движущемся потоке. Его интересуют система клапанов, система охлаждения. Мотор должен быть и экономичным. Чтобы повысить ее, надо увеличить степень сжатия, то есть отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания. Подбирались специальные примеси для топлива.
Однако, когда увеличили степень сжатия, столкнулись с детонацией. Это новое явление свалилось неожиданно.
Обычно свеча дает искру, и начинается плавное горение. А тут, при определенных величинах давления и температуры, вместо плавного горения топливо взрывается, образуя мгновенный скачок давления, разрушающий кольца, поршни, клапаны...
Изучая вопросы детонации двигателя и ее подавления, Стечкин одним из первых заинтересовался ударными волнами и написал работу о скорости их распространения в трехмерном пространстве, определив нормальную скорость ударной волны для общего случая течения газа.
Стечкин экспериментально выясняет, какие элементы конструкции двигателя нужно усилить, когда его мощность будет повышена в результате наддува. В отделе проводят опыт, постепенно повышая давление воздуха, поступающего в двигатель.
— Интересно, какая деталь полетит первой? — говорит Стечкин.
Искали предел. Приводного нагнетателя еще не было — наддували от воздуходувки. Поршни прогорели, когда повысили давление до полутора атмосфер.
Наддув станет основным способом форсирования мощности двигателя. При почти неизменном весе авиационного мотора его мощность повысится в 2–3 раза. Так семьсотпятидесятисильный двигатель становился двухтысячесильным.
В литографически изданном «Тепловом расчете быстроходного авиациовного двигателя» Стечкин дает новые, усовершенствованные методы расчета поршневых моторов.
Давно Стечкина занимают мысли о реактивной технике. Он говорит, что не за горами то время, когда она появится в авиации, и начинает эксперименты с винтом, который вращался не как обычно — от вала поршневого двигателя, а за счет газовых струй, вытекающих из отверстий на концах лопастей — по типу Сегнерова колеса. Горючая смесь подавалась к оси винта, проходила через его полые лопасти, поджигалась, сгорала, а вытекающие газы создавали реактивную силу, вращающую винт. Сконструировали отдельные элементы винта, ставили опыты, но средств для постройки экспериментального образца не достали. Республика была бедна.
При создании высотных моторов столкнулись еще с такой трудностью: обычный винт для них не годился. На высоте плотность воздуха мала, и пропеллер, рассчитанный для земных условий, там не справлялся. Сотрудники отдела занялись проблемой винта изменяемого шага, с поворотной лопастью на ходу, то есть такого винта, у которого во время полета изменяется угол лопастей, и они приспосабливаются к разреженной среде. Винт был сделан, испытан на стенде и на самолете. Идея оправдалась.
Борис Сергеевич продолжает проектировать аэросани и глиссеры разных конструкций. Были построены крытые сани АрБеС (Архангельский, Борис Стечкин), но эта деятельность была еще и, как говорится, для души — друзья любили аэросанные пробеги. Об этом еще будет сказано.
Аэросани нужны и в наши дни. «Газеты с материалами торжественного заседания в Кремлевском Дворце съездов доставил сегодня на остров Байдукова экипаж аэросаней Владимира Колбасина», — читаем в «Правде».
В ЦАГИ думали и о гражданской авиации.
«Поручить разработку вопроса о применении тяжелой авиации в условиях мирного времени особой комиссии КОМПТА в составе профессора H. Ев. Жуковского, Б. Н. Юрьева, В. А. Архангельского, В. П. Ветчинкина, В. А. Петрова и инженера Б. С. Стечкина», — занесено в протокол заседания коллегии НТО ВСНХ от 18 февраля 1920 года.
Интересные люди собрались в отделе: от кладовщика Сергея Сергеевича Родионова, полного георгиевского кавалера, до самого Стечкина. Заместителем его по теоретической части был Николай Иванович Ворогушин, занимавшийся исследованием процессов в дизелях. По экспериментальной части Бориса Сергеевича замещал Анатолий Адольфович Розенфельд — испытания были его любимым коньком. Огромный детина, он любил в свободное время бороться с Сергеем Трескиным, тоже крупного сложения мужчиной. Трескин, энергичный талантливый инженер, занимался разработкой мощного поршневого двигателя и нагнетателями для многомоторных самолетов. Сам был большой и двигатели любил большие... Умер он очень рано, на 39-м году жизни, от прободения язвы. 3 марта 1941 года в «Правде» было сообщение о смерти главного конструктора ЦИАМа Сергея Алексеевича Трескина.
Михаил Масленников, Сергей Папмель, Вячеслав Дмитриевский, Александр Балуев... Все они стали известными в авиации людьми. Инженер Фатеев занимался камерой низкого давления, а стал профессором по ветрякам. Каждому из этих людей Стечкин определил жизненный путь и дал хорошую школу. Даже занявшемуся впоследствии археологией Гущину...
Здесь же инженером отдела работал Фридрих Артурович Цандер. Ему в кирхе отвели уголок, где он целыми днями строил реактивный двигатель. Но если кто и не верил в Цандера, то только не Стечкин. Он сам мечтал о небывалых двигателях и пытался создать максимум возможных условий для работы Фридриха Артуровича. Цандер рассчитал наивыгоднейшую траекторию полета к Марсу. По его расчетам, перелет должен был занять 256 дней. Современные вычислительные машины уточнили: 259... «Стечкин всех нас воспитал», — говорит профессор Вячеслав Иосифович Дмитриевский. Пройдут годы, и Стечкин напишет предисловие к книге Дмитриевского, а в марте 1941 года Вячеслав Иосифович будет удостоен Государственной премии — одним из первых в нашей стране, за работу в области авиации вместе с Поликарповым, Архангельским, Ильюшиным, Петляковым, Лавочкиным, Микояном, Гуревичем, Яковлевым, Микулиным, Климовым, Доллежалем.
... Несколько десятилетий правой рукой А. Н. Туполева по моторам до самой своей смерти 2 марта 1972 года был Курт Владимирович Минкнер. Его, семнадцатилетнего парня, в 1920 году Стечкин поставил на испытание и исследование авиационных двигателей и не ошибся. В винтомоторном отделе тогда и сформировался крупнейший специалист по эксплуатации моторов. Он был просто художником в своем деле, знал все о двигателе. Стечкин постоянно занимался с Минкнером, проверял результаты испытаний, придирался к каждой точке на кривой, выяснял, какие приборы стояли, повторится ли эта точка... Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий доктор технических наук Курт Владимирович Минкнер на всю жизнь воспринял школу Стечкина и очень тепло отзывался о своем учителе...
К Стечкину шли свои и чужие сотрудники за самыми разными советами — от «стоит ли чинить часы?» до серьезнейших теоретических и практических проблем. Те, кто учился в вечерних вузах, несли ему математические задачи, которые он решал на ходу — виртуозно, просто и нередко необычным, не применявшимся ранее методом.
«У нас был маленький коллектив, человек пятнадцать, — вспоминает профессор М. М. Масленников, работавший в отделе инженером, разбиравший новые проекты и предложения, правая рука Бориса Сергеевича, — и Стечкин для нас был царь и бог. Что сказал Стечкин — все, закон. Не только у нас — во всей советской авиационной моторной науке он считался самым умным и талантливым
Авторитет Бориса Сергеевича уже в двадцатые годы был огромным, его знали в Управлениях ВВС и ВМС РККА, в правительственных и партийных учреждениях. «Обязательность, простота я серьезность, доступность и благожелательность, доброта — все это уживалось в нем и стяжало ему славу симпатичного, чуткого, но делового и строгого в вопросах науки и техники ученого и инженера, — говорит кандидат технических наук К. А. Рудский. — А нас повсюду называли «стечкинцами».
Народ в отделе подобрался работящий и дружный. Случится с кем беда — выручали сообща, как было с одним сотрудником, которого ограбили воры. «Тяжелый случай» — типичное выражение работников ЦАГИ тех лет. Борис Сергеевич бросил клич, собрали деньги, не оставили человека в беде. «Все спокойно» — тоже выражение ЦАГИ.
Регулярных производственных совещаний не было, но, если возникали недоразумения, Стечкин собирал отдел, и за столом, по-домашнему, все решалось как бы общим семейным советом. Но мог и пожурить Борис Сергеевич, если кто чего-то не выполнил. Мягко очень говорил. «Он был не начальственною склада. Скромный, компанейский, хороший человек и товарищ, идеальный в отношении с подчиненными, — вспоминает В. И. Дмитриевский. — Ему бы все свое время отдавать теории. Он был на голову выше всех, с кем работал».
«Какие в нем недостатки были? — спрашивает Александр Алексеевич Добрынин, работавший в винтомоторном отделе с 1925 года, и отвечает как бы: — Я об этом думал. По-моему, особенных не было. Любил пилить людей? Меня он пилил постоянно. Но на это никто не обращал внимания — старались честно работать». Насчет своего «пиления» он говорил:
— Если ты начальник, первое, что должен сделать, распределяя работу, дать каждому такое дополнительное задание, про которое знаешь, что оно не будет выполнено. Это даст тебе право при случае прижать подчиненного: «Что ж, вы опять ничего не делаете?»
В 1926 году для винтомоторного отдела построили новый корпус со всеми удобствами. Минкнер и Добрынин стали использовать для тарировки термопар ванную комнату. Но Стечкин как-то положил ключ от ванной себе в карман и сказал Добрынину:
— Ванная, голубчик, сделана для самых обычных человеческих нужд, а не для ваших термопар. А вы, друг мой, используете ее не по назначению. Грязь развели — что в ванной, что в туалете, у вас одинаково.
«Много юмора в нем было», — смеется Александр Алексеевич Добрынин. Любил подковырнуть, но беззлобно. Работая в ЦАГИ, он продолжал ходить на лекции к H. Р. Брилингу в МВТУ. Садился с тетрадочкой в первом ряду, внимательно слушал, записывал. Когда Брилинг кончал лекцию, Стечкин спрашивал:
— Николай Романович, а как вы получили это выражение?
Брилинг начинал объяснять, не получалось, он кипятился, но логика была на стороне Стечкина, и спорил он всегда с открытым забралом.
К середине двадцатых годов в отделе сложились свои традиции. Никаких административных мер не принималось, но совершенно неприличным считалось уходить вовремя с работы, правда, и приходили утром не очень аккуратно. Не было «от сих до сих», трудились с интересом, и неудобно в пять домой уходить. Еще поработают, и кто-нибудь говорит:
— Ну, я, кажется, устал. На сегодня хватит. Еще немножко посижу — и пора.
Было и такое: кончили работу и всей молодой оравой шли пить пиво. Зима, на улице мороз, Стечкин в ушанке, тулупе, немодном, но удобном...
В 1920 году у Стечкиных на свет появился первенец — сын Сергей. Родился крохотный — кило шестьсот, много с ним пришлось помучиться Ирине Николаевне. В то время они уже перебрались на Арбат, в Кривоникольский переулок, дом номер шесть. Получилось это так.
Борис Сергеевич, как уже говорилось, рано стал независимым от матери человеком и жил в юности за счет частных уроков. Попадались и очень способные ученики. Стечкин учил читать детей Шаляпина, например, Бориса Федоровича, будущего художника. Был среди питомцев Бориса Сергеевича Саша Ванюшин, сын известного московского купца Георгия Сергеевича Ванюшина, имевшего большой собственный дом в Кривоникольском переулке. После Великого Октября таких, как Ванюшин, стали «уплотнять», подселяя к ним жильцов. Купец решил: чем жить с «незнакомыми оборванцами», не пригласить ли поселиться бывшего репетитора сына — оба, и учитель и ученик, недавно кончили Техническое училище и сохранили хорошие отношения. Георгий Сергеевич пришел к Стечкину:
— Не хочешь ли ты перебраться в наш дом?
Так в 1920 году Стечкины переехали с Вознесенки на Арбат, в район Молчановки и Собачьей площадки. Дом был деревянный, двухэтажный и, как многие московские купеческие дома, оштукатурен под камень и окрашен розовой краской. Шесть больших арочных окон выходили в переулок. Парадный вход был тоже арочный, переднюю и лестницу освещало круглое окошко над дверью. Справа в коридоре висело зеркало и был ход на второй этаж — там жила семья генерала медицины П. В. Мандрыко, который был женат на Нине Георгиевне Ванюшиной, дочери купца. Борис впервые здесь появился в 1911 году, репетируя брата Нины Георгиевны. Репетитор пришелся по вкусу, и никого другого хозяин дома для своего сына не желал видеть. В студенческие годы Стечкин некоторое время жил здесь с братом Яковом, а сейчас Борис Сергеевич, Ирина Николаевна и только что родившийся Сережа занимали две комнаты первого этажа, который после уплотнения стал большой коммунальной квартирой со множеством семей. Затем дом был пожалован правительством за заслуги в медицине Петру Васильевичу Мандрыко, именем которого назван военный госпиталь в Москве. Знал слитый хирург не только позволил жить в своем доме многим семьям, но и каждый год обращался с просьбой вплоть до Калинина, чтоб с него сняли обузу личной собственности или хотя бы освободили от налогов за дом, в общем-то немалых. Но проблема эта, видимо, была не из простых и так осталась нерешенной. Сын Петра Васильевича Андрей будет учиться у Стечкина и делать диплом под его руководством в Военно-воздушной академии...
Кроме Мандрыко, занимавших второй этаж, а вернее, полуэтаж, или мезонин, на первом жили шесть семей: Ванюшины, Белоусовы, Раковсковы, Цветухины, Кричевские и Стечкины. Из соседей наиболее запомнилась Стечкиным женщина с пятнадцатью кошками, которых она собирала по всей Москве, бесприютных и жалких.
У Андрея Петровича Мандрыко сохранилась домовая книга тридцатых годов с краткими сведениями об интересующем нас жильце: «Стечкин Борис Сергеевич, ур. г. Тулы, 1891 г., женат, русский, грам., польз, изб. правами, отношение к военной службе — в запасе РККА, № кв. — 3, 3 звонка».
Первое воспоминание о Стечкине у А. П. Мандрыко относится к 1924 году, когда четырехлетний Андрей увидел, как к их подъезду подкатила невиданная машина — аэросани, и из них вышел высокий человек в шлеме и огромных очках.
Обычно он входил в ворота — большие, чугунные; когда их открывали, выскакивали пять псов. Во дворе стояла его машина, на которой он ездил в любую погоду, в грязь и снег. Петра Васильевича Мандрыко он почти не видел — тот дни и ночи пропадал на работе, и даже общее увлечение — охота не сблизило их: Мандрыко любил ходить па бекасов, а Стечкин был больше «утятник». Кроме того, Борис Сергеевич когда-то ухаживал за Ниной Георгиевной, что не очень нравилось ее ревнивому мужу. Но отношения между семьями сложились очень хорошие.
... С террасы Стечкин входил в коридор, освещенный электрической лампочкой. Проводка была старинная, исполнена фирмой «Сименс и Гальске» по проекту, представленному 21 мая 1902 года. Стечкины занимали квартиру в правой части дома; если стать к нему лицом в переулке, три больших окна выходили в Кривоникольский. Вход в меньшую из комнат был с коридора, рядом с общей цинковой ванной с колонкой и туалетом. Одна комната — 22 квадратных метра, другая — 26. Площадь немалая, но и семейство стало расти. В 1922 году родилась Вера, в 1932-м — Ира. Стечкин продолжал здесь жить и когда стал профессором, и членом-корреспондентом, в академиком... Печь-голландка согревала обе комнаты. У входа в меньшую — за шкафами — тахта Бориса Сергеевича, письменный стол и мягкое кресло. Из маленькой комнаты дверь веда в большую, разделенную на три части стеллажами с книгами и шкафами. Здесь стояли кровать Веры и письменный столик, кровать Сергея и письменный столик, кровать Ирины Николаевны с маленькой Ирой, комодик, буфет. Так было до 1938 года. А в войну здесь жила еще и племянница Стечкина Евгения Яковлевна. После войны стало еще тесней — у детей появились дети. Стечкин разместился в большой комнате, в закутке. Кровать его стояла в углу у входа, отгороженная стеллажом. Простая железная кровать с грубым, как солдатское одеяло, пледом. Все просто. Мебель старая, собранная из разных мест. Вещам значения не придавалось, зато много было шкафов с книгами, завал книг. И порядка особого в библиотеке не наблюдалось.
— Ну вот, давайте искать Чезаро, — говорит Стечкин пришедшему гостю. Пороются по стеллажам — найдут. Порядок у него, конечно, свой был — в этом продуманном беспорядке он и заключался. Потому-то хозяин так не любил, когда перекладывали с места на место его вещи или книги.
— Это что, — говорил он, — вот у академика Ребиндера весь пол в кабинете книгами завален, к столу пройти нельзя, а он: «Ничего, ступайте по книгам!»
Гости нередко заставали Стечкина на кровати — спит, накрывшись пиджаком, сделанным из шинели, — все подоходному.
Домашний образ жизни у него был в основном лежачий. Не только в старости — многие старики очень подвижны, суетливы, он и в молодые годы любил полежать, поспать. Ночью вставал, чертил, писал — работал. С работы приходил — ложился, ему приносили чай — он очень любил чай, обязательно с вареньем на блюдечке. Разное правилось ему варенье: земляничное, смородиновое, клюква, вишня — какое было в доме. Многие свои открытия он обдумывал лежа. Спал много, мог сутки напролет проспать. «Стучусь к Стечкиным, — вспоминает А. П. Мандрыко. — Ирина Николаевна говорит:
— Борис Сергеевич спит.
— Совсем?
— Нет, пока начерно.
Спал он как медведь. И многим удачам в работе обязан своему хорошему сну. Вставал, занимался и снова спал — уже основательно».
В 20-е годы в ЦАГИ он создавал свою теорию расчета авиационных двигателей и методику построения их земных и высотных характеристик. И продолжал преподавать в Техническом училище, в Ломоносовском институте и в авиационном техникуме, о котором вышел приказ Реввоенсовета РСФСР:
«В ознаменование 11 сентября 1920 года 50-летия ученой деятельности профессора Николая Егоровича Жуковского, отдающего Воздушному Флоту с самого его зарождения свои силы, знания и опыт и воспитавшего молодое поколение научных и технических сил, выразить ему благодарность и реорганизовать состоящий в ведении Главного управления Рабоче-Крестьянского Воздушного Флота Республики Московский авиатехникум в Институт Инженеров Красного Воздушного Флота имени H. Ев. Жуковского».
В 1922 году институт стал действующей поныне прославленной академией имени Жуковского.
Борис Сергеевич — один из создателей и первых преподавателей академии.
«Профессор Стечкин, — говорит генерал-лейтенант Н. А. Соколов-Соколенок, — руководил кафедрой двигателей в первые годы существования академии, в ответственный период, когда было необходимо создавать новую научную дисциплину — теорию авиационных двигателей. В этот период им были сформулированы все основные положения этой дисциплины, остающейся без изменения на сегодняшний день».
Н. А. Соколов-Соколенок пять раз ходил сдавать Стечкину этот предмет. «Почему я вас так гоняю? — сказал профессор. — Чтобы, когда вы придете в войска, внушали бы уважение подчиненным к нашему предмету».
В 1921 году, через три года после окончания Технического училища, Стечкина утвердили профессором по кафедре двигателестроения Ломоносовского института. Перед этим у него не было никаких научных степеней и званий. Надо сказать, что все дореволюционные звания были отменены, и даже заслуженный профессор H. Ев. Жуковский проходил все сначала — голосовали в училище, потом утверждал нарком, о чем сообщалось в газетах. В тридцать лет Стечкин получил профессорское удостоверение, подписанное наркомом просвещения А. В. Луначарским.
В академии имени Жуковского на кафедре двигателей преподавателями были в основном ученики Бориса Сергеевича или люди, с которыми он прежде вместе работал. Поэтому здесь его давно все знали и уважали. Когда же они стали посещать его лекции, сталкиваться с ним на занятиях, то убеждались, что все слышанное о нем не только верно, но и неполно. Ко всем прочим качествам Бориса Сергеевича добавлялось еще одно, чрезвычайно важное: он не стремился лишний раз подчеркнуть свою образованность и как-то показать, что знает больше других. Даже подчас беседуя с малограмотным слушателем, он говорил на равных, давая возможность спокойно усвоить то, чему хочет научить. Эта его черта всегда поражала окружающих.
Слушатели академии первых лет — красные командиры, участники гражданской войны — все прибыли из армии в форме, подтянутые, с револьверами на ремнях. Крупные военные работники, у многих — два-три, а у одного товарища даже четыре ромба в петлицах. С особым уважением и завистью смотрели слушатели на тех своих сокурсников, у кого на левой стороне груди гордо горел высший знак пролетарской доблести — орден боевого Красного Знамени. Бывшие рабочие и крестьяне, ныне командиры армии нового образца, пришли учиться.
... Слесарем на Путиловском заводе в Петрограде, подручным токаря работал Алексей Чаромский. Там в 1917 году, перед Февральской революцией, вступил в партию большевиков, с завода ушел в Красную Армию, воевал с колчаковцами на Восточном фронте. После гражданской войны стал начальником политотдела Мурманского укрепленного района, потом военкомом Кронштадтской крепости.
Сырым, морозным, промозглым зимним днем 1922 года Чаромский в накинутой на плечи шинели читал рапорты и донесения в своем кабинете. В дверь постучали, и вошел молодой, невысокого роста военный. Представился:
— Дивизионный комиссар Урмин. Прибыл из политуправления округа, — и вручил пакет с несколькими сургучными печатями.
Чаромский вскрыл пакет и прочитал: «Направляется в Ваше распоряжение тов. Урмин Евгений Васильевич. У него демобилизационные настроения. Поэтому необходимо взять его в крепкие руки и заставить работать».
Чаромский назначил Урмина инструктором политотдела корпуса под Петроградом. Помимо службы, Урмин провел большую работу по самообразованию, полностью проштудировав «Капитал» Маркса.
А Алексея Дмитриевича Чаромского вскоре направили комиссаром в 1-ю истребительную эскадрилью, на вооружении которой стояли самолеты иностранных марок «ньюпор», «фоккер» и другие. Через год представилась возможность учиться, о которой он так мечтал: можно было поступать в Военно-воздушную академию имени профессора Жуковского, и Чаромский вновь встретился с Урминым. Вместе они отправились в Москву, вместе были приняты в академию. Сидели за книгами, учились летать — в «Жуковке» давали квалификацию летчика-наблюдателя, — слушали лекции известных профессоров: Ветчинкина, Юрьева... Динамику уравновешивания конструкций двигателей читал Владимир Яковлевич Климов, теорию авиационного двигателя, его рабочий процесс и характеристики — Борис Сергеевич Стечкин.
«После первой же встречи он произвел на меня особое впечатление, — вспоминает лауреат Государственной премии профессор, генерал Алексей Дмитриевич Чаромский. — Умные, проницательные глаза, красивое, привлекательное лицо — мимо него нельзя было пройти, не остановившись, не заметив. Он обладал талантом выдающегося педагога, часто импровизировал, излагал свои мысли исключительно логично, ясно, убедительно. Основным содержанием его лекций был тепловой расчет и характеристики авиадвигателей. Глубокое знание математики, механики, термодинамики, гидродинамики позволяло ему излагать теорию двигателей с широким охватом специфических особенностей рабочего процесса. Студенты неоднократно записывали и издавали литографическим способом лекции Бориса Сергеевича. В основном по ним и изучали теорию двигателя, так как книг еще не было. Если не ошибаюсь, сам Борис Сергеевич так и не собрался обстоятельно написать, оформить и издать замечательный курс своих лекций. «Ну какой я писатель, — отговаривался он, — да и времени нет».
Профессор Евгений Васильевич Урмин добавляет: «Обычно Стечкин читал лекции так: достанет из кармана свернутый пополам листочек бумаги и почти никогда в него не заглядывает. «Прошлый раз я вам говорил о регулировании карбюраторов. Вы все это зачеркните — все это неверно». И начинает читать заново. Нас это очень поражало: как же так, ученый, профессор, п вдруг — все неверно. А он был настоящим исследователем и читал совершенно новый в то время материал. Ему приходилось и пересматривать свою точку зрения. А главное, он ценил нас, не считал мальчишками, в глазах которых может уронить свой авторитет, как бы подчеркивал, что перед ним серьезные, сложившиеся люди, умеющие понять оказанное им доверие в том, что он не стыдился поправить себя. Он часто ссылался на работы студентов, которых ценил, в частности, упоминалось имя Королева — он учился у Стечкина в МВТУ».
С одной стороны, Борису Сергеевичу было и трудновато — народ собрался боевой, непокорный, своеволие некоторое ощущалось... В тридцатые годы его ученики стали работать руководителями в НАМИ,[1] ЦАГИ, и он, зная характеры бывших своих слушателей в академии, говорил, когда его приглашали к себе работать:
— Да разве с вами сладишь...
Но его очень ценили. Было у него свойство характера — подчинять себе, вернее, покорять людей своим обаянием.
Известный советский авиаконструктор Александр Александрович Архангельский рассказывает:
«Исключительной чертой Бориса Сергеевича было то, что он мог очень кратко, выпукло, ясно и доходчиво дать ответ на любой вопрос, который вы задавали. Другой часами будет объяснять то, на что у Бориса Сергеевича уйдет полминуты, и вам все станет ясно».
Нельзя сказать, что он читал свои лекции, казалось, он просто рассказывал. Он мог обратиться к аудитории:
— Что-то тут не получается. Давайте посмотрим, в чем дело. — Приостановится, подмигнет слушателям и станет долго что-то писать на доске. Когда все получится, спросит: — Вы ничего не заметили? Дело в том, что я вчера вечером дома проинтегрировал это выражение, и у меня здесь получился плюс, а сегодня — минус. И сейчас мне пришлось перестраиваться на ходу.
Любил он попадать в такие положения, из которых нужно искать выход и нелегко найти.
«Все-таки неуемная натура была! — говорит К. А. Рудский. — Будучи студентом Московского механического института имени Ломоносова на Тверской, я часто бывал на лекциях по теории авиационных двигателей. Борис Сергеевич в те годы блестяще, артистично читал лекции, и его приходили слушать не только студенты авиационного подразделения, но и с других факультетов. Читал ясно, сжато, образно, с хорошей дикцией излагая основные положения теории легких двигателей, аэродинамики и термодинамики, талантливо и просто облекая их в математическую форму и вместе с тем доходчиво показывая физическую сущность явлений и процессов.
После лекции его всегда окружала толпа студентов, и он отвечал на вопросы, подчас не относящиеся к прочитанному материалу. Стечкин потрясал глубиной мышления и огромной эрудицией в самых разных областях науки и техники».
О том, как Стечкин читал лекции, единого мнения не существует. Профессор В. И. Дмитриевский, слушавший Стечкина в академии имени H. Ев. Жуковского, говорит: «Борис Сергеевич давал много материала, но подносил скучновато. Голос у него был не ораторский. Говорил довольно ровно и спокойно, упрощенным языком, часто смягчал гласные: «бета», «ЦИЯМ» (вместо ЦИАМ). Не то чтобы усыплял, но и не будил. А записи интересные остались». Может быть, его лекции с первого взгляда могли показаться скучноватыми, но курсы, которые он читал, были глубоки и очень доступны, ибо их сущность он доводил до слушателей умно и умело.
«Лекции Стечкина было настолько интересно слушать, — вспоминает профессор Глеб Семенович Скубачевский, — что мы не замечали времени — и вдруг звонок. Все было оригинально в его лекциях: и подход к вопросу, и физические пояснения параметров, зависимостей, из которых вытекало конечное решение. После моей защиты в МАИ он отдал мне свой курс теории нагнетателей: «Теперь вы давайте!» И я долго читал. А я учился у него сначала в МВТУ, и Королев был моим однокашником, из параллельной группы».
В те годы в курсе лекций по общей теории авиационного двигателя рассматривались только поршневые моторы, а теория лопаточных машин, ставшая основой турбореактивного двигателя, была еще новинкой. Создавал ее Стечкин. Громко сказано — создавал. Он читал курс и как бы одновременно строил новую теорию. Он говорил о компрессоре, сначала приводном, для поршневого двигателя, потом о турбокомпрессоре, турбина которого работала от выхлопных газов поршневого мотора. Дома он делал записи, готовясь к лекциям, но никто никогда не видел Стечкина, читающего или выступающего по писаному. Перед Стечкиным были только доска и кусок мела.
«Пожалуй, главной характеристикой деятельности Бориса Сергеевича является его созидательная научная работа и неразрывно связанная с ней педагогическая деятельность, — говорит академик Сергей Константинович Туманский, учившийся у Стечкина в академии. — Работы, которые стали основой нашего образования, создавались им практически на новом месте. Ведь в то время я не помню трудов в этой области (кроме Рикардо и Пая), и труды Бориса Сергеевича были основополагающие и легли в основу общей теории и расчета авиационного двигателя, что и определяло основные положения при конструировании. Вот почему очень трудно отделить Стечкина-ученого от Стечкина-педагога. И ученый и педагог он был блестящий. У каждого из нас в жизни был главный учитель. Мой главный учитель — Стечкин».
Сложные формулы и положения теории он, как правило, сперва выводил на доске и доказывал, а потом говорил:
— Собственно, эту формулу можно было и не выводить — она запросто читается. — И показывал физическую сущность формулы так, что она сама становилась «говорящей».
Слушатели долго не понимали вывод уравнения сгорания.
— А зачем его выводить? — удивлялся Борис Сергеевич. — Надо только понять, куда идет тепло, и все станет ясным.
«С тех пор я помню это уравнение наизусть», — улыбается Сергей Константинович Туманский.
Он аккуратно вел записи, дома переписывал, оформлял, а потом с полным конспектом пришел к Стечкину:
— Посмотрите, пожалуйста, и исправьте, что не так.
— Знаете, батенька дорогой, — ответил Стечкин, — я вам верю, что вы все правильно записали, а у меня нет времени на это дело.
Решив однажды теоретическую задачу, он в дальнейшем терял к ней интерес. Стечкина волновали новые проблемы. Люди, знавшие Бориса Сергеевича, считают недостатком его характера малую заинтересованность в публиковании своих трудов. Многое из того, что он давал на лекциях, было совершенно новым в науке или технике и становилось источником для печатных работ его учеников, теряя значение для самого автора идей. Вот почему после него осталось мало напечатанных трудов. Единственный, пожалуй, капитальный труд — «Теория реактивных двигателей» — и то вышел в свет потому, что сильная группа стечкинских учеников в академии буквально заставила своего учителя поработать над изданием книги. Но это значительно позже. А в 1921 году были напечатаны его лекции и статьи по теории авиационных моторов, где Стечкин дает ряд классических выводов и формул, вошедших ныне в фундаментальные основы теории двигателей. Один из этих основных выводов можно сформулировать так: индикаторный коэффициент полезного действия зависит лишь от степени сжатия, состава горючей смеси и тепла, потерянного в стенках цилиндра, и не зависит от нагрузки и числа оборотов двигателя. Это положение теперь общепринято и стало основой теплового расчета быстроходных двигателей внутреннего сгорания. На лекциях в МВТУ Борис Сергеевич вывел формулу мощности двигателя в зависимости от расхода воздуха, ставшую теперь классической — ее можно найти во всех учебниках по теории двигателей. Он делает важное теоретическое исследование теоремы Био-Савара и делает об этом доклад в Париже, в академии наук, куда был послан в командировку. Доклад Стечкина опубликован в 1926 году в «Известиях Французской академии наук». Эта работа была представлена П. Аппелем в Париже. Стечкин показал, как можно воспользоваться теоремой Дирихле для нахождения потенциала скоростей вихревой трубки. В ЦАГИ он проводит исследования по теории вихрей, в 1927–1928 годах публикует две научные работы: «О тепловом расчете двигателя» и «Характеристики двигателя». Эти труды вместе с «Курсом лекций по теории авиадвигателей» и составили основу теории и расчета моторов для авиации, методики построения их земных и высотных характеристик.
Ему самому едва за тридцать, а уже столько учеников. В академии имени Жуковского он не только заведовал кафедрой и преподавал, но и руководил моторной лабораторией. Слушатели, энтузиасты авиационного дела, все свободное время отдавали лаборатории, ее оборудованию, начав, как начинали в те годы, с нуля, с пустых комнат. Молодежь работала с удовольствием, группируясь вокруг Стечкина. С ним интересно — на любой вопрос ответит и сам подбросит любопытную задачу. Голова его всегда была полна идей. И он дарил их: «Хотите заняться? Продаю идею на корню!» — любимое его выражение.
Научную работу он вел в основном в винтомоторном отделе, и наиболее интересующиеся слушатели академии были и там возле него, он и там давал им задания, и они считали для себя большим счастьем принимать участие в делах ЦАГИ вместе со Стечкиным. В отделе впервые в стране создавались установки для испытания двигателей воздушного охлаждения, построили стенд с воздушным обдувом двигателей вентиляторами. И каждый старался внести новое, помогая Стечкину. Вячеславу Дмитриевскому он дал задание рассчитать коленчатые валы новых двигателей, Ивану Лысенко — исследовать детонацию мотора. Слушатели академии не стеснялись приходить к своему молодому профессору за помощью и в ЦАГИ. Группа энтузиастов: Туманский, Пономарев, Федоров — решила принять участие в конкурсе на лучший двигатель для учебно-спортивного самолета. Борис Сергеевич внимательно следил за этим начинанием и своими советами помог довести проект до завершения.
Проектируя двигатели и установки для их исследования, излагая физическую сущность каждой формулы, Стечкин, как истинный ученик Жуковского, пропагандировал важность математики для инженера. Техническое училище он окончил, профессором стал, но математическое образование в значительной степени получил самостоятельно. «Что такое формула? — говорил он. — Формула должна отражать математическую характеристику явления и физику для практики, чтобы все было просто, ясно и прозрачно».
Свой первый курс по авиации он читал по просьбе Жуковского еще военным летчикам первой мировой войны. Затем, как нам уже известно, Николай Егорович передал ему чтение лекций по гидродинамике и в МВТУ и в Институте инженеров Красного Воздушного Флота. Учитель и ученик...
Александр Александрович Архангельский рассказывает об отношениях Жуковского и Стечкина:
«Познакомились мы в Техническом училище, подружились в воздухоплавательном кружке, созданном при училище Жуковским, часто встречались в Мыльниковом переулке. Никогда не забуду, как однажды, после революции, в тяжелое время, когда всего не хватало — и еды, и топлива, Борис Сергеевич в день рождения Жуковского принес на себе в Мыльников переулок огромную березу. Где он ее достал, не знаю, но думаю — не меньше центнера весила. Николай Егорович был доволен и очень благодарил Стечкина за подарок».
Последние месяцы жизни Жуковский провел под Москвой в деревне Усово. Советское правительство выделило ученому бывший помещичий дом. Недавно умерла любимая дочь Леночка, Николай Егорович тяжело перенес утрату и серьезно заболел. Часто навещают его ученики. Дом стоит на берегу скованной льдом Москвы-реки, и они приезжают сюда на аэросанях, что особенно приятно учителю.
17 марта 1921 года «отца русской авиации» не стало. Прошло более полувека, а Александр Александрович Архангельский со слезами на глазах рассказывает о смерти учителя:
«Я вот как сейчас помню... Чтобы привезти тело Николая Егоровича, мы втроем: Стечкин, Микулин и я — поехали на автомобиле — у нас тогда был открытый «кадиллак» — до станции Усово. Дальше ехать стало трудно, март, дороги не очищались, а дом Жуковского стоял примерно в полутора километрах от станции. Стечкин и Микулин наняли дроги и поехали, а я с машиной остался ночевать на станции. Наутро они привезли гроб с телом Николая Егоровича. Мы поставили его поперек машины и медленно поехали. У заставы позвонили в Техническое училище. От церкви Богоявления по всей Немецкой улице до здания училища стояли студенты всех высших учебных заведений, где преподавал Жуковский. Это была незабываемая минута. Все стояли с непокрытыми головами, летал самолет и бросал на гроб первые весенние фиалки...»
«... A мы трое, стоя в машине, думали о том, что он уже ушел от нас и принадлежит истории и вечности», — скажет академик Стечкин в «Комсомольской правде» 17 января 1967 года.
Николай Егорович мог умирать со спокойной душой за свое дело. Хорошие ученики после него остались.
... В двадцатые годы жили на земле три молодых, знаменитых и неразлучных друга. Казалось, вся Москва, и не только Москва, знала эту троицу новаторов техники, высоких, статных, — Стечкина, Архангельского и Микулина. Всю жизнь они называли друг друга только по фамилии то ли потому, что двух звали совершенно одинаково: Александр Александрович, а скорей всего от привычки, укрепившейся в юности. Дружба их прошла через всю жизнь, хотя это разные по характеру и деятельности люди. Архангельский и Микулин — чистые конструкторы, Стечкин — ученый-теоретик. Сколько сделали они вместе! Двигатели АМБеСы, аэромобиль, АрБеС, «глиссер Стечкина», целая серия аэросаней — некоторые Из них были сделаны совместно с H. Р. Брилингом.
Представьте себе молодого профессора, летящего на мотоцикле по Тверской, бросив руль и подправляя машину коленкой. Да и не просто по улице несется на своем «харлее-давидсоне», а по трамвайной колее, на приличной скорости, с креном! Так он ездил проводить занятия со студентами в Ломоносовском институте.
Художественной литературы он читал в те годы немного — некогда, голова занята, и отдых ей, видимо, нужен другой. Человек спортивного склада, он быстро входил в азарт. Специально ни одним видом спорта никогда не занимался, но две пары боксерских перчаток купил, чтобы можно было сразиться с кем-нибудь из друзей.
Однажды Стечкиных обворовали. Борис Сергеевич спал. Вор влез в открытое окно, спокойно обчистил квартиру, из вещей случайно остался лишь костюм Ирины Николаевны... Стечкин поймал мешочника, который перетаскивал краденую обувь... До конца жизни в комнате висели боксерская груша и перчатки.
Всю жизнь он был отличным спортсменом-мотоциклистом, автогонщиком, катерщиком, летчиком. Знаменитая троица часто соревновалась в аэросанных пробегах, и Стечкин не раз получал призы, а рекорды скорости и расхода топлива, установленные им на трассе Москва — Нижний Новгород, так и остались недобитыми.
В двадцатые годы такие соревнования были очень популярны, и наиболее значительные начинались на Красной площади в присутствии крупных авиационных начальников.
Иногда друзья устраивали свои пробеги, приглашали знакомых...
Сани выстраивались в ряд в Лефортове и по команде устремлялись в дальний путь по московским окраинам к финишу. Микулин решил как-то сократить путь, выиграть время и поехал не по дороге, а по снежной целине, махнул с крутого обрыва, сам счастливо отделался, а сани разбил. Правда, сани были чужие — Брилинга...
Профессор Георгий Александрович Озеров вспоминает о Стечкине:
«Он был прекрасный, между прочим, автомобилист, ездил отменно, в любом состоянии безукоризненно соблюдал все правила движения и очень уверенно вел машину».
Это качество сохранилось в нем до преклонных лет. Едет по шаткому мостику, слеги там какие-то постелены — ему хоть бы что! Если на московских улицах серая «Волга» с шиком обгоняла все машины, автомобилисты, улыбаясь, говорили:
— Академик Стечкин поехал!
В молодости он был очень вынослив. Мог целую ночь, а порой и не одну, простоять на охоте. Без устали ездил на мотоцикле. Каждую субботу гнал он свой «харлей-давидсон» больше чем за сто километров от Москвы, на хутор Суходол, где жила его мать, а на лето перебирались и жена с детьми. Нередко он приезжал в Суходол с разбитой коленкой или еще какой травмой — часто что-то случалось в дороге. Доводилось и переворачиваться. Дочь его, Вера Борисовна, помнит, как проснулась однажды в Суходоле и увидела отца всего в бинтах — разбился ночью на мотоцикле. Он и знакомых учил ездить на своем «харлее», потом на машине и моторной лодке. Стечкин был уже довольно пожилым академиком, когда появились мопеды, однако друзьям еле удалось отговорить его от покупки этой штуки:
— Вам нужно что-нибудь помощней, Борис Сергеевич!
А ему всю жизнь хотелось чувствовать мотор, быть поближе к двигателю.
Кто бы ни говорил о Стечкине, при одном упоминании его имени лицо собеседника озарялось. Такую память оставил о себе этот человек. И не беда, а счастье, что огромный ум и научная направленность естественно и неожиданно сочетались в нем с ребячьим озорством. Это еще больше привлекало к нему людей.
Да, он был таким же, как все люди, и все же отличался от обычных людей — и не только талантом. Абсолютно никакого зазнайства, никуда и никогда не вылезал со своим «я», но и спуску не давал, если его задевали. Характер его многим казался странным. Приветливый и общительный, Стечкин довольно туго сходился с людьми. Сказать, что у него много было друзей, нельзя. И в душу проникнуть к нему было нелегко, он казался очень сдержанным и скрытным и только под конец жизни стал кое-что о себе рассказывать. А с друзьями всегда был интересным и остроумным, душой компании.
Простой в общении с людьми, он был далеко не простым человеком.
Стечкин был из породы орлов. Смотришь на фотографию его, еще мальчишки, и понимаешь: таким трудно с детства. Рано начинается духовное неравенство. Казалось, такой же, как все, однако уже отмечен печатью необычности. Не обязательно из этой необычности что-то получится, но те, из кого получилось, выделялись и в детстве. А сказать о талантливом человеке, что он прост, — ничего не сказать. Было время, когда считали, что в музыкальных школах, например, при правильной постановке дела можно воспитать группу Бетховенов. Но и сам талант немного значит, если им бездарно распорядиться. Сколько славных людей гибло в России из-за лени и безволия, сколько не могло определиться из-за неверия в свои силы и неумения противостоять бездарностям, занимающим положение в обществе...
В двадцатые годы у молодого Стечкина было увлечение — бильярд. Да, пожалуй, не просто увлечение, а еще и некоторый дополнительный заработок, ибо Борис Сергеевич, как правило, почти всегда выигрывал у разных нэпманов, бывших офицеров и прочих ,не очень социально выдержанных тружеников кия и зеленого сукна. В бильярдной ресторана «Прага» у Стечкина был постоянный кий, и маркеры четко знали это. Если не с кем было сразиться, он играл с маркером, и тут не было ясно, чем кончится дело, ибо все маркеры, как известно, играют и, пожалуй, всегда будут играть заведомо успешно.
В бильярде, как и во всем, за что брался Стечкин, он стремился достичь совершенства. Дома с друзьями обсуждались правила, законы и способы игры. Чувствовалось, что Стечкин относится к бильярду наполовину как к научному делу, интересуется его механикой и умело использует ее на практике. Не просто играет, а продумывает игру. В прошлом веке вышла книга Кориолиса «Теория игры на бильярде». В ней все сказано: как бить по шару, все ударные точки обозначены, отскок от одной стенки, от двух стенок, от шаров. Стечкин досконально, как всегда, с карандашными пометками на полях изучил книгу Кориолиса. Потом он даст геометрическое решение математической задачи о круглом бильярде, хотя сама задача к игре в бильярд не имела отношения. Существовавшее до Стечкина аналитическое решение было неполным...
Как-то еще до революции ездил он в Харьков в командировку по делам лаборатории Лебеденко. Остановился в гостинице, где был бильярд, и за вечер обставил всех лучших местных игроков. Через день к нему подходит маркер:
— Приходите сегодня вечером, еще сыграем.
В этот раз Стечкина ободрали как липку, оставили без копейки. Он заложил серебряные карманные часы и отправил в Москву телеграмму с просьбой выслать денег на дорогу. Оказывается, посрамленные харьковские бильярдисты срочно вызвали из Ростова первого кия юга России и вечерком подсунули его Стечкину. Упоенный победами, Борис Сергеевич не заметил подвоха.
Память у него была отменная. Уже через много лет, в 1953 году, он приехал с Микулиным в Ленинград и в «Астории» решил тряхнуть стариной над знакомым зеленым сукном с костяными шарами. К нему подошел маленький, сморщенный, нафталинный старикашка — еле ножки держат, тихий такой старикан, желтый, будто из гроба вынули. Подошел и сказал очень вежливо:
— Давайте, я с вами сыграю.
Стечкин, сощурясь и внимательно разглядывая его, сказал:
— Нет, голубчик, я с вами больше играть не буду. Помните, вы меня в 1916 году чуть без штанов в Харькове не оставили?
«Первый кий юга России» все еще продолжал играть...
К старости Стечкин уже мало занимался бильярдом — партию-другую сыграет где-нибудь на отдыхе. Но в двадцатые годы разговоры об этой игре в квартире Стечкиных были частыми, и Борис Сергеевич предпочитал бильярд картам, которыми в свободное время увлекались тогда многие молодые представители технической интеллигенции. Был небольшой период, когда Архангельский занес в дом к Стечкиным покер. Ставки делались не крупные, но и не самые малые — такие, что все же представляли некоторый интерес для игроков. Выигрывалось и проигрывалось в соответствии с возможностями, а иногда и более. И все же картами Стечкин не увлекался, но умение играть сохранил до конца жизни, и в преклонном возрасте время от времени садился за «винт» с академиком Иваном Матвеевичем Виноградовым — ив Москве, и на даче в Абрамцеве. Играл вполне прилично. «Винту» его научил тесть, Николай Александрович Шилов. После «признания» у Шиловых Стечкин иной раз после обеда садился с тестем за ломберный стол. Каждое воскресенье до самой смерти Николая Александровича в августе 1930 года Борис Сергеевич и Ирина Николаевна с Сережей и Верой вчетвером ездили обедать к Шиловым в Мыльников переулок. В Москве появились первые таксомоторы — французские «рено», и Стечкин всегда старался приехать к тестю на авто. С утра шагал он за машиной на Арбатскую площадь. Зимой ездили на извозчике, ро особым шиком считалось прокатиться на «рено». А как были счастливы Сережа и Вера!
... Через двор дома № 9, где жили Шиловы, можно выйти на улицу Чаплыгина — она параллельна улице Жуковского. Сергей Алексеевич Чаплыгин жил в доме № 1а. Здесь бывал Стечкин. А Чаплыгин не рае приезжал в Крлвоникольский к Борису Сергеевичу, квартира которого всегда была открыта для друзей. Визиты Чаплыгин наносил, как правило, на пасху — такой у него был порядок. В этот день он даже не предупреждал о своем приезде по телефону, как обычно. Сергей Алексеевич обладал феноменальной памятью: помнил наизусть номера телефонов всех своих знакомых. Незадолго до смерти он жаловался:
— Совсем потерял память... Только в прошлом году звонил человеку и не могу вспомнить телефон.
Чаплыгин оказал большое влияние на Стечкина. Соратник Жуковского, крупнейший ученый-механик, один из основоположников современной аэродинамики, теории крыла, Чаплыгин, как и Стечкин, при жизни мало публиковался.
Много сил отдал Сергей Алексеевич созданию ЦАГИ, во главе которого стал после смерти Жуковского.
«Характерным для творчества С. А. Чаплыгина, — пишет академик М. В. Келдыш, — является то, что, развивая общие методы исследования, он всегда ищет им вполне конкретные приложения. Эта черта проявлялась на протяжении всей его научной деятельности. Он не имел ни одной математической работы, которая не была бы применена к решению конкретных задач механики».
Эта чаплыгинская черта наблюдалась и у Стечкина, ибо он стал не только крупным теоретиком, но и, воплощая свою теорию в практику, замечательным инженером. Чертежами он порой говорил лучше, чем словами, великолепно чувствовал форму.
В пасхальное утро все Стечкины ждали Чаплыгина. Когда он приезжал, Ирина Николаевна уводила детей во вторую комнату, чтобы не мешать долгим разговорам о механике. Особенно приходилось сдерживать любознательного Сергея. А он как-то взял в рот стеклянную трубочку с бумажкой на конце и показал взрослым, как бумажка присасывается к трубке. Между Чаплыгиным и Стечкиным возник длинный научный спор: дует Сережа в себя или от себя?.. «Если дуть от себя, — говорил Стечкин, — также появится сила, прижимающая бумажку к трубке». «Но я честно дул в себя», — смеется Сергей Борисович Стечкин.
Часто приходил сюда Михаил Васильевич Носов, профессор МВТУ, теплотехник и гидродинамик. Приходили инженеры Никитченко, Папмель, Яковлев, Ворогушин, Минкнер, Победоносцев, Скубачевский... «Многих, ныне уже старых и знаменитых людей, — говорит Сергей Борисович Стечкин, — я видел у папы, когда они делали дипломные проекты». Приходил Михаил Михайлович Дубинин, талантливый ученик Шилова, ныне академик. Не забывали и старые друзья: Архангельский, Туполев и, конечно, Микулин. Ездил он на машине НАМИ-1, про которую Борис Сергеевич говорил:
— Всякая гайка заворачивается слева направо, кроме некоторых гаек на машине Микулина!
Сконструировал машину инженер Константин Андреевич Шарапов в Научном автомоторном институте, и ею пользовались по мере надобности все сотрудники НАМИ. Недавно выпущена почтовая марка с изображением этой машины. В Иркутске случайно нашли уцелевший ее экземпляр — сейчас он в Политехническом музее.
Иностранные специалисты со снисходительной улыбкой глядели тогда на первые попытки советского автомобилестроения.
— Мой вам совет: не мучьтесь, возьмите лошадь! — полушутя-полусерьезно сказал как-то американский инженер. Но некоторые новшества НАМИ-1 применяются по сей день: независимая подвеска, мотор, предвосхитивший тенденции развития мирового двигателестроения будущих десятилетий. А ведь это только 1927 год, и надо отдать должное талантливому конструктору К. А. Шарапову, создавшему замечательный автомобиль.
Часто бывал у Стечкиных Александр Алексеевич Добрынин, которого Носов, работавший в то время у Бориса Сергеевича, переманил из НАМИ в ЦАГИ. Добрынин пять лет работал в винтоморном отделе — инженером, старшим инженером, заместителем начальника отдела по экспериментальной части. Вместе со Стечкиным он преподавал в академии имени Жуковского, где Борис Сергеевич был по совместительству начальником кафедры двигателей, потом начальником цикла, когда кафедру стал возглавлять Владимир Яковлевич Климов. Добрынин с большой теплотой вспоминает квартиру в Кривоникольском: две комнаты, тесно, дети, но гостеприимно и хорошо. Ирина Николаевна из-за детей закончила Плехановский институт не сразу, а лишь в 1924 году защитила под руководством профессора Я. Я. Никитинского дипломную работу по сточным водам города Москвы.
Говорят, Стечкин был разным на работе и дома. Если на работе он мог высказать прямо все, что думает по спорному вопросу, то дома был очень дипломатичным хозяином, иногда с шуткой разъяснял свою точку зрения.
Допоздна горел свет у Стечкиных. А утром за Борисом Сергеевичем приезжала машина. Рядом с ней уже стоял Трескин. Работали они вместе, Сергей Алексеевич жил в соседнем доме, был постоянным партнером по боксу и теннису, и Стечкин всегда подвозил его до работы. Сережа и Вера, увидев из окна машину, торопят отца:
— Папа, пора идти, Трескин уже стоит!
Каждое лето дети с Ириной Николаевной жили у бабушки под Тулой, на хуторе в Суходоле. Как появился у нее этот хутор? 9 ноября 1906 года царским правительством был издан указ о праве выхода крестьян из общин с принадлежащим собственнику земельным наделом, 29 мая 1911 года утверждено положение о землеустройстве — так называемая «столыпинская аграрная реформа». Сделав ставку на кулачество, она дала возможность наиболее зажиточному крестьянству скупать большие участки земли, мелкие имения, хутора. Эту-то реформу сумела обратить в свою пользу предприимчивая Мария Егоровна Стечкина, неимущая, но волевая и энергичная сельская фельдшерица. Воспользовавшись тем фактом, что была некогда замужем за дворянином, она сумела выхлопотать у Тульского дворянского собрания ссуду и в 1911 году приобрела небольшой хуторок в Суходоле, не заплатив за него ни копейки. А после Великого Октября за научные заслуги сына хутор оставили ей в собственность.
Это был деревянный дом — горница, спальня, кухня, русская печь, чуланы. За домом березовая рощица, овраг с ручьем и дубками, риги, овины, дорожка к соседям. Луг с лекарственными травами, кои регулярно собирала и сдавала Мария Егоровна — так было заведено. На первых порах она корову держала и даже лошадь Пурку, но последнюю сын Яша определил в Алексинскую больницу. Настоящим богатством был большой фруктовый сад со сливами, яблонями, малиной, клубникой и черной смородиной. Сад воистину большой, но запущенный. Ухаживать за ним Мария Егоровна одна не могла, а от детей и внуков, когда они наезжали, помощи особой ждать не приходилось. В саду стояли ульи с кавказскими пчелами, а дальше, на небольшом клочке земли, росли рожь и пшеница. Все это хозяйство процветало ровно настолько, насколько с ним управлялась Мария Егоровна. Еду ей возил Яков. Когда постарела, стала подолгу жить у детей.
Характер у Марии Егоровны тяжелый, взгляд строгий. Сохранился ее портрет, написанный маслом в Алексине за несколько дней до гибели...
Когда сыновья учились и приезжали домой на каникулы, Мария Егоровна, осерчав на них за что-то, хваталась за старый зонтик. Тогда Борюшка подставлял ей спину, и она усердно колотила его зонтиком. Борис Сергеевич со смехом вспоминал об этом:
— Мне не больно, ей удовольствие. Но порой она хватала и табуретку.
Наверно, отчасти потому, что долго ей пришлось жить одной с тремя детьми и надеяться только на себя, она была довольно скупой и прижимисто-экономной. В душе, может, не такая строгая, но с виду — да. В Суходоле жила с ней и ее мать, Матрена Васильевна, умершая в середине двадцатых годов, когда ей было за девяносто.
Мария Егоровна читала книги, газеты, политикой интересовалась. Конечно, не такая интеллигентная была, как жена Шилова Вера Николаевна, но очень самостоятельная и невависамая. Не хотела жить ни у кого из детей, хотя на зиму кто-то из них все-таки эабирал ее к себе. И дети ее слушали до старости.
Сыновья срубили на огороде летнюю дачку — деревянную избу, где летом любили спать бабушкины внуки. Очень удобная избушка получилась! Борис Сергеевич пристроил к ней застекленную терраску — низенькую, дети рукой до потолка доставали, а сам строитель входил согнувшись. Кухня и комната — вот и вся дача. Зимой здесь жила семья Якова Сергеевича, а Борис Сергеевич обычно спал летом на терраске. Под дачку почему-то вела муравьиная дорога. Сергей, сын Бориса Сергеевича, в детстве любил подраться — отцовская черта, — и особенно доставалось от него двоюродному брату Игорю, сыну Якова Сергеевича, будущему знаменитому конструктору советского стрелкового оружия. Но была у Сергея «ахиллесова пята» — он страшно боялся муравьев, и Игорь это быстро усвоил, обороняясь водившимися в изобилии муравьями...
Стечкин особенно любил приезжать в Суходол на покос. Косил с удовольствием, мощно, могуче. Попадались кочки — слетали и кочки вместе с травой, крепок косарь и физическую силу почитал в человеке не менее умственной. В той и другой природа ему не отказала.
Ездил в Суходол и зимой. После командировки во Францию появился у него маленький «фиатик» вишневого цвета. Двухместный, с откидным верхом, и за сиденьями было еще пространство, куда сажали детей. Каждую субботу машина эта снаряжалась в поездку.
В 1927–1929 годах семья снимала дачу под Алексином в сосновом бору, в двух километрах от города. Вера Николаевна Шилова жила в Алексине. Николай Александрович оставался работать в Москве. По воскресеньям он приезжал на дачу с дочкой, зятем, внуками и своим любимым аспирантом Мишей Дубининым — прежде, говорят, аспирант у профессора был вроде члена семьи. Бывало, ездили на поезде до Серпухова, потом на пароходе по Оке — места дивные.
Иногда алексинскую дачу посещала и Мария Егоровна, так что можно сказать, что в конце двадцатых годов летом под Алексином жила вся семья. Сюда же приезжал С женой и детьми и Яков Сергеевич.
Многие в Туле добрым словом поминают хирурга Якова Стечкина за бескорыстный труд, человечность и святое отношение к своей работе. Никогда после операции он не уезжал домой, сидел возле больного.
40 лет он проработал, сделал свыше 25 тысяч операций. Заслуженный врач России, награжден орденом Ленина. О нем говорили: «Даже одним авторитетом вылечивает».
Как и брату его, Якову Сергеевичу талант был дан не в одном измерении. Он прекрасно рисовал и в молодости учился живописи. В квартире Игоря Яковлевича висят светлые мастерские пейзажи Якова Сергеевича. Рядом картины его друга, передвижника Батурина. Очень интересный художник, он, к сожалению, как-то выпал из числа известных. А посмотрев картины Якова Сергеевича, подумаешь, кто больше в нем жил художник или хирург...
Борис Сергеевич очень любил своего старшего брата и часто, особенно в двадцатые годы, навещал его.
И племянники помнят дядю Борю больше по Алексину. На чем бы он ни приезжал — на «харлее», «фиате» или «форде» (у него всегда было какое-нибудь средство передвижения), его приезд был для ребятишек необыкновенным праздником. Они набивались в машину, Стечкин катал их по Алексину, а в чемодане у него всегда лежали шоколад и лимоны. Когда ехали на мотоцикле, «харлей» часто застревал на проселках, и мальчишки с радостью его подталкивали. Алексин тогда был маленький, 25–30 тысяч жителей. Дом Якова Сергеевича стоял на Косой горе, на окраине перед луговиной, сейчас она вся заселена. Мотоцикл или автомобиль в те времена в Алексине видели нечасто — в основном когда приезжал Борис Сергеевич.
«Мне всегда нравилось его умение обращаться с людьми, — рассказывает Олег Яковлевич Стечкин. — Такой у него был склад, манера общения, очень простая и задушевная, моментально найдет общий язык. Местные жители знали его, знали отца. Помню, в Першине разрядился у мотоцикла аккумулятор, так ребята деревенские катали «харлей» с горы на гору, как-то завели его, и эта небольшая авария превратилась в хорошее деревенское развлечение».
«Борис Сергеевич был очень уважителен к людям, — говорит Игорь Яковлевич Стечкин, — и никогда ни на кого не повышал голоса». — «На меня повышал», — возражает сын Сергей.
«Очень ласковый был, — вспоминает Евгения Яковлевна. — Я как-то заболела, он приходит: «Ну, племянница, как дела? Бедный ребенок, и на що ты рожон?» — скажет, и вроде полегчало даже...»
Любил народную речь, упрощенные слова, сам часто упрощал их: «племённица», «стервь»... Дочерям часто говорил: «Не стерви!» Ласкательно-уменьшительных слов почти не употреблял. Марию Егоровну называл просто «мать», сестру — «сестра», жену — «Ирина», детей — «Сережка, Верка, Ирока». Все незнакомые шоферы у него были «Васи», женщины — «Аннушки». Едет на охоту:
— Аннушка, продай молочка!
— А откуда вы знаете, что меня Аннушкой зовут? — Случалось, и угадывал.
В двадцатые и тридцатые годы он ездил охотиться с братом, а потом и с двумя «племенниками», Игорем и Олегом, в Першино. В те годы места там для охоты были завидные. Першино — бывшая охота великого князя Николая Николаевича. У Евгении Яковлевны хранится блюдо, на котором изображен великий князь на охоте в Першине рядом с бароном Гинзбургом. Блюдо это с царского стола, нашел его кто-то из охотников в першинской конюшне и подарил Якову Сергеевичу, который любил и живопись и охоту. Борис Сергеевич был-менее удачливым охотником, чем его брат. Стрелял метко, но мало. Стрелок хороший, но то ли рука у него легкая была — практически верно стреляет, однако уходит подранок и падает где-то далеко — не найдешь. Всех охотников он разделял на две категории — «пухалы» и «ахалы». «Пухалы» — «где-то что-то только мелькнуло, обязательно выстрелит»; «ахалы» — «ах, не успел пальнуть!» Брат его, если стрелял, как правило, убивал. Рука тяжелая. И у сына его, Олега, тоже. Подранков не получалось. Бориса Сергеевича в охоте больше привлекала природа. Над ним подтрунивали: все ходят, а он на месте — посидит, постоит... Рекс возле него вертится, красный сеттер. Сначала без собаки охотился, а потом завел Рекса. Очень любил болотную охоту и утку считал самой стоящей дичью. Но не пропускал и вальдшнепов, любил тягу, весну, когда все оживает. И больше природой любовался, чем стрелял. Стрелял меньше, чем мог, приносил обычно одного вальдшнепа, редко — двух. С племянником Олегом облачились как-то в лапти, решили, что так лучше ходить по болоту. Легкая обувь, в сапогах-то все равно ноги мокрыми будут, а тут не боишься порезов, хоть все равно ноги промочишь. Но ходить без привычки в лаптях трудно, сноровка нужна. Понатерли ноги, намучились, пришлось в болото забросить эту обувку, но все-таки походили в лаптях!
Казусы на охоте случались с ним постоянно. Как-то шел он к брату домой на Косую гору, шел с ружьем с охоты и заблудился ночью. Прочитал надпись: «Баня», зашел спросить, оказалось, не «Баня», а «Банк» — зрение подвело. Сторож чуть не убил.
С охоты Стечкин всегда возвращался радостный, с хорошим настроением и говорил иногда знакомым:
— Бывает у вас такая радость? Я вот выйду утром, вижу: солнце, погода хорошая, и так хорошо вокруг!
Мы подробно говорим о Стечкине двадцатых годов, ибо он уже подошел к своим выдающимся трудам и открытиям, основное в нем сформировалось и не менялось во всю дальнейшую жизнь его. Никогда он не заботился о своей карьере, и, казалось, слава и почести его не волнуют. И только однажды рассердился, когда решил задачу, пришел на работу и всем рассказал об этом, а кто-то взял да опубликовал решение под своим именем, и в академии имени Жуковского доклад на эту тему сделал. Стечкин сидел в зале.
— Хоть бы один встал и сказал, что все-таки я это решил. А то делаешь-делаешь, хоть бы кто сказал...
Милая душа! Отчасти он сам был виноват. Иной раз звонит утром в ЦАГИ: «Сижу дома. Мне нужны такие-то данные». Потом приходит: «Решил любопытную задачку». Очень любил он «мелкие», как сам говорил, задачки, особенно по механике.
— Решил! — радостно говорит он сотрудникам.
— Борис Сергеевич, а дальше что?
— Что дальше? Меня это больше не интересует.
— Написать бы куда-нибудь надо, — говорит ему Минкнер.
— Это несущественно.
После его смерти только профессором И. Л. Варшавским обнаружено две с половиной тысячи «несущественных», неопубликованных страниц, на многие десятилетия определяющих развитие научной мысли и техники. А ведь это только незначительная часть наследия Б. С. Стечкина. Сколько еще не тронуто в бывшем Институте двигателей АН СССР, в филиале этого института, в МАДИ, у сотен учеников Бориса Сергеевича...
На клочке бумаги, карандашом в ученической тетрадке — решение важнейшей задачи. На рыбалке или охоте, За рулем автомобиля — всюду работа мысли. Мысль его напряжена и, как и у всех одержимых людей, не знает отдыха. Человеку свойственно мыслить — даже во сне, только мысли у всех разные и по направленности, и по значению. «О чем вы все время думаете?» — спрашивали у Эйнштейна. Он отвечал: «Об эфире». Сидит Стечкин на берегу реки с удочкой, потом достанет какую-нибудь бумажку и что-то пишет своим мелким почерком. Голова поглощена делом, работой. Даже отвлечется на некоторое время, а все, кажется, работает, все думает о работе — потрясающая целенаправленность!
Об этой целенаправленности говорил в 1951 году на 60-летии Стечкина академик А. Н. Туполев: «Я помню молодого Стечкина. Он всегда ходил с какой-нибудь книгой. Но это были не романы, а либо «Термодинамика» Шюлле, либо Стодола. При этом одну и ту же книгу он мог носить, изучать и анализировать по нескольку месяцев». Книгу он всегда читал с карандашом, делая свои расчеты, дополняя. И друзья знали, что, если Стечкин носит какую-то книгу, значит, в это время он занимается только этим вопросом.
Сколько людей приходит к нему в винтомоторный отдел, и все чаще он консультирует их по необычным в те времена вопросам. Нередко можно видеть у Стечкина молодых Королева и Победоносцева. Сергей Королев еще студент МВТУ, слушает лекции Стечкина, а Победоносцева Борис Сергеевич называет просто Юрочкой...
Разговоры идут о реактивном двигателе, ракетах. Стечкина давно уже волнует эта новая техника — в ней он видит будущее авиации. К концу двадцатых годов Борис Сергеевич завершает теоретическое оформление одной из главных работ своей жизни. В 1928 году он читал курс лекций по гидродинамике на механическом факультете МВТУ и однажды обратился к студентам с предложением рассказать им «нечто новое и интересное». По Москве пошел слух об этой лекции. Вскоре он читает ее в одной из больших аудиторий Дома Красной Армии. Его просят опубликовать лекцию в печати. На технической конференции в ЦАГИ он делает доклад, а в феврале 1929 года во втором номере журнала «Техника воздушного флота» на страницах 96–103 появляется его статья «Теория воздушно-реактивного двигателя», которой суждено было стать исторической.
Тоненький ежемесячный научно-технический журнал с чертежами и фотографиями зарубежных бипланов, похожих на наши «кукурузники», со статьей об испытании первого цельнометаллического дирижабля... И вдруг читаем:
«Под реактивным двигателем (сокращенно РД) надо понимать такое сочетание воздушного двигателя и тепловой машины, в котором располагаемое тепло сообщается рабочему воздуху и идет на увеличение его количества движения, в результате чего получается движущая сила. В настоящей статье мы дадим элементарный анализ определения силы тяги и КПД реактивного двигателя, работающего в упругой среде. Для случая несжимаемой жидкости, когда тепловая сторона отсутствует, вопрос о силе реакции подробно рассмотрен H. Ев. Жуковским».
Так начинается статья профессора Стечкина. Борис Сергеевич рассматривает сжимаемый поток и выводит формулу силы R, которую называет свободной тягой реактивного двигателя, равнодействующей сил давления воздуха на внутреннюю и внешнюю поверхности двигателя:
R = m(V-Vo),
где
m — масса потока;
V — скорость выбрасываемого двигателем потока;
Vo — скорость набегающего на двигатель воздуха.
Формулой тяги ВРД и по сей день пользуются во всем мире.
В этой статье Стечкин показал, что при большой скорости полета воздух можно сжимать без компрессора. В приемном устройстве огромные скорости, с которыми воздух поступает во всасывающую систему, преобразуются в давление. Борис Сергеевич очень увлекся этим явлением. Его небольшая статья предвосхитила развитие авиации, стала, как говорили, «путь прокладывающей работой». О ней сразу пошла молва в нашей стране и за рубежом. Статья утвердит приоритет Советского Союза в воздушно-реактивных двигателях и создаст мировую славу ученому. Стечкину пишут многие зарубежные специалисты. В 1930 году приходит письмо от итальянского ученого генерала Артура Джиовани Крокко. Он просит разрешения назвать один из основных теоретических циклов воздушно-реактивных двигателей «циклом Стечкина»...
Ничто, как время, не может определить подлинную ценность работы или идеи в любой отрасли. Проходят десятилетия, и нередко главным оказывается не то, что когда-то нашумело, а то, на что, может, и должного внимания не обратили.
Однако то, к чему стремился Стечкин, через десятилетия стало главным направлением развития авиации. Почти вся авиация у нас теперь воздушно-реактивная. Это, пожалуй, и есть высшая, земная и небесная оценка предвидению Бориса Сергеевича Стечкина!
Долго шло человечество к этому открытию. Если верить восточной легенде, китаец Ван Гу еще в 1500 году пытался подняться в воздух на собственной пороховой ракете. В 1740 году во Франции по приказу Людовика XV из специальной пушки стреляли в небо крупным ядром, и ученые некоторое время были уверены, что удался запуск искусственного спутника Земли. В начале XIX века Клод-Фортуне Рюжжери поднял на 200 метров на ракете ягненка и опустил с парашютом на землю. Наверно, в истории можно найти немало подобных примеров ракетных дерзаний.
Но авиация пошла по иному пути, и человек стал по-настоящему летать на самолетах с поршневыми моторами. Они, казалось, на многие годы определили судьбу авиации. Некоторые крупные конструкторы моторов и авиационные деятели даже спустя полтора-два десятка лет после стечкинской статьи считали, что на их век поршневых двигателей хватит. Еще бы! Несколько десятилетий, постоянно совершенствуясь, надежно работает на самолете поршневой мотор. Но если заглянуть в века сквозь круглый диск пропеллера, то задолго до его гула, еще при Петре I русские мастера запускают пороховые ракеты. Вышли высочайшие указы о создании «ракетных заведений» для изготовления ракет и подготовке специалистов по ракетному делу. Создателем первых отечественных боевых ракет, применявшихся в 1825 году на Кавказе и в 1828 году в войне с Турцией, был генерал А. Д. Засядко. Артиллерист-пиротехник генерал К. И. Константинов в конце XIX века, а М. М. Поморцев в начале нашего века пишут работы, связанные с изучением и практическим применением боевых ракет. К. И. Константинов первым делает вывод о неэкономичности полета ракет на малых скоростях и успешно применяет свои ракеты в Балканской войне 1877–1878 годов. А еще до этого русские инженеры Третесский, Соковнин, Телешов и Гешвенд предлагают различные проекты реактивных двигателей для летательных аппаратов. Но идею применения ракетного двигателя на аппарате тяжелее воздуха впервые обосновал Николай Иванович Кибальчич. Студент Петербургского института инженеров путей сообщения, осужденный за участие в покушении на императора Александра II, за несколько дней до смертной казни в марте 1881 года чертит проект воздушного корабля с ракетным двигателем, где фактически решает вопрос и о регулировании тяги: в камеру сгорания взамен сгоревшего пороха вводились новые пороховые шашки. Газ, вырывающийся из камеры, где сжигается порох, толкает не поршень, заставляющий вращаться вал с пропеллером, а летит назад, создавая реактивную силу, толкающую вперед тело, из которого он вылетает. За два дня до смерти Кибальчич пишет министру внутренних дел: «По распоряжению вашего сиятельства мой проект воздухоплавательного аппарата передан на рассмотрение технического комитета; не можете ли, ваше сиятельство, сделать распоряжение о дозволении мне иметь свидание с кем-либо из членов комитета по поводу этого проекта, не позже завтрашнего утра, или, по крайней мере, получить письменный ответ экспертизы, рассматривавшей мой проект, тоже не позже завтрашнего дня». Конверт с проектом Кибальчича вскрыли через 36 лет, после Великого Октября. Символично, что внук Н. И. Кибальчича
А. Ев. Голованов станет известным летчиком и полководцем, Главным маршалом авиации...
В конце прошлого и в начале нынешнего века русские ученые H. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. В. Мещерский публикуют важные теоретические работы по реактивному движению. В 1882 году в труде Жуковского «О реакции вытекающей и втекающей жидкости» выводится формула для силы реакции струи жидкости, вытекающей из сосуда, движущегося с любой скоростью. В 1903 году появляется работа Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами», в которой впервые дается теория полета ракеты, расчеты расхода топлива, предлагается схема жидкостного реактивного двигателя и определяется его коэффициент полезного действия. «За эрой аэропланов винтовых должна следовать эра аэропланов реактивных», — говорит провидец.
Много выдвигалось различных проектов, были среди них и воздушно-реактивные двигатели. Так, в 1906–1914 годах инженеры Караводин, Герасимов, Горохов, Никольский создают проекты пульсирующих, турбокомпрессорных, воздушно-реактивных и турбовинтовых двигателей.
В 1924 году В. И. Базаров дает схему турбокомпрессорного двигателя с центробежным компрессором.
В. В. Уваров, известный ученый, выдвигает новые перспективные идеи в гаэотурбостроении.
И вот 1929 год, статья Стечкина. Конечно же, она родилась не на голом месте. Весь предыдущий опыт гидродинамики, труды Жуковского привели Стечкина к важным выводам. Интересно отметить, что статья сказала о целесообразности применения воздушно-реактивного двигателя при весьма больших скоростях. Это предвидение полностью оправдалось практикой скоростного воздушного флота. Докладывая в ЦАГИ о своей новой работе, Стечкин уделил большое внимание вопросу о том, следует ли делать прямоточный ВРД или турбокомпрессорный. В то время КПД компрессора был не выше 0,6, а КПД турбины 0,65–0,75, что при температуре 600–650° С исключало возможность выполнения турбокомпрессора для ВРД. Стечкин же, решая задачу для прямоточного двигателя, говорит о возможности турбокомпрессорного реактивного двигателя и дает общие уравнения. Через несколько лет, в 1932–1935 годах, в коллективе, руководимом Ю. А. Победоносцевым, будут построены первые воздушно-реактивные двигатели.
«Есть ученые, которыми гордится все человечество. Их работы озаряют путь современной научно-технической революции. К таким ученым принадлежит академик Борис Сергеевич Стечкин, — пишут в статье, опубликованной в № 12 за 1971 год журнала «Гражданская авиация» генерал-полковник А. Пономарев, академик С. Туманскин и заслуженный деятель науки и техники И. Варшавский. — Если бы, кроме этого, — говорят они о работе 1929 года, — Б. С. Стечкин ничего не создал, то все равно бы вошел в историю авиационной науки и техники. Но он был разносторонним ученым и сумел внести капитальный вклад в развитие гидроаэромеханики, теплотехники, в конструкторско-инженерную практику».
В двадцатые годы начинается научная слава Стечкина на международном уровне. Еще до статьи 1929 года его труды знают не только в нашей стране. Его приглашают в гости крупнейшие ученые Запада. Была империалистическая война, две революции, гражданская война, интервенция, и наша Родина оказалась на несколько лет отрезанной от мировой науки. С первых же лет мирного строительства наше правительство устанавливает научные контакты с симпатизирующими новому обществу заграничными учеными, посылает за рубеж советских научных работников. В составе делегаций Стечкин посещает Францию, Германию, Англию.
В европейских странах он знакомится с новинками аэродинамики и моторостроения, сам читает лекции о достижениях русской аэродинамической школы, рассказывает о трудах Жуковского и Чаплыгина. Он гордился своими работами в области аэродинамики, может быть, сказывалась близость и тяготение к Жуковскому, а сам скорее был термодинамиком и теплотехником. Одно из его аэродинамических открытий возникло из табачного дыма, из опыта курильщика. Борис Сергеевич курил большую часть жизни, курил помногу — за день в огромной пепельнице скапливалось с полсотни отработанных папиросных гильз. Затянувшись, он любил пускать кольца дыма и, наблюдая за ним, замечал, что первое кольцо, увеличиваясь в диаметре, постепенно теряет скорость, а второе, напротив, сужаясь, убыстряется и проходит сквозь первое, а затем они меняются местами. «Если бы не было трения о воздух, они так бы и продолжали поочередно проходить сквозь друг друга», — думает Стечкин. На этом простом, обыденном примере он решает сложную задачу о вихрях, теоретически доказав чередование колец. Трудно пока сказать, каково практическое значение этого решения, может быть, Стечкин думал о вращающихся струях, о том, как будет двигаться такой закрученный поток, а может, решал задачу для тренировки ума — он любил и отвлеченные теоретические проблемы, стремясь в разных явлениях отыскать логические связи.
— Я ненавижу математику, — не раз слышали от него. Он был антиподом кабинетного ученого и говорил так, считая, что обилие математики может затмить физическую сущность явления.
О своем решении задачи о кольцами дыма Стечкин рассказал во Франции в 1924 году крупному ученому Полю Аппелю — у нас сейчас переведены и изданы три тома его «Теоретической механики». Аппель не согласился со Стечкиным и публично объявил его решение неверным. Но через месяц прислал Борису Сергеевичу письмо с извинениями и газетную вырезку, где писал, что ранее выступал неправильно, а сейчас полностью согласен с русским профессором Стечкиным.
В 1924 году Стечкин побывал в Германии, в Геттингене, в аэродинамической лаборатории Прандтля. Людвиг Прандтль, крупнейший немецкий аэродинамик, создатель теории пограничного слоя, произвел большое впечатление на Бориса Сергеевича — обаятельный, красивый, большой ученый. В Англии Стечкин знакомится с Ламбом, который написал целую энциклопедию по гидродинамике, изучив всю мировую литературу по этому вопросу. «Я просто не встречал другого человека, — говорил о нем Борис Сергеевич, — который бы знал абсолютно все, что сделано в мире по гидродинамике». И объяснял это тем, что у западных профессоров очень малая академическая нагрузка, что дает возможность работать над собой, расти как ученому.
У нас тогда еще было мало профессоров, их загружали лекциями, лабораторными занятиями со студентами, и времени для научных дерзаний оставалось совсем немного. Одним из первых шагов к решению этого вопроса стало постановление Совнаркома от 3 декабря 1920 года, подписанное В. И. Лениным:
«В ознаменование пятидесятилетия научной деятельности профессора H. Ев. Жуковского и огромных заслуг его как «отца русской авиации» Совет Народных Комиссаров постановил:
I. Освободить профессора H. Ев. Жуковского от обязательного чтения лекций, предоставляя ему право объявлять курсы более важного научного значения...»
Стечкин любил свою преподавательскую работу, чистая лекции много лет, даже став академиком. Из заграничных поездок он привозил много нужной для преподавания научной литературы, особенно в молодые годы. И сейчас на стеллажах домашней библиотеки его сына, профессора С. Б. Стечкина, стоят Пикар, Бертран, Дарбу, классики дифференциальной геометрии и математического анализа — память о поездке отца во Францию. Стечкин знал английский, немецкий и французский, но говорил: «Знаю все три, и все три плохо». Ему казалось так, потому что он значения языкам не придавал и специально ими не занимался, ни наяву, ни во сне, как стало модным в наше время. Правда, нередко Стечкин считал, что разговаривать на другом языке не обязательно, но понимать нужно и, конечно, уметь читать: «Английский король Георг I не знал английского языка, и нам хоть бы русский знать мало-мальски».
На столе у него можно было увидеть «Юманите», и в последние годы жизни, когда хворал и лежал в больнице, просил свою сестру Александру Сергеевну, хорошо знавшую языки, почитать ему по-французски. В анкетах писал: «Читаю спец. литературу на английск., французск. и немецк. языках». Многие книги библиотеки Стечкина на этих языках содержат его пометки — он действительно их читал и карандашом делал исправления некоторых положений и формул. Среди этих книг были у него любимые, классические: «Гидродинамика» Ламба, «Термодинамика» Шюлле, «Паровые и газовые турбины» Стодолы, «Механика» Аппеля... Читал он в основном классические произведения по интересующим его разделам науки и техники и ученикам своим советовал:
— Не тратьте времени на ерунду, читайте классиков!
В поездках по Европе с ним рядом был верный во все времена друг — Александр Александрович Архангельский. Высокий, подтянутый, истинно интеллигентный человек, в молодости он был похож на англичанина. «Но если Архангельский — «английский джентльмен», то Стечкин «русский джентльмен», — шутят о них друзья.
Александр Александрович Архангельский... Сухощавый седой человек в строгом черном костюме со звездой Героя Социалистического Труда рассказывает о своем друге, о поездках с ним за границу. И понятно, вспоминается не только совместная работа, не одни деловые встречи, но и веселые, забавные истории, которые больше остального западают в память. Затуманит время научный разговор в лаборатории Аппеля, но почему-то высвечивает парижский фонтан, и они, молодые, Стечкин и Архангельский, купают некоего Жана в этом фонтане, — пришлось, правда, выплатить перепуганному французу кое-какую денежную компенсацию... В 1924 году в Канне друзья остановились у Николя Попова, дяди Архангельского. В свое время Николя Попов поехал сюда лечиться, и подвернулось ему тут наследство — дворец из восьмидесяти комнат. Эти апартаменты дядя и предоставил на период командировки племяннику и его другу.
К числу веселых французских «открытий» можно отнести изобретение нового способа открывания бутылок. Бутылка ставится на край стола так, чтобы, падая, она стукнулась дном о пол, вышибая пробку. У Стечкина этот трюк получался блестяще.
В Канне друзья прожили полтора месяца и на поезде отправились в Париж. В одно купе билетов не достали, пришлось ехать в разных. Попутчиками Архангельского оказались две русские девицы и их гувернантка, сразу принявшие его за англичанина. А Александр Александрович, чтобы укрепить их уверенность, достал британскую газету и, делая вид, что читает, время от времени произносил английские фразы. Девицы же меж собой обсуждали важнейшую проблему: как бы им познакомиться с интересным молодым человеком. Говорили они вслух по-русски и пришли к единому мнению угостить джентльмена конфетами, и наиболее смелая на ломаном французском предложила ему трюфель.
— Спасибо, я не люблю сладкого, — по-русски ответил «англичанин».
В Лондоне, возле гостиницы, где жили друзья, на пристани выдавались напрокат моторные лодки. Стечкин познакомился с очаровательной англичанкой и решил с ней покататься по Темзе. Нанял лодку, что не очень-то дешево стоило, сел в нее с англичанкой. Рядом появился матрос.
— А вы зачем? — говорит ему Стечкин.
— Я моторист. Для моторной лодки нужен моторист. Я буду вас сопровождать.
Это совсем не входило в планы Стечкина. С большим трудом ему удалось высадить на берег англичанина.
— А где же горючее? — спросил у него Стечкин.
Матрос нехотя швырнул в лодку какой-то бачок.
Но только добрались до середины Темзы, мотор заглох, лодка остановилась. Вместо бензина Стечкину подсунули нечто совсем непригодное для мотора, а деньги взяли. Кое-как добравшись до берега, Борис Сергеевич красноречиво зашвырнул ногой бачок в Темзу.
Рассказывая разные забавные истории, А. А. Архангельский не говорит о большой работе, которую они со Стечкиным проделали за рубежом для помощи молодому Красному Воздушному Флоту. Знакомство с западной наукой, конструкциями двигателей и самолетов, установление необходимых контактов — все это они делали умно и умело, сполна выполнив ответственные задания Родины.
После опубликования «Теории воздушно-реактивного двигателя» в 1929 году имя русского профессора Стечкина становится в один ряд с именами самых крупных авиационных теоретиков мира.
В сентябре 1929 года его вызвал начальник Управления Военно-Воздушных Сил Красной Армии Петр Ионович Баранов:
— Борис Сергеевич, нам с вами предстоит съездить в Америку. Создана правительственная комиссия, которая начнет переговоры с американскими авиационными фирмами о предоставлении нашей промышленности технической помощи. Меня назначили руководителем этой комиссии. Поедете вы, Туполев, Харламов, Урмин — их вы знаете. Секретарем комиссии будет начальник иностранного отдела нашего управления Фельдман.
Да, этих людей Стечкин знал. Андрей Николаевич Туполев продолжал командовать в ЦАГИ отделом опытного самолетостроения, стал известным конструктором, совсем недавно его имя прогремело на весь мир: экипаж летчика Шестакова на туполевской машине «Страна Советов» совершил успешный перелет в США — просто потряс Америку! Знал Стечкин и председателя научно-технического комитета Управления ВВС Николая Михайловича Харламова (потом он станет начальником ЦАГИ) и способного инженера-конструктора Научного автомоторного института Евгения Васильевича Урмина — оба были его слушателями в «Жуковке», только Харламов учился во втором выпуске, а Урмин закончил академию недавно, в 1928 году, с четвертым выпуском. Туполев и Харламов — самолетчики, Стечкин и Урмин — мотористы. Ну а Баранова Стечкин знал и по службе, и по аэросанным пробегам — там всегда можно было увидеть начальника Управления ВВС. Баранов любил Стечкина и бывал у него в Кривоникольском.
Петр Ионович был сыном петербургского ломового извозчика, в 1912 году стал большевиком, на каторге был, служил солдатом в царской армии. В гражданскую стал комиссаром, членом Реввоенсовета. Не имея специального образования, он полюбил и изучил авиацию, стал хорошо разбираться в ее тонкостях и пользовался большим авторитетом у специалистов. В 1921 году в Николаеве на 1-м авиационном совещании армейских командиров, где он присутствовал, была принята такая резолюция:
«Ни для кого не секрет, что наш родной Красный воздушный флот стоит на краю гибели. Новых самолетов почти не поступает, а немногие трофейные, захваченные у контрреволюционеров, также скоро выйдут из строя».
С этого дня комиссар Красной Армии Баранов занимается авиацией, становится ее руководителем в масштабе страны. Погибнет Петр Ионович в авиационной катастрофе в 1933 году. Именем его назван ЦИАМ — Центральный институт авиационного моторостроения.
... Они вшестером собрались у Баранова. Петр Ионович сказал, что правительство поставило перед комиссией задачу: из числа лучших, ведущих американских авиационных фирм выбрать такие, у которых есть смысл приобрести лицензии на моторы, самолеты, агрегаты, а если удастся, попытаться добиться и кредитов.
В эти годы американская промышленность переживала жестокий экономический кризис, ей нужны были рынки сбыта, и ненависть к коммунистам вынуждена была уступить место разумному для капитализма бизнесу. У Страны Советов еще не было дипломатических отношений с Северо-Американскими Соединенными Штатами, но многие фирмы этой страны были не прочь договориться о продаже своей продукции.
28 января 1929 года в беседе с известным американским сельскохозяйственным деятелем Кэмпбеллом Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И. В. Сталин сказал: «Для меня ясно, что САСШ имеют больше оснований для обширных деловых связей с СССР, чем любая другая страна. И это не только потому, что САСШ богаты и техникой и капиталами, но и потому, что ни в одной стране не принимают наших деловых людей так радушно и гостеприимно, как в САСШ».
Комиссии предстояла очень важная поездка. Каждому из ее участников пришлось на время отложить все срочные текущие дела: Стечкину — работу над проектами турбовинтового двигателя и поршневого генератора газа для турбин (в 1929 году — турбовинтового!), Туполеву — создание нового, актуального военного самолета. Урмина тревожила судьба одноцилиндрового экспериментального двигателя.
— Недавно в Америке закончила работу комиссия под председательством В. И. Межлаука, — сказал Баранов. — Она заключила договор с Фордом, и теперь у нас в Нижнем Новгороде строится автомобильный завод с американской технологией производства. Успешный опыт этой комиссии будет полезен и для нас.
Провели несколько подготовительных совещаний, наметили материалы, которые нужно изучить и взять с собой. Стечкин и Урмин, сравнивая продукцию двух основных американских авиационных моторных фирм «Кертисс-Райт» и «Пратт-Витней», пришли к выводу, что, видимо, лучше иметь дело с первой из них, объединяющей производство самолетов и моторов. Кроме того, с этой фирмой уже имеется договоренность, по которой «Кертисс-Райт» будет содействовать приезду советских технических представителей.
8 декабря 1929 года Стечкин на своем маленьком «фиате» подъехал к Белорусскому вокзалу. Старый добрый Белорусский вокзал... Все в сборе. В восемнадцать сорок поезд отходит от перрона. Международный вагон. Двухместные купе. Страшная духота — перетопили.
Придется ехать через Германию и там получать визы — в Америке пока есть только торговое наше представительство Амторг.
На следующий день подъехали к польской границе, к станции Негорелое. Пограничники, таможня, досмотр багажа. Путешественники переходят в маленькие вагончики — это Запад, поезд пойдет по узкой колее. За окнами польская равнина, а места похожи на наши — такой же нечищеный лес, бедные крестьянские хаты. Только города меняются быстрее. Вечером была Варшава, наутро Берлин. На вокзале встречают работники советского торгпредства и везут в пансионат на Гайсбергштрассе, 39. Нужно оформлять документы, а Урмин забыл дома фотографии — пришлось срочно фотографироваться в Берлине. Стечкин на снимке сидит непривычно прилизанный, при галстуке, в пиджаке с авторучкой в нагрудном кармашке, чуть улыбаясь глазами и уголками губ, резкая складка между бровями над переносицей, Так он смотрел в круглое стеклянное окошко деревянной коробки на треноге. «Дочери Верке, самой умной, от отца. В. Стечкин. 8. XII.29». В день отъезда он подарил желе и детям по фотографии из тех, что остались после оформления выездного дела. «Жене Ирине, самой любимой, от мужа», «Сыну Сергею,
В тот же день комиссия побывала в американском консульстве.
Консул беседовал с каждым отдельно, но вопросы и ответы были примерно одинаковыми:
— Кто вы?
— Инженер.
— Были ли на военной службе?
— Нет, гражданский инженер.
— Состоите ли в Коммунистической партии?
— Нет.
Дольше всех — полчаса — консул продержал Баранова: Петр Ионович ехал под другой фамилией, чтобы миссия не сорвалась в самом начале, а консул, как бы почуяв что-то неладное, все не хотел отпускать его. Наконец сказал, что ответ насчет виз даст через два-три дня.
Члены комиссии не теряли времени даром. 11 и 12 декабря они провели на фирме «Сименс», с которой ранее было заключено торговое соглашение на поставку моторов. Руководителем нашей приемки на «Сименсе» работал Сердюков, однокурсник Урмина по академии, это и помогло всем попасть на фирму. «Сименс» в тисках кризиса. Безлюдные мастерские, мертво-молчаливые станки... Стечкин осматривает готовые моторы, интересуется их испытанием. Оказалось, оно ведется на винте, который тарируют в другом месте.
— Нарушается идентичность показаний, — замечает Стечкин. — У нас в ЦАГИ это дело поставлено лучше.
Нужно ничего не упустить, а полезное взять на вооружение.
Вечером в пансионате он встретился со своим заместителем по винтомоторному отделу Николаем Ивановичем Ворогушиным, который был ранее командирован в Германию знакомиться с производством дизелей. А на другой день получили визы в США. 13 декабря выехали к пароходу в Бремен, старинный немецкий город. Длинные узкие улицы покрыты плотно подогнанной каменной плиткой, тротуары залиты асфальтом. «Где тут быть грязи? — думает Стечкин. — Сотни лет, изо дня в день, она вылизывается щетками». Ночевали в роскошных номерах. Истинный немец не заплатил бы 24 марки за ночевку! «Говорят, у них даже министры ездят во втором классе, — запишет в своем путевом дневнике Ев. В. Урмин, — а мы вчера сюда ехали в первом, боясь показаться недостаточно респектабельными».
Тепло. Дождь. Серый камень. Декабрь. Все ходят без пальто.
Огромный океанский пароход «Колумбус» в дожде и тумане, закрывающем порт, отчаливает от пристани. Наши пассажиры утопают в глубоких коврах коридоров, холлов, роскошных кают почти пустынного первого класса. По каютам распределились так: в двухместных — Стечкин и Туполев, Харламов и Фельдман, в одноместных — Урмин и Баранов.
Семь дней мерно и мощно ухают корабельные машины. Небо серое, пасмурное, но спокойное. Волны в океане необыкновенной длины и тоже серые, как небо. На палубе сильный ветер заставляет держаться за поручни. Но тепло, и все по-прежнему без пальто. «Гольфштрем», — доверительно сообщает Стечкин Туполеву, и оба смеются.
Пассажиры первого класса в основном люди солидные и по кошелькам и по годам. Молодежи почти нет, только у одного толстого седого американца молодая красивая жена. Стечкин мечтает вечером пригласить ее на танцы, а пока наши путешественники беседуют с ее мужем, которого меж собой прозвали «директором». «Директор» рассказывает, что недавно в океане был сильный шторм, погибло много судов.
— А нам Атлантику нечем и вспомнить будет, — говорит Стечкин.
И зря сказал. 18 декабря «Колумбус» так раскачало, что большинство пассажиров на другой день отказались от завтрака. Пусто на палубах, игровых площадках, в бильярдной и кинозале. Пассажиры страдают в гамаках. Первым из нашей делегации слег Борис Сергеевич, потом Фельдман — ему досталась львиная доля океанских мучений. Как всегда, бодр и весел Туполев.
— Брюки-то испортил, платить придется, подшучивает он над хмурым Фельдманом.
— Ничего, друзья мои, мы все расписаны по спасательным лодкам, — утешает Стечкин.
— Качка уже уменьшается, — говорит стойкий, даже аппетита не теряющий Баранов, — пойдем на палубу, подышим воздухом!
— Где там уменьшается — вы сами еле на ногах стоите! — отвечает Фельдман. — Наш «Колумбус» еще посредине океана, как бутылка! Только бутылку сначала заливают, а потом закупоривают, а тут все наоборот!
На третий день качка ослабла, и пароход, во время шторма сбавивший скорость на пять миль в час, стал нагонять упущенное. Вечером 22 декабря на черном горизонте появилась ниточка желтых огней. Ночью Стечкин проснулся. Чуткий к работе двигателей, он прислушался к стуку корабельной машины: что-то не то.
Утром пассажиры узнали, что им крупно повезло: было бы куда неприятней, если бы машина «Колумбуса» отказала в шторм в открытом океане. А сейчас с полдюжины небольших пароходиков окружили «Колумбус», помогая ему маневрировать.
Подошли к острову Эллис — его еще называют «островом слез». Здесь проходят карантин эмигранты из других стран, а попросту это тюрьма для бедных: нет пятидесяти долларов, и путь в США для тебя закрыт. Можно на всю жизнь остаться на этом острове, и никто тебе не поможет — такие случаи бывали. Пассажиры первого класса минуют карантин, их в первую очередь спускают с корабля и высаживают на нью-йоркский берег. Однако нашу делегацию американские власти в виде исключения собираются задержать на острове.
Баранов возмутился:
— В чем дело? Если нас сейчас же не выпустят на берег, мы первым же пароходом возвращаемся обратно!
Карантинный чиновник выясняет причину приезда в США Баранова и его коллег.
— Мы будем покупать машины у ваших фирм, — спокойно ответил Петр Ионович.
— На какую сумму?
Ответ Баранова ошеломил американца, и тот стал рассыпаться в извинениях. К тому же в дело успели вмешаться заинтересованные фирмы, позвонили в Вашингтон, и через час делегация, сопровождаемая сотрудниками Амторга, на омнибусе ехала по Нью-Йорку к гостинице «Лппкольн». Стечкин покупает американские открытки и отправляет домой детям. Одна из них — снимок надоевшего «Колумбуса».
В ущельях улиц темно от небоскребов. Амторг находится па Пятой авеню, самой богатой улице Манхеттэна. Авиационный отдел нашего Торгового представительства возглавляет А. В. Петров, плотный, молчаливый мужчина с большими рыжими усами. На покупку новинок моторостроения он выделил Стечкину и Урмину немного. Борис Сергеевич хочет все использовать для ЦАГИ, Урмин — для НАМИ.
Сразу же начали осматривать предприятия фирм и их продукцию. 26 декабря побывали в Гарден-сити на заводе «Кертисс», знакомились с опытным самолетостроением, на другой день ездили в Нью-Джерси па моторный завод, в Лайк-Хорсте смотрели дирижабли.
Петров говорит:
— Раньше нам ничего не показывали, теперь любезно открывают цехи.
1929–1930 годы были нелегкими для американской промышленности, и советских представителей на всех заводах, больших и малых, встречали с распростертыми объятиями. Хозяева радушны и внимательны, интересуются нашей страной, просят рассказать армянские анекдоты, которые уже тогда были популярны. По Америке распространился слух, что едет самый главный авиационный начальник Советской России и будет заключать большие договоры с фирмами. В газетах появились сообщения о пашей делегации, фотографии. Правда, Стечкин назван Стелькиным, а Урмин — Урлиным. На одном из снимков наши делегаты стоят с американцами у здания фирмы «Райт». Заложив руки в карманы нового костюма, в жилете, при галстуке, в пенсне задорно смотрит Стечкин. Рядом с ним с недоверчивым выражением на лице Урмин. Повеселел отошедший от пароходных мук Фельдман, которого товарищи прозвали «фершидепо гемюзе» за пристрастие к винегрету: на пароходе он ежедневно по-немецки заказывал официанту винегрет, ибо качка отняла окончательно у него интерес к другим, более питательным блюдам. Глава комиссии, деятельный, строгий Баранов. Хлопотливый, энергичный Харламов. Туполев получился не совсем удачно. «Он всегда такой вертлявый!» — говорит Ев. В. Урмин.
Вторая фотография — в прежнем составе перед поездкой по стране. Купили два «бьюика», снимок сделан возле одной из машин.
Пройдет несколько лет, и другие наши товарищи, вернувшись из командировки в США, будут рассказывать, что принимать стали попрохладнее, а порой и совсем недружелюбно — мало мы стали покупать у них. Сами научились строить. Брали только необходимое, чего еще не умели делать. Старались заключать ключевые договоры. Туполев, например, в самом начале поездки заявил:
— Я здесь ничего не вижу, чего бы мы не смогли сделать сами.
И действительно, Америка тогда занималась в основном гражданской авиацией, и Туполеву здесь учиться было нечему. Американцы же восхищались его машиной «Страна Советов». В ином положении были мотористы Стечкин и Урмин. Отечественное двигателестроение только зарождалось и развивалось медленно — техническую отсталость не сразу преодолеешь. Стечкин считал, что нужно купить моторы, причем приобрести полную лицензию и на конструкцию, и на технологию, включая связи со всеми поставщиками. Система производства моторов в США дифференцирована: поковки идут с одного завода, литье — с другого, электрооборудование — с третьего, поршневые кольца — с четвертого. Даже клапаны делала отдельная фирма «Томпсон». А окончательную технологическую обработку проводила фирма «Райт». И конструкторскую, исследовательскую работу тоже. Нужно было иметь в виду все эти связи, поэтому документация комиссии включала и дополнительные соглашения с поставщиками фирмы «Райт».
Уточняются детали основного договора. Непростая задача — перевести проект в европейский: на американском размеры даются в дюймах, своя система допусков.
Американцы попросили два-три месяца для ответа. Наши решили не сидеть на месте, а, купив два «бьюика», проехать почти всю Америку, совершив круг вдоль побережий.
25 января в 13 часов группа заняла место в только что полученных 90-сильных автомобилях. В первой машине едут Баранов, Туполев и Фельдман. За рулем переводчик Амторга Гершевич. Во второй машине — Харламов, Урмин и Петров. За рулем — Стечкин. Перед автомобильным турне он записался в члены нью-йоркского автоклуба, заплатил 15 долларов и получил «лайценз» на право езды. Очень сожалел потом Урмин, что сам не додумался стать обладателем такой важной в Америке бумажки. А Стечкин выдал ему карту пути: «Изучай маршрут, будешь нашим навигатором».
Борис Сергеевич ведет машину сперва осторожно, привыкая и к ней и к Америке. Движение большое, и «бьюик» — не малютка «фиат», да и стоит дороговато. Правда, машины застраховали, и очень кстати. Обе к концу путешествия будут разбиты: одна Барановым, другая Туполевым — им тоже захотелось посидеть за рулем.
На многих заводах побывали наши инженеры, тысячи миль по американским дорогам исколесили два «бьюика». Дороги эти тогда еще не были сплошь заполнены движением — в первый день Фельдман насчитал только 250 встречных автомашин, что по тем временам путешественникам казалось много. Каких только приключений не было в пути! Чаще, чем с другими, они случались с Туполевым — очень уж беспокойный у него характер.
— Вы все время занимаете левую сторону, — делает ему замечание Гершевич, — совершенно не пускаете обгоняющих.
— Ничего, пусть Америка привыкает за нами тянуться! — отвечает Андрей Николаевич.
— Смотрите, сейчас железнодорожный переезд, нас раздавит поезд!
— Надо же развеять монотонную жизнь машиниста, — отшучивается Туполев.
Пролетает паровоз — пригнул голову-трубу и изо всех сил старается, помогая себе согнутыми в локтях руками-кривошипами... На одном из этапов Туполев все-таки съехал в канаву так, что нос машины оказался глубоко внизу. Пассажиры не пострадали, но у «бьюика» лопнул картер. Страховая фирма быстро и бесплатно выполнила ремонт стоимостью в 300 долларов. За страховку было уплачено 350. На следующем этапе Андрей Николаевич пересел в стечкинскую машину:
— А то меня там совсем заклевали!
Но вскоре туполевское «достижение» повторил и Баранов, загнав автомобиль в кювет.
Гершевич шутил по этому поводу:
— Страховой фирме даже сейчас, после уплаты за ремонт 300 долларов, выгодней дать нам еще 500 отступных и отказаться от страховки!
— А вы зря смеетесь, голубчик, — пугает его Стечкин. — Вы страховщик обеих машин, все аварии записываются на ваше имя, и к концу путешествия у вас просто отберут «лайценз»!
— С начальством лучше не ездить, — говорит Туполев. — Только и слышу от Баранова: «Опять этот Туполев опаздывает! Вечно его нет вовремя!» Хотел с Сикорским встретиться — говорит, нет времени.
— На вас Баранов может только злиться, — говорит ему Урмин, — а что бы он сделал со мной, опоздай я хоть раз на пять минут!
— Теперь он приутих после того, как в кювет свалился. У них там сейчас Харламов ведет машину, — говорит Туполев.
В это время их лихо обгоняет женщина на красивом «форде». Этого Стечкин перенести не может. Выжимая всю мощь из своей машины, он настигает американку, но та тоже вошла в азарт и вновь обгоняет «бьюик», Туполев засекает ее фотоаппаратом и длиннофокусной авиационной кинокамерой, купленной в одной из фирм. Тут, как назло, раскрылся багажник. Остановились и обнаружили, что выпал чемодан Урмина, злополучный, купленный после «проборки» Барановым за старый московский саквояж с оторванной ручкой. Вернулись, сигналит встречная машина. Со смехом вручают чемодан.
— Да, теперь нам уже будет трудно догнать эту красавицу, — сожалеет Стечкин.
— Тебе, конечно, трудно, стар ты для нее, — соглашается Туполев. — Вон у нас на кого все женщины оборачиваются, — кивает он на Петрова, — на всю Америку одни такие усы!
— Верно, тут никуда не попрешь, -— соглашается Стечкин. — Он в Лос-Анджелесе все движение остановил. Вел машину, и на самом людном перекрестке мотор у него заглох. Пытается запустить — никак. Обычно слова из него не выдавишь, а тут изрек: «Кажется, влопались». А полисмен смотрит-смотрит на него, верней на его рыжие усы, да как расхохочется! Запустили мы кое-как машину, но в Лос-Анджелесе, наверно, до сих пор говорят о нашем усатом... У нас уже все шоферами были, — продолжает Борис Сергеевич, — даже «безлайцензовому» штурману, — кивает на Урмина, — я давал за руль подержаться. А то ему надоело со своей картой возиться — все равно каждый раз не туда нас заводит!
— Давай я сяду за руль, стар ты, Стечкин! — говорит Туполев, хотя сам на три года старше Бориса Сергеевича.
— Ладно, разбил один «бьюик», берись за наш, — говорит Стечкин, уступая ему место за рулем.
Туполев сразу же обгоняет какую-то машину. Оказалось — полицейскую. Тут же сбавляет газ и чуть снова не съезжает в кювет. Мрачно замечает:
— Автомобиль породил шофера, он его и убьет! А нам в Союзе надо строить маленькие машины, типа «фордовских».
Увлекающийся, подвижный, Андрей Николаевич чуть что увидит, зовет всех: «Давайте пойдем смотреть!» Стечкин ходил меньше, больше на машине ездить любил. У одного миллионера впервые увидели газовое отопление с регулировкой температуры на заданном уровне — сейчас-то ничего особенного, но тогда Туполев всех потащил поглядеть. По вечерам ходили смотреть еще одну диковинку — звуковое кино, к тому же цветное. Фильмы в основном пустенькие, но поражала синхронность движений и звука в сочетании с цветом. А так — какая-нибудь мелодрама из старых времен: возлюбленная выбрасывается из окна к своему герою.
Увидели в кино модель катера «опель» с ракетным двигателем: включается двигатель, и катер сразу же зарывается носом в воду и опрокидывается в фонтан брызг. Второй запуск — то же самое. Неубедительно, но Стечкин смотрит не шелохнувшись. «Скорей надо нам строить реактивные двигатели. Будущее за ними!» Здесь интересуются новой техникой и знают статью Стечкина. Его и Туполева тепло встретили в Колумбийском университете и приняли в члены инженерно-механического союза. Он узнает, что на одном заводе строится реактивный двигатель, и срочно едет туда. Напрасно: двигатель не реактивный, а двухтактный с ускоренной продувкой. Заинтересовал Стечкина и двигатель на самолете-амфибии фирмы «Локхид». Мотор со всех сторон закрыт капотом, лишь впереди узкая щель. Стечкин внимательно ощупывал двигатель, а Урмин даже взобрался на самолет «для знакомства»...
... Ночевали в маленьких дорожных гостиницах и мотелях. В феврале Стечкин простудился и два дня проболел. Сидит, ругает Туполева:
— Открыл ночью окно и простудил.
В гостиницах топят сильно, к тому же пуховые одеяла и перины — жара несносная для россиян. Туполев старается загладить свою вину перед Стечкиным. «Андрей Николаевич знал его всесторонне, — вспоминает Ев. В. Урмин. — Даже в этой поездке я был свидетелем, с каким вниманием он к нему относился. Стечкин для него всегда был огромным авторитетом — ведь он не только двигателист, но и аэродинамик, аэромеханик. Туполев по сугубо теоретическим вопросам всегда обращался к Стечкину». Сам Борис Сергеевич не раз говорил: «Меня Жуковский просто изнасиловал, я ведь не моторист, я ведь аэродинамик. Но он всех нас собрал и сказал: «Тебе, Борис, надо заниматься двигателями, двигателистов у нас в России никого нет. А самое главное в самолете — мотор».
Каждый день вставали в пять утра, в пять сорок пять уже в пути. Каждый день — посещение фирм, заводов, аэродромов. В Лос-Анджелесе Стечкину разрешили «подлетнуть» на самолете с мотором «киннер». Летал он самостоятельно и на учебном аэродроме фирмы «Кертисс» и заслужил похвалу американцев. А Баранов в это время договорился об обучении на фирме трех-пяти наших летчиков за три тысячи долларов.
... Больше месяца на колесах. 27 февраля — снова Нью-Йорк, отель «Линкольн», оформление договора в Амторге. Намечен список вопросов для включения в договор. Основные разделы: 1. Мотор, его чертежи. 2. Моторостроительный завод, механическая обработка, термообработка, сборка. 3. Алюминиевое литье. 4. Поковки. 5. Группа специальных деталей. 6. Вспомогательные приспособления.
Урмин предлагает в одном из пунктов договора предусмотреть технические условия не только на алюминий, но и на сталь. Баранову хочется обойтись покупкой одного двигателя, объединяющего в себе все достоинства. И хоть такой двигатель подобрать невозможно, придется покупать один — мы не настолько еще богаты. Сошлись на двигателе фирмы «Райт». Но кредитов американцы не дали. Однако договор с фирмой «Райт» комиссия заключила удачный, хотя фирма денег в наши заводы не вкладывает, будет только техническая помощь и продажа за валюту. А хотелось бы получить и кредиты.
Видимо, Петру Ионовичу придется здесь остаться еще месяца на два-три, — говорит Фельдман.
Так и решили: самолетчики во главе с Барановым остаются, а Стечкин и Урмин 16 марта отбывают на Родину.
— Давай поменяемся, — говорит Стечкину Туполев, которому давно осточертело за рубежом, — ты останешься, а я поеду.
— Нет, еще месяц здесь, и мне придется помирать, — отвечает Стечкин.
Обратный путь — на пароходе «Бремен», во втором классе, каюта № 752. Не верится, что скоро дом, позади Америка. Не верится, что ты там был. Долго еще по ночам Стечкину не будут давать покоя грохот американских улиц и шоссе, потоки машин, ревущие, как Ниагарский водопад. Водопад он видел в зимнем наряде, со скалами в белой фате сосулек. Брызги, туман, снежная крупа летят вниз по реке впереди лифта, на котором спускаются экскурсанты. Выйдешь на воздух — сразу пронизывает крупный колючий дождь. Туполев и Харламов пытались подбежать к воде, но вернулись мокрые и обледенелые... Многое поразило в Америке: и люминесцентные электрические лампы, и нет деревень вдоль дорог, только фермы; и маленькие городки без тротуаров, потому что некому по ним ходить — все в машинах; и многоцелевое использование этих машин — от перевозок скота до свиданий с задвинутыми занавесками на стоянках; и диваны в спальных вагонах, раскладываемые на ночь проводниками-неграми в двухъярусные постели с продольными шторами сверху донизу. Утром из-за занавесок вдоль всего коридора, как мыши, высовываются пассажиры. Билеты американцы закладывают за ленту шляпы или просто за ухо. Кондуктор берет билет, прокалывает и, ни слова не говоря, возвращает на прежнее место. В гостиничном номере в диковинку была и занавеска в ванной, чтобы вода не выплескивалась на белый кафельный пол. Техника вошла в плоть и кровь, и американец не мыслит себя без нее. Один миллионер поделился планами на случай катастрофической войны. Выдавая свою дочь замуж, он собрался купить остров в океане, устроить там надежное подземное убежище для молодых, уложив в холодильники 20 тысяч жареных кур.
— Но ведь после мировой катастрофы не станет и электричества, — сказали ему. Миллионер был ошарашен, Это ему и в голову не могло прийти...
Новый, 1930 год встречали в компании соотечественников. Наталья Кончаловская пишет, как к ней в Нью-Йорке пришли Туполев и Стечкин, попросили по-московски зажарить гуся и русским спиртом нарушили американский сухой закон.
Вспоминался праздничный Бродвей в новогоднюю ночь 1 января 1930 года. Электричество, шумные толпы, ряженые дудят в какие-то длинные тонкие трубы, свистят, бьют в барабаны... На углу сидит негритенок, чистильщик сапог. Крахмальная рубашка, галстук, наглаженные брюки в клеточку, кепка — маленький джентльмен. И реклама, реклама... Один колотит доской по ребру расчески, другой изо всех сил старается изорвать на себе рубашку и не может. Юркий человечек предлагает часы за 50 центов. Озирается, делает вид, что боится полисмена. Показывает часы, не выпуская из рук, пока не получит свои центы. Кто-то попадется на удочку — ведь часы без механизма, только коробка и стрелки.
Здесь постепенно привыкаешь к особым единицам счета—на время и деньги. Автомобиль покупают на два-три года, затем фирма берет его назад и за доплату продает новую модель. Непривычная мера измерений — счет на бутылки. Туполев острил: «Еще несколько лет сухого закона, они метры, дюймы и галлоны забудут и все будут мерить на бутылки: вес — одна бутылка, объем — три бутылки».
Но главная единица измерения — доллар. Сенатор должен уметь говорить, как актер, певица — иметь красивые ноги, слуга — носиться как угорелый, тогда им и платят соответственно. Доллар — один из самых неприятных атрибутов Америки.
Тяжко на чужбине тому, кто приехал сюда из страны, строящей совсем непохожую на здешнюю жизнь, новые отношения, в идеале которых не будет — ни рублей, ни долларов. Привык, а надоело так же, как на пароходе немецкое «данке шон» и по утрам занудливо-протяжное «мооген!». Здесь въелось американское «о’кэй!» — веселый и сухо-деловой знак согласия. Существует легенда, что один популярный, но малограмотный президент США, желая сокращенно написать резолюцию «All correct» («все правильно»), вывел на бумаге две первые, как он думал, буквы этих слов: «О. К.». А это произносится по-иному — «о’кэй». Американцам понравилось и привилось...
«В теории-то мы им не уступим, — думает Стечкин, — во многом и сто очков дадим, а вот такой индустрии у нас пока нет — оборудования, станков, деталей». Делегация объехала все американские авиационные фирмы. Потом это очень поможет нашим самолетостроителям и мотористам. Все-таки удачен договор с фирмой «Райт»: свыше 250 двигателей для наших самолетов, к тому же фирма обязуется безвозмездно предоставлять все последующие модификации этих моторов. Вслед за комиссией Баранова в Америку приедут инженеры одного из наших моторостроительных заводов, ученики Стечкина. Они непосредственно примут лицензию от фирмы.
В 1938 году группу работников ЦИАМа, среди них Ев. В. Урмина, пригласят на прием в Кремль, и И. В. Сталин помянет этот договор с американцами:
— Чем он хорош? Тем, что технология, которую мы получили вместе с лицензией на конструкцию, резко повысила технический уровень наших вспомогательных заводов и позволила нам создать свои замечательные моторы.
Стечкина на приеме не будет. А пока, в марте 1930 года, на комфортабельном пароходе «Бремен» он едет домой, в родной Кривоникольский, где к порогу бросятся встречать Сережка и Верка, а любимая Ирина начнет хлопотать над праздничным обедом.
В пароходной курилке они дымят с Урминым, и — о радость! — один из курильщиков сидит и читает деловой технический журнал на английском языке — непременно наш товарищ! Через полчаса они убедились в своей правоте: наш инженер, ему еще работать в Германии. Кто бывал за границей, знает, какое великое счастье неожиданно встретить земляка. 21 марта «Бремен» причалил к немецкой земле. Снова общежитие на Гайсбергштрассе в Берлине — точка пересечения всех западных командировок советских людей того периода. Встречи со знакомыми, обмен новостями из Италии, Франции, Германии, Америки... Кто-то делится московским запасом водки, кто-то шутит над похудевшим за поездку Стечкиным: «У тебя теперь только нос и остался».
В заграничных поездках Стечкин особенно почувствовал значение и величие Родины. «Какой одаренный русский народ! Как умеет работать наш рабочий! К работе он подходит тяжело, но берется за нее основательно, всей силой своей. Надо нам научиться применять эту силу к технике», — думает Стечкин и улыбается, представив на миг, как иной наш шофер переключает скорости в машине или изо всей силы крутит ручку, а мотор никак не заводится. Был такой случай: Стечкин попросил молодого водителя уступить ему место, один раз легонечко, четко крутнул, и мотор заработал, к удивлению шофера.
— К технике не надо прикладывать силу, голубчик, ибо такой силой, как у нас, русских, ни один народ мира не обладает.
Стечкин умел обращаться с любыми машинами и механизмами, знал, какое усилие куда требуется.
«Что мне нравится в нашем рабочем? — говорил он. — Соучастие в общих делах, интерес к жизни. Шведский рабочий более обеспечен, но он не читает ни газет, ни книг, ничем, кроме дома и работы, не интересуется, а у нас любой шофер, улучив свободную минутку, читает...»
Много размышлений вызвали у Стечкина зарубежные командировки. Вспоминались друзья и враги, интерес рабочих к первой стране социализма, ухмылки предпринимателей, когда на их предложение купить дорогостоящий мотор русские отвечают: «Сами построим!» И все деньги, деньги: доллары, фунты, франки, марки... Главное — деньги, к ним обращены все помыслы человека. Взгляды хрустят по купюрам. И толпы безработных. Но снимков их нет в газетах и журналах, где сплошь реклама и рассказы о том, как некий старательный, трудолюбивый и бережливый Джон скопил капиталец и приобрел магазин — цель и вершина жизни.
А к нам здесь присматриваются. Не любят, но уважать начинают. Один миллионер сказал Стечкину: «Вы, русские, — материк, все остальные страны — острова, и без вас, без русского народа, не будет мира на земле».
Родина! За границей она становится еще дороже, нигде радость и горе не выражены так сильно, как в России. Любить ее непросто. Любить ее — часто означает страдать. «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом. Весело, нечего сказать», — в отчаянии вырвалось у Пушкина. Но он же сказал: «Я ни за что в мире не хотел бы для себя ни другой родины, ни другой истории, чем та, которую делали наши предки и которая дана нам богом».
... Как летит время! Только научились в письмах и деловых бумагах писать 1929-й, глядь, на календаре уже 1930-й.
Стечкину нет еще сорока лет, мы видим, как много он успел сделать, а прожита только половина жизни, о чем ему, как и каждому человеку на земле, конечно, неизвестно. Кажется, жизнь уже за плечами, а все еще впереди.
... Дома ждала работа. Промышленность нуждалась в научном центре моторостроения. Отдельные энтузиасты разрабатывали проекты, но производственной базы не было, а кустарным способом качества в таком деле, как создание авиационного двигателя, не добьешьея. В самолетостроении положение было несколько лучше: с декабря 1918 года работал ЦАГИ. В академии Жуковского в двадцатые годы изучали тоже в основном зарубежные модели: «юнкере», «либерти», «юпитер», штудировали труды Рикардо, Девильера, Доджа. Но в лекциях профессоров Стечкина, Ветчинкина, Юрьева, Климова выработалась и обозначилась своя, советская, линия развития авиационной техники. Сложнее обстояло дело с практикой.
Из-за слабости научно-исследовательской и производственной базы жизнь многих отечественных моторов заканчивалась на заводских и институтских дворах. Не удались двигатели в НАМИ у Брилинга, Микулина, Неймана — «альфа», НРБ, М-12, М-13, М-21. Порадовал А. Д. Швецов мотором М-11. Модификации его применяются на учебно-тренировочных самолетах и по сей день. Но чтобы создать в стране могучее моторостроение, нужно было сконцентрировать разрозненные силы. В 1930 году группа инженеров обратилась с докладной запиской в ЦК ВКП(б): «За все 13 лет разными организациями было запроектировано более 40 авиационных двигателей. 30 из них сданы в производство, около 15 построено, но ни один из них не стоит и, вероятно, не будет стоять на самолетах. Наше опытное строительство было бесплодно, и одной из основных причин этого надо считать отсутствие концентрированной базы опытного строительства». В записке предлагалось построить опытный завод, который делал бы девять экспериментальных двигателей в год — большая программа по тому времени. Центральный Комитет поддержал эту инициативу, и завод построили, но вскоре ведомственные инстанции решили передать его в тракторную промышленность. Тогда начальник авиационного отдела НАМИ А. Д. Чаромский был делегирован к отдыхавшему в Сочи К. Ев. Ворошилову, который доложил вопрос И. В. Сталину. Из Сочи немедленно пошла телеграмма в ЦК: создать Научно-исследовательский институт по авиационным моторам. А перед этим из винтомоторного отдела ЦАГИ при участии специалистов НАМИ был создан отдел авиационного моторостроения ЦАГИ (ОАМ). Сохранился листочек из ученической тетради в клеточку, на котором набросана предполагаемая схема устройства нового отдела, выполненная Ев. В. Урминым, работавшим в НАМИ вместе с А. Д. Чаромским и А. А. Микулиным. Евгений Васильевич показал свой проект Стечкину. Схема изображала структуру отдела во главе с заведующим (имелся в виду Борис Сергеевич), двумя его заместителями, двумя помощниками, конструкторским и исследовательским бюро, заводом, бензиновым и нефтяным бюро. Стечкин внимательно посмотрел на листок, взял ручку, обвел эллипсом заместителей и помощников, потом заведующего и сказал:
— Это что же, вы замами и помами хотите отделить меня от отдела?
Действительно, сотрудники НАМИ мечтали не потерять влияния в новом отделе — уж больно они натерпелись в своем институте, где не очень жаловали авиаторов.
3 декабря 1930 года решением Реввоенсовета был создан Институт авиационных моторов (ИАМ). Он образовался на базе трех организаций: отдела авиационного моторостроения ЦАГИ, авиационного отдела НАМИ и конструкторского отдела Московского моторостроительного завода. В новом институте начали работать 389 человек. Было 72 станка, испытательная станция имела 4 стенда — можно испытывать моторы мощностью до 600 лошадиных сил. Из экспериментального оборудования были две одноцилиндровые установки, одна камера низкого давления и две установки для исследования, испытаний и доводки авиационных нагнетателей.
Если производственная и экспериментальная базы новой организации были весьма слабыми, то задачи перед ней были поставлены большие. Надо было создавать моторы, конкурирующие с западными образцами, и в плане ИАМа в первом же году его создания значится уже полтора десятка заданий на разработку и создание новых авиационных двигателей.
В институте организовали два основных отдела: бензиновых двигателей (ОБД) под руководством А. А. Микулина (потом В. Я. Климова) и нефтяных двигателей (ОНД) во главе с А. Д. Чаромским. Опытным заводом руководили Ев. В. Урмин, В. Демидов, А. А. Шумилин, работу по испытанию двигателей возглавил инженер Л. С. Татко.
Партийная организация института мобилизовала рабочих и сотрудников строить и оборудовать лаборатории. Не хватало кирпичей и станков, хлеба и одежды. В новом институте совершенно не было транспорта, а ездить приходилось много. Все, у кого были личные автомобили и мотоциклы, привезли их в институт и передали в распоряжение гаража.
В 1932 году НАМ переименовали в ЦИАМ. Деятельно помогал институту П. И. Баранов, и в короткий срок ЦИАМ пополнился новым отечественным и зарубежным оборудованием: станков стало больше чем в 10 раз, численность сотрудников возросла до четырех тысяч человек.
В отделе бензиновых двигателей, руководимом В. Я. Климовым, было создано пять конструкторских бюро.
КБ А. А. Микулина работало над усовершенствованием двухблочного 12-цилиндрового мотора водяного охлаждения мощностью 750 л. с. (М-34 PH).
КБ В. М. Яковлева строило двухблочный 16-цилиндровый мотор водяного охлаждения такой же мощности.
КБ Ф. В. Концевича строило 9-цилиндровый звездообразный мотор воздушного охлаждения — 600 л. с.
Под руководством Н. П. Сердюкова создавался двухблочный 12-цилиндровый мотор водяного охлаждения мощностью 200 л. с.
КБ Ев. В. Урмина делало двухрядный 14-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 620 л. с.
В отделе нефтяных двигателей успешно продвигались работы по созданию авиадизеля АН-1 мощностью 750 л. с.
Основное внимание уделялось мотору М-34, который создал А. А. Микулин. В 1932 году этот двигатель прошел государственные испытания и его внедрили в серийное производство на Московском моторостроительном заводе. Остальные моторы, кроме дизелей, не были доведены, и работы по ним прекратились. Но опыт их создания не прошел даром. «Поначалу это были попытки с негодными средствами, — рассказывает академик С. К. Туманский, работавший в те годы в ЦИАМе. — Теперь я смотрю на это, как на детский сад, так как в то время группа человек в двадцать — двадцать пять пыталась создать и даже создавала авиационный двигатель. Сейчас этим занимаются несколько тысяч человек, есть предприятия, специальное оборудование. Но шла учеба, становление советских кадров. В частности, я после ЦИАМа в 1938 году был назначен главным конструктором крупнейшего авиационного завода. Полученными в ЦИАМе знаниями я во многом обязан Стечкину. Здесь была уже другая обстановка, отличная от академии Жуковского — лаборатории, рабочие группы, — но Стечкин продолжал оставаться самым главным моим учителем, очень внимательным и доступным, несмотря на высокое его положение. Впрочем, внешне у него такого положения как-то и не было: ромбов не носил, не нарком, но среди авиационной общественности он, безусловно, имел первостепенное значение — у мотористов это был ученый номер один».
«В ЦИАМе он уделял много внимания тонкому изучению рабочих процессов в моторах, — говорит профессор Д. Д. Севрук. — Я, тогда молодой инженер, занимался исследовательской аппаратурой, изучал сложные колебания коленчатых валов и винтов, детонацию в цилиндрах, выяснял, что разрушало моторы, что мешало их созданию в нужные сроки. Стечкин сам много занимался этим вопросом и помогал нам».
В 1935 году Стечкин стал заместителем начальника ЦИАМа, помогал сотрудникам в решении конкретных задач расчета двигателей, был главным консультантом, в частности у Микулина. Огромная заслуга Стечкина на этой работе в том, что он помог нашему моторостроению избавиться от заграничных ЮМО и БМВ, пошел своим путем, чтобы в будущем имеете с другими учеными и конструкторами вывести отечественную авиацию на сверхзвук.
... В январе 1930 года в наших газетах рядом с заметками о поисках пропавшего в Арктике американского летчика Эйельсона, заявлениями начальника советской поисковой экспедиции Б. Г. Чухновского и заслуженного летчика М. М. Громова, выразившего желание принять участие в поисках, появились заголовки: «Чистка советского аппарата», «Очистим наш аппарат от лжеспециалистов!» 2 января «Правда писала:
«Если старое чиновничество есть зло, которое мы временно вынуждены еще терпеть, то злом, абсолютно нетерпимым, являются лжеспециалисты в нашем аппарате».
Острыми, злободневными статьями заполнены страницы главной газеты нашей партии. С 26 ноября 1930 года «Правда» печатает большие материалы: «Дело «Промышленной партии». Мелькают фамилии Рябущинского, Милюкова, Пуанкаре, заголовки «Вредительское строительство фабрик», «Мечты о министерских портфелях», «Меньшевики информируют французский генштаб».
В связи с делом «Промпартии» привлекался и Борис Сергеевич Стечкин. На одном из заседаний суда Государственный обвинитель Крыленко, в частности, подробно расспрашивал подсудимого Рамзина по поводу якобы «вредительской» деятельности Стечкина.
«Государственный обвинитель Крыленко (подсудимому Рамзину): Какие же были еще записки специального характера, имеющие прямое отношение к обороне?
Рамзин: Относительно обороны была записка профессора Стечкина о техническом состоянии авиации. Правда, здесь сведений военного характера не было, потому что Стечкин ими не располагал, а было только техническое освещение положения авиации в смысле типа применяющихся аэропланов, в смысле мощности моторов и т. д. Записка была передана мною лично... Последнее поручение касалось вопроса относительно организации авиабазы... Кажется, площадки для приземления аэропланов, соответствующие знаки и т. д.
Крыленко: Это требование от кого исходило?
Рамзин: Это требование было последнее, которое я получил от господина Р. уже в конце 1929 года.
Крыленко: Выполнение этого требования тоже было поручено?..
Рамзин: ... Борису Сергеевичу Стечкину, который совместно с другими работниками работал в области авиации. Ими была составлена записка, причем эту записку получил Калинников, а потом она была переслана по назначению».
Целый месяц «Правда» печатала материалы о процессе «Промышленной партии». В них говорилось, что эта организация вела преступную работу, создавая кризис в отдельных отраслях промышленности и углубляя экономические затруднения, стремилась захватить власть в свои руки, посадив во главе страны технократов. Пять из восьми руководителей «Промпартии», в том числе ее лидер, директор теплотехнического института профессор МВТУ Рамзин, были приговорены к расстрелу, но потом их помиловали.
Рамзин некоторое время находился в заключении. Стечкина с группой профессоров также арестовали. Но он продолжал работать специальным консультантом по различным проектам, разработкам, наброскам. Обычно он подходил к доске, смотрел, что у конструкторов нарисовано:
— Ага, это такой узел... Давайте поглядим... А вот здесь надо бы так...
Стечкина осудили на три года, но, когда была выяснена его непричастность к «Промпартии», в конце 1931 года, он был досрочно освобожден. Позже его полностью реабилитировали. Стечкин не любил Рамзина и говорил, что тот его оклеветал. Он теснее сблизился с Брилингом и Добрыниным.
Летом семьи Стечкиных и Добрыниных жили рядом на дачах в Сходне, дети играли вместе, и получалось так, что в выходной обе семьи полдня были на стечкинской даче, полдня — на добрынинской. Стечкины снимали дачу — своей у них никогда не было. Борису Сергеевичу предлагали ее купить, но он отказался.
«Не нужна мне никакая собственность. Не хочу путаться. У меня никогда не было никакого ни движимого, ни недвижимого имущества, — говорил Стечкин. — Единственное движимое имущество — автомобиль».
В домике на Сходне три небольшие комнаты. Никаких стремлений к роскоши и шику ни у Стечкина, ни у его жены не проявлялось. Для некоторых это было непонятно, потому что Ирина Николаевна, как известно, происходила из довольно обеспеченной семьи Н. А. Шилова, не говоря о ее матери, принадлежавшей к роду московских миллионеров Абрикосовых.
В тридцатые годы Стечкин полюбил теннис. Это увлечение разделял Добрынин, игравший на уровне третьего разряда. Каждое лето, когда разыгрывалось первенство Союза, они непременно ездили смотреть, особенно когда играл с Негребецким Николай Озеров — первая ракетка страны. Стечкин был квалифицированным болельщиком.
Но что больше всего любил в жизни Стечкин — технику. Не просто теорию, формулы и цифры, но саму машину. Любовался, как она сделана, как проведен эксперимент, интересовался, нельзя ли проверить, постоять за пультом; подвигать ручкой управления — очень любил!
Стечкин стал тем инженером-конструктором, который прекрасно знал, как сталь закалить и отпустить и как на станке заготовку обработать — он все это держал в руках и чувствовал. Когда в винтомоторном отделе строили высотную камеру, он всю ее ощупал — тут гайка не такая, здесь допуск не тот. Инженеры его даже «прижимать» стали.
— Борис Сергеевич, это технические мелочи, — говорит ему Курт Минкнер, — мы это сделаем сами.
— В технике, друг мой, мелочей не бывает, тем более в авиации. Сколько катастроф из-за мелочей!
В тридцатые годы в нашей стране по германской лицензии строились авиационные двигатели фирмы BMW. Их и на танки ставили. Двигатель отличался тем, что его двенадцать цилиндров были не в блоке, а раздельно. Распределительный вал лежал в подшипниках на цилиндрах, из-за чего вся конструкция получалась довольно хлипкой. Когда на одном из отечественных заводов собрали эти двигатели, оказалось, что они не проходят испытаний, ломаются распределительные валы, в то время как точно такие же немецкие работают хорошо и спокойно выдерживают свои приемные контрольные 50 часов. В чем дело? Весь завод бился над этой задачей. Решили пригласить Стечкина. В то время он считался у мотористов как бы последней, высшей инстанцией: если и он не поможет, значит, здесь вообще ничего сделать нельзя. «Специалисты в области поршневых двигателей, особенно авиационных, на него смотрели как на икону — вот что такое Стечкин!» —вспоминает А. А. Добрынин.
Борис Сергеевич внимательно оглядел моторы.
— А какие допуски при сборке даются на головки цилиндров?
Ему ответили.
— А всегда их выдерживают?
— Иногда не удается попасть в допуск.
— А что, если мы попробуем собрать один двигатель точно в допусках? — предложил Стечкин.
— Борис Сергеевич, да ведь разница будет в тысячные доли миллиметра в ту или иную сторону!
— А давайте все-таки попробуем!
Собрали один мотор точно в допусках, и он успешно выдержал испытания. Двигатели пошли.
Инженерная интуиция у него была потрясающей.
Он обладал удивительной способностью сразу попасть в слабое место конструкции, определить, в чем дело.
В ЦАГИ, потом в ЦИАМе, на заводах — всюду, где он работал, возникали проблемы, и, хоть рядом немало было квалифицированных инженеров с большим опытом и кругозором, в самых крайних случаях почти всегда выручал Стечкин. Один завод начал производство микулинских двигателей М-34РН (мотор с редуктором-нагнетателем). Двигатель прошел летные и государственные испытания, начали ставить его на тяжелые серийные самолеты, и вдруг выясняется, что самолеты один за другим выходят из строя — из-за моторов. Рвутся передние шпильки крепления блока. Собирались высокоавторитетные комиссии, обсуждали и никак не могли решить, в чем дело, какая нечистая сила заставляет рваться эти шпильки. А дело грозило колоссальными неприятностями. Производство моторов вынуждены были прекратить. Парк боевых машин стоял. И тогда позвонили Стечкину.
— Хорошо, приду, — он никогда не отказывался.
На заводе собрался народ, доложили Стечкину подробно: испытывали двигатель в ЦИАМе и на заводе, на машинах проверяли, в НИИ прошел государственные испытания, и вот теперь началась такая неприятная история. Он все внимательно выслушал и, верный своей привычке, заложив руки за спину, стал ходить по комнате, где шло совещание. Долго ходил, опустив голову, что-то соображал. Потом сказал:
— Кажется, я понимаю, в чем дело. Ведь вы проводили испытания с короткими винтами — «мулинетками», которые не создают такой тяги, как большие винты на самолете. А настоящие винты и добавили усилия, рвущие шпильки.
И все удивились, как все просто; и непонятно, почему никто до этого не додумался — десятка два специалистов, неплохо соображающих в моторах. Дефект, конечно же, сразу устранили, шпильки заменили. Обращались к Стечкину и всегда получали точные разъяснения, причем в такой форме, что никто не обижался. Человек с такими качествами невольно становился объектом эксплуатации, все старались привлечь его к себе.
«Он наладит дело, — говорит А. А. Добрынин, — но через неделю оно ему до чертиков надоест, и он перестает им заниматься. Надо наблюдать за работой, а ему от этого скучно. Он не Микулин. Ходит и говорит: «Ну вот, меня уже не слушают». Совершенно не тиран. Невозможно представить, чтоб он стукнул кулаком. Он мог сказать иного неприятных слов, что вы ничего не понимаете в этом деле, и, дескать, он удивляется, как вы можете им заниматься, но без оргвыводов... Прекрасно организовал лабораторию в винтомоторном отделе ЦАГИ, но потом ему это надоело, и он вернулся к своим экспериментам и исследованиям».
Не раз в жизни Стечкину приходилось заниматься капитальным строительством, то есть организацией нового предприятия с возведением необходимых построек. Вот он едет с сыном по Ярославскому шоссе:
— А вот это я строил!
Сережа бывал и в ЦАГИ, и в Институте двигателей... Через много лет, когда Сергей Борисович сам стал профессором, отец ему сказал:
— Что ты — один институт всего организовал, а я пять раз капитально строил!
В 1931 году Стечкину исполнилось сорок лет.
Сохранилось письмо Чаплыгина, написанное к 40-летию Стечкина. Оно обнаружено в архиве:
«Борису Сергеевичу Стечкину.
Вы, уважаемый Борис Сергеевич, являетесь одним из создателей ЦАГИ и состоите в числе его руководителей с его основания.
С самых первых дней революции отдавая ЦАГИ все свои знания, творческую инициативу и силы, являясь крупнейшим специалистом по моторам, Вы своей работой в этой области весьма способствовали укреплению обороноспособности Советского Союза и развитию его промышленности.
Такие люди, как Сергей Алексеевич Чаплыгин, Александр Александрович Архангельский, хорошо относились к Стечкину и его семье не только тогда, когда он был в славе. Ну а иных осуждать, видимо, не следует, ибо на земле не все люди высшей пробы.
... С 1931 по 1933 год в конструкторском бюро под руководством Стечкина вместе с профессором Брилингом, инженерами Бессоновым и Тринклером были спроектированы, построены и прошли стендовые испытания быстроходные авиационные дизели ЯГГ, ПГЕ, КОДЖУ, завершен тысячесильный ФЭД-8.
Создание новых четырех типов двигателей силами небольшой группы в очень сжатый срок стало подвигом. Двигатели в серию не пошли, но в них было заложено немало новых, прогрессивных идей. Они стали фундаментом для создания под руководством Стечкина и при его участии в 1933–1937 годах двух оригинальных авиационных дизелей. Один из них — МСК, «мотор Стечкина— Курчевского», двухтактный звездообразный двигатель с петлевой продувкой, с отдельными объемными поршневыми компрессорами на каждый цилиндр. Второй мотор был турбопоршневым двухтактным дизелем с высоким наддувом. Назывался он МТС — «мотор-турбина Стечкина». В нем совмещалась работа поршневого двигателя и турбины. Энергия выхлопных газов поршневого мотора передавалась на турбину, и с ее вала снималась мощность всей установки. МСК и МТС были изготовлены и находились в стадии доводки. МТС должен был развивать мощность 100 л. с., однако большой расход топлива сделал его неэкономичным. В это же время Стечкин вместе с инженером Л. В. Курчевским разработал теорию и построил экспериментальную модель реактивного снаряда.
С 1933 по 1935 год он работал начальником научно-исследовательского отдела, а вернее, научным руководителем по вопросам артиллерии. «Здесь Стечкин очень энергично трудился с Леонидом Васильевичем Курчевским», — вспоминает А. А. Микулин.
Борис Сергеевич работал над качественно новым оружием — реактивно-динамическим. Однажды он попросил Добрынина сделать расчеты, не относящиеся к авиационным двигателям, и начертить графики. Уже потом, работая на опытном заводе Курчевского, Добрынин увидел на столе у Стечкина книгу в темно-бордовом переплете. Это была теория реактивно-динамической пушки. Полистав книгу, Добрынин сказал:
— Борис Сергеевич, это твои расчеты!
Ему было мало неба. А страна жила не в безвоздушном пространстве, и ее нужно защищать не голыми руками.
Вся расчетно-теоретическая часть нового оружия была создана Стечкиным, а книга написана совместно с Курчевским. Курчевский, сам талантливый человек, был к тому ж очень сильной личностью и умел «давить» и «подминать под себя». Но со Стечкиным были очень теплые отношения. Леонид Васильевич часто бывал на Сходне, Стечкин ездил к Курчевским во Всехсвятское, где сейчас метро «Аэропорт».
Жизнь у Леонида Васильевича сложилась непросто и закончилась трагически. К пониманию Великого Октября он, как и Стечкин, пришел не сразу, и революция имела все основания относиться к таким людям с недоверием. В 1924 году его арестовали за трату государственных денег на строительство геликоптера, по-современному вертолета, кои в те годы еще никого, кроме изобретателей, не интересовали.
Курчевский организовал мастерскую, восстановил литейный заводик, соорудил маленькую гидроэлектростанцию: в ручей опускалась труба, внутри которой вода вращала небольшое колесо. Построил безоткатную пушку, пострелял, испытал и забросил в озеро. Военные заставили потом достать. Соорудил глиссер, а потом арктические аэросани С-2 для Севморпути и сам собирался махнуть на них на Северный полюс. Даже написал об этом художественную книгу «С-2», которая была сдана в издательство в 1937 году, но не вышла в свет. Зимовал во льдах, возил почту, несколько раз был на краю гибели...
«Слово «страх» для него не существовало», — пишет работавший с ним С. Н. Люшин. Начальство хорошо относилось к Леониду Васильевичу, об его изобретениях узнали в Москве. Его освободили досрочно, как говорили друзья, он «на своих аэросанях уехал». По предложению Г. К. Орджоникидзе его назначили генеральным конструктором крупного завода, и Курчевский стал создавать реактивно-динамическое оружие, закончил аэросани С-2, построил аэромобиль и несколько глиссеров. На одном из них, правда, чуть сам не утонул в Москве-реке. Оказавшиеся рядом студенты помогли вытащить судно на берег. Стоят и читают надпись на борту: «Глиссер системы Курчевского».
— А система-то неважная!
— Да, его самого бы посадить на этот глиссер, — добавил Курчевский.
И вскоре вместе со Стечкиным и Бондаренко, начальником учреждения, финансировавшего подобные изобретения, построил новый глиссер — «КурБонБеС».
Дружба со Стечкиным была давняя. Мария Федоровна Курчевская-Станкова вспоминает, что ее будущий муж еще в 1919 году приезжал с компанией друзей охотиться в Переславль-Залесский, где она жила в то время: Архангельский, Микулин, два брата Кузнецовы, Стечкин.
Курчевский конструировал и строил автомобили. Одну машину сделал с двумя ведущими осями, на высоких колесах, причем в ней было две пары передних колес, установленных на разных уровнях по высоте. Если машина проваливалась в канаву, выручала та пара передних колес, что повыше. Зимой на них надевали гусеницы — по всем сугробам можно проехать. Москва дивилась необычному автомобилю. Курчевского даже арестовали за эту машину и продержали три дня в милиции, пока не разобрались, кто он такой. Еще построил он полугрузовик для охоты, в котором можно было спать, зайца изжарить на печке, работало радио... Только телевизора не было в этом грузовике — не дожил Леонид Васильевич. Сделал маленькую двухместную машину для жены. Марию Федоровну он научил управлять всем, чем сам умел, — автомобилем, глиссером, аэросанями, и она принимала участие в испытаниях систем Курчевского. Была в их семье и четвертая машина — шестиместный американский «линкольн», каких во всей стране почти ни у кого не было. Этот автомобиль подарил генеральному конструктору Л. В. Курчевскому И. В. Сталин.
Можно себе представить, какой роскошью казались со стороны эти четыре машины в тридцатые годы. Сам же Курчевский говорил:
— Продать любую жалко. Одна — куда поехать, друзей привезти, другая для охоты, третью жене подарил, а четвертая — подарок Сталина, как же продавать!
Курчевский подарил по автомобилю и своим друзьям — Стечкину и хирургу С. С. Юдину. От природы добрый, Леонид Васильевич и на охоту отправится — мужикам обязательно ружье или велосипед подарит.
Друзья часто ездили вместе на охоту и рыбалку. Обоих ни в театр, ни в кино не заманишь.
Со Стечкиным ездили по Оке, Сосне — спиннингом ловили. Лодка у Курчевского дюралевая, с плоским дном и опускающимся килем, каютка в ней. Уток и рыбы в те времена еще полно было. На Переславском озере ловили знаменитую селедку, которая туда еще при Петре I напущена была.
Иной раз приведет домой собаку бродячую, или кошка на плече у него садит. Однако любовь к животным не убивала у него охотничьей страсти. Подстрелит зайца — обязательно распотрошит, посмотрит, какая убойность. Винтовка у Курчевского маленькая, самодельная, из других ружей не стрелял. А таких, как у себя, сделал несколько штук, подарил членам правительства.
Курчевский и Стечкин разработали целую серию систем, предназначавшихся для сухопутных, авиационных, танковых и военно-морских частей. Некоторые из этих систем одно время стояли на вооружении наших войск. Наиболее значительное изобретение — безоткатные динамореактивные пушки.
На крыльях бомбардировщика поднимались четыре истребителя — два И-16 и два И-15, а в воздухе к ним присоединялся новейший истребитель-моноплан конструкции Григоровича. Под крыльями этого самолета были две необычные пушки — динамореактивные, 76-миллиметровые. В 1935 году ни один истребитель мира не имел такого мощного вооружения. У пушек почти не было отдачи: пороховые газы выходили через специальное сопло. Испытывали пушки летчики Звонарев и Сузи.
Звено истребителей под командованием Т. П. Сузи провело мощный артиллерийский удар по наземным целям. Ни один из снарядов не вышел за пределы круга диаметром в 30 метров. Стрельба велась в присутствии Ворошилова, Орджоникидзе, Тухачевского. Курчевский сиял...
Есть фотография: хохочущий Курчевский в комбинезоне, с орденом Красной Звезды — тогда еще редко у кого из конструкторов ордена были — стоит у танка, искореженного снарядом динамореактивной пушки. Она состояла из затвора с реактивным соплом. Патрон с картонным дном и запалом, расположенным по окружности гильзы. Над этим оружием Курчевский и Стечкин начали работать еще в конце двадцатых годов. Первый вариант пушки Леонид Васильевич установил на одной из своих автомашин. Реактивно-динамическое оружие существенно отличается от ракетного, скажем, от «катюши». Это пушка довольно легкая по весу, стрельба ведется направленно и, следовательно, более прицельно, нет отдачи, но сильное выхлопное пламя. Такие пушки можно строить различных калибров и назначения. Реактивно-динамическое оружие появилось в нашей стране на четверть века раньше, чем где бы то ни было. По указанию И. В. Сталина Курчевскому было выделено специальное КБ с самолетным, морским, кавалерийским, теоретическим отделами и отделом прицелов. Теоретический отдел возглавил Борис Сергеевич Стечкин. Был построен новый истребитель Ил с самыми крупнокалиберными в истории авиации пушками Курчевского. В начале тридцатых годов сделали несколько сотен таких пушек.
Известный конструктор артиллерийских систем Герой Социалистического Труда Василий Гаврилович Грабин рассказывает, что конструкторское бюро завода, которое занималось ствольной артиллерией, отдали создателям динамореактивных пушек (ДРП). Затем, поняв, что без обычных, классических пушек в будущей войне не обойтись, бросились в другую крайность, упразднив ДРП. Война показала, что нужно и то и другое.
Главный маршал авиации А. Ев. Голованов, в тридцатые годы работавший с Орджоникидзе, вспоминает: «Курчевский испытывал пушку, которую можно было запросто носить на плече, стрелять с руки. На полигон прибыла Государственная комиссия, приехали члены Политбюро во главе с И. В. Сталиным. После первого выстрела произошло нечто невероятное: снаряд, описав молниеносный полукруг, с огромной скоростью полетел назад, как бумеранг. Все испуганно упали на землю. Члены комиссии потребовали прекратить испытания, но И. В. Сталин сказал Курчевскому: «Давайте еще попробуем!» Новая попытка оказалась более удачной».
У конструктора были дружеские отношения с М. Н. Тухачевским.
В 1937 году Курчевский был репрессирован.
Есть документ конца пятидесятых годов, который приведем полностью:
«В Центральный музей Советской Армии.
Директору музея от академика Стечкина Б. С.
Настоящим сообщаю, что Л. В. Курчевский хорошо известен мне по совместной работе. Я работал заместителем Курчевского по научной части на заводе в период около 1933–1935 годов, когда Курчевский был руководителем и главным конструктором завода.
Курчевский является изобретателем и создателем реактивно-динамических безоткатных пушек. Им созданы и были сданы в эксплуатацию пушки АПК — для авиации, ВПК — для пехоты и противотанковые ружья. В виде опытной пушки была пушка «12» для миноносца, из которой мне пришлось стрелять с миноносца. Реактивнодинамические пушки были созданы Курчевским и вошли в войсковую, наземную и воздушную эксплуатацию. После ареста Курчевского работа над пушками прекратилась, я уже не работал с Курчевским, и сейчас судьба их мне неизвестна. В Америке в послевоенное время реактивнодинамические пушки появились и существуют и теперь. Вообще Курчевский был изобретатель и имел целый ряд изобретений: аэросани, вездеходы и другие. Все свои силы и знания он отдавал своей работе и своим изобретениям, рассматривая эту работу не как личное дело, а как работу на нашу Родину. Как я знаю, Курчевский не был коммунист, но был величайший патриот и честный советский работник. Будучи по своему образованию и кругозору, а особенно по остроте ума много выше окружающих его людей, Курчевский пользовался уважением и невольно вызывал восхищение его умом. Уникальная теоретическая работа Курчевского по теории реактивно-динамической пушки могла бы и теперь служить примером классической работы в артиллерии (где эта работа, мне неизвестно).
Мне кажется, что мы должны сожалеть, что Курчевский закончил свою жизнь в тюрьме вместо того, чтобы плодотворно работать на благо нашей Родины. Считаю, что Л. В. Курчевский как изобретатель боевого вооружения для Красной Армии достоин быть показан в Центральном музее Вооруженных Сил СССР.
Жизнь и деятельность генерального конструктора Л. В. Курчевского заслуживают отдельной интересной книги.
В письме Стечкин совершенно не упоминает о своей роли в создании теории реактивно-динамического оружия. А ведь он заведовал у Курчевского всеми лабораториями и исследованиями, изучал силы реакции при истечении газов.
Под руководством Стечкина работал инженер Ф. Л. Якайтис, ныне доктор технических наук. А тогда он делал свою кандидатскую диссертацию, в основе которой был термодинамический расчет жидкостных реактивных двигателей. У него была интересная установка: на массивной тележке на рельсах работая реактивный двигатель, и тележка взлетала по рельсам на горку...
Стечкин создал на заводе лабораторию но изучению Процессов, происходящих в стволе оружия, и исследованию прочности стволов. Он сам составил список необходимого для лаборатории оборудования в руководил всеми исследованиями в ней. Для индицирования процессов в стволе пушки артиллеристы много лет применяли старый, дедовский способ — крешерный. По длине ствола сверлились отверстия, в них вставлялись патроны с медными цилиндриками, которые заранее тарированы, — крешеры. При выстреле они деформируются, и деформация прямо пропорциональна давлению газов. Раз выстрелили — замерили давление, второй раз — снова замерили. И так много раз надо стрелять, чтобы получить кривую изменения давления во времени.
Борис Сергеевич предложил новый способ: индицирование с помощью цейсовских кристаллов пьезокварца. В точку замера давления вставляли кристалл. На осциллографе появлялась кривая изменения давления во времени. Этот способ был применен в нашей стране в 1935 году, намного раньше, чем за рубежом.
Стечкин любил рассматривать проблему как бы с другого конца, не так, как все, — он шел в науке необычным путем. Работая с Курчевским, Стечкин продолжал заниматься главным своим делом — авиационными двигателями, и поршневыми и реактивными.
Часто Стечкин приезжает к инженерам Группы изучения реактивного движения (ГИРД), которой руководит Сергей Королев. В 1932 году Борис Сергеевич прочитал гирдовцам курс лекций по теории РД. Отпечатанный на машинке, он долго служил подспорьем конструкторам и расчетчикам.
В 1933 году по идее руководителя одной из бригад Ю. А. Победоносцева в ГИРДе начались первые в истории техники экспериментальные исследования воздушно-реактивных двигателей, проведенные в стендовых условиях и в полете, для чего прямоточные ВРД устанавливались в корпусе 76-миллиметрового артиллерийского снаряда. Топливом служил фосфор. Такой снаряд летал дальше обычного и вдвое быстрее звука.
«Я лично вижу за этими двигателями, — писал Ю. А. Победоносцев, — большую перспективу не только в авиации, но также и в области ракетной техники — в использовании их на первых ступенях баллистических ракет». Применение ВРД в ракетах позволяет существенно сократить стартовый вес ракеты и запасы топлива. В 1939 году инженер И. А. Меркулов достроил и испытал в полете ракету с дозвуковыми ПВРД. В том же году летчик Петр Николаевич Логинов совершил полет с двумя прямоточными воздушно-реактивными двигателями, сконструированными И. А. Меркуловым по теории Стечкина. Двигатели были подвешены под крыло самолета Поликарпова И-15-бис. Летчик взлетел на обычном моторе, вышел в зону в районе Мытищ и там включил ПВРД. Дополнительные двигатели работали надежно. Испытания продолжились и в 1940 году на самолетах Поликарпова и Яковлева.
Да, мы по праву можем гордиться, что теория воздушно-реактивных двигателей создана в нашей стране, первая ракета с ВРД стартовала с нашего аэродрома, первые испытания ВРД на самолете проведены в нашем небе.
«Стечкин очень многогранен, — говорит Игорь Алексеевич Меркулов, — но умел выбирать главное, брал на себя смелость и ответственность поддерживать новые идеи. Это был великий полководец советской науки».
В 1933 году Борис Сергеевич ездил в Ленинград в Газодинамическую лабораторию. Академик, дважды Герой Социалистического Труда Валентин Петрович Глушко вспоминает, какой радостью для него было знакомство со Стечкиным. Глушко изучил классическую работу по теории воздушно-реактивного двигателя, наблюдал, как страстно интересовался Борис Сергеевич ракетной техникой, входя во все детали работы Газодинамической лаборатории.
... В 1932 году слушатели академии имени Жуковского узнали, что профессор Стечкин будет читать у них необычные лекции. Организовался кружок для слушателей старших курсов.
«Я был первокурсником, — вспоминает профессор Павел Карпович Казанджан, — но тоже интересовался реактивным движением и стал посещать этот кружок, а там все с ромбами сидят! Но обстановка приятная. Смотрю: входит человек. Я сначала подумал — рабочий какой-нибудь. Однако все со многими ромбами в петлицах встают и с большим почтением к нему относятся.
Я тоже встал, еще не зная, кто это такой. И до этого я не раз встречал его в академии и не подозревал, что это Стечкин.
Я приехал из Еревана, по-русски еще плохо говорил, но учился
Я учился одновременно и у Владимира Васильевича Уварова. В 1936 году Владимир Васильевич предложил мне сделать для диплома проект реактивного двигателя. Я ходил в отличниках, а наше начальство решило, что новые, «экзотические» дипломные проекты нужно дать отличникам. И я взялся за это дело. Руководил проектом Уваров, а защищался я перед Стечкиным — он был председателем Государственной экзаменационной комиссии. Он заинтересовался проектом и задал мне много вопросов. Были среди них и такие, чтоб меня завалить — он любил это делать. Но исключительно добрый по натуре человек! На защитах, если докладчик говорил путано и многим неясно, о чем речь, Борис Сергеевич мгновенно разберется, выступит, свалит наповал, а потом постепенно снова поднимет и объяснит человеку, что же тот сделал. Порой и сам докладчик не очень понимал, что сделал, — бывали такие случаи. О нагнетателях, лопаточных машинах я узнал от таких выдающихся людей, как Стечкин и Уваров».
Начальник Военно-воздушной академии комкор Александр Иванович Тодорский в свое время пригласил Уварова заведовать кафедрой теплотехники.
«Работа со Стечкиным была очень интересной, — говорит профессор Владимир Васильевич, Уваров. — Стечкин — человек очень быстрого ума. Два-три вопроса, и у меня мозги кверх тормашками. Если вы сами не работаете, он вам мозги в два счета перевернет...
С Борисом Сергеевичем мы часто присутствовали на защитах диссертаций. Объективно любая диссертация может быть либо хорошей, либо плохой. Неважно, какие школы, важно, чтоб работа была квалифицированной. Думаю, что рецензентов, давших положительный и отрицательный отзывы, нужно сажать за один стол, чтобы они пришли к общему мнению».
Более трех десятилетий проработал Стечкин в академии, причем с 1923 года заведующим кафедрой, и оставил о себе самую добрую память. Он умел заботиться о своих подчиненных, заступиться и защитить. Однажды сделал внушение начальнику, оскорбившему преподавателя.
На заседаниях своей кафедры сядет в уголке:
— Проводите, не обращайте на меня внимания.
С конца 1953 года стечкинской кафедрой лопаточных машин в академии стал заведовать один из способнейших учеников Бориса Сергеевича, Тигран Мелексетович Мелькумов. Между учителем и учеником нередко возникали теоретические споры, и иной раз Стечкин приходил домой расстроенным:
— Лучше б я вообще с ним не говорил!
Но спорить на таком уровне с ним могли немногие, а Мелькумов мог, и Стечкин ценил это в своем ученике.
Долгая многолетняя педагогическая деятельность Стечкина не ограничивалась стенами «Жуковки». Как уже говорилось, он преподавал и в Ломоносовском институте, и в МВТУ. Из механического факультета МВТУ выделился новый, аэромеханический, и 30 марта 1930 года на базе этого факультета и аэромеханической специальности Ленинградского политехнического института было образовано новое учебное заведение ВАМУ — Высшее аэромеханическое училище, по типу МВТУ. Стечкин предпринимал шаги к тому, чтобы двигательная специальность получила научную базу, поэтому он не только преподавал в ВАМУ, но и был движущей силой в организации нового училища. Приказом Главного управления авиационной промышленности 29 августа 1930 года ВАМУ было переименовано в Московский авиационный институт. В МАИ Стечкин читает теорию двигателей — совершенно новый курс.
С конца 1930 до начала 1932 года в МАИ создавалась кафедра двигателей, заведовать ею стали Антон Павлович Островский, потом Владимир Яковлевич Климов и Сергей Алексеевич Трескин. С 1932 года Стечкин читает в МАИ теорию нагнетателей, теорию лопаточных машин, читает с увлечением, как всегда, вкладывая в свой курс много нового, того, чего нигде в мировой литературе не было. Еще в конце двадцатых годов он построил в ЦАГИ авиационный турбокомпрессор и разработал проекты турбовинтового двигателя и поршневого генератора газа для турбин. В своих лекциях, докладах и работах «Курс лекций по теории авиадвигателей» (1921 г.), «О тепловом расчете двигателя» (1928 г.) и «Характеристики двигателей» (1928 г.) Стечкин дал основы расчета авиадвигателя, вывел ряд формул и положений, ставших и поныне общепринятыми в теории легких двигателей. Из этих открытий наиболее важны формула для определения мощности и среднего давления в двигателе по расходу воздуха и формула для определения коэффициента наполнения с учетом подогрева воздуха при всасывании. Стечкин, впервые в мире теоретически доказавший, что индикаторный КПД двигателя не зависит от мощности двигателя, а является функцией лишь степени сжатия и состава смеси, поставил теорию теплового расчета на совершенно новую основу и открыл возможность для теоретического построения характеристик легких двигателей. Основы этих характеристик, земных и высотных, были также выдвинуты Стечкиным, создавшим свою школу теории авиационных двигателей.
С 1932 года, после создания кафедры двигателей в МАИ, началось дипломное проектирование, и Борис Сергеевич долго, до 1964 года, был бессменным председателем ГЭКа, принимал «продукцию» института и делал это с достаточным тактом. От его замечаний была только польза, и немало вопросов, связанных с новой техникой, газотурбинными двигателями, помог он решить своим ученикам, среди которых были будущие крупные ученые, инженеры, летчики-космонавты. К великому сожалению, конспектов его лекций в МАИ не осталось. Только отдельные записи.
Задолго до появления первых реактивных самолетов Стечкин читает в МАИ три цикла лекций о реактивных двигателях — для главных конструкторов, ответственных работников наркоматов, руководителей крупных заводов. Он читал лет на 10–15 вперед...
С 1935 года Стечкин вновь работает в Центральном институте авиационного моторостроения. В ЦИАМ его перевели заместителем начальника института по научно-технической части.
ЦИАМ к тому времени окреп, стал мощной научно-исследовательской организацией, оснащенной установками по изучению и доводке рабочего процесса, разработке и созданию новых различных типов агрегатов наддува — многоскоростных нагнетателей, турбокомпрессоров.
«Авиационный двигатель представляется мне сплавом науки, техники и искусства, — пишет А. Д. Чаромский, руководивший в ЦИАМе отделом нефтяных двигателей. — От науки — законы физики, химии, от техники — их инженерное воплощение, от искусства — присущая ему собранность, лаконизм — ничего лишнего. Авиационный двигатель отличается от всех других, даже родственных машин — у него большая мощность на единицу веса, малые габариты, надежность. Чем выше эти качества, тем совершеннее двигатель. Высокий уровень скоростей, высотности, дальности нашей авиации — результат многолетнего труда конструкторов, исследователей, технологов».
Порядок в отделах в те годы был такой. На основа экспериментов задумывалась конструкция, обсуждалась на совете института. Обсуждение всех идей и их осуществление обычно проходили с участием и под руководством Бориса Сергеевича. Строилась одноцилиндровая установка, и на ней отрабатывался рабочий процесс каждого из нескольких разрабатываемых двигателей. Создавать сразу несколько двигателей нелегко. Но необходимо. После отработки на одноцилиндровой установке проводилась доводка рабочего процесса, корректировка технической документации всего двигателя, затем его передавали на опытный завод. Там делали два-три экземпляра мотора для испытательной станции, где и велась доработка двигателя в целом.
Конечно, в этой работе принимали самое деятельное участие и главный конструктор двигателя, и весь его отдел. Доводка — самое сложное и трудоемкое дело. На испытательной станции обнаруживаются один за другим недостатки. Если это погрешности в конструкции, они устраняются конструкторским отделом, если производственные, меняется технология процесса, завод вносит свои доработки. И в конце концов двигатель или бракуется, или принимается. Скажем, если из-за конструкторской ошибки сломался коленчатый вал или картер, считай, что двигатель провалился, и производство тут ни при чем. Устранимые недостатки исправляли, двигатель принимался и запускался в серийное производство на одном из отечественных моторостроительных заводов. Ну а если главный конструктор двигателя хотел, чтобы его мотор, как говорится, «пошел», он уходил вместе с ним на серийный завод. Так было с В. Я. Климовым, А. А. Минулиным, С. К. Туманским. Туманский стал главным конструктором завода в Запорожье, Климов ездил во главе нашей технической делегации во Францию. Наши специалисты закупили там лицензию, техническую помощь, оборудование и технологию производства мотора «Испано-Сюиза». У нас он получил шифр М-100. Под руководством В. Я. Климова было освоено его серийное производство, разработаны дальнейшие модификации, которые прошли испытания войной на самолетах Як-3, Пе-2, Ту-2...
Разлетались из ЦИАМа конструкторы. Отделился Микулин со своим знаменитым АМ-34, ставшим вехой в работе института. Стечкин и Микулин, теоретик и практик, продолжали свою совместную плодотворную деятельность. Учась лучшему, что было в технике Запада, они строили свое, никого не копируя. Европа не верила, что АМ-34 построен в Советском Союзе. На Парижской авиационной выставке его прозвали «слон». Этот мотор поднял в воздух туполевскую машину АНТ-25 с экипажами Чкалова и Громова, совершившими перелеты, которые до сих пор потрясают своим размахом и фантастичностью. Один мотор— и 11 тысяч километров за 62 часа без посадки в 1937 году! Когда у Чкалова спросили, почему он полетел на одномоторном самолете в такой дальний трансарктический рейс, Валерий Павлович пошутил:
— У одномоторной машины вероятность отказа двигателя 100 процентов, а у четырехмоторной — 400!
АМ-34 не отказал.
Долго шел Александр Александрович Микулин к созданию этого уникального тысячесильного мотора. Студент, кружковец Жуковского, потом простой рабочий на Русско-Балтийском заводе. Микулину в свое время не удалось закончить МВТУ, и только после выхода в серию мотора АМ-34 его автору в Московском авиационном институте был торжественно вручен диплом инженера — без защиты. АМ-34 породил целую серию двигателей, сделанных по советским чертежам, по советской технологии, из советских материалов.
АМ-35А (1350 л. с.) стоял на истребителе МиГ-3, АМ-38Ф (1750 л. с.) стал основным мотором нашей штурмовой авиации в войну, АМ-42 (2000 л. с.) работал на штурмовике Ил-10...
В каждом из этих моторов — труд теории и практики, труд всего коллектива инженеров, техников, рабочих...
Руководство страны придавало большое значение работам ЦИАМа. Центральный Комитет помогал, но и требовал. Поступило срочное задание: на созданном в 1934 году восьмимоторном гиганте АНТ-20 «Максим Горький», испытанном М. М. Громовым, обнаружилось, что моторы излучают радиопомехи и лишают самолет связи с землей. В ЦИАМе была создана система экранирования зажигания двигателей, которая применяется и поныне. Работали день и ночь и недостаток устранили.
Сроки ставились жесткие. С Запада тянуло войной, в у страны было мало времени. Из Центрального Комитета пришло задание: создать уникальный агрегат, для которого модели, литье, поковки, соединения — все надо сделать заново. Срок — трое суток, всего 72 часа. Никто не вышел из института. Еду из столовой приносили на рабочие места. Спать почти не приходилось. Через 72 часа агрегат был готов.
В ЦИАМе теория Стечкина под его руководством подкреплялась практикой, инженерной работой. Борис Сергеевич строит экспериментальный поршневой газогенератор и маломощный двухтактный авиационный дизель воздушного охлаждения.
В 1934–1937 годах Стечкин занимается теорией авиационных нагнетателей центробежного типа, которая способствовала созданию в нашей стране мощных высотных двигателей, в частности микулинских. По расчетам Бориса Сергеевича, под его непосредственным наблюдением создавались агрегаты центрального наддува. Один из них построили в МАИ. Он должен был повысить высотность полета до 20 тысяч метров. Для этого в фюзеляже четырехмоторного бомбардировщика устанавливали пятый двигатель, который вращал ротор агрегата центрального наддува, а тот на большой высоте, при разрежении, засасывал воздух и питал им четыре основных двигателя самолета.
К Стечкину в МАИ обратился летчик Юнгмейстер:
— Пришел посоветоваться. Хочу подпитывать двигатели кислородом.
— А у вас что, автомат для этого есть на самолете? — спросил Стечкин.
— Автомата, к сожалению, нет. Буду подпитывать моторы вручную, порциями им выдавать кислород.
Стечкин переглянулся с инженером Скубачевским.
— Глеб Семенович, давайте расскажем ему о центральном наддуве. Парень он молодой, летчик бравый, ему ордена нужно зарабатывать!
И рассказали.
— Завтра в девять утра, — сказал Юнгмейстер, — я должен докладывать товарищу Молотову. Думаю, что через несколько минут вызовут и вас.
Так и случилось. От МАИ в Кремль поехал С. А. Трескин. После его сообщения было вынесено решение: поручить постройку этого агрегата ЦИАМу, испытать в МАИ, а наблюдение за работой возложить на специальную комиссию. Агрегат построили и испытали в 1934 году. У заместителя начальника Главного управления авиационной промышленности Ермолаева состоялось совещание с участием крупных работников моторостроения. От академии имени Жуковского был Заикин, от заводов — Микулин, Бессонов, Доллежаль... Докладывал Трескин. Микулин слушал его и долго не мог понять, почему же мощность на высоте с этим агрегатом на 100–150 сил больше? Спросил у Трескина, а тот не может сообразить, чего же не понимает Микулин. Выручил Скубачевский:
— Александр Александрович, у нас нагнетатель работает ведь не от основных двигателей, а от дополнительного и добавляет мощность основным за счет этого пятого мотора!
Микулин хлопнул себя по голове.
Агрегат МАИ в серию не пошел. Но он сыграл свою роль для экспериментов и доводок и сейчас установлен в одной из лабораторий МАИ — своеобразном музее отечественной моторной техники. А к микулинскому мотору АМ-34РН был разработан одноступенчатый нагнетатель, который требовал большой мощности, и она отнималась не от дополнительного двигателя, а от основного, сверхмощного. Вот почему Микулин задавал вопросы Трескину. Видимо, у него уже рождалась идея создать иной нагнетатель, используя большую мощность основного мотора.
Здесь возникли новые проблемы. В малом объеме нужно было устроить механизм, который смог бы включать передаточную муфту и не «горел при этом.
Проблеме высотности в те годы придавалось первостепенное значение. В ЦИАМе для этого создали специальную группу. Ездили на заводы — к А. Д. Швецову, В. Я. Климову. Начали поговаривать о сверхзвуковых скоростях. Но главным в то время и первоочередным было «летать выше всех...». Большинство новых идей по этой проблеме исходило от Стечкина.
И. В. Сталин дал ведущим конструкторам задание в кратчайший срок сдела гь высотный мотор, за создание которого взялись Климов, Швецов, Микулин. Александр Александрович строил двигатель АМ-36 по схеме «Y» и одновременно стал строить мотор для полетов на низкой высоте.
— Не можешь ли ты сделать двигатель для моего нового штурмовика? — позвонил Микулину Сергей Владимирович Ильюшин.
— Дорогой мой, ты угадал мои мысли, это то, о чем я сейчас думаю! — ответил Микулин. И обратился в Наркомат авиационной промышленности и Центральный Комитет с просьбой поставить новый двигатель АМ-38 в план и выделить средства.
— Александр Александрович, у нас проблема № 1 сейчас — высотность. Если вы сделаете только АМ-36, вам некуда будет сверлить дырочки для орденов! — ответили ему.
И все-таки Микулин сделал и АМ-38. Нашлись энтузиасты, помогли.
Война. Рамки этой книги не позволяют подробно рассказать, как героически выпускались серийные моторы для ильюшинского штурмовика, как в три дня завод демонтировали и эвакуировали и как там прямо на платформы под открытым небом к станкам подвели электричество и рабочие на ветру и в снегопад вытачивали детали самого мощного в мире мотора. Столы конструктора и технолога стояли рядом — один чертит, другой смотрит и сразу же разрабатывает технологию, кто-то звонит на Урал и заказывает нужные материалы и поковки... Невиданный героизм рабочих, инженеров и техников сотворил чудо.
«Летающим танком», «черной смертью» прозвали фашисты штурмовик Ил-2. На нем были установлены две 20-миллиметровые пушки, два пулемета в крыльях и один крупнокалиберный в кабине стрелка-радиста, машина несла на себе четыре реактивных снаряда и 400–600 килограммов бомб.
Двигатель АМ-38 Микулин строил, не раз обращаясь к трудам и идеям своего старшего брата.
... Летний отпуск 1937 года Стечкины провели на Днепре, в селе Триполье, что ниже Киева. Борис Сepreeвич каждое утро просыпался до зари, шел к реке, забрасывал спиннинг. Изредка закидывал сеть — тогда это еще разрешалось. Но больше любил спиннинг и в то лето произвел фурор среди местных рыбаков, вытащив невероятных размеров щуку.
Осенью вместе с основной работой в ЦИАМе он продолжал преподавать в «Жуковке» и МАИ, читая курс теории центробежных нагнетателей...
В декабре 1937 года по клеветническому обвинению Стечкин был арестован, но и в заключении Борис Сергеевич работал и сделал много ценного.
В техническом бюро он работает над авиационными дизелями. Под руководством Стечкина и инженера Григория Николаевича Листа был спроектирован и построен компрессор для дизеля М-30. Это был первый осевой компрессор для наддува авиационного дизеля.
Стечкин считал, что ключом к решению задачи по созданию мощного газотурбинного двигателя является именно осевой нагнетатель с высоким КПД. Назывался он ПО — нагнетатель осевой. Стечкин конструктивно разработал схему, сделал чертежи, разрезы.
По проекту Стечкина с участием профессора Жиридкого, инженеров Концевича, Назарова и других были спроектированы и построены турбокомпрессор и приводной центробежный нагнетатель с закрытым рабочим колесом для авиационного дизеля М-20. КПД этих агрегатов для того времени был наивысшим. «Насколько я помню, — говорит А. Д. Чаромский, — мы впервые с Борисом Сергеевичем осуществили центробежный компрессор с закрытым колесом. Кроме того, лопаточный диффузор по методу Стечкина был спрофилирован на высоком уровне. Это и способствовало увеличению КПД».
В заключении Стечкин продолжает заниматься реактивным движением. Он рассмотрел одну чисто практическую сторону этого дела: использование выхлопа поршневых двигателей для создания некоторой дополнительной тяги. Наблюдая за пролетающим самолетом старой конструкции, вы, наверное, видели, как из патрубков выбивается красивое пламя. Прежде у поршневых самолетов огненные струи загибались в стороны, чтобы меньше было сопротивление на выхлопе и лучше использовать мощность моторов. Стечкин разработал и рассчитал расширяющиеся патрубки, которые загибались назад, создавая небольшую, но заметную дополнительную тягу. Сейчас этим никого не удивишь, а тогда было внове.
В войну техническое бюро перевели из Москвы в Казань. С появлением Стечкина в Казани началась работа по созданию пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. Борис Сергеевич решил осуществить одну из своих задумок двадцатых годов. Он стал проектировать реактивный ускоритель для поршневого самолета, чтобы на несколько десятков километров увеличить скорость полета. Скорости тогда были до 500 километров в час, и такая прибавка переводила самолет в другой, более высокий класс и давала большое преимущество над противником. Все свободное время Стечкин ходил по комнатам, обдумывая двигатель, потом рассказывал о своей идее то одному, то другому инженеру, предлагая работать вместе. Все, кому это доверялось, сразу соглашались, потому что работать со Стечкиным не просто доставляло радость людям. Где еще такую школу получишь?
Стали вместе соображать, как к поршневому самолету под крыло установить обтекаемый реактивный двигатель, работающий в импульсном режиме и на том же бензине, что и основные моторы. Решили выполнить его в форме дуги, чтобы воздух входил в один конец, выходил из другого, а топливо поступало из крыла. Очень быстро — в голове все давно продумано — Стечкин написал теорию и расчеты ускорителя, а инженер Г. Н. Лист занялся конструктивной разработкой. Двигатель строился впепланово, параллельно с основной работой над авиационным дизелем, и начальство косо смотрело на новый проект, видимо, не веря в реальный успех ускорителя и потому не очень способствуя этой работе. А Стечкин предвидел в перспективе замену поршневых моторов на самолетах реактивными и с группой энтузиастов, можно сказать, полуофициально занялся созданием своего пульсирующего двигателя. Что ж, в истории техники были примеры, когда внеплановые работы оказывались не самыми плохими.
Стечкин и его помощники построили простейшую экспериментальную установку для ускорителя.
Казанский завод занимал просторную территорию, разделенную пополам. В тридцатые годы здесь, видимо, вадумывался комбинат, который строил бы и моторы и самолеты, но потом, столкнувшись с неудобствами в управлении и во взаимоотношениях между двумя организациями, разделили площадь пополам забором, образовав два завода — моторный и самолетный с аэродромом.
А на границе между двумя территориями стояло четырехэтажное здание заводоуправления, два этажа в котором занимало техническое бюро. Сначала в ОТБ собрали двигателистов во главе с А. М. Добротворским, которые на базе мотора М-105 построили двигатель МБ-100.
Зима 1941/42 года была знатно суровой не только под Москвой. В Казани прочно держалось минус сорок градусов с большим ветром. Даже более молодые, чем Стечкин, его помощники с трудом добирались от завода до открытой площадки под навесом. Сквозь метель уже виднелась высокая фигура Бориса Сергеевича. Стечкину пятьдесят. Он не знал, что в эту зиму в далеком Алексине во время бомбежки погибла его мать. Здесь, в Казани, далеко от фронта, ученый продолжал трудиться на нашу Победу.
Первый вариант импульсного двигателя удалось построить довольно быстро, но заработал он не сразу. Появились скептики: пойдет ли он вообще? Как будет работать система неуправляемых клапанов? Двигатель состоял из камеры сгорания, которая с одного конца переходила в длинную резонансную трубу, а с другого была закрыта клапанной решеткой. В камере, куда подводили бензин и зажигание, при взрыве горючей смеои давление повышалось и клапаны закрывались. Газы мощно вылетали из открытого конца трубы, в камере же создавалось разрежение, из-за чего открывались клапаны, впуская порцию наружного воздуха для повторения цикла. Так двигатель работал в импульсном режиме, и каждый импульс напоминал выстрел. Когда его впервые запустили и он издал свой резкий, необычный звук, весь завод замер: такого здесь еще не слыхали. Нередко рвались клапаны, нужно было менять их ход, материалы, возникли трудности с системой зажигания, и, наконец, стали гореть свечи, проработав всего несколько часов.
— Борис Сергеевич, так обидно: все шло хорошо, и вдруг свечи начали гореть!
— Что же вы печалитесь, — обрадовался Стечкин, — теперь это похоже на настоящий двигатель, коль свечи горят!
Справились и с этйм недостатком, и появилась надежда, что двигатель действительно получится, хотя с большими трудностями, чем ожидалось. Группа получила данные, которые заинтересовали самолетчиков. Приезжал заместитель командующего ВВС генерал-лейтенант Иван Федорович Петров, и на него двигатель произвел большое впечатление. Разработали вариант самолетной конструкции: пульсирующий прямоточный ВРД, работавший в резонансном режиме с частотой циклов, обусловленных геометрическими размерами проточной части и параметрами воздуха. Двигатель назвали УС — ускоритель Стечкина.
УС предлагали поставить на самолеты Туполева и Петлякова. Представьте себе тяжелый поршневой бомбардировщик. Ему надо быстро подойти к цели или уйти от нее, а тут истребители противника! И выручит ускоритель Стечкина. Летевший с привычной, давно изученной скоростью советский бомбардировщик вдруг перед самым носом у врага мгновенно исчезает... Таких ускорителей предполагалось ставить на самолет двенадцать штук — по шесть в каждом крыле. Горючее в них подавалось дизельной топливной аппаратурой — насосами и форсунками. Были сделаны компоновки, вое согласовали с самолетчиками. Стечкина только очень огорчало, что не удалось получить ожидаемого высокого значения КПД этого двигателя.
В нашей стране над созданием пульсирующих ВРД работало несколько групп.
В 1944 году стало известно, что немцы оснащают свои самолеты-снаряды «фау-1» подобными двигателями и бомбят Англию через Ла-Манш. Когда наши инженеры воспроизвели первый трофейный двигатель, выяснилось, что он аналогичен советским разработкам, только был более доведенным. Но Стечкин сделал свой ускоритель раньше, в более короткий срок...
В настоящее время УС представляет исторический интерес и, окажем, в музее авиации занял бы достойное место — реактивный двигатель, созданный в суровые военные годы. Сейчас двигатель показался бы слишком элементарным, но на нем Стечкин получил первые экспериментальные данные, ставшие основой для его последующих работ по воздушно-реактивным двигателям.
Не случайно академик В. П. Глушко отмечает УС как одну из выдающихся работ Стечкина, интереснейшее явление в авиации. «Непосредственно вместе с ним мне поработать так и не пришлось: он трудился в своих группах, я — в других. У нас были встречи, контакты, но каждый работал над своей темой. Воздушно-реактивные двигатели никогда не входили в круг моих интересов, а жидкостные ракетные двигатели всегда были интересной, но сторонней темой для Бориса Сергеевича. Однако новую технику он не только понимал, но и сам занимался ею, поэтому постановка новых проблем, если он видел в них перспективу, постоянно встречала его поддержку. С ним всегда было приятно и полезно посоветоваться».
На казанском заводе не только строились установки и конструкции, там были и лаборатории. Каждый шел в свою лабораторию в разные концы завода. Чаромский занимался дизелями, Ро был главным конструктором поршневых двигателей, потом его сменил Добротворский, Борис Сергеевич со своей группой занимался новыми теоретическими разработками и их воплощением, КБ Глушко работало над жидкостными ракетными двигателями.
«В коллективе специалистов технического бюро, — говорит А. Д. Чаромский, — в работах которого принимали участие выдающиеся конструкторы и ученые, высококвалифицированные специалисты нашей страны, Борис Сергеевич был общепризнанным авторитетом». И что немаловажно, люди, которые работали с ним в этот период, продолжали так же хорошо к нему относиться и в последующие годы. Это была личность, влиявшая на окружающих, и будем говорить о его трудах, о свете, который исходил от него. В свое время один ученый предложил называть небесные планеты в отличие от светил темнилами. Стечкин был излучателем идей и на работе, и во время отдыха.
... Жили дружно. Играли в волейбол, устраивали соревнования по бегу, причем особый интерес вызывали состязания между высоченным, с усами и бородой, профессором-металлургом Иваном Ивановичем Сидориным и маленьким, юрким Иваном Сергеевичем Зарудным. Пат и Паташонок! Зрители давились со смеху, когда главный судья соревнований Борис Сергеевич Стечкин вручал обоим самодельные грамоты.
Зимой, когда бег и волейбол прекратились, товарищи, чтобы сделать приятное Борису Сергеевичу, раздобыли с помощью директора завода бильярд, да настоящий, большой!
В шахматы любил он играть два на два, а однажды научил товарищей такому шуточному приему:
— А вы умеете играть о конем в кармане? Нет? Давайте покажу. Каждый из соперников начинает партию без коня, которого в любой момент может поставить на любую клетку, и об этом нужно помнить, что значительно усложняет игру.
Вечерами собирались в самодельном «ресторане», который назвали почему-то «Лиссабон», слушали музыку. Был свой оркестр — сами сделали мандолины, гитары, балалайки. Были мастера — золотые руки, а от Туполева с завода привозили фанеру, красивый целлулоид для инкрустации. В Казани в войну оказалось почему-то много кофе. И те. кто не съедал свой хлеб — кормили по военным временам неплохо, — за несколько дней накапливали буханку и обменивали на кофе, его жарили, заваривали, и в «Лиссабоне» собирались завсегдатаи... Стечкин был одним из наиболее аккуратных посетителей. Он много сделал в эти нелегкие годы, а работы все прибавлялось. А когда начали испытывать готовые конструкции на земле и в лёте, свободного времени почти не стало.
К Стечкину приходили советоваться по всем вопросам. Наверное, если бы у них не было поликлиники, к нему бы и за медицинскими советами ходили. Нужно решить сложную математическую задачу — к нему, написать методику испытаний — к нему, смонтировать новую установку — тоже к кему. И эн не только даст советы по этой установке, но и обязательно какое-нибудь улучшение к ней придумает. Не имея специального образования в области электротехники, он не раз вносил ценные поправки в электрические схемы, доказывая, почему так, а не иначе. И все, кому он помогал словом и делом, могли заметить одну особенность: он помогал так, как будто вы ему делаете одолжение тем, что пришли за советом, а не он вам. И с такой охотой расскажет все, что знает! Бывало, за новыми заботами вы позабыли, что обращались к нему, а он напомнит:
— Вы меня спрашивали несколько дней назад... Я хочу добавить, я вспомнил, тут надо вот что сделать...
К нему обращались за советом и целые организации.
Научно-исследовательский институт Гражданского воздушного флота в войну находился в Казани и тоже пользовался знаниями и опытом Стечкина. Борис Сергеевич не раз приезжал в НИИ ГВФ со своими учениками.
Климовский двигатель М-107 был с несколькими карбюраторами, с очень сложной кинематикой, и на серийной испытательной станции никак не могли добиться синхронной работы всех цилиндров. Отрегулируют все карбюраторы на нормальном режиме, цилиндры работают одинаково, но стоит пррейти на малый газ, и один цилиндр дает большую мощность, другой вообще не работает. И хоть все по инструкции делается, никак не регулируются движки, никакой синхронности, хоть разбейся! Все просто замучились с этими моторами. А они были серийными, рядом, на соседнем заводе, их горяченькими ставили на самолеты и на фронт! Но на станции скопились неотрегулированные моторы, и стоят без них беспомощные самолеты. Обратились к Стечкину. Он пришел, походил по станции, попросил включить один движок, взялся за сектор управления, подвигал, послушал и ушел, ничего не сказав. Снова все работники на станции в отчаянии — просто руки опускаются. Хоть они все и очень верили в Стечкина, но что он придумает после такого беглого осмотра? А он через два дня снова появился на станции и так, между прочим, говорит:
— Вы знаете что, тут надо установить определенный порядок регулировки, и, мне кажется, это надо сделать так. — И он написал свое предложение на листочке. Оказалось, довольно простая вещь, но в инструкции ее не было, и все удивлялись потом, как сами — столько неглупых голов — не могли додуматься... А моторы после этого пошли.
Так случалось не раз — то в двигателе давление масла начнет падать, то клапаны летят. И на каком бы заводе это ни происходило, как последняя надежда, звучало на совещаниях: «Есть Борис Сергеевич Стечкин...»
Иногда в Казань по делам службы приезжал кто-нибудь из старых друзей или знакомых. Однако нечасто.
Александр Александрович Микулин в 1935 году, уйдя со своим двигателем из ЦИАМа, долгое время был главным конструктором опытно-конструкторского бюро одного из заводов. Такие ОКБ были самостоятельны — в смысле конструкторских и лабораторных работ, но, если нужно было изготовить какую-нибудь опытную деталь или узел, главный конструктор вынужден был обращаться к директору завода, а того, разумеется, больше интересовал план, а не изготовление экспериментальных изделий. Это положение тяготило конструкторов и тормозило работу. И Микулин решил добиться создания завода, который бы самостоятельно строил опытные образцы. У такого завода должна быть и своя производственная база — механическая, литейная, кузнечная, чтобы двигатель можно было делать самим от начала до конца и быть свободными в изменениях, доводке — во всем, чего не избежать, если хочешь построить хорошую вещь. А Микулин умел делать великолепные моторы! И с присущей ему энергией он взялся за создание такого завода.
В 1943 году он встретил С. К. Туманского, которого знал еще по ЦИАМу.
— Я хочу создать опытный завод, — сказал Микулин. — Ты должен понимать, как это важно. Пойдешь ко мне замом по конструкторской части?
Туманский сразу же согласился.
— А заместителем по научно-исследовательским и теоретическим работам нам нужен Стечкин, — заключил Микулин.
Вместе с Туманским они составили проект организации завода, предусмотрев все до мелочей. Несколько дней ездили по военной Москве, искали помещение. Стали «пробивать» проект. Не везде он встретил поддержку. В некоторых отделах Наркомата авиационной промышленности считали, что такой завод должен быть при серийном производстве, иначе он оторвется от практики. И Микулин и Туманский были опытными конструкторами и достаточно прочувствовали на себе положение зависимости. Безрезультатные хождения по инстанциям, и, наконец, Микулин добился приема у И. В. Сталина. И после того как Микулин сказал Сталину, что погибнет авиация, если не будет создан завод главного конструктора, на котором он не должен согласовывать каждый шаг с директором, и Сталин поддержал его, Александр Александрович добавил:
— Только, товарищ Сталин, у меня одна просьба. Без помощника по научной части я ничего сделать не смогу. Мы два племянника Жуковского, я и мой друг, мой родственник Стечкин. И мне нужно, чтобы он был у меня замом по научной части. Я очень прошу вас удовлетворить мою просьбу.
— Ну хорошо, согласимся — пусть хорошие моторы делают, — ответил Сталин.
Холодным мартовским днем Стечкин вышел на перрон Казанского вокзала в Москве, очень скоро был на Арбате, в родном доме в Кривоникольском. Дети были дома и тут же, не помня себя от радости, бросились звонить матери на работу.
В тот же день Борис Сергеевич едет на вновь созданный завод. «Микулин взял себе кабинет бывшего директора завода, я кабинет бывшего главного инженера, — рассказывает С. К. Туманский. — Стояли в этих кабинетах по поломанному столу и стулу, но мы решили, что надо сидеть и делать начальственный вид. Назначили начальника отдела кадров, стали набирать людей — сначала первых попавшихся, и жизнь как-то завертелась. И вот сижу у себя, и входит какой-то человек, входит и говорит: «А где я могу здесь видеть Микулина Александра Александровича?» Я смотрю: боже мой, Стечкин, Борис Сергеевич! Я к нему бросился, мы обнялись, и я его провел к Микулину. Вот таким было первое его появление на нашем заводе. Если б был фотоаппарат, снять бы эту картину... Просто невероятно. Сорок третий год, начало марта. «А где я могу здесь видеть Микулина Александра Александровича?» — спокойным таким голосом...»
А. А. Микулин был на своем заводе, который еще пе отапливался. Грелись электрическими печками.
Входит секретарша:
— К вам какой-то гражданин Стечкин.
— Кто?
— Какой-то Стечкин, только у него очень странный вид.
— Пускай же войдет! Скорей!
Он вошел, сделал два шага, остановился.
— Товарищ генерал, прибыл в ваше распоряжение!
— Стечкин, ты с ума сошел!
Микулин в генеральском, объятия, слезы, радость...
Организация была всего несколько человек — Сорокин с группой, Лившиц, Выгодский, Огуречников — вот и все КБ. Сидели в одной большой комнате, где сейчас директорский кабинет, и заводит Микулин человека, мужиковатого на вид, но глаза умные, живые, ясные: «Вот вам Борис Сергеевич Стечюш!» Ему сразу же устроили рабочее место. Имя его было очень известно в авиации, и вокруг ученого стало собираться немало талантливых людей из бывшего микулинокого конструкторского бюро, из ЦИАМа и других организаций.
Первым пришел Моисей Григорьевич Дубинский, ныне известный ученый в области турбохолодильных установок, доктор технических наук, заслуженный изобретатель РСФСР. Это было через пять дней после появления Стечкина на заводе. Дубинский приехал в Москву с конструктором Данилевским. Они вместе спроектировали реактивный двигатель, и только послали их с этим изобретением в один институт, как Дубинскому поавонил Микулин:
— Приезжайте к нам, у нас над этой проблемой будет работать Стечкин, и я думаю, вы с ним найдете общий язык.
Данилевский услышал разговор и говорит:
— Мне бы не хотелось расставаться, но если вы будете работать со Стечкиным, то это такая умница, что я возражать не смею. Считайте, что вам повезло: работать с ним — большое счастье.
«Шла война. Я тогда был совсем молодым инженером, — говорит М. Г. Дубинский. — Если б я остался у Данилевского, вся моя жизнь пошла бы иначе. Но я понимал, что такое Стечкин».
Наутро Дубинский явился к Стечкину.
— Мне нужен руководитель научного перспективного отдела, — сказал Стечкин. — И вот, батенька мой, решите задачку. — И дал элементарную задачу по термодинамике. Нужно было ответить, где выгоднее подводить тепло — на входе или выходе компрессора.
Стечкин считал, если человек понимает, что тепло надо подводить к выходу компрессора, значит, этот человек вообще что-то понимает.
Стечкин вызвал начальника отдела кадров:
— Какой у нас самый высокий оклад остался?
— Девятьсот рублей.
— Вот и оформите товарища, голубчик. И три дня отпуску ему.
«Он взял меня к себе, — говорит М. Г. Дубинский, — хотя я ему не ответил ни на один вопрос, сказал только, что кончил МГУ и экспериментальной работой занимался у профессора Морошкина, одного из любимых учеников H. Е. Жуковского. Видимо, к людям, окончившим Московский университет по специальности «аэродинамика», он относился с большим почтением. И оклад мне дал по тем временам немалый». Стали организовывать перспективную группу. Стечкин пригласил своего друга из Бауманского училища профессора М. В. Носова, отличного преподавателя, крупного термодинамика. Сели втроем в маленькой комнатке и стали заниматься реактивным движением. Стечкину хотелось закончить свой УС, над которым он работал в Казани. И Дубинскому он поставил первую задачу:
— Достаньте мне крыло самолета Пе-2.
Тому даже показалось — не шутит ли Стечкин? Зачем ему это крыло? Но, увидев серьезность на его лице, отправился на завод, выпускавший пикирующие бомбардировщики Петлякова. Достали крыло с подбитого Пе-2, привезли в ЦАГИ и там стали вести продувки с ускорителем. Однако война ставила свои задачи.
— Составьте, голубчик, штатное расписание всей научно-экспериментальной части завода, — сказал Стечкин Дубинскому. — Задание не из легких — все должности, все лаборатории надо учесть.
Дубинский сначала и не знал, как подступиться к расписанию, с чего начать. Поехал в ЦИАМ посмотреть.
Через неделю Стечкин спрашивает:
— Ну как, вам нравится мое задание?
Только хотел Дубинский признаться, что не очень-то оно ему по душе, Стечкин опередил:
— Да бросьте, конечно же, совсем не нравится. Но должен сказать, вам это так пригодится в жизни, что когда-нибудь вы меня добрым словом помянете.
Дубинский сидел и ломал голову, как свой отдел назвать. Назвал ЭИО — экспериментально-исследовательский отдел — так и поныне называется. Сколько мотористов нужно в лаборатории — восемь или десять? Три месяца ушло у Дубинского на составление расписания. А в 1965 году, когда он сам станет во главе крупного предприятия, не раз с благодарностью вспомнит своего учителя...
Самой организацией завода Стечкин не занимался, но на его плечи легло комплектование научных кадров. «Ему, собственно, все в рот смотрели», - говорит С. К. Туманский.
Стечкин пригласил из Казани талантливого конструктора Анатолия Федоровича Мацука — они вместе занимались УСом. На новом заводе Мацук вместе с инженером Владимировым под руководством Стечкина продолжали успешно заниматься реактивной тематикой.
Но в первый период существования завода работали над поршневыми двигателями, и Стечкин руководил созданием экспериментальной базы для их производства. Работа не новая, наверно, ее можно было сделать и без Стечкина, но на первом этапе ничего другого но было. А впрочем, и здесь Борис Сергеевич сумел сказать свое слово. Вместе с Микулиным и Туманским они разрабатывают высотную модификацию одного из двигателей AM.
С. К. Туманский рассказывает: «Чтобы организовать завод, нужно показать, что мы умеем делать. И Микулип и я хорошо знали поршневые моторы, и на базе двигателей AM мы стали строить высотные варианты с турбокомпрессором, с приводным центробежным компрессором, то есть начали организовывать весь коллектив конструкторов, расчетчиков, производственников. А Стечкин комплектовал вокруг себя науку о турбореактивных двигателях. В ю время, когда ни книг, ни записок по этому вопросу не было, был человек, который говорил, как нужно сделать. И мы стали готовиться прежде всего к пониманию вопроса, к созданию методов расчета, потому что, прежде чем чертить, нужно все рассчитать. Все расчеты проводились под непосредственным руководством Бориса Сергеевича, и авторитет его был столь высок, что, если он скажет: коэффициент 0,92, — никому и в голову не придет, что может быть 0,93... С ним работали способные люди: Я. Л. Фогель, М. Г. Дубинский...
Жили мы трудно и голодно. Борис Сергеевич переносил все это легко. Собирались, говорили, спорили — жили бурной творческой жизнью. Творческий огонь настолько силен был в нас, что мы засиживались до 9–10 часов вечера, домой шли нарочно пешком, чтоб по дороге договорить. Наш коллектив загорался работой. Основной искоркой, конечно, были Борис Сергеевич и Александр Александрович.
И вот мы приступили к созданию двигателей. Надо сказать, одним из основных качеств Микулина было то, что он никогда не любил что-то копировать у иностранцев — он делал только свое, отечественное. Ему просто доставляло огромное удовольствие воплощать в металл собственные мысли. Такую же обстановку он создавал и вокруг себя, я разделял его взгляды, мы нашли общий конструкторский язык, да с нами был еще Борис Сергеевич, обеспечивавший теоретическую, научную базу, и нам очень хорошо работалось в те годы».
С 1945 года в микулинском КБ поршневых двигателей уже не строили — завод начал переключаться на реактивную тематику. А последним из поршневых был высотный мотор с наддувом. Микулин получил задание на мотор и выполнил поршневой двигатель с наддувом, центробежный нагнетатель для которого рассчитал еще в Казани Стечкин. Установка стечкинского турбонаддува позволила перехватчику подниматься высоко, где обычные двигатели не могли работать из-за разрежения воздуха.
... День Победы, долгожданный, он пришел все-таки неожиданно. И сознание, что и ты кое-что сделал для Родины в ее самые трудные годы, усиливало радость.
Постепенно налаживалась мирная жизнь. На заводе стали выдавать ордера на одежду. Стечкин получил валенки себе и каждому члену семьи. Открылась на заводе прачечная, а дома, в Кривоникольском, газа не было, и Ирина Николаевна каждую неделю собирала мужу на работу узелок с бельем. Он был очень ответственным человеком, в том числе и за свою семью. Сам к хозяйству не прикасался и не считал, что это должен делать мужчина, но полагал, что мужчина обязан столько зарабатывать, чтобы полностью обеспечить семью. К семье у него был чисто мужской подход: обязанность кормить. Он заботился обо всех, а в семье старались все делать так, как любил отец.
— Детей я не воспитываю, — говорил он. — Детей воспитывает мать. — И старался их не ограничивать в действиях.
Вера Борисовна за все свое детство помнит только один случай, когда ей что-то запретили. Было ей 14 лет, нашла на полке Мопассана, села читать. Знала, что могут не разрешить, и сверху прикрыла книгу учебником. Отец подошел, посмотрел, ничего не сказал. Взял книгу и сам стал читать. Но Вере стало очень стыдно — не за то, что читала Мопассана, а за то, что скрывала это. Он никогда не ругал детей, может, и поэтому авторитет отца у них был высок.
С 1930 года Ирина Николаевна постоянно работала: сперва микробиологом, потом преподавателем на химическом факультете университета. Ночами она сидела над переводами технической литературы, что давало дополнительный заработок и спасало семью в тяжелые времена. И дети привыкли: дома ли отец, нет ли его, мама у них работает. Помогала семье домработница Шура, и вопрос с детьми и хозяйством был разрешен.
Ирина Николаевна любила свою специальность и проработала еще несколько лет после пенсионного возраста. Но она умела делать все и для семьи. И то, что семья представляла собой единое целое, конечно, ее заслуга.
«Она была честнейшим человеком, — вспоминает профессор А. А. Космодемьянский. — Тяжелые годы, конечно, сильно отразились на ней, как и на Стечкине».
Хотя надо сказать, что с точки зрения быта, питания работники КБ в Казани в войну были в привилегированном положении. Но о еде думалось мало. За работой забывалось.
Стечкин заботился и о семьях своих друзей и подчиненных. Не мог сказать: «А какое я имею к этому отношение?» — считая, если к нему обратились, значит, это ого дело. Даже если нет времени у него, попросит кого-нибудь из сотрудников: «Голубчик, такой-то человек просит, нужно ему помочь!» Душевность свою он никогда не выражал словесными излияниями — обычно это было короткое участие в человеке, который к нему обращался. К сентиментальности склонен не был — не его черта. Поначалу кабинет его представлял комнату, разделенную шкафом, за которым работали помощники. Иной раз, когда к нему обращались за советом, Стечкин говорил через шкаф сослуживцам: «Ну, теперь это вы сами можете объяснить!»
С ним чувствовали себя свободно, не нужно было выбирать тему для разговора. А по техническим вопросам он готов был говорить в любой обстановке: на работе, на техсоветах, совещаниях, по дороге домой и дома. Открытый, веселый, он умел вовремя пошутить и создать нужную атмосферу. И подчиненные работали так, чтобы ему понравилось, чтобы он похвалил. Ведь, наверно, у каждого из нас есть человек, чье мнение особенно дорого. Что скажут и подумают другие, может, и не так важно, а вот если он скажет... Стечкин был таким человеком для многих. И всегда его окружала молодежь, у него что-то новое можно «ухватить». О нем не говорили как о начальнике, в нем признавали вожака, руководителя. И каждый чувствовал себя на большой научной высоте, ибо понимал, с кем рядом работает. И к молодежи он относился с заботой и беспокойством, никому не предъявляя такой счет, который не может быть оплачен, знал и учитывал слабости людские. Сам поглощенный работой, заинтересовывал, объединял и подтягивал других. Если кому доверял, то доверял полностью, вплоть до чистого бланка со своей подписью. А на заводе подпись Стечкина была равноценна микулинской — так распорядился Александр Александрович. Стечкинское доверие было одной из главных особенностей научного руководителя крупнейшего завода. Не было: «Где ты пропадал?» или «Почему ушел с работы?» Стечкин всегда чувствовал в человеке человека, и, если тот сделал так, значит, было нужно. Но говорил: «Рабочее время — это не ваше время, и вы не вольны им распоряжаться!»
Он знал жизнь каждого своего сотрудника. Как-то переносит на вторую половину дня рассмотрение одного вопроса. Часовая стрелка клюет пятерку, а совещание в самом разгаре. Один молодой инженер проявляет нетерпение, и Стечкин обратил внимание:
— Что у вас случилось?
— Тороплюсь, Борис Сергеевич.
— Я тоже тороплюсь. Тогда пойдемте и по дороге договорим.
Дошли до проходной.
— А куда вы так спешите?
— Да назначил свидание девушке... В доме отдыха познакомились, преподает математику в академии, спортсменка — во девушка!
— Так что ж вы с ней делать будете? Знаете, сколько на нее времени нужно! — засмеялся Стечкин.
Времени-то у них не было совсем — об этом он и думал. Иногда он мог, как говорится, «попилить» кого-нибудь из сотрудников:
— Когда это будет готово?
— Вот мне нужно...
— Я спрашиваю, когда будет готово?
— Двадцатого числа.
Все. Больше вопросов не было. Важен результат.
«Что-то старик сегодня разворчался», — переговаривались сотрудники. Случалось, и несправедливо «попилит», а обиды на него нет. «Ходили к нему, как на праздник, потому что уходишь от него из кабинета, и что-то новое обязательно ты получил, — вспоминает инженер С. Б. Топельзон. — Может, и дел к нему особенных нет, а только повод зайти, но знаешь, что он не прогонит. Говоришь с ним и видишь, что он мыслит дальше, чем ты, и делает выводы, до которых ты сам не дошел, и возвращает тебе твою мысль в преображенном, расширенном и углубленном виде». Казалось, не было ни должностных ступеней, ни разделения в работе — все были вместе, все равны благодаря ему. Ветераны завода считают, что присутствие Стечкина как бы знаменовало собой то, что есть не просто завод, а коллектив. «Борис Сергеевич у всех у нас бывал дома, каждый старался пригласить его к себе, и он приходил, пусть даже это уже было третье поколение его знакомых».
После войны в Москве было трудно с транспортом. Возле завода набережной еще не было — булыжная мостовая. Первое время после возвращения из Казани у Стечкина не было машины, потом он приобрел мотоцикл с коляской. Не раз мрачно, но спокойно, с пониманием техники, не нервничая и не горячась, толкал он по вечерам свою машину до Кривоникольского, пока не появился у него старенький «мерседес-бенц», который в семье сразу же обозвали «козлом». Двухместный, на больших колесах, снаружи он выглядел странно и обшарпанно, но обладал хорошим ходом и неплохо справлялся с дорогами. «Козел» прослужил довольно долго, пока его не сменила «Победа», а в последние годы жизни — «Волга» ГАЗ-21 № 72–27. Ни на одной из этих машин Стечкин один не ездил, всегда с завода набивались люди, и он всех развозил по домам. Но сперва пришлось заново сдавать экзамен на водительские права. О том, что Стечкин разбирался в автомобильном двигателе, говорить, наверное, излишне, к тому ж экзамен он сдавал милиционеру, который, как потом выяснилось, занима ся по его трудам, и все-таки Борис Сергеевич провалился. Трудно придумать что-нибудь более уморительное, но факт!
— А ведь действительно не знаю! — смеялся Стечкин. — Пришлось пересдавать.
В машине он тоже умел создавать вокруг себя такую обстановку, что люди чувствовали себя как бы в родстве с ним. Рассказывал интересные истории, реже анекдоты, которые вообще не любил. Иной раз поведает какую-нибудь притчу или случай из собственной жизни — всегда к слову, кстати. А собеседникам, особенно молодежи, хотелось его послушать, и он это чувствовал. Многим запомнился рассказ о том, как в молодости покупал он машину. Отдал за нее все, какие были, деньги, сел и поехал. И только докатил до Смоленского рынка, как машина — пых! пых! пых! — и остановилась. Стал разбирать мотор, смотрит, а один поршень деревянный. Только и хватило до дому доехать. Как лошадь у шолоховского Щукаря! «Вот какие изобретатели были!» — смеялся Стечкин.
В машине часто решались технические и научные споры. Молодой инженер Копелев говорит сидящему ва рулем Стечкину:
— Борис Сергеевич, я получил аналитически зависимость КПД от коэффициента нагрузки.
— Не получил, — говорит Стечкин. Покосился на Копелева: — Нечего мне рассказывать, там не хватает одного уравнения.
— Да, но при реактивности 0 или 0,5 задача решается...
Стечкин р-раз на тормоза — и остановил машину у бровки тротуара.
— Так это же и есть, голубчик, недостающее уравнение!
— Я и говорю, что для двух частных случаев можно решить, — отвечает Копелев.
— Так это же целое уравнение!
Копелев задумался. Найденная зависимость представлялась ему условием, но никак не уравнением. А Стечкин успокоился, и поехали дальше. Ему уже все понятно. Через несколько месяцев он скажет Копелеву:
— А Казанджан эту задачу решил!
А через год Копелев покажет Стечкину листок с формулами:
— А это еще лучше, чем у Казанджана!
Такова была школа Стечкина. Сейчас С. 3. Копелев — доктор технических наук. А на завод он пришел в марте 1946 года демобилизованным старшим лейтенантом. Услыхал про Микулина, которому нужны авиационные специалисты, и получил к нему рекомендательное письмо в Академию наук. Письмо прочитал профессор Костерин и сказал Копелеву:
— Вам не Микулин, вам Стечкин нужен.
— Почему?
:— Микулин — великий конструктор. Но Микулин — это Микулин. Вам нужен Стечкин.
И Копелев отправился на завод.
— Профессор Стечкин сейчас обедает, — сказала секретарша.
Копелев встал у лестницы, ожидает. Поднимается высокий мужчина, стройный, симпатичный:
— Вы не меня ждете?
— Я жду профессора Стечкина.
— Так это я.
Для человека, который четыре года пробыл в армии, профессор, да еще Стечкин, представлялся если не с венцом, так, по крайней мере, весьма благообразным, а не в простой курточке и рубашке без галстука. Вошли в комнату, сели.
— Я пришел узнать насчет работы, — сказал Копелев.
Стечкин расстегнул куртку, потрогал нос.
— А чем вы занимались?
— Турбинами. Расчетом и проектированием.
— Стоп, — сказал Стечкин. — Я не знаю, куда вас определить. На нашем заводе конструкторы и расчетчики работают отдельно. — И вызвал одного из ведущих инженеров: — Не знаю, куда определить товарища — вам его отдать или прочнистам?
Вчерашнему старшему лейтенанту сразу стало почему-то легко рядом с таким необычным профессором. Посмотрел на бумажки на столе.
— А что, турбины до сих пор считают прежним способом? За годы войны метод не изменился?
— Да нет, — ответил Стечкин. — Я беру вас к себе.
— Но я ведь не смогу сразу приступить к работе, — сказал Копелев, — мне надо все вспомнить.
Стечкин, сощурившись, внимательно посмотрел на него, встал из-за стола, подошел поближе, раскрыл на Копелеве пальто, увидел китель с наградами: два ордена Красной Звезды, медали, — улыбнулся и с большой радостью в голосе сказал:
— Так ты повоевал! Молодцом! Хорошо повоевал! — Чувствовалось, что он очень горд за нашу армию, и рядом стоял ее представитель.
Его ученики... Таков Курт Владимирович Минкнер, сорок лет учившийся у Стечкина, таковы академики А. А. Микулин, С. К. Туманский и многие сотрудники завода, а потом Института двигателей Академии наук СССР, после войны еще молодые инженеры, а ныне обладатели высоких званий и ученых степеней. «Борис Сергеевич, — напишет в журнале «Авиация и космонавтика» академик С. К. Туманский, — начал свою научную деятельность как способнейший ученик «отца русской авиации» Николая Егоровича Жуковского, а закончил ее в конце шестого десятилетия нашего века учителем и соратником большого числа генеральных и главных конструкторов, академиков, докторов, многих работников авиационной промышленности и авиации...» Он воспитал огромное число учеников, он создал школу. Есть у нас школы математиков — в несколько десятков человек. Стечкин создал школу, исчисляемую тысячами людей. Сейчас у него не менее пяти тысяч учеников, занимающих видное положение в науке и технике. И дело не только в том, что это его последователи, — он создал еще и школу технического мышления. Многие крупные военные, генералы, маршалы — его ученики.
С первых дней академии имени Жуковского он воспитал армию работников, и многие генеральные конструкторы, такие, как Ильюшин, Яковлев, Микоян, — его ученики. Возглавляя там замечательную кафедру воздушно-реактивных двигателей, он вырастил плеяду таких ученых, как Нечаев, Федоров, Алексеев, Говоров. Многие нынешние профессора учились у него — кто в Ломоносовском институте, кто в МВТУ, кто в МАИ. Значительная часть работников авиационной промышленности, во всяком случае, теоретического фронта, являются или непосредственно его учениками, или учениками его учеников, то есть его внуками в науке.
«Я у него учился, — говорил заместитель министра Е. В. Ворожбиев. — И если б не его лекции, вряд ли бы я стал работать в своей области знаний».
«Среди всех деятелей авиационной промышленности — я имею в виду инженеров, ученых, — говорил Г. Л. Лившиц, — он был наиболее энциклопедически образованным человеком. С ним можно было беседовать не только об аэродинамике, но и о прочности, теплопередаче, электротехнике. Сейчас таких людей мало. Может, учили лучше, ну и способности его, конечно... Его любили и уважали, потому что если он сказал, значит, это правильно, так надо делать. Все просто преклонялись перед ним, и чаще интересовало не мнение Комитета по технике, а что скажет Борис Сергеевич».
Как, каким образом большая группа творческих людей на заводе решала одну сложную задачу? Вот Стечкин рассуждает вслух, доходит до тупика, а ощущение у всех такое, будто взбираешься с ним на высокую гору, а впереди препятствие и надо идти другим путем. Ты все время в движении, мысль твою ведут — тебя заставляют думать. Шлифуя таланты, он считал своей основной задачей указать направление, поделиться своими идеями, соображениями и взглядами, сформулировать и объяснить проблему. И дальше давал возможность всем работать и максимально проявлять творческое начало — кто на что способен. «Человек обязан трудиться на всю катушку, — говорил Стечкин. — Каждый орган должен работать на полную мощность, в том числе мозг и сердце».
Ценным было еще и то, что, высказывая свои идеи, он их объяснял, основываясь на собственном опыте: с Жуковским у него было так-то, с Чаплыгиным так... И люди вместе с ним проходили отрезки его пути, он доводил учеников до того момента, когда им самим нужно делать свое. Не превращал сотрудников в счетные машины — ты делай то, ты — это. В каждом человеке он ценил прежде всего творчество и, если видел, что оно проявляется, как мог, поддерживал и развивал его, давая дополнительные задания. Он знал все главное о своих подчиненных, и каждый из них представлял, о чем сейчас думает и к чему стремится их руководитель. Нередки случаи, когда начальник дает задание, а потом меняет его, люди теряются и не могут определить направление своей работы. У Стечкина всегда были ясны его линия, курс и взгляды. Если не получалось то, что предполагалось теоретически, он говорил: «Опять изнасиловали науку!» И никогда не удивлялся, что результаты опыта не сходятся с предварительными наметками. Срабатывала интуиция. «Эксперимент он понимал изумительно, — говорит М. Г. Дубинский. — Последовательность проведения, точность, методика обработки данных «— настолько у него к этому был научный подход, что жаль, не оставил он никаких книг, как вести практическую научную работу. Никто лучше не смог бы написать такую книгу».
В экспериментальной работе, как и в расчетах, он стремился обойтись наиболее простыми средствами и только в случае необходимости применял самые передовые, сложные достижения. Поэтому и печатные работы своих учеников в 20–30 страниц он доводил до кристальной ясности на одной-двух страницах, а часовой доклад сокращал до пятиминутного выступления. И считал, что эксперимент — выбор оборудования, создание специальной аппаратуры — может поставить только сам автор. Для Стечкина важен был результат, а не научная абстракция — он признавал только такие работы. Говорил: «Счастье, когда ученый сам все доводит до конца и может увидеть плоды своих трудов». Человека, говорившего заумные вещи, которые при подробном рассмотрении оказывались элементарной чушью, называл престидижитатором, попросту фокусником, ловко проделывающим свои номера.
Он заставлял математику служить для раскрытия физических явлений, непосредственно применимых к технике. Он, например, считал, что расчета турбин как такового нет. Есть комплекс уравнений, действующих при определенных условиях. Инженер должен выбрать то, что ему нужно, отбросить второстепенное, найти недостающее. Чем-то придется и пожертвовать. Хочешь уменьшить габариты — не получишь высокий КПД.
«За бесплатно ничего не бывает, — любил говорить Стечкин. — За каждое удовольствие надо платить! Все хотят на копейку пятаков получить, а в технике так не выйдет». Очень не любил слово «оптимальный»: «Оптимальность тоже от чего-то зависит!»
«Хотелось бы отметить, что, употребляя и особенно слушая слово «лучшее», надо быть осторожным и осмотрительным, — писал Стечкин. — Особенно осмотрительным надо быть тогда, когда слово «лучше» хотят заменить или отождествить со словом «проще»... Опыт учит нас, что простота и надежность понятия различные. Надежность достигается конструкцией и производством, а простота, как правило, покупается снижением качественных показателей изделия. Ярким примером может служить двухтактный двигатель с петлевой кривошипнока-«ерной продувкой. Казалось бы, чего ж проще? Однако этот тип двигателя сохранился только на самых дешевых мотоциклах и лодочных установках».
Стечкин учил четко делить понятия физические и абстрактные. Например, скорость — нечто реальное, имеющее направление и величину, а вот ее составляющие — абстрактные понятия, ибо на самом деле их нет. Пли давление в потоке — реальная величина, а заторможенное давление — абстракция, условность, которую люди выдумали для удобства действий. «Эту величину можно назвать как угодно, — говорил Стечкин, — хоть латифундией!» По сути своей он больше был физиком, хотя прекрасно разбирался в математических абстракциях.
Сильное впечатление произвел на него взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме. И потряс не только бесчеловечностью факта и огромными жертвами — была и другая сторона вопроса. В 1945 году люди еще не представляли себе, что атомную энергию уже можно использовать, они еще недавно читали доказательства обратного, причем мнения не каких-нибудь дилетантов, а Бора, Резерфорда, Эйнштейна — ученых, которые как раз более других способствовали применению этой энергии. Было лето, тепло, за окнами заводской комнаты летали голуби — натурщики Пабло Пикассо...
— Я всю жизнь хотел стать физиком, — сказал Стечкин, отложив газету с сообщением о Хиросиме. Так сказал, как будто не он говорил, а его внутренняя неосуществленная мечта.
— Почему же не стали? — спросил один из сотрудников.
— У меня был учитель — Николай Егорович Жуковский, который втравил меня в другое дело, повернул на технику. Я до сих пор жалею, что не пошел в физики — ведь это замечательная область интеллектуальной деятельности!
Думается, он из тех людей, которые на любом поприще стали бы выдающимися. Не стань он теоретиком двигателей, был бы крупным математиком или выдающимся столяром, если бы так сложилась жизнь. Поступил же он в юности за брата Якова в медицинский институт, а брат за него в ИТУ, просто так, ради интереса, чтобы потом поменяться местами! Было дело... «А сам я аэродинамик», — утверждал Стечкин. И действительно, был и аэродинамиком.
Стечкин постоянно общался с научным миром, и его ученики держали руку на пульсе науки.
— Вот был у меня вчера Христианович, — начинает Стечкин, и сотрудники узнают, что стало предметом обсуждения двух ученых.
Становление реактивной специализации на заводе проходило на глазах у Стечкина — он ее создавал. Советовались прежде всего с ним.
— Как измерить потери от трения в потоке?
— Это трудная вещь, — говорит Стечкин. — К ней надо отнестись скрупулезно, с пониманием теории, иначе можно получить неведомо что. Сходите-ка к Попову, пока он еще жив. Это бывший ассистент Николая Егоровича, у него есть книжка «Измерения в аэродинамике».
И три инженера отправились к старому ученику Жуковского, и тот с удовольствием продемонстрировал им свои приборы и рассказал немало полезного.
А вскоре снова пришли к Стечкину, усталые, растерянные и убитые. Он торопит их с началом опыта, а у них расход воздуха толком не замеряется — каждый раз новый результат.
— Борис Сергеевич, уравнение Бернулли экспериментально не подтверждается!
— Что, что? — переспросил Стечкин и внимательно посмотрел на говорившего — так смотрят, когда хотят убедиться, в уме ли человек. — Что вы говорите! Ну-ка расскажите!
И вот что выяснилось. Обычно расход воздуха замеряли с точностью до двух процентов, и этого было достаточно, но сотрудникам лаборатории, как, впрочем, и всем на заводе, хотелось сделать что-то приятное для Бориса Сергеевича, и они повысили точность измерений и перестарались до того, что им стало казаться, будто нарушается один из основных законов физики...
Был курьез с немецким трофейным оборудованием в 1947 году. Провели испытания опытного компрессора, впервые созданного для реактивного двигателя, и один из первых опытов на трофейном оборудовании дал коэффициент полезного действия намного больший, чем ожидалось.
— Не может этого быть. — Стечкин зашагал по комнате с папиросой. — Где-то ошибка.
— Борис Сергеевич, мы дважды все проверяли!
— Где-то вы, друзья мои, забыли разделить на два.
А на другой день выяснилось, что масштаб трофейных шкал был в два раза меньше, чем у отечественных. Стечкин не знал об этом, но интуитивно почувствовал правильный ответ.
Всю жизнь он любил изобретать. Десятки авторских свидетельств остались. Но ценность его изобретений но только в них самих — он и своим сотрудникам прививал вкус к созданию новинок техники, к изобретательству, бережно относился к творчеству. Во время войны пришел к нему один инженер: «Я изобрел новый танк, был у товарища Сталина. Он мне сказал, если я сделаю танк, мне дадут завод для производства этих машин. Но для танка нужен эжектор с высоким КПД».
Стечкин занимался эжекторами — устройствами, позволяющими без движущихся частей нагнетать, перекачивать жидкость или газ. Борис Сергеевич хотел использовать их в двигателях, и месяца через полтора изобретателю сделали нужный для танка эжектор.
«Он давал нам самый жемчуг, самое драгоценное, — вспоминает С. 3. Копелев. — Мы уходили от него, и это становилось темой нашего разговора. Он знал, что мы должны быть осведомлены, что это нам если не сейчас, то когда-нибудь пригодится. И не было такого случая, чтобы наш разювор с Борисом Сергеевичем закончился вопросом, который мы решили сегодня. Как правило, он пойдет дальше и что-нибудь еще расскажет. Прокомментирует, разберет по косточкам новую работу. Его рассказы не утомляли, а приковывали внимание. Он сам являл пример того, как надо относиться к новому. Мы многому у него научились, как бы специально не учась. Он не натаскивал нас, а непроизвольно передавал частицу себя».
Первые годы, когда завод был в стадии становления и разрабатывал поршневые моторы, лишь одна группа Стечкина занималась реактивной тематикой. Трудились в комнате рядом с его кабинетом, и он чаще бывал в этой комнате — и работа интересовала его, и скрывался от тех, кто его беспокоил. Часто сюда заходил Микулин. Посмотрит, улыбнется: «Чем это вы занимаетесь? Неужели вы думаете, что все это пойдет в жизнь?»
В 1943–1946 годах в нашей стране созревал вопрос о переходе от поршневых двигателей к турбореактивным. Нельзя не вспомнить полеты первого советского ракетного самолета БИ-1, созданного А. Я. Березняком и А. М. Исаевым под руководством В. Ф. Болховитинова.
На самолете стоял жидкостно-ракетный двигатель с тягой 1100 килограммов конструкции РНИИ. Испытывал новую машину в 1942 году храбрый летчик капитан Г. Я. Бахчиванджи, погибший в одном из полетов.
Виктор Федорович Болховитинов сумел во время войны в маленьком городке на Урале объединить разбросанных по всей стране ЖРДистов и самолетчиков. Он не только создал реактивный самолет, но и воспитал целую плеяду учеников, которые стали потом выдающимися конструкторами и учеными. Методика и технология постройки первого реактивного самолета на ЖРД пригодилась в работе над самолетами с турбореактивными двигателями.
Выдающаяся личность, талантливый конструктор, В. Ф. Болховитинов был одним из тех, кто дал реальный толчок к переводу нашей авиации на реактивные машины.
Ох какое это было нелегкое дело! Качественная революция в технике. Авиамоторостроение длительный период развивалось с обманчивой равномерностью, позволяющей даже установить если не закон, то некоторую количественную характеристику развития. Моторы становились мощнее, надежнее, их все более совершенствовали, но они оставались все теми же поршневыми двигателями, и у них был предел скорости. В 1935 году в ЦАГИ было установлено, что таким пределом станет скорость порядка 700–750 км/ч. Далеко не все ученые предполагали, что скоро наступит время господства реактивных двигателей. «Всем, кто проектировал поршневые двигатели, очень трудно было перестроиться, — говорит Е. В. Урмин. — Я тоже полагал, что век поршневой техники будет долгим. А Стечкин считал наоборот. Как и в тридцатые годы, и в этот переходный период он был впереди событий».
Стечкин в этих вопросах был наиболее подготовлен и как ученый, и как инженер, и роль его в осуществлении технической революции в авиации воистину огромна. Он продолжил развитие своей теории — в статье 1929 года говорилось о прямоточном двигателе, сейчас нужно было создавать более перспективные, турбореактивные моторы, то есть реактивные двигатели с компрессорами, сжимающими воздух перед камерой сгорания. Так называемый прямоточный ВРД, не имеющий компрессора, использует кислород окружающего воздуха, но для этого ему надо сообщить начальную скорость другим вспомогательным двигателем, например жидкостным реактивным, которые применяются для ракет и ускорителей. Турбореактивному двигателю, оснащенному компрессором, такой ускоритель не нужен.
Турбореактивный двигатель состоит из входной части, осевого компрессора, камеры сгорания, газовой турбины и реактивного сопла. Турбина, в свою очередь, состоит из сопловых решеток и рабочих лопаток. Сопловые решетки направляют и ускоряют газы, поступающие на лопатки турбины. Возникающие при этом аэродинамические процессы изучает теория решеток. Стечкин много сделал для ее развития. В 1944 году на научно-технической конференции в академии имени Жуковского он впервые дал вывод теоремы Жуковского о подъемной сило профиля в решетке с учетом сжимаемости газа для дозвуковых скоростей течения. Позже на основании этой формулы он выведет основное уравнение аэродинамического расчета ступени осевого компрессора. И когда после войны завод вплотную занялся новой техникой, Стечкин в короткий срок сколотил и воспитал коллектив способных специалистов, которые смогли, питаясь его идеями, создавать отечественные реактивные двигатели.
«Все мотористы Советского Союза, и прошедшего времени и настоящего, даже те, кто не учился у Стечкина, — все обязаны Стечкину», — говорит Герой Социалистического Труда академик А. М. Люлька.
Архип Михайлович, седой, крепкий, с подстриженными «под ежик» волосами, в теплом украинском безрукавном кожушке, голубой рубашке и галстуке сидит в своей квартире в кабинете, сплошь заставленном книгами, в основном художественными. На стене большой портрет Тараса Шевченко. Архип Михайлович очень любит поэзию, сам «баловался» стихами в молодости, а может, пишет и поныне в свободное время, которого у него совсем почти нет. Простой и очень душевный человек — это сразу чувствуется. С большой любовью он рассказывает о Стечкине. После основополагающей статьи Стечкина 1929 года во Франции вышла работа профессора Мориса Руа, который уже в большем объеме развил теоретические основы конкретных схем турбореактивных двигателей. Эту работу в тридцатые годы перевел на русский язык инженер Г. Э. Лангемак, работавший в Реактивном научно-исследовательском институте. В 1971 году на Парижской авиа ционной выставке в одном из своих интервью академик А. М. Люлька подчеркнул выдающуюся роль Б. С. Стечкина и М. Руа, трудами которых он пользовался при создании первых образцов своих турбореактивных двигателей. До личного знакомства с Борисом Сергеевичем он хорошо знал его труды. В 1931 году в Харьковском авиационном институте занялись разработкой паровой турбины для огромного самолета «Максим Горький» А. Н. Туполева. Задумались над тем, что двигатели внутреннего сгорания, хоть они и были в расцвете, уже по ряду параметров не удовлетворяют авиацию. И у нас и за границей стали заниматься созданием паровых и газовых турбин, то есть таких двигателей, которые дали бы возможность резко повысить мощность в одном агрегате.
Группа профессора Цветкова работала над паровой турбиной, и, когда инженеры пришли к выводам, характеризующим ее с отрицательной стороны, занялись газовой турбиной, причем такой, которая создавала бы силу тяги непосредственно выхлопными газами. Вот в этот период А. М. Люлька и прочитал работу Стечкина в «Технике воздушного флота».
«Профессор Цветков, с которым я работал в Харькове, — говорит Архип Михайлович, — был лично знаком с Борисом Сергеевичем и квалифицировал его как величайшего инженера, крупного специалиста, и не только в области тепловых процессов.
Познакомился я с ним уже после войны, когда работал в РНИИ, где строился турбореактивный двигатель, над проектом которого мы начали работать еще в 1936–1937 годах и процентов на восемьдесят построили до войны на Кировском заводе в Ленинграде. В войну наша работа была прикрыта, и все конструкторские и расчетные материалы остались на заводе. Тогда считали это делом далекого будущего, да и не до этого было. В конце 1942 года я вылетел в Ленинград и привез все эти материалы в Москву, а в 1945 году мы свой двигатель построили.
Состоялось совещание, на котором присутствовали Микулин и Стечкин».
Двигатель зажигали, крутили, получали тягу, работали над ним, но отношение к нему многих конструкторов и руководителей было скептическим. И вот телеграмма: Архип Михайлович бережно хранит пожелтевший листок:
«Главному нонструктору тов. Люлька А. М.
Директору завода тов. Комарову.
Поздравляю вас и весь коллектив с успешным завершением государственных испытаний созданного вами первого отечественного реактивного двигателя. Желаю дальнейших успехов.
В 1946 году из Германии привезли два реактивных мотора ЮМО-004, летавших на боевых самолетах вермахта. И когда сопоставили ЮМО с работавшим на стенде двигателем А. М. Люльки, то нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин спросил конструктора: «Кто у кого позаимствовал?» — «Никто, — ответил Люлька. — Инженерная мысль развивается параллельно на потребу исторической необходимости».
«Когда разобрали немецкий двигатель, — вспоминает А. М. Люлька, — дали точное описание принципа его действия, системы регулирования, и по этим материалам мы сдали в серийное производство ЮМО. Я выступал с докладом в присутствии Бориса Сергеевича. Он высказал свои соображения — этот мотор был прямым подтверждением его теории. Так состоялось наше второе, уже более плотное знакомство».
Стечкин настойчиво продвигает свою идею. Воздух — это то, чем мы дышим, и, летая в воздухе, нужно его использовать для дыхания моторов турбовинтовой и турбореактивной авиации.
После войны вышло несколько правительственных постановлений, поручавших ряду конструкторов создать более мощные турбореактивные двигатели. В работу включились Микулин со своими заместителями Стечкиным и Туманским, Климов, А. М. Люлька, у которого уже было самостоятельное бюро, и другие конструкторы.
С 1947 года министерство стало проводить ученые советы по новым двигателям. Между конструкторами возникло соревнование, кто быстрее и лучше создаст серийный двигатель нового типа. Стечкин постоянно выступает на этих представительных собраниях.
После войны в планах завода Микулина значились масштабные по тем временам турбореактивные двигатели. За создание мотора АМ-2 завод был награжден орденом Ленина. Высшую награду Родины получил и Борис Сергеевич Стечкин, выдвинувший новую теорию аэродинамического расчета лопаток компрессора.
... Новая техника постепенно овладела 8аводом. При ее освоении, естественно, было немало вопросов у экспериментаторов и производственников. Стечкин, даже если видел, что человек ничего не знает, говорил с ним так, как будто тот все знает: «Как вам хорошо известно...» И чем чаще он повторял эту фразу, тем глубже собеседник вникал в курс дела и уходил удовлетворенным. «Это вам хорошо известно, но я хотел бы...» — и дальше излагал суть дела. Умел слушать других, но и заставлял слушать его. Вел беседу так, что все сидящие рядом — десять-пятнадцать человек — думали и соображали вместе с ним, хотели они того или нет. Было в его облике такое, что давало людям спокойствие и уверенность в себе. «Иногда придешь к нему, тоскливо на душе, часа два поговоришь, и у тебя опять на месяц энергии, — вспоминает М. Г. Дубинский. — Умел поддержать в нужный момент».
Новый мотор никак не запускался, хотя все, казалось, было верно рассчитано. Беспокоило число ступеней компрессора — их сделали пять, и все думали о них, в том числе и Дубинский. Однажды он приходит на работу и говорит:
— Борис Сергеевич, я ни во что подобное не верю, но сегодня ночью мне приснилась большая восьмерка. А я все это время ни о чем другом не думал, кроме числа ступеней...
Стечкин внимательно выслушал инженера и отдал распоряжение:
— Рассчитайте восемь ступеней, — и больше ни слова.
Поставили восемь ступеней и попали в точку.
«Сам же я думаю, — говорит М. Г. Дубинский, — что у меня тогда наступил момент высшего эмоционального напряжения. Ночью я просыпался, меня водой поливали, и я не мог понять, где я. Такие моменты надо изучать: почему человек видит то, что в нормальном состоянии ему недоступно?»
«Из области чудес тут ничего нет, — сказал Стечкин, — и когда-нибудь люди займутся этим вплотную. Только это вопрос не сегодняшнего дня».
А воздушно-реактивный работал! Сделали его быстро, в 1947 году. Предназначался он для самолета инженера Бааде. Заместитель главного конструктора фирмы «Юнкере» Бааде после войны приехал к нам из Германии. Бывший комсомолец, из прогрессивных немцев, од строил в нашей стране передовую по тем временам машину, был своего рода разведчикам в новой области авиации. Его самолет испытывал летчик Сазонов. Машина летала хорошо, развила скорость 900 километров в час, показав выдающиеся тогда данные.
После нескольких экспериментальных попыток приступили к созданию двигателя, который впоследствии неплохо прославил нашу отечественную авиацию на самолете Ту-104. Этот мотор назвали АМ-3 — по имени главного конструктора А. А. Микулина. Сейчас его модификация называется РД-ЗМ. Это был самый мощный в мире двигатель.
«По теоретическим вопросам, — говорит А. М. Люлька, — мы, русские инженеры, были не ниже иностранных, а кое в чем и опережали их, но вопросы технологии производства у нас хромали». Нужно было научиться правильно обрабатывать металл, что при создании двигателя — практически половина всех работ. Купили моторы за рубежом. Но закупленные двигатели были с центробежными компрессорами, которые и по габаритам больше, и дают низший КПД, чем осевые компрессоры. На таком же принципе строил моторы и наш главный конструктор В. Я. Климов.
Центробежный нагнетатель по сравнению со своим осевым собратом имеет преимущества. Он устойчиво работает в большом диапазоне расхода воздуха, у него мало изменяется коэффициент полезного действия, агрегат имеет меньший вес и малые осевые размеры. Однако у него большие радиальные размеры и не очень высокий КПД. Но и осевой нагнетатель работает с большим КПД только на расчетном режиме.
В КБ Микулина стали делать двигатели с осевыми компрессорами, и весь мир сейчас строит двигатели именно на этом, более выгодном принципе.
В работах по лопаточным машинам Стечкин дал оригинальный метод гидравлического расчета авиационных центробежных нагнетателей, ввел теорию подобия в расчет и характеристики центробежных и осевых нагнетателей, установил своеобразный признак начала помпажа в центробежных компрессорах. Его работы по лопаточным машинам позволили создать теоретическую базу для расчета центробежных и осевых компрессоров. Стечкин решил ряд вопросов по прочности конструкции, дал определение размеров диска турбины с учетом температурных напряжений. В 1944 году слушатели академии имени Жуковского литографически издали конспект лекций профессора Б. С. Стечкина по теории авиационных компрессоров. Лекции начинаются так: «В авиации турбокомпрессором называют машину, состоящую из центробежного нагнетателя и приводящей его в движение газовой турбины, работающей на выхлопных газах двигателя. Назначение турбокомпрессора заключается в том, что, используя энергию выхлопных газов, он снабжает двигатель воздухом на высоте». Коротко и ясно. Результатом лекций Стечкина в академии стал впоследствии его двухтомный учебник по турбореактивным двигателям. Сейчас это настольная книга для конструкторов и инженеров-исследователей. Его лекции и доклады принесли неоценимую пользу. Читал он их на десятках различных конференций, в академии имени H. Е. Жуковского и Московском авиационном институте. В Управлении ВВС он тоже прочитал курс лекций по реактивным двигателям кадрам военной авиации и приказом маршала авиации Фалалеева вместе с инженером Дубинским, который вел семинарские занятия, был награжден именными часами. Несколько лет он был оторван от систематического чтения курса лекций и сейчас наверстывал упущенное. Не набор отдельных мыслей, а казалось, одна мысль продолжается...
Стечкин дает стройное изложение основных управлений газового потока как в элементах двигателя, так и во всем моторе. Этот курс стал основой для последующего написания фундаментальной теории реактивных двигателей.
Коллектив завода прокладывал новые пути, и, когда напрашивался вывод, Стечкин, обобщая проделанную работу, выступал с лекцией — часто перед конструкторским отделом. Скажем, какую выбрать схему двигателя? У одной свои преимущества, у другой — свои, но и недостатки немалые. Стечкин находил нужную особенность схемы, делился находкой с учениками и давал им задания. Он не любил «наукообразности» в языке, останавливал тех, кто боялся сказать «не по-научному». Часто говорил «натура», «натурные испытания». Выйдет, посмотрит на аудиторию, улыбнется и сразу почувствует, какой тон ему избрать, на каком языке говорить с людьми. Но, излагая просто сложные вещи, он и упрощать, опускаться до элементарщины не любил.
И в лекциях в отличие, скажем, от своего покойного тестя Н. А. Шилова, блестящего лектора, он не любил научно-популярного изложения. У Стечкина был более строгий подход.
Он умел выделить из сложной цепи переплетающихся явлений основное узловое звено, свести общую проблему к этому звену и точно сформулировать конечный вывод. Он всегда находился во всеоружии тренированного интеллекта, хорошо информированного специалиста широкого профиля. Материал излагал на безукоризненно правильном русском языке, с прекрасной пунктуацией фраз, без спотыканий через слова. Четкое, увлекательное изложение было связано с его личным интересом к предмету разговора — это неизменно отмечалось всеми, кто слушал его в течение нескольких десятилетий.
С. К. Туманский рассказывал, как в академии имени Жуковского слушатели долго не могли понять и усвоить формулу коэффициента избытка воздуха для авиационного двигателя. «Стечкин объяснил ее так, что нам даже стыдно стало, как мы до сих пор ее не понимали».
Впоследствии, став главным конструктором завода, Сергей Константинович не раз вспомнит в разговоре со своими сотрудниками:
— Вот Борис Сергеевич обладал какой способностью просто объяснять самые сложные вещи!
А какое это важное и бесценное качество, может понять тот, кто учился в техническом вузе. Иной преподаватель так глубоко заберется в кладези математики, что Невольно подумаешь: а не проще ли сказать: «лошадь», как некогда писал Пушкин.., Мысль вела слово, а не наоборот.
В эпоху поршневых двигателей, перед войной, когда занялись созданием поршневых моторов с центробежными нагнетателями, основным курсом по этому вопросу была книга Дмитриевского и Холщевникова — по ней инженеры учились, а потом и строили. В. И. Дмитриевский был учеником Стечкина. На этой книге воспиталось целое поколение конструкторов, были построены двигатели, которые сказали свое слово в небе войны.
«Если считать его заслуги как ученого по количеству выпущенных книг, — говорит К. А. Рудский, — то это одно, но, если охарактеризовать его деятельность, совсем другое. Он не признавал компиляции. У него только свои, оригинальные работы».
В разных учебниках можно найти математическое выражение изменения плотности потока в центробежном компрессоре — формула Стечкина. Колесо нагнетателя считали тоже по формуле Стечкина. И в прочностных расчетах есть формула Стечкина. На вечере его памяти в 1971 году генерал-полковник А. Н. Пономарев говорил, что формула тяги воздушно-реактивного двигателя до сих пор почему-то не названа именем Стечкина. Сколько выведенных им формул разбросано по разным книгам!
«Если б не его слушатели, — говорит А. М. Люлька, — не было б даже замечательной книги по теории турбореактивных двигателей. Я всегда удивлялся: такой крупный ученый... Ну а как человек — безукоризненно честный, объективный и удивительно скромный. И я, понимаете, не встречал в своей жизни профессора, я не знаю в нашей стране ученого, которого бы столько людей так сильно любили, как Бориса Сергеевича!»
Говорят, он часто был очень снисходителен к экзаменуемым и ставил завышенные оценки. Когда его спрашивали об этом, он отвечал:
— Вы знаете, эту вещь я сам не очень хорошо представляю...
Бывало, в авиационном институте профессор на экзамене задает студенту вопрос, сложный, путаный, на него можно и так и эдак ответить. Стечкин обязательно вмешается и спросит профессора:
— А можно ли на этот вопрос ответить? Как бы вы сами ответили?
Профессор смущен, студент, разумеется, доволен. Поэтому и на экзаменах, и на ученых советах, если знали, что будет Стечкин, все думали, какие вопросы задавать.
В сороковые годы у него снова стало много аспирантов. Стечкин от них требовал четкости, ясности, законченности, как будто сам защищался. Не отпустит аспиранта, пока не останется доволен диссертацией. Он мыслил крупными категориями, чувствовал науку, а не просто ее изучил. В задаче он видел начало и конец, все промежуточное мог опустить — и суть как на ладони. Вот почему он и заглядывал в ответ и, сравнив его с исходными данными, не проверяя выкладок, мог сразу сказать, правильно решена задача или нет. И на защите мог уничтожающе разгромить диссертацию, бедный аспирант уже ни на что не надеется, а под конец Стечкин вдруг скажет:
— Все-таки тут кое-что есть. Степень надо дать.
Во время войны академия имени Жуковского была эвакуирована в Свердловск, а когда угроза вторжения фашистских полчищ в Москву миновала, «Жуковка», как и многие другие учреждения, вернулась в столицу. Занятия продолжались и в Петровском дворце, и в Стрельнинском переулке — ныне улица пилота Нестерова. Стечкина вновь пригласили сюда руководить кафедрой и читать лекции по авиационным турбокомпрессорам и турбинам. По средам он проводил в академии целый день, а в субботу приезжал, читал лекцию и тут же снова уезжал на завод.
С возвращением Стечкина «Жуковка» раньше всех в стране перешла на реактивную технику. Для окончивших академию открыли специальные курсы подготовки специалистов. На них после шести-восьми месяцев дополнительной специализации слушатели делали дипломные проекты и получали распределения по управлениям и научно-исследовательским организациям.
Павел Карпович Казанджан вспоминает: «Лекции Стечкина совпали с моей диссертацией, он стал моим оппонентом. Каждую неделю я приходил к нему, он указывал на ошибки, нередко мы спорили, но это тоже было интересно. А когда я защитился, он предложил мне работать у него на кафедре, я с радостью согласился и с его благословения в 1945 году стал читать его лекции по турбинам на курсе, параллельном тому, который вел он, и я даже с опережением шел, но расписание всегда составлялось так, чтобы я мог слушать и его лекции, а в случав его болезни заменить его. Часто я готовил для него лекции — он посмотрит мой конспект, а потом без бумажки читает. И меня так приучил. И вот я ему приготовлю лекцию, а все равно сам иду послушать, потому что если из 90 минут 85 для меня не представляли интереса, то за пять минут он скажет такие вещи, которые нигде не прочитаешь и ни от кого не услышишь. Может, до части слушателей это не дойдет, но мне именно это было интересно».
Он не любил спрашивать у студентов: «На чем мы остановились?» И нужно быть готовым, что он, не стесняясь, может спросить: «Так ли я написал формулу?» И слушатели привыкли к этому.
Приедет, подойдет к доске, не раздеваясь, — у него макинтош появился приятного серо-коричневого цвета: «Вы знаете, я сделал изобретение», — и на доске изложит.
«Потом мы кое-что стали фиксировать и называть «методом Стечкина», — продолжает П. К. Казанджан. — И он радовался, когда мы в обработанном виде доводили его идеи до печати. Мы настолько любили его и уважали, что когда писали совместные учебники, ныне переведенные на многие языки мира, то в предисловии указывали, что основой для книги послужили лекции Стечкина. И пусть он даже в этой книге не написал ни строки, его фамилию мы с большим удовольствием и уважением к нему старались поставить первой и «под редакцией Б. С. Стечкина» писали. Мы считали, что это сделал фактически он.
В компании он оставался душой общества. После его ухода коллектив у нас стал немного мельчать...
По средам мы часто обедали у меня дома — он очень любил кавказские блюда».
Больших трудов стоило ученикам Стечкина уговорить его поставить свое имя рядом с их именами под статьей. И если он соглашался, это для них была высокая честь. Значит, работа достойна того. Стечкин оставался Стечкиным. Не любил где попало ставить свое имя. Только в той области, которая его очень интересовала, мог подписать труд. Щепетильность осталась прежняя. Ведь есть люди, Согласные быть авторами всюду, где им ни предложат. Такому человеку Стечкин говорил: «Вам, голубчик, в соавторах здесь быть не полагается». Сила его примера была велика.
Он еще не был членом-корреспондентом, а его уже просили давать отзывы на докторские диссертации.
«Ученики были как бы оплодотворены его мыслями, — говорит кандидат технических наук Андрей Петрович Мандрыко. — То, что он сделал и задумал, сейчас расходится по многим томам различных авторов».
А он был очень счастлив, если передавал идею талантливому человеку — лишь бы не погибла! Или работу целую мог отдать молодому инженеру, а сам уже занимался другим делом, но говорил своему ученику: «Вы у меня работаете над компрессорами и через два года должны знать их лучше меня. Ведь у меня много вопросов, и я в них разбираюсь понемножку, а вы должны знать один, но куда лучше меня».
Не только не боялся, что кто-то обгонит его, наоборот, требовал этого. Не держался за идею — я первый! — а старался начинить ею других — свойство истинно крупных ученых. Он каждому давал направление, ясно представляя, кому над чем надо работать.
У Стечкина не было: «Я сказал, и все!» Профессор Е. В. Урмин говорит по этому поводу: «Характерна смелость, с которой он ревизовал свои прежние установки, без попытки умалить встречавшиеся ошибки. Характерно и то, что подобные признания он не стеснялся высказывать даже слушателям академии, не боясь уронить свой авторитет. Скорее получалось даже наоборот: мы проникались гордостью от сознания высокого доверия, оказываемого нам известным ученым. Хотя, возможно, он и не задумывался над этим, а заботился только об истине».
И его настолько не трогало чувство собственной неправоты, что он радовался как мальчишка: дошел до истины! Это тоже свойство крупных людей — ставить ее выше своей правоты. Истинно великие люди не беспокоятся о своем мнимом авторитете и не боятся показать, что не правы, потому что это настолько ничтожно...
«В нашей совместной работе неоднократно бывали такие встречи, — говорит профессор В. В. Уваров. — Я делаю доклад и что-то упущу, Стечкин обязательно подметит, деликатно очень, но мне от этого не Но однажды да одной конференции Борис Сергеевич тоже «маху дал». Я выступал, а он заподозрил, что я ошибся, но я заранее все учел, точно вычислил и спрашиваю у него: «Борис Сергеевич, так вы говорите?» — «Так, так», — отвечает он. «Так»? — переспрашиваю я. «Так», — утверждает Стечкин. И тут я ему нокаут сделал. Но надо отдать ему должное: будучи гораздо авторитетнее меня,— а аудитория была не очень квалифицированной, разобраться ей было непросто, кто из нас прав, — он мог затоптать меня, но проявил благородство: тут же признал, что не прав. И когда следующий оратор стал протестовать, защищая его, Борис Сергеевич сказал ему: «Сознавайся — не прав! Я сознался, и ты сознавайся!»— черточка, не так часто встречающаяся у академиков. В известной мере мое самолюбие было удовлетворено, потому что прежде он неоднократно меня в калошу сажал. Объективность в нем была сильно развита. Стыдно бывало, когда покритикует, но не обидно. Разобьет, а обаяние его остается».
Были ли у него враги? Все, кто знал Стечкина, считают, что рядом с ним они не то чтобы пропадали, но как бы растворялись в излучаемом им поле. Умея ценить знания, даже если человек ему не нравился, Стечкин все делал для него, если тот мог принести пользу науке. Он всегда относился к людям положительно. Какие у него могли быть враги? Даже среди крупных наших ученых Стечкин выделялся, как глыба.
«Кроме знаний и таланта, у Бориса Сергеевича было еще одно богатство: отношение к нему широких кругов научно-технической общественности, особенно авиационной, где знали его больше всего, — говорит А. Д. Чаромский. — Все, кто слушал его лекции, доклады, беседы, встречался с ним, неизменно любили, почитали его и отзывались о нем с большой теплотой и уважением. Не по» мню случая, чтобы он сам о ком-нибудь говорил плохо — ни в глаза, ни за глаза. Иногда говорил иронически, вышучивал. Наиболее резкая форма отзыва звучала так: «Ну что о нем говорить? Ведь он же не знает механики!», или: «Он никогда не сделает хорошего самолета!»
Жила в нем глубокая внутренняя порядочность. Если он говорил о чем-то интересном, услышанном от конструктора, аспиранта, студента, обязательно ссылался на источник. Как-то над ним подшучивали, что у него слишком много новых идей. Он отбивался: «Эх вы, обскуранты, ведь, кроме головы, есть еще душа, надо, чтобы и ей не было скучно».
Особенно внимателен он был к своим ученикам, переживал за каждого. «Да что вы говорите? Неужели до такой дурости дошел?» — мог воскликнуть в сердцах, узная неприятность о своем питомце.
Терпеть не мог неряшливости в работе. Поручил молодому инженеру сделать расчет, тот принес его на листках ученической тетради, небрежно карандашом начеркал. Стечкин посмотрел и вежливо сказал: «Только вы, голубчик, больше с такими бумажками ко мне не приходите».
Любил аккуратность, но не формальную, а такую, которая говорит о внимательности к работе и к результату. Сам писал очень аккуратно. Приучил себя к большой работе мозга, прежде чем позволить перу прикоснуться к бумаге. Писал относительно мало, фамилии обычно аккуратно подчеркивал. Исправлений делал немного, старался, чтоб у машинисток никаких вопросов не возникало — уважал их труд.
К каждому вопросу, к каждой кажущейся мелочи он подходил фундаментально. Может, это и недостаток его, потому что есть производственные текущие дела, на которые ему бы и не стоило тратить дорогое время, но он все хотел знать досконально. Некоторые считали его недостатком то, что он, мол, всегда занят болтами и шайбами. Но если сегодня важна общая схема или общее направление, то завтра все зависит от того болта, который послезавтра может сломаться. И тут он иногда проявлял дотошность.
Стечкин усиленно «тянул» своих учеников в науку:
— Что вы успеваете сделать не по работе? Что написали?
Помогал участвовать в научных конференциях и при этом напутствовал — не то чтобы давал наставления, как детям, а:
— Смотрите, обязательно эту вещь узнайте и расскажите!
Любил, когда ему сообщали что-то новое. И умел послушать. Не то чтобы хвалил за это — редко хвалил, но улыбнется, и все видят, что доволен Борис Сергеевич.
На конференциях сидит в президиуме, а сам ищет глазами своих, где кто в зале. В перерыве обязательно кого-нибудь окликнет, подойдет:
— Сейчас будет интересный доклад, не пропустите, а потом поговорим.
Значит, доклад будут обсуждать, но и этим дело не кончится, польза для работы будет.
Даже больной — после войны сердце пошаливало — он ездил на диспуты по реактивной тематике, не мог оставить на полпути принципиальные вещи. На одном из таких собраний в ЦИАМе обсуждался вопрос об осреднении параметров потока воздуха. Каждый поток, сходящий с лопатки турбины, неравномерен. Неравны скорости по сечению, давление и расход потока, и, чтобы его учесть, оценить, надо привести к какой-то величине. У аэродинамиков это называется осреднением. Допустим, в каждой точке скорость своя, а во всем куске потока средняя будет такая-то... Стечкин же считал, что так поступать нельзя, и полемизировал с одним академиком.
— Борис Сергеевич, но ведь среднее — это среднее, — говорил академик.
— Да, но представьте себе, что вы стреляете в цель. Первый раз выстрелили на метр влево, второй — на метр вправо, значит, в среднем вы попали в цель?
Академик впоследствии напишет книгу об этой трудной задаче.
Важное качество руководителя — направлять людей.
— Вот вам сорок лет, — говорил он своему сотруднику Г. Л. Лившицу, — а вы забываете, что у вас сейчас самый творческий возраст, забыли про диссертацию. А я вас очень ценю, и не только как своего руководителя по политучебе!
Стечкин любил свой коллектив, место своей работы, чувство это в нем было очень сильно развито, никогда не покидало его и передавалось сотрудникам. Окружающие понимали и ценили это. И особенно молодежь, к которой он по-отечески относился, опекал, стараясь опытом своим уберечь от ошибок. Пришла на завод из техникума в марте 1945 года Аня Анисимова, симпатичная девчонка с косичками. Стечкин определил ее в группу Дубинского, взял шефство над ней. Всем интересовался: и как дома дела, и как с учебой в институте, и когда замуж выдадим, и как со спортом — Аня была хорошей гимнасткой, Стечкин хотел, чтоб она стала мастером спорта.
«Вроде мы его как-то боялись, и в то же время он всегда был прост со всеми. Его уважали и боготворили, — говорит Анна Тимофеевна Анисимова. — Всю школу прошла я у него. Даст график: «А ну-ка прочитай!» — а я-де умею. Hо он не ругал: «Не умеешь — разберись и переделай. Если хочешь быть хорошим инженером, ты должна уметь и чертить, и копировать, и графики строить». Я и институт-то кончила для него, все эти пятерки были для него, потому что он строго ко мне относился и после каждого экзамена спрашивал, что я получила. Схватила по химии тройку, не знаю, как ему и сказать, а он: «Не расстраивайся, у меня тоже по химии была тройка. Мой тесть Шилов мне этого долго простить не мог».
Я бывала у них дома, подружилась с его дочкой Ириной. Я в нем видела и отца, и старшего друга, и учителя. Больше никого в жизни я так не боготворила. Для меня он был самым идеальным человеком, перед которым можно преклоняться и как перед ученым, и как перед личностью. Одевался просто: брюки — ремешок ниже пояса, рубашка завернута, рослый, стройный...»
Одежда его породила много легенд. Пришел как-то зимой в академию имени Жуковского, как всегда, в полушубке и валенках, а вахтер новый был, не пустил: «Ты кто такой? Иди отседова!»
Владимир Васильевич Уваров помнит Стечкина молодым, впервые увидел его в 1923 году на бурном диспуте в МВТУ, когда покойного Жуковского обвиняли в заимствовании идеи винтов НЕЖ у изобретателя Стомерса. Стечкин произнес яркую речь в защиту Жуковского. «Он выступал, выступал, — говорит Уваров, — а потом: «Я сказал не то, что хотел, и теперь начну сначала». Но поразил он меня прежде всего своей одеждой. На нем была такая невероятнейшая куртка! Много лет спустя в Военно-воздушной академии он вышел делать доклад в валенках, полушубке и рядом с подтянутыми военными выглядел как из деревни. И на меня это уже не произвело такого впечатления, как тогда, впервые в МВТУ».
Может, и так. А может, просто в одежде, как и во многом другом, Стечкин остался верен себе и своей молодости. Цельный, он был из тех людей, что не меняют привычек. Торопясь куда-то, вытащил из кармана большие авиационные часы с восьмидневным заводом, устанавливаемые на приборных досках самолетов: «Сломал карманные». Но никогда это не было неряшливостью. Скорей объяснялось желанием чувствовать себя свободнее в обстановке замасленной лаборатории или испытательной станции.
Обладал таким обаянием, что трудно было пройти мимо него. Непросто было быть его женой, но он никогда не обижал и не унижал Ирину Николаевну.
«Мама безумно любила отца, — говорит Ирина Борисовна Стечкина. — Задним числом я стала понимать многие вещи. У мамы жизнь была не из легких, годы она прожила без него, но, если б он умер раньше, она бы не вынесла этого. В 1943 году, когда в.ернулся отец, мне было И лет. Переходный возраст стал некоторым рубежом в моей жизни, ибо я относилась к отцу не просто как к отцу. Для меня это гораздо больше и на всю жизнь».
В семье было заведено, что отец детям, а потом и внукам вроде бы немного внимания уделяет. Есть дедушки — возятся с внуками. Стечкин говорил, что боится маленьких детей, и не нянчился с ними. «Столько было в нем привлекательных черт, к которым я приглядывалась, — говорит Ирина Борисовна, — что считаю, меня воспитал отец. Во всяком случае, не меньше, чем мама, бна понимала, что значит для меня отец, и делала так, чтобы я побольше была с ним. Он учил жизни и обращению с людьми».
«Ирок, ты просишь мадригала,
Поджавши губы и скосив глаза.
Ну что ж, учись, как то бывало,
В любви ж не прыгай, как коза», —
писал он дочери 7 октября 1950 года. Иногда он грешил стишками, как в юности.
«Для меня это идеал человека, который на всю жизнь осветил мне все, — продолжает Ирина Борисовна. — И хотя я избалована хорошими людьми — мне повезло, у нас в доме всегда бывало много действительно замечательных людей, — но таких, как отец, я больше не встречала Л.
Да, это не только ее мнение. Он был притягательным для всех. И когда он вернулся, не было воскресенья без гостей. Чем он так привлекал людей? Очень умные люди нечасто бывают добрыми. Добрые же люди не всегда очень умны и сильны. И те и другие встречаются часто. В нем было редкое сочетание ума и доброты. Злобы в нем не было.
Ирина приходила к нему со своими школьными задачками. Да и потом, когда стала физиком, занялась гидродинамикой — для него это близкая область, — не раз обращалась за советом. Он никогда не отмахнется, обязательно будет думать — это естественно для него. И не страшно ему глупость сказать. Но принципиальностью никогда не поступится. Не мягкотелый. Твердость в нем была.
Большая редкость — сочетание таланта, твердости и доброты. Никогда он не говорил: «Я ученый» или «Мы ученые...» Не сердился, если люди были в чем-то с ним не согласны. На работе иногда ему говорили: «Борис Сергеевич, вот вы подписали и одобрили, а здесь что-то не так». Посмотрит: «Да, шанс у вас есть. Приходите ко мне домой, обсудим».
Если кто-то из сотрудников не мог совладать с другим в споре, то, исчерпав все доводы, говорил; «Тогда пойдем к Борису Сергеевичу!» Тут стоп.
Когда он болел и нужно было его решение по важным вопросам, сотрудники брали с собой необходимые документы и с охранником, как положено, приезжали к нему домой. И не было ощущения, что прибыли по делу к начальнику, — нет, пришли просто повидать товарища по работе. Если мог, он вставал с постели, встречал и провожал. Всегда находились темы для разговора, спрашивал так, чтобы отвечали не волнуясь, любой важный вопрос умел превратить в беседу, чтобы можно было решить его сразу, на месте, — отличительная черта Стечкина. Люди говорили, что после беседы с ним почему-то оставалось впечатление, как после тургеневских «Записок охотника». И атмосфера в семье способствовала тому, что здесь было просто и хорошо.
Когда дочь Вера вышла замуж и у нее родился ребенок, большую часть большой комнаты отдали новой семье Пахомовых. Они прожили здесь семь лет, пока не получили комнату на «Соколе».
В обиходе никто не слышал от него никаких требований или капризов, не было повышенного тона ни н жене, ни к детям, ни к домашней работнице. Все могли заниматься чем угодно, разговаривать — он работал; к нему приходили студенты, аспиранты. У Веры был маленький сын, но Борис Сергеевич ни разу не сказал, что тот мешает ему работать, разговаривать с людьми. «Я второго такого человека не встречала в жизни, — говорит Вера Борисовна, — настолько он был выдержанным!»
Стечкин не любил нервных людей, считал их больше распущенными, чем нервными. «Он был в непонятном теперь смысле очень воспитанным человеком, — говорит его племянница Евгения Яковлевна Хвостова. — Внутренне воспитан».
... В послевоенные годы часто стал бывать в доме в Кривоникольском школьник Костя. Авторитет Стечкина для него еще ничего не значил, и он подолгу спорил с Борисом Сергеевичем. Костя занимался в авиамодельном кружке Дома пионеров и строил модель реактивного самолета. Что-то ему нужно было выяснить, он узнал адрес ученого и стал ходить к нему каждое воскресенье. Стечкин по его чертежам делал ему детали на заводе.
Когда Косте стало двадцать, он пришел к Стечкину, рассказал, что у него есть девушка, которая не хочет за него замуж выходить.
— Не хочет — тем лучше для тебя, — сказал Стечкин.
Говорили они всегда на равных, и Костя всем делился с Борисом Сергеевичем. Потом он кончил МАИ, стал авиаконструктором, и, когда Стечкина избрали академиком, одна из первых телеграмм была от Кости...
И юный авиамоделист, и товарищи по работе знали: если что-то сказал Стечкин, значит, это соответствует действительности.
Приезжали гости — брат, сестра, племянники из Тулы, останавливались, жили. Совсем шумно становилось, но Стечкин никогда не вмешивался ни в чьи дела — не любил только, когда кричали на внуков.
Дружески сложились у него отношения с мужем Веры, Николаем Корнеевичем Пахомовым. Николай Корнеевич тяжело болел. В войну он летал штурманом, отморозил ноги и очень страдал. Из-за самопроизвольной гангрены одну ногу ему ампутировали. Стечкин старался ободрить зятя. Они вдвоем увлеклись фотографией, снимали детей.
Фотографированием Стечкин интересовался скорее как техникой, насколько хорошо тот или иной аппарат снимает на негативную и обратимую пленки. Пахомов до войны был хорошим гимнастом, а у Бориса Сергеевича спорт всегда был в почете. Оля, дочь Веры Борисовны и Николая Корнеевича, занималась бегом, была чемпионкой Москвы по спринту среди девушек. Стечкин это оченьодобрял. Даже в последние годы жизни он делал специальную гимнастику. Следил за успехами советского спорта, любил Николаем Корнеевичем смотреть по телевидению состязания, обсуждать результаты...
Вели Стечкина просили что-то сделать, не было случая, чтоб не выполнил. Но и сам любил, чтоб другие слово держали. Николай Корнеевич как-то пообещал ему подписаться на какой-то журнал и забыл.
Тесть спокойно спрашивает:
— Коля, вы подписались на журнал?
— Ах, забыл...
— Значит, не подписались?
После этого разговора Николай Корнеевич ничего не забывал. Да и нельзя было чего-то не сделать для Стечкина.
В 1947 году, в 56 лет, у Стечкина был инфаркт, и он надолго запомнил, что это такое.
Когда заболел Пахомов, врачи долго не могли установить диагноз, никому и в голову не приходило, что у него, 34-летнего, инфаркт. Стечкин первым определил педуг Николая Корнеевича...
Давно, с юности, он неравнодушен был к медицине. Жена А. П. Мандрыко, Елена Николаевна, медик, нередко делавшая уколы Стечкину, когда он хворал, вспоминает со смехом: «Он меня совершенно замучил! Очень упорный был, требовал, чтобы я с такой же доскональностью, как он знает физику, объясняла ему, почему он должен это лекарство пить, а не другое. «Ладно, я выпью, — говорил он, — хоть мне это не поможет. Если б я начинал жизнь сначала, я бы стал врачом». Брату Архангельского, врачу, говорил: «Ни черта вы не знаете медицины, как пономарь, повторяете! Нет среди вас таких врачей, которые могли бы так же разложить организм, как мы моторы!» Интересно с ним было поговорить. Просил у меня на ночь какую-нибудь книжку по медицине, читал и говорил потом: «А теперь я вам расскажу, почему нужно именно это лекарство!» Больше я таких людей не встречала. Читал литературу на всех основных языках, но выговаривал плохо: смесь французского с нижегородским или неприличные слова получались».
Ирина Николаевна хорошо знала три иностранных языка. Выдающаяся женщина. Была она тоже очень доброй, но на ней жизнь сказалась больше, и шиловский экспансивный характер давал себя знать. В отличие от Бориса Сергеевича, который последним в ванну пойдет, чтоб не поднимать шум, она была более нервной, но все-таки очень выдержанной. Вспылить могла, но быстро отходила. Соседи не помнят, чтоб она делала мужу какие-нибудь замечания или одергивала его. Оба они были самостоятельными людьми и казались независимыми друг от друга. Иногда стучались к соседям за хлебом, однажды по ошибке съели мандрыкинскую курицу, которую Елена Николаевна положила на день в холодильник к Стечкиным — Борис Сергеевич купил маленький холодильник. Мало занимались хозяйством. А у Ирины Николаевны была еще одна особенность, которую знали все домашний. Когда она приходила с работы, усталая и раздраженная, лучше к ней ни с какими вопросами не подходить, пока она не поест и не выкурит папиросу. Все молчат, в том числе Стечкин и его гости. Многие из его друзей боялись Ирины Николаевны, хотя она хорошо к ним отиосилаоъ. Друзья подозревали, что и Стечкин ее побаивался.
В чем-то Борис Сергеевич и Ирина Николаевна даже внешне были похожи. Обычно так говорят о супругах, вместе проживших долгую жизнь. Но они похожи друг на друга были еще молодыми, когда только поженились, а в старости еще больше стали похожи...
Сбережений у Стечкиных никогда не было, а наличные иногда хранились на стеллажах в книгах, и хозяева забывали, в какую книгу положили. И потом долго смеялись, когда в реформу 1947 года забытые в книгах деньги пропали. Стечкин их не считал, и у него их не было. А когда приходил кто-нибудь одолжить, начинал шарить по стеллажам: «Где-то, помню, есть... Ирина, вот просят сто рублей, не могу найти», — и оба продолжали поиски в книгах.
В хозяйственные дела он почти не вникал, а кухней вообще не занимался. Ел мало и до старости сохранил стройную фигуру. Нравились ему пирожки маленькие-премаленькие. Очень любил, когда по вечерам дома собиралась вся семья. Если сам не играл в преферанс, дети играли, вокруг стода сидели болельщики. А когда показывал карточные фокусы, приходили смотреть соседи чуть ли не из всех квартир.
В шахматы в этот период жизни он играть не любил, но задачи решать нравилось, и до конца жизни это было одним из его увлечений. Только в последние годы стал говорить: «С трехходовками мне уже трудно стало, только двухходовые могу решать». Дома у Стечкиных бывал гроссмейстер Авербах — разбирали партии серьезных матчей, скажем, Ботвинник — Смыслов. Это занятие Стечкин предпочитал игре, быть может, потому, что понимал: по-гроссмейстерски играть ему уже не научиться, а посмотреть за игрой крупных мастеров интересно.
«По художественной части отец был слаб, — говорит Сергей Борисович Стечкин, — правда, куплетик в стихах мог какой-нибудь сообразить. Зато рисовал неплохо. И особенно здорово получались у него мотоциклисты в движении». Это уже фамильная склонность.
— Из искусства, — говорил Стечкин, — вы, наверно, будете смеяться надо мной, — но я очень люблю цирк и народные представления, базары и толкучки.
И в какой бы город ни приезжал, первым делом шел на толкучку пли ярмарку и обязательно в цирк, даже сели это был самый примитивный «шарито» с далеко не лучшими клоунами и медведем не цервой свежести. Любил смотреть мотогонки на вертикальной стене: «И знаю, что все здесь рассчитано, а всегда удивляюсь — здорово!»
Ему было интересно отгадать: как же у фокусника все так ловко получается? Тут Стечкин обязательно будет докапываться, в чем дело.
В театр и в старости ходил редко. Мог посидеть в оперетте до определенного нравящегося ему момента, а через некоторое время спрашивал среди действия: «Вы не спите? А я засыпаю!» — и вся компания выкатывалась из зала.
Ирина Николаевна говорила, что не любит с ним ходить в театр, потому что он сразу замечает любую техническую ошибку, и дальше ему смотреть неинтересно.
И когда книги художественные читал, тоже не мог пройти мимо ошибок, связанных с техникой. Прочитал Фолкнера «Полный поворот кругом»: «Написано хорошо, но вот тут ошибочка техническая».
Любил веселые, шумные компании.
— Мы к вам заедем, — говорил он Елене Николаевне Мандрыко, — повезем вас в трактир обедать.
«Он обожал сюрпризы, — вспоминает Елена Николаевна. — Чтоб в пироге внутри что-то было спрятано. Гости весь пирог изрежут, пока найдут, а он доволен. Все, что с ним связано, вспоминается как нечто очень красивое».
Ему не нравилось, когда его начинали хвалить за столом, — даже настроение портилось.
— Не верьте, не верьте! — говорил он в таких случаях. За столом обсуждались философские проблемы, вопросы морали. Вся семья не была религиозной, даже Мария Егоровна в бога не веровала. Стечкин считал, что взамен религии у человека должна существовать нравственная мораль. Часто он спорил с племянником Олегом Яковлевичем Стечкиным. В длительных рассуждениях о морали высказывался лаконично и строго в том направлении, в каком считал нужным, и только. Разливаться водой не любил. Его философское кредо было весьма своеобразным. Не стандартное, нигде не принятое. У него были собственные взгляды, может, отчасти почерпнутые из полученного образования и среды.
Он высоко ценил силу воли и в человеке и в государстве, и ему импонировала твердая политика нашей державы. Он позитивно оценивал государственную силу и мудрость нашего руководства. Думал о будущем.
Разговор об обществе будущего как-то возник на заводском собрании организации Микулина.
— Как будут жить люди при коммунизме?
Один рабочий ответил: «Я думаю, при коммунизме все люди будут такими, как Борис Сергеевич Стечкин. И любимым делом своим смогут заниматься, и материально будут обеспечены».
Стечкин не был членом партии, но многие коммунисты учились у него отношению к людям, к работе и к жизни вообще.
Многое интересовало Стечкина. Наверное, легче перечислить то, к чему он оставался равнодушным. Иногда он высказывал различные прогнозы, в частности по экономике, и благодаря логике своей и общей эрудиции предвосхищал события.
Голос у Стечкина размеренный, немного скрипучий. Растягивал слова. Чуть нарочитое просторечие. Дома, когда не было гостей, ходил в расстегнутом халате, слегка выпячиваясь вперед.
Долгое время Стечкин дома носил тальму — широкую, серого сукна накидку с цепочкой, на беличьем меху, которую можно было когда-то и на улицу надевать. Но от долгой и безупречной службы тальма заметно поистрепалась, мех местами износился, и Ирина Николаевна, зная привязанность мужа, бегала по магазинам в поисках беличьих шкурок для спасения тальмы. Отговорила, а заодно и выручила Мария Федоровна Курчевская: «Ради бога, не надо белку, она дорогая, купите кошку, он все равно не догадается!» Так пришлось и сделать.
Очень не любил, когда выбрасывали его старые вещи. Ирина Николаевна несколько раз пыталась лишить его истрепанной кепки, уже совершенно неприличной, потом появилась шляпа, которая ему очень шла, и он даже поносил ее немного. Кстати, об этой шляпе.
Всю жизнь он носил кепку, но однажды, осенью 1953 года, пришел на работу и сказал:
— Изберут академиком, обязательно куплю шляпу!
— Да ведь вы все равно будете кепку носить! — сказал кто-то из сотрудников.
— Нет, если выберут, куплю шляпу.
А его взяли да выбрали. Сотрудники к нему: «Шляпу обещали, Борис Сергеевич!» И появилась шляпа. Правда, сидела она у него на голове то набоку, то на макушке, как у американца, и была вечно измятой, потому что он сам не раз сидел на ней. Короче, купив шляпу, он выполнил свое слово, но, когда ездил на дачу, снова требовал кепку. Так до конца жизни и просуществовала эта кепка 62-го размера, дочь Ирина пыталась новую купить — ан ничего не вышло. То хорошо для него было, что удобно и привычно. Когда приходили гости, он надевал рубашку и костюм, без галстука, разумеется. В молодости он изредка еще носил галстук, а на склоне лет все говорили про него: «Какой симпатичный академик, а без галстука!»
Он был гораздо красивей, чем на своих фотографиях. Снимки не воспроизводят его образа, а удачных мало. На фотографиях у него прилизанные волосы, а на самом деле у него до старости была роскошная шевелюра, волосы чуть вились, пушистые. Крупная, прекрасная седая голова. Часто он бывал лохматым и нестриженым, но всегда гладко выбрит, и от него вкусно пахло хорошим одеколоном и табаком. Курил много, сорок лет, с кадетского корпуса.
Ему не раз говорили:
— Борис Сергеевич, вы себя неважно чувствуете, а продолжаете курить.
— А у меня есть преимущество перед теми, кто не курит, — отвечал Стечкин.
— Какое же?
— Мне станет плохо — я брошу курйть, и у меня в запасе еще есть кое-что... И лишь лотом возьмусь за лекарства. А так что бы у меня оставалось? Одни лекарства!
Но после первого инфаркта в 1947 году курить ему пришлось бросить. Бросил сразу. Первые два года снилось, как курит, а потом как рукой сняло. Чтоб его не дразнить, Ирина Николаевна выходила с папиросами из комнаты. Инфаркт в 1947 году надолго выбил Стечкина из колеи, но организм выдюжил.
В 1946-м Стечкин был избран членом-Корреспондентом Академии наук СССР.
В 1947 году его избрали действительным членом Академии артиллерийских наук.
«За работы на заводе и в ВВА, — читаем в автобиографин Стечкина, — награжден орденами Ленина, Красного Трудового Знамени, Красной Звезды и медалями «За доблестный труд», «За победу над Германией» и «800 лет Москвы». В 1946 году присуждена Сталинская премия второй степени». Это одна из редких автобиографий Стечкина с таким подробным перечислением наград. В дальнейшем в подобных документах он укажет благодарность «за своевременное выполнение задания» да Ленинскую премию в 1957 году, и все. Это в его стиле — так же, как и то, что он редко носил свои награды. Почет и слава всегда были для него второстепенны, его не волновало, дадут награду или нет. Здесь он тоже был бессребреником. Получал ордена, носил день и снимал. Нравился ему орден Красной Звезды, полученный по линии Военно-воздушной академии. Долго носил — военный, солдатский орден, нравилось ему еще и то, что «Звездочка» не на планке носится, а привинчивается. На торжественные собрания ходил со значком об окончании МВТУ. И лишь однажды на один большой прием пришел со всеми наградами, но увидел, что все тоже при полных регалиях, снял.
«После папиной смерти, — говорит С. Б. Стечкин, — все его ордена сдали в Приемную Верховного Совета СССР, о чем у Ирки есть соответствующий документ, а лауреатские медали передали в музей Жуковского. Осталась Королёвская космическая медаль».
— Пожалуй, я у вас попрошу на время эту штуку, — сказал Стечкин Дубинскому, разглядывая его медаль заслуженного изобретателя РСФСР.
— Пожалуйста, Борис Сергеевич, но зачем она вам?
— А знаете, что значит медаль с такой красно-синей ленточкой? Точно такую носят ветераны французского Сопротивления.
— То-то, когда я был во Франции, на меня все там смотрели с уважением, — сказал Дубинский.
— Вот, вот. А вы дайте мне ее поносить, я поеду на автомобиле, нарушу правила, а милиционер увидит медаль и будет мне козырять.
— Но почему вы думаете, что милиционер знает об этой медали?
— Знает. Если я знаю, то и он знает. Милиционеры все знают. А то мне приходится каждый раз давать им права вместе с удостоверением академика, а еще внутри удостоверения — бумажку, обеспеченную ценностями Госбанка. Он мне тоже, правда, козыряет... Пятьдесят лет вожу машину, а все штрафуют! Правда, однажды милиционер спросил: «Так вы и есть тот самый Стечкин?» — «Тот самый», — отвечаю. «Спасибо за хорошее оружие, товарищ академик!» Он имел в виду пистолет Стечкина, а его-то сделал не я, а мой племянник!
«Что-то случится с машиной, — вспоминает И. Б. Стечкина, — забавно смотреть, как он копается. Ездили по самым чертовым местам, вечно в истории попадали. Но он возится, пока не доведет дело до конца. И все это у него весело получалось. Для меня такие поездки много значили». В последние годы, когда сам не мог возиться в гараже, стоял возле машины и по слуху определял неполадки.
На Сходне по воскресеньям собиралось немало народу — близкие друзья, многих Стечкин знал три, а то и четыре десятка лет. Носов, Микулин, Архангельский, разумеется. Без Архангельского ни одного семейного праздника не обходилось. Народу много, а гостем здесь себя никто не чувствовал. Никто никого не стеснял — когда хотели, приходили и уходили. Полная свобода и никакой суеты. Приходили сотрудники из КБ и академии имени Жуковского, друзья из университета, где преподавала Ирина Николаевна. На ней-то в основном и держались и семья, и шумная компания гостей. Хозяйка всегда улыбалась, не обращала внимания на пустяки — в семье им не придавали значения. С утра она уводила энтузиастов в лес по грибы, Стечкин с друзьями купался на речке Сходне, которую очень любил, — хоть и маленькая речушка, но запруда для купания приятная.
Борису Сергеевичу далеко за пятьдесят, а все строен и подтянут, ни грамма лишнего. Годы прошли нельзя сказать чтоб незаметно и бесследно, но прошли. Осталась еще молодая реакция, подвижность — может, не такая, как прежде, но жаловаться грех. Недавно выехал утром на работу, а навстречу из ворот мальчишка выскочил. Стечкин остановил «виллис» в нескольких сантиметрах от летевшего под колесо мальчугана...
Заводской «виллис», а потом и маленький двухместный «мерседес-бенц» долгое время были в распоряжении Стечкина. После обеда на даче веселая компания обычно набивалась в машину, и Стечкин садился за руль.
Ехали порой и не знали куда, но даже Ирине Николаевне остановить мужа было не под силу — коль решил, поедет, какая б ни предстояла дорога. Проваливались, застревали, но ехали. Однажды узнали про какое-то Круглое озеро и, конечно, решили найти его. Лес, бездорожье, машина становилась градусов под сорок пять, едва не переворачивалась, но доехали. Правда, по дороге потеряли Вячеслава Николаевича Стечкина, «Вячикаку», как называли его в семье, того, которому когда-то Тургенев подарил деревянную лошадку. Как он выпал из «виллиса», никто не заметил. На обратном пути нашли его мирно спящим на лесной обочине.
Борис Сергеевич, как и в молодые годы, любил спать на сене — свежескошенное, душистое, оно лежало на террасе. Дача двухэтажная, на две семьи — Стечкин арендовал ее с Алексеем Валентиновичем Кащенко — работали вместе на заводе. На даче все было просто, жили здесь как одна семья. Стечкин обычно занимался внизу на террасе. «Он был малоразговорчив и всегда во что-то углублен, — говорит академик М. М. Дубинин. — Это была наука, а порой какой-нибудь детектив».
Он часто действительно предпочитал любому чтиву детективы — они отвлекали, снимали напряжение. «Франклину Рузвельту детективы Уоллеса в самые трудные дни помогали обрести спокойствие и равновесие», — говорил он.
— Борис Сергеевич, может, роман какой-нибудь? — спрашивает Соколов.
— Да ну... Там все выдумывают, вы мне лучше детективчик подбросьте!
Лежит и такой жуткой мурой увлечен! Улыбнется и скажет:
— Знаете, голубчик, только это и могу сейчас читать. Когда-то я мог читать научную литературу, — говорил в эти годы Стечкин, — но сейчас, чтобы прочесть статью, нужно потратить столько времени, сколько понадобилось автору на ее написание. Возьмите журнал по прикладной механике или математике, там сразу, без выводов, начинается решение дифференциальных уравнений. Американцы это делают умнее: сначала ставят задачу, и вы сразу, не вникая в уравнения, знаете, что к чему.
В этом смысле Стечкин критиковал наши научные статьи, говорил, что прежде такого не было, и сейчас что-то нужно делать для создания стиля научного изложения.
... Старинный удобный диван, этажерка с книгами, кресло — на даче тоже не было никакого модерна. Борис Сергеевич интересовался другим — прекрасные ружья у него были, отличная фотокамера. Ко всем делам, научным и бытовым, он подходил азартно и профессионально, и этот азарт был направлен для совершенства и окончательного достижения цели — сконструировать, рассчитать лучше существующего уровня, обыграть в теннис или сделать какое-нибудь приспособление на даче. У него были хорошие руки. Любую вещь мог разобрать, собрать, починить и никогда ничего не портил и не ломал. Мастерить ему было некогда, но при случае мог сразу определить, в чем, скажем, неисправность фотоаппарата или как сделать нехитрое приспособление из проволоки для правильного наматывания пленки в темноте на катушку бачка для проявления. «Он был тем инженером, — говорит его дочь Вера Борисовна, — когда инженеры еще сами все умели делать. Сергей наш непохож на отца ни характером, ни темпераментом, он скорей в Шиловых пошел. И отец говорил, что у сына «руки-крюки».
Но не отнять у Сергея его математических способностей. Было видно, что это выдающийся юноша.
Обрадуется, когда отец скажет ему: «Сережка, ты знаешь высшую математику лучше меня, ты здесь сильнее», — и они напишут совместную работу. А за несколько лет до этого они спорили, кто раньше станет доктором наук — ведь отец никогда не защищал ни кандидатской, ни докторской диссертаций (правда, насчет кандидатской, писал он ее или нет, был спор с Ириной Николаевной). Диплом доктора технических наук Стечкин поЯучил, став академиком, и очень радовался этому диплому.А когда сын будет защищать докторскую, отец придет на его банкет «при параде», правда, как всегда, без галстука, но верхняя пуговица его рубашки будет застегнута, как бы подчеркивая особую торжественность момента.
Но это будет годы спустя, а сейчас Стечкин на даче играет с сыном в городки, вернее, играют два на два: Кащенко с Сергеем и Стечкин с женой Алексея Валентиновича. Борис Сергеевич неизменно выигрывал и заразительно смеялся, подшучивая над неудачниками. Младшая Ира возится с собакой — кащенковский эрдельтерьер так к ней привязался, что пришлось ей его подарить.
Последний раз Стечкины жили на Сходне летом 1948 года, потом снимали дачи в Удельной, Мамонтовке, Болшеве, а с 1953 года — в Абрамцеве. Иной раз снимут неудачно, но Стечкин никогда не ныл по этому поводу, напротив, всех успокаивал. Хозяева плохие, зато лес близко — ив этом старался найти хорошее.
— Делайте, как вам удобно, как мать скажет, — говорил он.
В 1951 году ему исполнилось шестьдесят. Академия наук устроила юбилейный вечер. Сохранилась написанная его рукой речь:
«Товарищи, когда человек дошел до юбилея, то он невольно смотрит не только вокруг себя и вперед, но оглядывается и назад, на пройденный путь, сожалея о том, чего не сделал, или о том, что делал неправильно. Будущее перестает быть бесконечным, и обещания доделать все несделанное становятся сомнительными. Однако в такой счастливый для меня день, как сегодня, мне не хотелось бы говорить вам о сожалениях и сомнениях, мне хотелось бы сказать вам что-либо бодрое и хорошее, чтобы приобщить вас к моему довольству и счастью.
Я с полным нравом могу сказать, что я полностью доволен, можно сказать, я счастлив.
Мне предоставлена полная возможность вести любимую педагогическую работу в условиях руководства кафедрой вместе с дружным коллективом товарищей и учеников.
В инженерно-технической работе мне предоставлена возможность вести столь близкую мне работу по опытному строительству в научно-исследовательской части, и опять же совместно с дружным коллективом, с которым уже пройден немалый путь, преодолено немало трудностей и достигнуто немало успехов.
Это был первый юбилей в его жизни, который ему отмечали. Потом будут еще два юбилея, и многое успеет он сделать.
Стечкин казался далеким от Академии наук — не было в нем академичности. Перед выборами он любил загадывать — изберут или нет интересующего его товарища, так было и по отношению к самому себе. 23 октября 1953 года общим собранием Академии наук Борис Сергеевич Стечкин был избран академиком. Зал встретил это сообщение овацией. Борис Сергеевич так радовался! Но особенно сияла Ирина Николаевна. «Бог есть», — тихо повторяла она. Пришло признание. В 62 года он стал академиком. «От терний к звездам», — справедливо говорили о Стечкине.
Его поздравляли друзья и ученики, пришли телеграммы от конструкторов А. И. Микояна, А. А. Архангельского, С. К. Туманского, академиков И. И. Артоболевского, В. С. Кулебакина, С. А. Христиановича, от маршала авиации П. Ф. Жигарева, генерал-полковника С. И. Руденко, Героя Советского Союза летчика Николая Шмелева...
«Горячо поздравляю Вас пионера новой техники присвоением высшего ученого звания тчк Желаю многих лет здоровья счастья успехов Глушко».
Телеграмма из Мисхора: «Вся семья Туполевых до внучки включительно сердечно приветствует Вас с избранием и шлет наилучшие пожелания».
В Большой Советской Энциклопедии о нем появилась статья, написанная Г. С. Скубачевским. В ней еще не говорилось о том, что более десяти лет Стечкин трудился в КБ Микулина... На заводе накопили большой опыт по созданию реактивной техники. В 1948 году сделали мотор AMTKP-1 и заложили два новых типа двигателей — большой АМ-3 и поменьше — АМ-5. Первый двигатель установили на бомбардировщике Ту-16, на базе которого был сделан пассажирский Ту-104, второй на машине Як-25. Мотористы всегда были тесно связаны с самолетчиками, и Стечкин высоко ценил наших ведущих создателей самолетов. А с Сергеем Владимировичем Ильюшиным он вместе работал в академии имени Жуковского. Сын конструктора, известный летчик, Герой Советского Союза Владимир Ильюшин бережно хранит конспекты лекций Стечкина, по которым учился в академии.
И моторы, сделанные на микулинском заводе, были достойны самолетов, на которых они устанавливались. Благодаря мощности АМ-3 бомбардировщики достигли скоростей истребителей и получили огромную перспективу для дальнейшего усовершенствования.
— Мы предложили вместо больших двигателей строить маленькие, — говорит А. А. Микулин. — Многие говорили: «Микулин с ума сошел, он нас назад тянет от мирового развития авиации!» Американцы строили тогда все большие и большие двигатели, а мы со Стечкиным рассудили так: мощность двигателя, или тяга, прямо пропорциональна весу секундного расхода воздуха в двигателе, воздух нагревается, выходит с большой скоростью — отсюда и тяга. Если сделать двигатель вдвое больше, то количество проходящего сквозь него воздуха увеличится в квадрате, в четыре раза, соответственно в четыре раза возрастает и тяга, но вес двигателя увеличится в кубе, то есть в восемь раз. Если же взять два маленьких двигателя, половинной мощности большого мотора, то в сумме получим ту же тягу, но общий вес увеличится в два раза по сравнению с весом маленького двигателя.
Значит, на двух маленьких двигателях мы значительно выиграем в весе. И я предложил Микояну установить два двигателя АМ-9 рядом. Он сказал, что я с ума сошел, ничего не получится».
Микулин послал ему чертежи, и через две недели Микоян звонит:
— Александр Александрович, вы нам глаза открыли, это же переворот в авиации! Теперь мы на полностью нагруженном истребителе перейдем скорость звука!
— Так я же об этом говорю, а меня слушать не хотят!
Артем Иванович Микоян попросил у министра разрешения на эти двигатели.
— Так вы же сами возражали! — ответил министр.
— Мы все возражали и потеряли три года в развитии авиации!
МиГ-19 с мотором РД-9Б давал сверхзвуковую скорость — 1450 км/ч. Моторы Р-11–300 почти два десятилетия стоят на вооружении наших ВВС, чего не было щи в одной стране. На Р-11–300 сейчас летают и штурмовики, и перехватчики, и разведчики.
Автоматика, трансзвуковая система компрессора были созданы на новом двигателе в значительной мере по идеям Стечкина. Теперь, конечно, известно, что многие двигатели, созданные под научным руководством Стечкина, стоят на отечественных истребителях, а такая машина, как МиГ-21, в рекламе не нуждается. Двигатель на ней очень перспективен, он совершенствуется и поныне. Да и предыдущие МиГи достаточно известны.
А Ту-104 — один из первых в мире реактивных пассажирских самолетов. Сколько сил было отдано инженерами и рабочими на испытательной станции микулинского завода!
Долго не получалась нужная тяга, и мысли у всех были только о ней. Весна. Стечкин открыл окно, в комнату ворвались запахи распускающихся деревьев, он мечтательно посмотрел на небо и сказал: «А тяга-то нынче какая!» Никто сперва ничего не понял, а потом вспомнили, что Стечкин — страстный охотник, и рассмеялись.
Сейчас все видят Ту-104, и мало кого интересует, как был сделан этот самолет или мотор для него. Главное — летает.
Сначала неважной, с точки зрения прочности, получилась турбина — создавались большие напряжения, низкий КПД не устраивал инженеров. Турбину, по предложению Огечкина, рассчитывала бригада заместителя главного конструктора по экспериментальной части Г. Л. Лившица, с ним работали Фогель, Дубинский и Сорокин. В конце концов им удалось спроектировать турбину, она пошла и поныне стоит на наших военных и гражданских самолетах. Работы Стечкина легли в основу расчета и выбора основных параметров двигателя, который в то время был самым мощным.
Когда Ту-104 прилетел в Англию, то все бросились прежде всего смотреть двигатель, а не фюзеляж и крылья — они почти такие же, как и у других пассажирских самолетов. Самолет-то реактивный, потому что мотор реактивный.
«Роль Стечкина в создании этого двигателя огромна, — говорит С. К. Туманский. — К сожалению, вскоре Борис Сергеевич ушел от нас, стал создавать лабораторию двигателей в системе Академии наук. К тому времени у нас уже было огромное налаженное производство, лаборатории, кадры. На новом месте ему все надо было создавать сначала. А он ведь инженер, ему нужна и практическая деятельность. И чтобы руководить учреждением, не только знания требуются.
Очень добрый человек, очень добрый... Человек науки и педагогики — так бы я его охарактеризовал. Жить без труда он не мог и, несмотря на возраст, продолжал работать. Очень преданный науке. Я часто вспоминаю, как Лев Толстой ответил одному молодому писателю: «Если можете не писать, не пишите». Стечкин не мог не печься о продвижении науки, именно о ее продвижении. Он должен был решать новые задачи в области авиационной техники, тепловой ее части — вот, пожалуй, главное его содержание...»
Он ушел с завода вместе с Микулиным в 1955 году. На его месте стал работать Г. Л. Лившиц, но заменить Стечкина, конечно, было нелегко.
«Проводили мы его очень хорошо, — рассказывает С. К. Туманский, — с большим почетом. Приказы по министерству оформили, благодарности. Ему была присуждена Ленинская премия за самолет Ту-104 — первая по Министерству авиационной промышленности, всего пять-шесть лауреатов было, й он первый среди НИХ».
Премию присудили в 1957 году, когда он уже не работал на заводе. Радостный, он позвонил на завод и пригласил товарищей к себе в гости. Многие пришли, среди них Я. Л. Фогель, М. Г. Дубинский, С. 3. Копелев. Фогель подражал Стечкину во всем, даже в одежде. Брюки пояском таким же подвязывал, галстук перестал носить, воротничок рубашки поверх пиджака накладывал...
Шумная компания инженеров бывшего микулинского конструкторского бюро пришла поздравить Стечкина. Он ответил так:
— Спасибо, товарищи, но у меня чувство, как будто я к кому-то в карман залез. Ведь этой награды достойны многие...
За вечер он это два раза повторил — искренне и без рисовки. На заводе долго жалели, что Стечкин ушел. Идей стало меньше. А Микулин в сочетании со Стечкиным!
... Много лет в отечественной науке и технике жил и плодотворно работал сильнейший симбиоз: Микулин — Стечкин. Талантливый конструктор-организатор и крупнейший теоретик составляли единое целое. В одном человеке такое бывает редко. Это содружество помогло создать конструкторское бюро, которое проводило работы на исключительно высоком уровне.
Микулин был главным конструктором и ответственным руководителем предприятия. Директор ему подчинялся и выполнял функции его заместителя по производству и материальной части. А за все отвечал Александр Александрович.
«Нисколько не умаляя талант и способности А. А. Микулина, — говорит А. Н. Пономарев, — очевидно только одно, что лишь светлая голова Б. С. Стечкина позволяла их КБ в течение ряда лет создавать прекрасные отечественные двигатели, оригинальные по конструкции, абсолютно не заимствованные ни у кого за границей. Этим КБ обязано Борису Сергеевичу. И после, возглавляемое С. К. Туманским, бюро продолжало плодотворно работать благодаря большому научно-техническому фундаменту, который заложил Борис Сергеевич и оставил там не только добрую память о себе, но и много учеников, последователей, во всяком случае, школа Стечкина существует в этом бюро и поныне и приносит большую государственную пользу нашей авиации. Само начало развития реактивных двигателей для наших тяжелых отечественных самолетов было положено в этом КБ». Микулин и Стечкин строили моторы для полета. Они создавали прекрасную технику, опережая весь мир.
Александр Александрович Микулин — всегда переполненной идеями, увлекающийся, конструктор-самородок и в то же время человек, нуждающийся в сильных противовесах. Рассудительный, в совершенстве владеющий теорией Стечкин был необходим Микулину, ибо нередко действовал трезво и охлаждающе, когда фантазия брата выходила за пределы реального. А Микулин, смелый мечтатель, очень доверял своему учителю и Еерил в него.
У многих, кому приходилось сталкиваться с Микулиным, нет о нем такого однозначного мнения, как о Стечкине. Изобретения сыпались из Микулина как из рога изобилия.
Александр Александрович, как и любой человек, конечно, имеет свои недостатки, и Стечкин понимал пх. Нередко недостатки Микулина были продолжением его достоинств, и Борис Сергеевич не раз выполнял роль холодного, освежающего душа. Характер у Микулина не из легких. Когда проводились испытания нового двигателя, сотрудники старались отправить Александра Александровича на отдых. Оставались его заместители: Туманский, который занимался самыми трудными вещами по обработке и доводке, и главный теоретик Стечкин, чтобы во время испытаний все уладить с Государственной комиссией.
Микулину завидовали. Еще бы: за что ни возьмется, все у него получается, даже то, во нто начальство не верит, как было с моторами для штурмовиков Ильюшина, АМ-38 и потом АМ-42 для самолета Ил-10.
С трудом проходил у Микулина и реактивный Р-11–300, а оказался отличным двигателем. Говорят, что конструктор был неуживчив и нелегок в отношениях с людьми. «Я считал и считаю до сих пор, что в то время он был самым передовым и проницательным конструктором авиационных двигателей», — пишет А. С. Яковлев.
Стечкин был совсем другого склада. Терпимый и выдержанный, он, если кого не уважал, просто не общался, и все. И он не только спорил с Микулиным, но и всегда старался помочь этому очень талантливому и своеобразному человеку.
— Вот ты киснешь в своей идее, — говорит ему Стечкин, — а довести ее до конца не можешь, потому что слабо знаешь математику, не сообразуешься с логикой.
Сам же Стечкин логику ставил превыше всего — все по полочкам разложит, все просчитает. «Не могу беседовать с инженером, у которого логики нет», — говорил. Микулин сегодня мог чертить оригинальную кастрюльку для выпечки булочек, а завтра — непревзойденный реактивный двигатель. Всякое дело, за которое он брался, немедленно становилось для него главным — на год, на день, на данную минуту. Если главное на год — создать двигатель, то главное на минуту — вытереть пыль со стола, чтоб приятней работалось.
Стечкин сохранил доброе отношение к Микулину до конца своих дней. И не потому, что родственники. Стечкин понимал, что такие, как Микулин, рождаются нечасто, старался ему помочь.
Мйкулин продолжал носить свои изобретения Стечкиу и тогда, когда они уже не работали вместе. Борис Сергеевич всегда прямо о них высказывался и помогал. В последний раз Микулщн был у Стечкина в больнице в конце 1968 года и опять что-то новенькое принес ему.
Александр Александрович по-юношески наполнен идеями. Говорят, когда его идеи касаются конструкций, это очень здорово, но он-де пытается проникнуть во все области. Трудно спорить — время покажет. Дома у Микулина в Языковском переулке на столе стоит сконструированный им ионизатор, который применяется для лечения больных и в свое время спас жизнь писателю К. Г. Паустовскому. В статье «Витамины воздуха», опублинованной 30 августа 1973 года в «Правде», отмечается гидроионизатор А. Микулина. Микулин пытался поставить свой ионизатор на авиационный двигатель, чтобы, ионизируя воздух, воздействовать па процесс сгорания, однако уровень ионизации получился на несколько порядков ниже, чем нужно для двигателя, но в принципе это можно осуществить...
Микулин изобрел специальное заземление.
— Вот эти металлические пластинки на резинках, — говорит он, — я надеваю на ноги, когда ложусь спать, а провода от них присоединяю к батарее отопления. Таким образом я снимаю с себя триста вольт статического электричества, которые за день накапливаются на теле. Такое же заземление было у Стечкина, но напрасно он им не пользовался.
Микулин излагает свою теорию о полупроницаемых оболочках:
— Начало жизни есть электричество. Оно вызвало появление полупроницаемой оболочки, окружающей каждую клетку. Как только она образовалась, появилась тенденция взаимоперехода молекул через нее. Организм умудряется скапливать в одни ячейки положительные заряды, в другие — отрицательные. Изучение этого явления имеет огромное значение для человека. А моторы — мое хобби в течение всей жизни, — говорит Александр Александрович.
Он работает над оригинальным автомобильным мотором.
— Это будет мотор Будущего, — говорит Микулин.— Сочетание авиационного двигателя с автомобильным. Сто сил. И топлива в два раза меньше ест, чем обычный двигатель... А вот главное изобретение моей жизни! — Александр Александрович указал на устройство, напоминающее лодку.
— Даже главнее, чем двигатель на ильюшинском штурмовике? — спросит непосвященный.
— Конечно, главнее! — серьезно отвечает конструктор. — Вы сядьте в эту штуку и поработайте руками и ногами! — И действительно, стоит начать делать гребные движения на этой лодке, как ее сиденье ходит взад и вперед, и чувствуешь, как растягиваются мышцы, даже те, которые обычно не очень-то работают, и через три минуты встаешь с этой лодки взмыленный, как после очень интенсивной зарядки. Микулин — физически сильный человек спортивного склада. Ему за восемьдесят, но выглядит он значительно моложе, во всяком случае, стариком его не назовешь. У него свой режим дня, свои привычки и порядки — иным людям они кажутся странностями. Говорит, что в столовой он обычно обедал на 46 копеек и как-то сказал:
— Вот Стечкин не слушал меня — неправильно жил и мало прожил.
«Мы ничего не делали друг без друга, — вспоминает А. А. Микулин. — Его расчет, моя конструкция».
Стечкин и Микулин — одни из тех, кто начинал создавать новый вид техники — авиацию, и, наверно, было бы неплохо, чтоб почаще на нашей земле рождались такие таланты, даже со всеми присущими им недостатками. И как бы дальше ни развивалась наука, какие бы большие коллективы ни работали над проблемами, всо равно науке будут необходимы такие личности, как Стечкин и Микулин. Когда мы видим самолет, то не говорим: «Вот полетела машина, созданная коллективом под руководством Яковлева или Антонова». Правильно это или нет, тут можно поспорить, но мы просто говорим, что полетел Як или Ан. И для того чтобы большой коллектив смог сделать стоящую вещь, нужно вдохнуть в него микулинскую хватку и стечкинский гений.
Их призванием было горение...
Во время работы в микулинском КБ Стечкин параллельно занялся еще одной интересной деятельностью.
В 1949 году в Академии наук организовалась Комиссия по газовым турбинам. Стечкин стал заместителем ее председателя, а в 1951 году по предложению Г. М. Кржижановского возглавил ее. Стечкин работал у Микулина, и ему не хотелось становиться председателем комиссии «через голову» Александра Александровича. Но Микулин сразу дал на это свое согласие.
Комиссию укомплектовали нужными специалистами. Работа началась практически с нуля: на некоторых заводах, в научно-исследовательских институтах, в учебных заведениях уже думали о газовых турбинах, однако общей направленности работ еще не было.
«Газовые турбины являются одним из видов двигателей внутреннего сгорания, — пишет Стечкин в начале 1953 года. — В более широком плане теория газовых турбин как техническая наука находится в области технических наук по двигателям внутреннего сгорания, где составляет свою собственную, особую часть — теорию лопаточных машин.
... В настоящий момепт у нас в СССР, за исключением авиации, пока нот промышленности газовых турбин. Несомненно, что в ближайшее время газовая турбина найдет себе применение как в стационарной практике, так и особенно в практике транспортных машин. Уже теперь наша промышленность работает над опытными образцами. Однако на сегодня можно говорить о газовой турбине лишь для авиации, где промышленное выполнение газовых турбин исчисляется десятками миллионов лошадиных сил».
Стечкин проводит несколько сессий комиссии и решает поставить вопрос о создании отечественной газотурбинной промышленности перед Советом Министров СCCP. Составили записку о положении дел у нас и за рубежом, которую одобрил президент Академии паук. Вскоре Стечкин докладывал правительству, что основные вопросы газовой динамики, термодинамики, прочности, вибрации были рассмотрены в нашей стране в различных работах, которыми сейчас пользуются зарубежные фирмы. На осповапии этих работ они делают практические выводы и пускают проекты в металл. А у нас все остается в книжках и разбросано по статьям. За рубежом построено машин общей мощностью 1,5 миллиона киловатт, а у пас поль.
Комиссия разработала конкретный доклад для Совмина, где указывалось, какие проблемы нужно решать научно, какие — конструкторски и какие заводы привлечь для разработки отдельных экземпляров газовых турбин. В 1955 году было созвано совещание, на котором председательствовал заместитель Председателя Совета Министров В. А. Малышев. Пригласили сто человек — всех главных конструкторов нужных заводов, специалистов по турбинам. Десять дней заседало совещание, и были разработаны меры по созданию отечественного стационарного и трапспортпого газотурбостроепия. Конкретным заводам предложили построить несколько типов турбин определенной мощности по разработанным Стечкиным и его учениками техническим условиям. С этого все и началось. Опыт создания турбин для авиации у Стечкина был большой, и совместным желанием всех членов комиссии стало: газовую турбину, которая произвела техническую революцию в воздухе, вытеснив на задний план поршневые двигатели, спустить с поднебесья на землю и заставить работать не только для авиации, но и для нужд земных. Были разработаны типы турбин для энергетики, автомобильного и судового транспорта, для танков, черной металлургии — для отдельных отраслей хозяйства, каждой из которых нужны свои, специфические турбины. Строились турбины и для газовой промышленности. В то время проводили газопроводы на большие расстояния, а качать газ нечем, дизели маломощны. Стечкин предложил турбину как основной двигатель для привода компрессора, чтобы передавать газ на большие расстояния.
Когда заводы включились в эту работу, комиссия стала помогать конструкторским бюро, исследовательским институтам пробивать путь газовой турбине в практику.
«Теория газовых турбин, — пишет Стечкин, — получила свое начальное развитие на основе теории паровых турбин, но в последнее время теория газовых турбин выделилась в совершенно самостоятельную область, во многих научных вопросах далеко ушедшую вперед по сравнению с теорией паровых турбин».
Газовая турбина по конструкции мало чем отличается от паровой. Но заводы впервые столкнулись с новым прогрессивным тепловым двигателем. Он требовал решения вопросов, несвойственных паровым турбинам. Поэтому комиссия определила круг проблем, которые нужно решить в первую очередь. Необходимо разработать жаропрочные материалы и сплавы. Паровые турбины могли работать при температуре 540 градусов, а газовая турбина нагревается на несколько сот градусов выше, поэтому перед металлургами была поставлена задача создания новых жаропрочных сплавов с большой механической прочностью. Нужно было повысить общий КПД компрессора и турбины, а для этого улучшить газодинамику проточной части. Газодинамические вопросы были включены в программы исследований ряда организаций. Главное требование к наземным газовым турбинам — экономичность. Поэтому здесь в отличие от авиации очень важны теплообменные аппараты, экономящие тепло. Существовавшие теплообменники были весьма громоздки, чтоб ставить их, скажем, на тепловозы. Многое пришлось сделать членам комиссии во главе с Борисом Сергеевичем: договариваться с министрами, уговаривать, то есть заниматься не только научной, теоретической и исследовательской деятельностью, но и урезонивать людей, которые с опаской смотрели на внедрение новой техники, старались отмахнуться от нее, а что дальше будет — неизвестно. Без газовых турбин наша газовая промышленность была бы в очень плачевном состоянии. Сейчас установлено несколько сотен турбин на 3 миллиона киловатт, а тогда многие руководители уповали на дизели. Комиссия действовала через Совет Министров и Академию наук — создала соответствующие кафедры в институтах, КБ, на заводах. Заводы неохотно шли навстречу, но комиссия постепенно и методично убеждала их. Стечкин стал внедрять газовые турбины и в энергетику. Впервые в СССР были разработаны турбины по 12 тысяч киловатт для Небит-Дагской электростанции, которая была единственной, где работали газовые турбины. Были изготовлены турбины по 25 мегаватт, одна из них установлена в Киеве на ТЭЦ-2, четыре — на Якутской электростанции. Первые в мире газовые турбины по 100 тысяч киловатт установлены на Краснодарской электростанции. Строили и маломощные турбины.
Все новые технические проекты рассматривались в комиссии вместе с Борисом Сергеевичем. Свой опыт, теоретический авиационный багаж он передавал и транспортникам и газодинамикам, он был проводником идей авиации в область земной стационарной практики. Провели двадцать ежегодных всесоюзных сессий, на которых рассматривали экспериментальные и теоретические работы. Стечкину на этих сессиях принадлежит ведущая роль. Он координировал исследования и руководил работой по созданию газотурбинных двигателей в масштабе всей страны. Он давал направление работы сессий, и роль его в развитии научно-исследовательских работ по турбинам огромная. Было издано несколько сборников трудов сессий комиссии.
Его стремление к новому влияло на сотрудников. Всем хотелось изобретать, а он был особенно чуток к изобретателям. По-прежнему он не терпел безразличного отношения к делу. «Очень приветливый старик был, — говорит секретарь комиссии Н. П. Стульников. — Мне пришлось с ним работать почти двадцать лет, и светлая память о нем, конечно, осталась... Он был весьма щепетильным человеком и не любил тех, кто не имел своего «я».
Если с кем не сойдется, то работать не будет. Незадолго до смерти оставил работу в комиссии. Но преемник у него достойный — комиссию по газовым турбинам возглавил выдающийся советский двигателист академик А. М. Люлька. «Мы очень дружно и плотно работали с Борисом Сергеевичем в комиссии, — говорит Архип Михайлович. — Он в то время возглавлял Институт двигателей».
Еще в 1951 году, предвидя необходимость изучения и совершенствования новых двигателей, Стечкин, работая в микулинском КБ и в Комиссии по газовым турбинам, решил создать в Институте машиноведения Академии наук лабораторию лопаточных машин. Он хотел одновременно с работой на заводе получить еще и возможность творческой работы, не связанной с конкретными заводскими делами, которые требуют решения задач «от и до», провести широкое исследование лопаточных машин. Для этого нужно делать «не громоздкие, но тонкие эксперименты», как он сам говорил. Ему нужно было независимое поле деятельности для исследования газовых турбин. Становились самостоятельными его ученики. Ушел работать над холодильными машинами М. Г. Дубинский. «На моем опыте вы должны понять, — сказал ему Стечкин, — что, если хотите свою идею довести до конца, вы должны быть руководителем организации. И пусть вас не волнует, голубчик, если в работе возьмете слишком круто. Если хотите что-то сделать по-настоящему, надо сильно толкануть, с перегибом, а потом постепенно выправлять. Пройдет время, и все станет на свои места, так мы привыкли».
Сам Стечкин горячо взялся за новое дело — лабораторию лопаточных машин. Прежде всего нужно было добыть помещение. Существовал Институт машиноведения с большими ответственными лабораториями академиком Чудакова, Артоболевского и других. Институт был разбросан по всей Москве. Лаборатория Е. А. Чудакова находилась на Краснопролетарской улице, другие помещения были на площади Восстания, на улице Осипенко...
Первый вопрос удалось решить с помощью Чудакова. Он выделил для новой организации маленькую комнатку, стол для Стечкина — с этого и началась лаборатория, а затем и Институт двигателей.
С Евгением Алексеевичем Чудаковым Стечкин знаком с двадцатых годов, со времени организации НАМИ.
Е. А. Чудаков — основоположник теории автомобиля, создатель автомобильных кафедр в институтах страны, автобронетанковой кафедры в военной академии (ныне имени Малиновского). Вместе с Чаплыгиным он был организатором отделения технических наук академии, создал и возглавил Институт машиноведения. Крестьянский парень, он прошел путь от техника у фабриканта до академика, вице-президента Академии наук СССР. Труды его известны во многих странах. В свое время он был единственным из русских и советских ученых избранным членом президиума общества авиационных и автомобильных инженеров США.
19 марта 1952 года состоялось заседание Ученого совета Института машиноведения. Первым пунктом в повестке дня значилось: «О создании в Институте машиноведения лаборатории лопаточных машин и о перспективном плане ее работы. Доклад члена-корреспондента АН СССР Б. С. Стечкина».
«Чтобы лаборатория газовых турбин могла занять ведущее положение в области развития научных знаний по газовым турбинам, не подменяя в то же время отраслевых лабораторий, — сказал Стечкин, — необходимо ее специализировать в определенном направлении, в котором лаборатория и должна завоевать ведущее место. Таким основным направлением в теории газовых турбин (лопаточных машин) следует считать теорию термодинамического и газодинамического расчета газовых турбин».
К октябрю 1952 года составили перечень оборудования для лаборатории — воздуходувки с электромоторами, стенды для изучения газовой динамики лопаточных машин, для продувки решеток — всего на 2 277 672 рубля в денежном исчислении того периода. Своего помещения пока не было, и лабораторию временно, до строительства нового здания Института машиноведения, было решено разместить на заводе А. Микулина. Стечкин мыслил завершить ее создание в 1955 году. Микулин обещал ускорить сроки. Натурных образцов турбин еще не было, и Стечкин говорил: «Попытки испытаний в натуре — это пока осталось в идеале... Мы будем исследовать отдельные агрегаты».
Большое, перспективное дело задумал Стечкин. «Нам представляется, — писал он в январе 1953 года, — что лаборатория газовых турбин, автомобильная лаборатория, ряд лабораторий Энергетического института и других институтов Академии наук, занятых решением проблем по газовым турбинам, могли бы стать фундаментом для создания в Академии наук СССР Института двигателей внутреннего сгорания как общего теплотехнического центра по легким транспортным двигателям внутреннего сгорания».
15 августа 1952 года во всех инстанциях утвердили штатное расписание, и лаборатория приступила к работе. Но и тех шестерых работников, которые намечались по штату, пока не было. Есть Стечкин, которому стараются помочь Микулин и Чудаков.
«Чудаков исключительно хорошо относился к Борису Сергеевичу, — говорит кандидат технических наук К. Г. Евграфов, — да я и не могу назвать людей, которые бы явно плохо относились к Стечкину».
Константин Георгиевич Евграфов, тогда молодой инженер, был самым первым сотрудником, зачисленным в новую лабораторию — формально даже раньше самого Стечкина.
«Познакомился я с Борисом Сергеевичем или, вернее, рекомендован был ему его сестрой Александрой Сергеевной, — говорит К. Г. Евграфов. — Ее я знал давно — она была приятельницей нашего дома, так же, как и Федотовы, родственники актрисы, в семье которых воспитывалась Александра Сергеевна».
Стечкин встретил Евграфова такими словами:
— Вы, молодой человек, ни на какие диссертации, пожалуйста, не рассчитывайте, мпе нужно, чтобы человек работал.
«А у меня и в мыслях этого не было!» — говорит К. Г. Евграфов.
— Так что не рассчитывайте! — повторил Стечкин.
«А потом он много раз меня ругал, что у меня не сделана диссертация», — признается К. Г. Евграфов.
Зачисленный младшим научным сотрудником, Константин Георгиевич проработал со Стечкиным с 1951 по 1963 год. Сначала это была лаборатория лопаточных машин, лаборатория двигателей и, наконец, Институт двигателей Академии наук СССР. Принято считать, что Борис Сергеевич — крупный ученый, но человек, не очень-то умеющий заниматься организационными вопросами. Они сам говорил: «Я плохой организатор».
Это не совеем так. Сама его личность собирала хороших, полезных и деятельных людей, которые не нуждались в мелкой опеке. Организовывать научную работу он умел на высочайшем уровне. Но некоторые жизненные вопросы требовали не совсем обычной организации: снабжение и прочие подобные дела, в которых он был, действительно, не очень большой специалист.
Сотрудников было немного, все они занимались хозяйственными вопросами, и вот потребовалось что-то получить из Центракадемснаба. Евграфов с этим не справился и решил подключить тяжелую артиллерию — академика. «Мне даже неудобно к нему обращаться было, но он сразу согласился поехать. Я видел многих академиков — войдет: «Я академик такой-то!» Борис Сергеевич нигде не объявлялся, и мы с ним долго добирались до всяких руководителей, добиваясь своего». Он никогда не считал выполнение таких дел ниже своего достоинства. И это не игра, а внутреннее освещение человека.
... Основная задача, которую в первое время решала лаборатория, была направлена на обеспечение работы — создание стендовых установок для газодинамических исследований, экспериментальной и материальной базы. В дальнейшем начались работы, связанные с повышением нагрузки ступеней.
Но случилось большое несчастье — в 1953 году умер Евгений Алексеевич Чудаков. Стечкину предложили возглавить и ту часть работы, которую вел Чудаков, руководя лабораторией по исследованию поршневых двигателей. Сотрудники там были из академии и из НАМИ, работали в одном месте, а зарплату получали в разных организациях. Они занимались теорией автомобиля и ее экспериментальным подтверждением, автомобильными двигателями и специальными вопросами, которые вел И. Л. Варшавский. Стечкин взял на себя руководство автомобильной лабораторией Чудакова, чтобы вместе со своими сотрудниками создать самостоятельную лабораторию двигателей внутреннего сгорания. К тому времени в его лаборатории работало 8 человек, они объединились с сотрудниками Чудакова, которых было около 80, то есть в десять раз больше, и в десять раз меньше, чем будет к 1958 году. Объединились и вопросы, только небольшая их часть, чисто автомобильного характера, отошла в НАМИ. Все двигательные проблемы остались у Стечкина: и поршневые моторы, и лопаточные машины. Построили стенды для исследования турбин, занялись повышением экономичности и работоспособности поршневых двигателей.
Лаборатория выросла в Институт двигателей Академии наук СССР, Стечкин стал его директором. Поступали на работу молодые специалисты, несколько человек по запросу Стечкина взяли из его родного МВТУ. Вместе с ними пришел и Костя Соколов. В первый свой рабочий день он попал на семинар, где один кандидат наук делал сообщение по автомобильной тематике. Подготовился слабо, докладывал в общих чертах и на заданные вопросы ответить не смог.
— На этом, товарищи, мы закончим семинар, — сказал Стечкин. — Докладчик не подготовлен, а мы напрасно тратим время.
И больше этот кандидат не докладывал.
Какие требования он предъявлял к подчиненным в Институте двигателей? Дает задачу. Исходное уравнение сначала надо написать в общем виде, затем подставить в него все известные величины и без сокращений — скажем, если в числителе 100, а в знаменателе 10, так и оставить, чтоб было ясно, какие величины как влияют. Стечкин требовал, чтобы задача была завершена логическим образом. Не любил ответов наобум.
... Заслонка регулировала большой расход воздуха в компрессоре, во время работы полетела шпонка, заслонка перекрылась, компрессор перестал работать — наступил помпаж.
— В чем дело? — спросил Стечкин Соколова.
— Шпонка полетела.
— А вы ее считали?
— А что ее считать, Борис Сергеевич, обычная шпонка, поставили на глаз.
— Голубчик, вы окончили МВТУ — такой институт! А ставите нерассчитанную деталь...
С тех пор Соколов ни одного гвоздя просто так не забивал.
— Наше русское «авось» не раз подводило нас, — говорил Стечкин. И доставалось от него тем, кто пытался действовать по этому принципу.
... На установке для перекачивания жидкого калия при высокой температуре понадобился насос.
— Какой поставили? — спросил Стечкин.
— Центробежный.
— А это правильно?
— Всегда ставили центробежный.
Вскоре жидкость вскипела, и насос сорвало.
— А вы мне сказали наверняка и не подумав, — возмутился Стечкин.
И дело новое, и народ еще неопытный — не сразу строился институт.
... Долго монтировали стенд для испытания круговых решеток. Стали запускать компрессоры — не получается. Одна машина крутится нормально, другая — в обратную сторону. Два дня не могли понять, в чем дело. Нришел Стечкин, посмотрел.
— Вы тут извозчичьим способом работаете, потому у вас ничего и не выходит.
Обиделся Евграфов — не по существу говорит «Старик».
На другой день Стечкин идет к Евграфову. Сейчас скажет, дескать, погорячился, извини, мол... Нет, Стечкин с ходу стал решать вопрос о стенде и высказал свое предположение, в чем загвоздка. И не надо никаких объяснений — обида забылась. На стенде стояли два нагнетателя, приводимые в движение двумя моторами. На каждом нагнетателе есть лопатки, которые в свое время назывались «поворотными лопатками Стечкина—Поликовского». В тридцатые годы, когда работали над нагнетателями для поршневых моторов, чтобы повысить высотность, Стечкин предложил на входе компрессора ставить поворотные лопатки. На земле они прикрыты, на высоте открываются в зависимости от давления — когда-то это делалось вручную, потом поставили автомат. С этими лопатками будет немало историй. Управляли ими в лаборатории с помощью тросов, какими в авиации приводятся в действие рули. Сделали две тяги с системой рычагов и барабанов. Тяги получились длинные, как вожжи, и нужной четкости регулирования компрессора не давали. Пришлось от них отказаться и перейти на электрическую систему с моторчиком. Но во время испытаний произошел конфуз: в сети выключился и включился ток, а система была безынерционной и мгновенно остановилась.
— Поставьте снова свои вожжи! Вам нельзя давать в руки технику сложнее, чем извозчикам, — заключил Стечкин.
Пришлось установить прежнюю систему, и, лишь когда устранили все недостатки, Стечкин разрешил перейти на электричество. Ему хотелось, чтобы задача была выполнена в том виде, в каком задумана, а потом можно и усовершенствовать ее без метаний и путаницы. Правда, Соколов и Евграфов давно и сами отказались от вожжей и по совету Стечкина для гарантии подсоединили систему к 24-вольтовой батарее, чтобы в момент отключения сети срабатывал аккумуляторный буфер. И без Стечкина работали именно так, а вожжи долго еще висели рядом ша гвозде на всякий случай.
— Может, Борис Сергеевич еще вспомнит про них, — говорил Соколов.
— Наоборот, их нужно взять и порубить на куски! — сказал начальник установки Валентин Семенович Апенчеико.
Здесь он был самым давним знакомым Стечкина, работал с ним с 1927 года еще в винтомоторном отделе ЦАГИ, потом в конструкторском бюро ЦИАМа над созданием микулинского АМ-34, долго служил в армии и, демобилизовавшись полковником, в 1954 году вновь пришел на работу к Стечкину — теперь в Институт двигателей. Апенченко стал работать в газодинамической лаборатории института вместе с Евграфовым и Соколовым, потом пришли Рид Геннадьевич Попов, старый гирдовец Игорь Алексеевич Меркулов. Моисей Григорьевич Дубинский, переходили сотрудники микулинского КБ.
И сам Микулин стал работать в институте, принося пользу на новом месте.
До конца своих дней трудился в институте и Николай Романович Брилинг. Сохранилась фотография: Микулин, Брилинг и Стечкин сидят за столом. На этом снимке их называют «тремя охотниками», по известной картине Перова. Микулин что-то увлеченно рассказывает, наверно, с некоторым прибавлением деталей, Брилинг понимающе улыбается, а Стечкин терпеливо ждет своего момента и вот-вот готов одернуть Александра Александровича...
Сколько ученых, сколько молодежи выросло в институте, многие стали кандидатами наук, докторские диссертации защитили А. И. Михайлов, И. Л. Варшавский, К. И. Генкин и другие. Много было аспирантов, в том числе и иностранных. Один китаец, в свое время просивший показать ему лабораторию Стечкина, так и не поверил, что таковой еще не было у Бориса Сергеевича, — решил, что ему не доверяют.
И снова деятельность Стечкина не замыкалась в Институте двигателей. Он одновременно участвовал в работах других организаций: двигательных, самолетных, оборонных. Нередко его ученики помогали ему составлять заключения по работам, весьма далеким от тем института. Не только смежные науки знал этот человек. Никто из сотрудников не удивлялся, когда слышал от него нечто подобное: «Еду на защиту диссертации по оптике!» А по всем смежным областям он привлекал в свою организацию лучших специалистов страны. Его авторитет позволил создать такой Ученый совет нового института, в состав которого входили Туполев, Глушко, Микулин, Брилинг и многие другие весьма известные имена. Ему важно было использовать знания и талант этих людей.
Как руководил Стечкин таким большим коллективом лаборатории, а потом института, где он стал не только директором, но и фактически главным конструктором?
«Руководство его оценить невозможно, потому что это руководство было действительно его», — говорит В. С. Апенченко.
Рабочий день Стечкина начинался раньше всех в институте и был строго расписан. Конечно, директор мог уехать и приехать в любое время, когда ему нужно, но к работе он относился очень строго.
Стечкин знал всех своих людей, вплоть до механика. У него хватало времени и для того, чтобы дойти непосредственно до исполнителя и дать ему нужный совет.
— У вас такой-то отличился на работе, — говорит он начальнику отдела. — Вы мне его не зажимайте!
По пятницам собирались на Кировской у его сестры Александры Сергеевны. Приходила молодежь, родственники, племянники, внуки, сотрудники Бориса Сергеевича, а потом и друзья друзей. Беседовали на разные темы, иногда играли в «маджонку» — восточную игру, похожую на домино, но посложней и поазартней. Часто приезжали тульские Стечкины, постоянно здесь бывал муж Веры Коля Пахомов...
Как-то Николай Корнеевич не приехал на Кировскую.
— Коли-то нет! — сказал Евграфов. — Давайте съездим за ним!
— Поздно уже, — сказала Александра Сергеевна, — да и они сегодня с Верой у Бориса Сергеевича ночуют.
Кончилось тем, что в третьем часу ночи Евграфов сел за руль своей «Победы», друзья набились в машину, взяв с собой для авторитета Александру Сергеевну. Стали звонить по телефону, благо известно было, что аппарат стоит далеко от Стечкина. Разбудили Николая Корнеевича, тот быстро оделся, спустился, и компания, предводительствуемая Александрой Сергеевной, отправилась продолжать веселье. Под утро, только Евграфов развез всех по домам, — пора на работу. Приехал, а Стечкин уже ходит по коридору и громко спрашивает: «А что, Евграфова сегодня нету?» Борис Сергеевич особенно был строг к тем, кто не являлся на работу после вечеров и банкетов. Открывает двери, заглядывает в комнаты, подслеповато щурясь, смотрит по углам. Наконец увидел в коридоре:
— Вот он! Слушайте, Константин... э... Евграфович, — схватил он за рукав Евграфова.
— Георгиевич, — подсказал Евграфов.
— Простите, друг мой, забываю: есть Евграф Владимирович, конструктор моторов... Так это вы сегодня Кольку нашего украли? Верка дала нам! И «Батюшку» потащили с собой?
«Батюшкой» прозвали Александру Сергеевну — у нее была привычка всем говорить это слово. Стечкин подробно расспросил про вечер, посмеялся и отправился смотреть давление в аэродинамических трубах.
Газодинамическая лаборатория уже помещалась в трех комнатах переоборудованного помещения. В одной стояли двигатели, в другой — трубы, которые очень сильно шумели, и сотрудники переговаривались по слуховому устройству, в третьей комнате разместили пьезометрические щиты для замеров.
— Уж больно у нас шумно, друзья мои, — сказал Стечкин. — Ладно, я старый, глухой, но вы-то тоже подглохли! И соседи на наши трубы жалуются. Константин Георгиевич, взяли бы рассчитали шумоглушитель!
Новая установка значительно снизила шум в лаборатории. Стечкин сам ее проверял, помогал устанавливать, всюду лазил: и на чердак и на крышу, где разместили эту штуку.
В последние годы он стал носить слуховой аппарат, и сотрудники подсмеивались, подозревая, что Стечкин и без него неплохо слышит. И на то были основания. Ему, видимо, иногда нужна была пауза для обдумывания, и он говорил: «Друзья мои, я же плохо слышу, повторите, пожалуйста, еще разок!» А сам в это время думал. На одном семинаре при обсуждении важной проблемы Стечкин стоял у доски, ему задавали вопросы, и среди них был один такой, на который в то время ни один ученый не смог бы ответить. Воспользовавшись своим преимуществом, Стечкин переспросил, а потом тут же, у доски, сделал очень интересное предложение насчет сильно перегретого пара, которое вскоре было внедрено в практику. Зал онемел — все были потрясены, насколько быстро Стечкин сориентировался и буквально на ходу сделал открытие, казалось, близкое, понятное и рядом лежащее, а вот все проходили мимо и не замечали...
Молодежь склонна к критике. Некоторым сотрудникам стало казаться, что работа идет разрозненно — нет единства цели. Стечкин сделал доклад, где все, над чем работал институт, объединил в одну строгую логическую цепь.
«И в старости, — вспоминает К. К. Соколов, — говорил он логично, последовательно. Когда его слушаешь, кажется, что ты пришел на концерт любимого исполнителя. А ведь дело касалось сложных технических проблем, где без сухой математики не обойтись». Сотрудников по-прежнему потрясала быстрота его мышления. «Еще не осмыслишь предыдущее, а он уже ставит задачи на будущее, — вспоминает Б. Я. Черняк. — Работать было нелегко. Мысль за ним не успевала». Перед самой защитой аспиранта сделал оригинальное решение его задачи, но подпись свою ставить не стал, чтобы не ущемить аспиранта. Или на защите диссертации соискатель привел уравнение и сказал, что его, как известно, проинтегрировать нельзя, можно решить численным методом. Стечкин минут 15 поводил карандашом по бумаге и показал проинтегрированное уравнение...
Интуиция новатора...
И. А. Меркулов заведовал в институте отделом ионных двигателей. Стечкин заинтересовался новыми преобразователями энергии и вскоре говорил:
— Ну теперь я в этом деле буду понимать! — и стал помогать Меркулову.
Выделили день для докладов, и в огромный зал люди шли слушать Стечкина. Каждую неделю по полтора часа он читает в лаборатории лекции по газодинамике, магнитной динамике, термодинамике. Ученики его и сейчас нет-нет да и откроют тетрадку, где его лекции записывали. Уравнение Эйлера, классическое, известно каждому студенту технического вуза, однако не все его умеют применять на практике, такого порой нагородят, что до истины не добраться. Стечкин легко им оперировал, за буквами и значками, как и в любой другой формуле, прежде всего видел суть, физику. И многие удивлялись, как у него все просто и понятно выходит. Он на доске все начертит, хоть фотографируй, объяснит вплоть до производной, с азов можно начинать. И у слушателей создается четкое представление о предмете разговора, потому что он сам был человеком с очень четким обо всем представлением. Говорил немногословно, ибо все продумывал.
Очень ему не нравилось, когда посягали на классические уравнения газовой динамики, механики, термодинамики. Как-то в Институте двигателей академик Климов внес новый член в уравнение Эйлера, сначала в сложном математическом виде. Стечкин сразу же доказал, что это нелепость. И когда Дубинский тоже попытался внести добавление в написание уравнения Эйлера в случае с реактивным движением, Стечкин сразу предостерег: «Друг мой, такое уже бывало. Через некоторое время вы поймете, что неправы. Парижская академия наук с 1775 года не принимает заявок на изобретение вечного двигателя, даже не дает экспертизы, сразу в печь бросает».
Работающий со Стечкиным попадал в строгие рамки уравнений классики, и извольте отсюда танцевать. Если занесет в сторону, скажем, от уравнения энергии, он сразу поставит инженера на свое место: «Ваши теория и конструкция, любое усовершенствование должны быть проверены на машине. Машина не знает ваших философских и теоретических размышлений, и, если ваши предложения противоречат законам, машина их не воспримет и не буде г работать». Любимые слова Стечкина, которые он говорил многим, кто с ним трудился. Никакие титулы смутить его не могли. Прежде всего человек, а уважение к человеку у него было выше должностей и чинов. Эта черта тоже прошла сквозь всю его жизнь. У кого бы из больших начальников ни появлялся Стечкип, он мог взять с собой и своего заместителя, и рядового сотрудника — никакой иерархии не признавал. Считал, если человек занимается интересующим его вопросом, с этим человеком можно идти и в Совет Министров. Поэтому многим его сотрудникам приходилось бывать и у Первухина, и у Малышева, и у министров, и у президента Академии наук десятки раз. При этом он обязательно не преминет сказать высокому лицу: а вот аспирант такой-то ведет такие-то работы. Это очень характерно для Бориса Сергеевича, он давал возможность каждому чувствовать себя хозяином в обсуждаемом вопросе. И кто бы ни приезжал в лабораторию из другой организации, Стечкин всегда его знакомил с сотрудниками, и каждый чувствовал, что здесь с ним считаются. И никогда не останавливал человека, выслушивал внимательно до конца.
Молодому инженеру он поручил представлять институт на ответственном совещании в Ленинграде перед академиками и адмиралами. Такое поднимало людей.
Министр судостроительной промышленности СССР Иван Исидорович Носенко как-то спросил у И. Л. Варшавского:
— Почему Борис Сергеевич всегда приходит ко мне с целой свитой не профессоров, а простых инженеров?
— Наверно, потому, что он каждого из них хочет видеть профессором, — ответил Варшавский.
Министру объяснение понравилось — он сам был демократичен, сказал:
— Этого человека я полюблю! — И дал Варшавскому свой «тайный» телефон. — В любой час дня и ночи звоните по всем вопросам, касающимся ваших работ по подводным двигателям, я всегда вас буду принимать!
Так и было. Сохранилось немало документов института с прямой резолюцией министра. Таково воздействие Стечкина.
В институте он входил в одну из комнат, ставил стул у доски, садился.
— Ну, расскажите, какие у вас предложения, только поподробнее!
Слушал, потом думал, опустив голову и закрыв глаза. А идея была уже поймана. «Я покупаю! — говорил он об идее, если она ему нравилась. — Займемся вместе, не возражаете?» — говорил он рядовому сотруднику. Учил и сам учился. С ним можно было обсуждать любую проблему и спорить, не опасаясь, что это повлечет за собой изменение отношений. Только всегда он договаривался о терминологии: «Что мы будем понимать под этим названием? А то можно спорить, говоря об одном и том же разными словами».
Терпеть не мог показухи в науке, когда кто-то пытался за формулами скрыть непонимание вопроса или просто «пустить пыль в глаза» обилием нереальных проектов, пустого железа. Тут у него зрение было очень остро. Один сотрудник показывал фильм о гидродинамическом процессе и, чтобы произвести впечатление, одно и тоже явление повторил несколько раз. Никто не заметил, а Стечкин сразу обратил внимание: «Стойте, голубчик, покажите-ка мне еще раз этот кадр!»
Не все удавалось: на бумаге одно, в жизни получается по-иному. Составили планы, а стали осуществлять, получилось другое. Жизнь поправляла. В отчете о работе за 1955 год, представленном в отделении технических наук АН СССР, академик Б. С. Стечкин писал: «К сожалению, я должен сказать, что основная моя работа в 1955 году заключалась в том, что я директорствовал в лаборатории двигателей АН СССР».
В течение года пришлось перестроить и реорганизовать лабораторию и удалось открыть филиал. Полтора года оказались недостаточным сроком для организации лаборатории лопаточных машин.
Хотя он и начинает свой отчет словами «к сожалению», сказать, что у него поубавилось работы, нельзя.
С ним уже работало около 250 человек, которые занимались новыми проблемами. А он, создавший теорию реактивного двигателя и осевого компрессора, продолжал обращаться и к поршневым моторам, как будто ему не давало покоя то, с чего он начинал свою научную жизнь.
Поршневые двигатели постепенно сходят с вооружения в авиации, а теория их еще до сих пор не разработана, говорил оп.
Дизелями он меньше занимался, был ярым бензинщиком, карбюраторные двигатели — первая любовь, и в институте он завел для них несколько стендов, а в последние годы жизни написал статью об определении индикаторного КПД поршневого двигателя. Однако и в дизельной тематике в институте продолжалась работа по совершенствованию экспериментального двигателя H. Р. Брилинга — переводили мотор на новый рабочий процесс с применением перекиси водорода по циклу Чудакова — Варшавского.
Строились две трубы: маленькая плоская на значительные давления и большая круглая на малые давления и большой расход воздуха. К. А. Шарапов сконструировал для труб компрессор, переделав несколько ступеней из нагнетателя от микулинского мотора АМ-5. Стечкин тщательно проверил конструкцию и все детали, присланные с разных заводов, а большую трубу, сделанную из газовых труб метрового диаметра и длиной 20 метров, заставил довести чуть ли не до полированного блеска внутри и еще провести шпаклевку.
— Какая она снаружи, мне все равно, пусть хоть ржавой будет, хотя не рекомендую, — сказал.
Отполировали внутреннюю шпаклевку и покрылп эмалью. Так ржавые трубы, которые обычно валяются на стройках и в канавах, были доведены до зеркального блеска. Соединения их сделали так, чтобы потери на трение были минимальными. Стечкин заставил очень тщательно изготовить приборы для замеров давления, и такая придирчивость дала свои результаты: доводки почти не было.
Ведь некоторые изобретения в технике делаются довольно быстро, но требуются годы, пока они дойдут до нужного уровня. Здесь же больше времени затрачивали на продумывание, конструирование и отделку, чтобы меньше заниматься доводкой. Сотрудники относили это за счет повышенной требовательности Стечкина. Некоторые из них считают, что Стечкин-инженер отвлекал Стечкина-ученого от решения важных теоретических проблем. Так ли это? Послушаем разные мнения.
«Железки его интересовали больше, чем теория. Она ему нужна была только как средство, — говорит профессор М. М. Масленников. — Когда в железке возникала какая-нибудь проблема, он и решал ее для этой железки, а дальше его не интересовала судьба этого решения. Сделал, и все. Еще в винтомоторном отделе ЦАГИ, когда мы, пусть не на очень высоком уровне, пытались создать еще не двигатели, а только их элементы, уже тогда у него было стремление заниматься именно инженерными задачами».
«Он все время тяготел к технике, — говорит Г. Л. Лившиц. — А склад ума у него был аналитический, и, если бы он пошел по чистой теории, я считаю, что он мог бы достичь значительно большего, хотя достиг многого, если бы он отрешился от непосредственно технических задач, которые изобилуют мелочами, отнимают много времени и сил. Я считаю, что он своих данных не использовал. Он скорее был инженером высшего ранга, чем ученым высшего ранга. А я считаю, что он должен был стать ученым-теоретиком — у него очень ясная голова была».
«Он, конечно, больше ученый, чем инженер, — говорит Д. Д. Севрук. — У инженера другая хватка должна быть. Он понимал, как пужно доводить дело до инженерных решений, но все-таки этого делать не умел».
«Он был очень целенаправленным ученым, — вспоминает Б. Я. Черняк. — Ставил задачи от техники. Были случаи, когда он открывал открытое, не зная о существующем решении задачи, давал свой метод:
— Если б я знал, что это уже сделано, я бы не занимался. — Но его методы всегда были оригинальны».
«Что такое ученый и что такое инженер? — рассуждает В. В. Уваров. — Ученый — это, по-видимому, такой человек, который открывает какие-то новые направления или явления, а инженер — человек, умеющий прилагать известные вещи к разным новым конструкциям в практике. С точки зрения науки, я не знаю у Стечкина таких очень уж кардинальных работ, может, кроме работы о распространении выводов Жуковского относительно реактивного движения на сжимаемую среду, и сказать, что это новое открытие, я бы воздержался. Но что он был блестящий инженер — бесспорно. Любой инженер усвоил первый закон термодинамики, но когда вы ему дадите простейшую задачку, связанную с уравнением этого закона, то он не знает, куда какую величину поставить и вообще куда деваться. Стечкин здесь никогда не ошибался».
Обширность взглядов Бориса Сергеевича В. В. Уваров иллюстрирует таким случаем. Стечкин занимался двигателем, у которого поршни движутся навстречу друг другу, а на других концах этих поршней имеются компрессорные поршни, подающие воздух в этот же цилиндр. Продукты сгорания из него под повышенным давлением поступают на лопатки рабочего колеса турбины, то есть поршневой двигатель становится газогенератором для турбины. Профессор Мазинг, привыкший к определенному методу теплового расчета двигателей внутреннего сгорания, задает Стечкину вопрос:
— А скажите, с каким показателем политропы вы тут считали?
— Юрий Георгиевич, а я вообще без него обошелся!
«Именно умение применять настоящую термодинамику не стандартным образом характеризовало его, тут ему надо отдать должное. Стечкин больше инженер, чем ученый, — заключает В. В. Уваров. — Он умел и руками поработать, эксперименты ставить. Помешала ли ему инженерная деятельность? Для науки — да. Если по-честному говорить, то по линии квалификации я ему уступал, по инженерной линии, что ли... Ну и как ученый тоже. Какой я ученый? По турбинам, может, тоже сооб ражал, но но двигателям меньше, мало занимался ими».
Остается добавить, что Б. С. Стечкин и В. В. Уваров — крупнейшие турбинисты мира. По научным проблемам взгляды у них нередко были противоположные, и Бориг Сергеевич не раз спорил с Владимиром Васильевичем, человеком ершистым, но высоко ценил его как ученого.
Другого мнения профессор Г. С. Скубачевский: «Борис Сергеевич был ученым в полном смысле этого слова, по тому что умел из груды материала выбирать самое новое, самое интересное. Считаю, что инженерная деятельность не только не мешала ему, но и давала новые мысли, которые сами вряд ли бы пришли в голову. Не правы те, кто считает Стечкина больше инженером, чем ученым. Достаточно назвать статью 1929 года — это же просто переворот, начало развития бескомпрессорных прямоточных двигателей. Инженерная практика помогала ему, дополняя теорию — из пальца ведь ничего не высосешь! Он не зря убивал время на практические инженерные вопросы».
В тридцатые годы в МАИ Скубачевский стал ассистентом Стечкина. Стечкин сразу предложил ему составить и решить четыре задачи по расчету компрессора. Ассистент справился со всеми задачами, кроме задачи по диффузору. Он разделил диффузор на части и наблюдал за давлением. Оно сначала росло, а потом падало, а должен быть непрерывный рост.
Стечкин посмотрел:
— Так не бывает!
— Я знаю, но это происходит потому, что мы берем коэффициент потерь, отнесенный ко входной скорости, но за счет конструкции диффузора потери могут быть разные, — ответил Скубачевский.
— А как нужно?
— Нужно брать коэффициент к истинной скорости, чтобы учесть потери по всей длине диффузора.
— Вы правы! Вот вам и аспирантская работа, — заключил Стечкин. Он посоветовал сделать жестяные модельки трех расширяющихся труб круглого, квадратного и плоского сечения и в определенных местах просверлить отверстия для измерения давления. С этими трубами поехали в академию имени Жуковского — своего оборудования еще маловато было, все только зарождалось. В академии прикрепили модели к воздуходувке и стали испытывать.
Скубачевский вышел покурить, к нему подходит Александр Евгеньевич Заикин, тоже ученик Стечкина, спрашивает:
— Чего загрустили?
— Борис Сергеевич работать не дает. Все делает сам. Изменение режима — он, запись давления — он, а я лишний.
— Ну что вы! Радуйтесь, что он такое участие принимает — через день-два он вас забудет!
Работа была выполнена всего за пять месяцев, и в мае 1934 года Скубачевский защитился. Официальными оппонентами были В. И. Дмитриевский и В. И. Поликовский. В «Технике воздушного флота» поместили статью. Ее не раз переводили за рубежом. Вся постановка научного исследования, проблематики велась под руководством Бориса Сергеевича. Это проявлялось и в его беседах с аспирантами, и на заседаниях кафедры и Ученого совета МАИ, где Стечкин вдруг высказывал новую мысль...
Когда он вернулся в МАИ в 1944 году, там от него, как ни странно, впервые услышали, как рассчитывать зубья шестерен. Были и до нею расчеты, но техника менялась, стали огромными окружные скорости, скорости скольжения, нужно было учитывать и подогрев и количество смазки, от которого зависят гидравлические помехи. Он очень интересовался двигателем М-250 конструкции Г. С. Скубачевского — В. А. Добрынина, самым мощным по тем временам, который был сделан до войны и 22 июня 1941 года находился на стенде. В серию его запустить не успели, а потом стали делать то, что срочно нужно фронту. После войны этот существенно модифицированный двигатель поставили на туполевский бомбардировщик, который тоже не пошел в серию из-за того, что началась эпоха реактивных двигателей. А Стечкин интересовался давлением наддува, мощностью на приводе нагнетателя, какие винты — один или два? Если на такой мотор поставить один винт, то он будет чудовищного диаметра, что потребует очень высокие шасси. И хотя двигатель не пошел в серию, Борис Сергеевич сказал:
— Я очень доволен вашей работой и поздравляю вас с хорошим мотором.
Когда он был заместителем Микулина и они построили двигатель для первого тяжелого реактивного самолета с тягой 8750 килограммов, многие спрашивали: зачем такая тяга? Кому она нужна? А вскоре оказалось, что она даже мала. И АМ-3 увеличил тягу — у его модификации РД-ЗМ тяга стала 9650 килограммов.
Дмитрий Васильевич Хронин, принимавший участие в создании двигателя М-250, добавляет: Борис Сергеевич и сам тяготел к инженерной деятельности. Ведь он потом взял на себя Институт двигателей — колоссальный труд и ответственность. Человек, склонный только к теоретической работе, так бы и сидел над своими трудами.
Профессор Алексей Федорович Гуров, тоже много лет знавший Стечкина, говорит: «Талантливейший, я бы сказал, всеобъемлющий человек в области двигателестроения, прозорливый. Ведь его работа по теории ВРД была как взрыв бомбы — делали только поршневые двигатели, и, кстати, он сам консультировал создателей».
Он тем и отличался от обычного, стандартного, каким мы привыкли видеть, ученого, что все время работал непосредственно с живой жизнью, в КБ, в коллективах, с чертежом, с машиной. Уметь видеть в чертеже живое изделие не каждому дано.
«— Что главное в Стечкине? Это настоящий ученый. В нем прежде всего чувствовался ученый, — говорит В. П. Глушко.
— Больше теоретик, чем конструктор?
— Видите ли, нельзя сказать, что он больше теоретик. Он создал теорию и тем сразу вписал себя в ряды крупных ученых, но он, я бы сказал, больше внимания уделял экспериментированию, и в этом отношении у него можно было и поучиться. Так что здесь был скорее всего именно такой сплав этих двух качеств, который позволил ему на очень высоком уровне разрабатывать конструкции. Но он больше увлекался — и это естественно для ученого — экспериментированием для выяснения принципиальных вопросов и возможностей конструкций, выполненных по различным схемам. Сам он не был конструктором, но его союз с главными конструкторами Микулиным, Туманским был плодотворен. Борис Сергеевич своей деятельностью и знаниями дополнял работу и тех конструкторов, которые увлекались практицизмом».
Сам Стечкин писал в 1961 году, что его научную деятельность можно разделить на два периода: первый, до 1943 года, в основном посвящен научно-исследовательской и педагогической работе, и второй, после 1943 года, когда стала преобладать инженерная, научно-техническая работа.
... Он любил говорить: «Я инженер-механик» — и был блестящим математиком.
Он любил говорить: «Наука мне мешает изобретать», — в том смысле, что любое техническое предложение он подвергал жесточайшему всестороннему научному анализу на основании всех существующих законов и нередко без дальнейших разработок доказывал абсурдность или нецелесообразность изобретения, иногда и своего собственного. «Наука мне мешает изобретать» — было очень важным в его работе. Он был и теоретиком и конструктором одновременно, так же как инженером и летчиком, шофером и аэросанщиком... Стечкин был сплавом драгоценных качеств природы, дарованных человеку. Он был слишком темпераментный человек, слишком увлекающийся, у него много идей, требующих дальнейшей разработки, но настоящего помощника, который подхватывал бы их и разрабатывал, не было.
Казалось бы, нет фундаментального собрания трудов, а влияние огромно. Что такое Стечкин? Что это за человек? Можно иметь светлую голову, быть личностью и не сыграть заметной роли в своем труде. Дело, пожалуй, не только в стечкинских открытиях, его инженерных и педагогических достижениях. Он был как бы «кристаллизационным центром» нашего авиационного моторостроения, к нему отовсюду стремились одаренные молодые специалисты, и вокруг него, закоперщика идей, сложилось мощное, серьезное, государственное дело. Всю свою жизнь он искал и находил области приложения своего редкого дара быть кристаллизационным центром всего передового в науке и технике.
В Институт двигателей приходили новые люди, которые стали расширять тематику в области новых исследований. Потребовались новые штаты, лаборатории, народу за тысячу человек перевалило. Организовали несколько филиалов. Стечкина давно интересовали подводные двигатели. Еще в 1947 году он поддержал новый мотор для подводных лодок, работающий на перекиси водорода, предложенный академиком Е. А. Чудаковым и инженером И. Л. Варшавским. Некоторые ученые тогда высказались против. Стечкин выслушал все мнения и пригласил к себе Варшавского, которого знал с 1945 года — он работал начальником отдела ЖРД в институте Академии артиллерийских наук. Действительный член этой академии Б. С. Стечкин, консультировавший ЖРДистов, сказал Варшавскому:
— Делайте свой двигатель, он будет работать!
Мотор построили, но с первым же опытным образцом произошла неприятность: во время испытаний он взорвался. Конструкторов вызвал И. В. Сталин.
— Сколько вам нужно времени, товарищ Чудаков, чтобы сделать новый двигатель? — спросил он.
— Шесть месяцев, — поспешил ответить один из министров.
— А побыстрее никак нельзя? — спросил Сталин.
— Никак не получится.
— Даю вам две недели.
И новый двигатель через две недели был полностью готов и испытан. Работы по нему консультировал Стечкин.
В начале пятидесятых годов в лаборатории Чудакова занялись созданием двигателей на гидрореагирующих веществах для Военно-Морского Флота. После смерти Евгения Алексеевича эти работы продолжил профессор Варшавский. Стечкин с самого начала увидел большое будущее за новыми двигателями и много занимался ими вопреки сопротивлению многих. Он написал официальное письмо в ЦК КПСС и Совег Министров СССР не просто в защиту этих разработок, а о необходимости их максимального развития для обороны страны. Состоялось заседание Совета Министров СССР, на котором Стечкин выступил очень обстоятельно, и его поддержали Малышев, Первухин, Тевосян. Стечкину выделили помещение и средства. Во вновь созданном филиале подобралась в основном молодежь, окончившая авиационные, судостроительные, двигательные вузы. Стали строить двигатели, которые под водой, без воздуха работали па горящих в воде веществах. Прогноз Стечкина оправдался.
В филиале, директором которого был И. Л. Варшавский, построили уникальные цехи и испытательную станцию. Здесь Стечкин вел теоретические и практические разработки двигателей для морского флота, создавал теорию турбовинта для судов. Он по-прежнему сам любил постоять за пультом испытаний. Когда доводили двигатели для подводных лодок, становился за пульт вместо механика и вел все испытания, даже если они были многочасовые.
Там однажды он сильно заболел. Нельзя было двигаться, нельзя даже было перевезти его в больницу. Он около месяца жил на квартире у Варшавского, а когда стал поправляться, попросил, чтобы к нему приходили сотрудники, и он часами беседовал с ними, рассказывая методику исследований, советовался. При этом все помнили, что он не признает беседы без спора. Приходит к нему молодой специалист, и Стечкин сразу говорит ему: «Ваши формулы все неправильные». Тот начинает доказывать, а Стечкин входил тем временем в курс дела.
В Москве Соколов, в Киеве Геращенко, в Кишиневе Левин — все его ученики вспоминают, как по 4–5 часов, стоя у доски, спорили со Стечкиным. Вспоминают, как о золотом времени в своей жизни.
Три дня в отделении Института двигателей обсуждался новый принцип гидрореактивного движения. Основным докладчиком был ныне доктор наук Вениамин Андреевич Башкатов. В дискуссии, которой руководил Стечкин, участвовало много научных работников, инженеров, студентов. Каждый должен высказать свою точку зрения без всякого нажима. Длительная дискуссия окончилась для всех неожиданно. Борис Сергеевич не сделал никакого вывода и сказал:
— Мы обменялись мнениями, и каждый должен проводить свою линию, потому что наука эта новая, ее нужно развивать, а через некоторое время мы увидим, чья линия окажется правильной.
Иной раз, когда замечал неверную тенденцию в науке, давал ей определенное название — часто по имени автора. Но на него не обижались, ибо и он не обижался, когда ему правду в глаза говорили. Стечкин очень не любил, когда в его присутствии сваливали свои неудачи по работе на другого:
— Вы, голубчик, отвечайте только за себя!
Если работа не удавалась, он обычно говорил: «Наше дело по нулю!» — любимая его поговорка. Скажет «по нулю!» — значит, дальше не стоит этим и заниматься. Или еще: «Это не опасно ни для науки, ни для техники и никакого переворота не сделает!» Он не был догматиком, и ссылки на него были опасны. «Вы на меня не ссылайтесь, — говорил он. — Я хозяин своего слова: я его дал, я его и взял!» Это не значило, что ему нельзя было верить, утверждение касалось научных вопросов. Когда выяснялось, что его довод не соответствует истине или опровергнут последующими работами, он его снимал, и все ссылки на его авторитет никому не помогали.
В филиале он занимался не только математикой, термодинамикой и техникой. Здесь при исследовании новых принципов реактивного движения на гидрореагирующих веществах велось немало работ с химическим уклоном. Через несколько дней занятий в химической лаборатории он разговаривал с ее сотрудниками как старый химик, заметив при этом: «Но ведь химией я имею право заниматься: жена у меня все-таки Шилова!»
Старик, он не стеснялся учиться азам химических наук — прежде ему не приходилось заниматься этими разделами химии.
Конструкторы-подводники рассказывали: дня три у них походил, посмотрел, потом дал рекомендации по турбинам, и сразу дела пошли. Все, что он подсказал, проверили, и все двигатели работали отменно.
В командировки Стечкин любил ездить на машине.
И в преклонном возрасте несколько раз обследовал объекты, проводил по 1200 километров за рулем. В дороге случались курьезы. Гостиницы у нас, как всегда, забиты, и даже для академика порой места нету: «Сегодня мы принимаем велосипедистов — все занято!»
Стечкин с юмором встречал такие отказы, кое-как устраивался и продолжал ездить в командировки.
На любой остановке принимали его за обыкновенного туриста или шофера. А он и не хотел большего.
Приехал в Калининград в лыжном костюме — в ресторан не пускают. Или в зону отдыха явился с аспирантом, а вахтер неумолим. Кто аспирант? Аспиранту можно!
Стечкина принимали как родного директора заводов и институтов — он всегда был желанным гостем у них и в кабинетах, и в домашней обстановке, легко находил общий язык с партийными и государственными работниками...
Последние два десятилетия жизни Бориса Сергеевича были не только годами большого творческого подъема, но и периодом всеобщего признания. У Бориса Сергеевича от этого не появилось ни тени зазнайства, самовлюбленности и самоуспокоенности. Он по-прежнему напряженно трудился, искал. В нем не стало меньше простоты, общительности и того человеческого обаяния, за которое он снискал всеобщую любовь и уважение.
В 1957 году он переехал в квартиру по Ленинскому проспекту в доме № 13. Грустно стало расставаться с родным Кривоникольским, где прожита жизнь. На новую квартиру переезжали без особой радости. Ирина Николаевна плохо переносила лифт, а Борис Сергеевич был немного суеверен и боялся, что на новом месте что-то обязательно случится.
Предчувствие его не обмануло. Вскоре не стало Ирины Николаевны. Стечкин в то время был в Китае. В послевоенные годы он несколько раз бывал в зарубежных командировках. Поездки эти были связаны в основном с выполнением заказов на оборудование и техническим развитием этих стран. В зарубежных статьях его называли «богом моторов».
В сентябре 1958 года он поехал в Китайскую Народную Республику для оказания помощи лаборатории энергетики Академии наук. Советский народ, едва оправившись от последствий войны, помогал строить новую жизнь своему восточному соседу. Сотни наших специалистов: инженеров, врачей, летчиков, строителей — работали в Китае. И наверное, немногим из них тогда могло прийти в голову, что очень скоро дружба будет омрачена последующими событиями. К таким немногим относился Стечкин. Он постоянно интересовался Китаем и придавал очень большое значение нашим взаимоотношейиям с этой великой страной. В Китае он встречался с Мао Цзэ-дуном и потом вспоминал, что к Мао все подходпли здороваться цепочкой, как к императору. Стечкин всегда ратовал за хорошие отношения с Китаем, но после поездки, где нашу делегацию тогда приняли очень хорошо, все-таки многое его уже тогда насторожило.
Сохранилось его письмо к жене, написанное в конце сентября: «Ирина! Долетели благополучно. В Омске задержали нас на час — Иркутск не принимал ввиду тумана с Ангары. Первое впечатление неописуемо. Видели храм неба и проч. Два дня все празднуем и банкетируем — так будет до 3-го числа. Погода прекрасная, кухня сомнительная (китайская). Привет всем. Целую, Б. Стечкин». На обороте карандашом, видимо, уже 1 октября: «Сегодня видел парад — весьма красиво и величественно. Имел первый самостоятельный разговор в ресторане. Китаянка, подающая, дала мне сдачу какой-то мелочью. Я спросил: «Му?» Она ответила: «У». Мы поняли друг друга».
Это его последнее письмо к жене. Ирина Николаевна умерла неожиданно, в возрасте 60 лет. Ничем не болела. На даче наклонилась к четырехмесячному внуку, сыну Ирины, — инсульт, и в два дня ее не стало.
Из Президиума АН СССР позвонили в наше посольство в Пекине, вызвали заместителя Стечкина — Анатолия Павловича Хмельницкого и попросили, не говоря правды, помочь Борису Сергеевичу поскорее вернуться. Хмельницкий отдал Стечкину свой билет на самолет, и Борис Сергеевич на неделю раньше вылетел из Пекина. Позвонил из Иркутска:
— Жива?
— Жива, — ответили из дому.
— Рак горла? (Ирина Николаевна много курила.)
— Нет.
Он почувствовал правду...
В Москве на аэродроме его встретили дети и старый друг семьи Мария Федоровна Курчевская. Стечкин вышел из самолета и сдержанно, спокойно спросил:
— Ну что, все кончено?
— Да, — заплакала Ира.
Он ничего не сказал, пошел рядом, как всегда, размеренно, и стал рассказывать о поездке, о Китае, как будто дома ничего не случилось.
Таким же он был и на похоронах. И только те, кто знал его очень близко, видели, как ему тяжело. «Он очень переживал эту трагедию, — говорит С. К. Туманский. — Стоял у гроба замкнутый, не демонстрируя горя, даже слезы не вытекло, хотя чувствовалось, что страдал он очень сильно».
Сорок лет прожито вместе. И все сорок лет Ирина Николаевна оставалась для него молодой и красивой.
Через несколько дцей он узнает, что самолет, на котором он должен был возвращаться домой со всей делегацией, разбился, все пассажиры погибли. Погиб и А. П. Хмельницкий. «Жена всю жизнь оберегала Бориса Сергеевича и даже своей смертью спасла», — говорили Друзья.
Все заботы о нем взяла на себя Александра Сергеевна. Она очень любила своего младшего брата Борюшку, на четыре года он ее моложе, а ухаживала за ним, как за ребенком, до самой своей смерти в ноябре 1963 года. Заболеет он, Александра Сергеевна дни и ночи возле него дежурит. Первое время после смерти Ирины Николаевны она даже в командировку его одного не отпускала. Смерть тети Шуры, как называли ее домашние, была еще одним большим ударом для Стечкина.
Пока жила Александра Сергеевна, всюду он бывал вместе с ней. Иной раз она делала вид, что капризничает:
— Ну, Борька, давай поедем в Москву...
— Сестра, а может, что-то другое предпримем?
И что-то предпринимали. Зимой идут по Абрамцеву — она в меховом пиджаке, подаренном братом Яковом, маленькая старушка, а он высокий, седой, очень смешно одетый, идут и рассуждают — брат и сестра...
Александра Сергеевна была простым финансовым работником, но образованна, много читала. Очень живая была, всегда вокруг нее люди, молодежь. Было у нее увлечение: коллекционировала этикетки от спичечных коробков, несколько тысяч собрала, переписывалась с зарубежными коллегами. Муж у нее умер, жила одна и на лето перебиралась к брату на дачу в Абрамцево.
Это была казенная академическая дача. Он арендовал ее с 1963 года. Ездил туда зимой и летом и только в 1968 году, когда стало неважно со здоровьем, отказался от дачи. Половина последних его работ, можно сказать основные из них, написаны в Абрамцеве.
Хорошо там было! Тетя Шура разбила цветник, посадила елочки, Борис Сергеевич соорудил турник... Он по-прежнему любил, чтобы собирались вместе все дети и внуки, пытался приобщить их к спорту. Внучек своих обожал, особенно дочь Веры Олю. (Не стали называть Ириной, чтоб путаницы не было.) По-прежнему у Стечкиных много народу: и молодежи, и тех, кого хозяин знает уже полвека. По-прежнему люди ходят к нему с просьбами, за советами или просто денег занять. Стечкин никому не отказывал. Была у него такая черта: если давал деньги взаймы, то не надеялся получить их назад. «Самое простое и спокойное дело, — говорил он, — просят взаймы, дай и считай, что ты отдаешь навсегда. Так нужно решить для себя, и будешь спокойно жить».
В Абрамцеве появилась странная женщина, которую за какие-то дела уволили из академической библиотеки. Она стучалась к академикам, брала деньги взаймы и не отдавала. Пришла и к Стечкиным, где о ней уже были наслышаны. Однако Борис Сергеевич дал ей пятьдесят рублей. «Зачем вы это сделали, — говорили ему потом знакомые, — вы же знаете, кто она такая!» — «Пожилая женщина просит взаймы, проще все-таки дать, чем что-то говорить», — ответил Стечкин.
В Абрамцеве у него появилось новое увлечение — стрельба по тарелочкам. Он даже две машинки приобрел, чтобы пластмассовые тарелочки вылетали неожиданно с двух сторон. Компанию ему составляли Архип Михайлович Люлька и Глеб Семенович Скубачевский. Снова у Стечкиных стреляют! — ходили по дачам ужасные слухи. Упорный и азартный во всем, за что ни возьмется, Стечкин и здесь стремился к совершенству. Он занялся стендовой стрельбой и стал ездить на платформу Северянин, где у нею появились новые друзья — охотники, стрелки-спортсмены. Далеко не дилетантски подошел к новому занятию пожилой академик. И отличное ружье приобрел для стендовой стрельбы. «Он любил хорошее охотничье оснащение, не в смысле отделки, а качества, знал все клейма и системы, — говорит его племянник, конструктор оружия И. Я. Стечкин. — Попросил он меня схлопотан, ему хорошее двуствольное ружье для стендовой стрельбы». Стрельба эта ведется с небольшой дистанции, и потому ружье нужно особое — с короткими стволами, с поддувом газов в дробь, отчего получается большая площадь поражения. В таком ружье имеется специальное устройство, чтобы в дульную часть газы шли с опережением дроби, и дробь, вылетая из ствола с дополнительным, как бы внутренним, давлением, начинает быстро разлетаться.
Надо сказать, Игорь Яковлевич не раз обращался к Борису Сергеевичу за консультацией по техническим вопросам и в каждую из московских поездок обязательно заезжал к дяде — добыть нужные материалы или наладить с кем-нибудь связи в столице. «Человек он был очень занятой, — продолжает И. Я. Стечкин, — застать дома его было нелегко. А придет утомленный, измученный, старается уединиться в свою комнату. И все-таки хоть немного, но поговорим. Он обязательно расспросит о моей жизни, я же допытываться о его делах считал нетактичным не только потому, что он человек старшего поколения, но и потому, что считал всегда и его, и своего отца людьми несравненно выше меня. Может, и не совсем правильно я поступал, но старался не расспрашивать». Стечкин же сам делился своими открытиями.
Как-то он говорит Игорю Яковлевичу:
— Ты знаешь, я изобрел морилку для клопов — у вас ведь их полно!
Изобретение состояло из трубы с электрической спиралью. На конце трубы моторчик и тонкое выходное отверстие, сквозь которое продувается горячий 150-градусный воздух. Его-то, а не пар, как обычно, от которого обои и мебель портятся, и направляют на несчастных клопов.
— Ты, Игорь, пока об этом никому не говори, — таинственно сказал Стечкин, — я запатентую эту штуку!
— Думаю, что это он патентовать не стал, — со смехом говорит его сын Сергей Борисович.
— А что ты смеешься, — говорит Игорь Яковлевич, — сейчас по такому же принципу сделан паяльник для сварки пластмасс, которые плавятся при 120 градусах!
И конечно, очень любил Стечкин поговорить с племянником о стрелковом оружии, отечественном и зарубежном — чешском, немецком, бельгийском, американском... Были разговоры и по «пистолету Стечкина», о создании которого в народе ходят легенды. Говорят, будто дядя и племянник вместе испытывали пистолет, положили его в речку на неделю, а потом достали и стреляли.
— Я очень боюсь выдумок, — улыбается Игорь Яковлевич. — Вот в одном журнале как-то про меня наврали... Борис Сергеевич не имел прямого отношения к моему пистолету, но вдохновлял меня духовно, много помогал, и я стольким ему обязан! Оружие он любил. Охотничьи ножи у него отличные были, финский и американский кинжалы, ну и ружья прекрасные...
После смерти отца Ирина Борисовна подарила его стендовое ружье товарищу по охоте, Константину Константиновичу Соколову. «Охота имела в его жизни большое значение», — говорит К. К. Соколов.
Во всем отличаясь широким размахом, Стечкин перед охотой не позволял никому и копейки истратить. Закупал еды всякой, вез ящик коньяку и водки, а для хозяек в охотничьих домах — роскошные коробки конфет. Для всех был праздник, когда он ехал на охоту, особенно сияли егеря, садясь с ним ужинать.
Любил весеннюю тягу. Вальдшнеп тянет обычно вечером, часиков в восемь, вдоль опушек, когда солнце только зашло и природа отходит, остывает. Тихо, лишь ручеек журчит. Стечкин уже совсем плохо видит, да и слышит неважно, и потому просит Соколова:
— Голубчик, постойте со мной рядышком!
Здесь же и Загит Салахович Хакимов, дружба с которым началась в Казани. Он потом добился перевода в Москву, чтобы опять работать со Стечкиным. С его помощью окончил академию имени Жуковского. Человек исключительной порядочности, Хакимов был безмерно предан Борису Сергеевичу до последних дней его жизни.
Охотничью компанию часто дополнял и Сергей Константинович Туманский. Настреляют всего, и Хакимов старается все лучшее Стечкину выделить. А Стечкин говорит: «Загит Салахович, вы мне, голубчик, уступите, пожалуйста, вон того красивого селезня, а я вам что-нибудь другое. А то куда мне столько, все равно раздам». И обычно выбирал себе самую маленькую птичку. Как и в молодости, он оставался охотником тургеневско-аксаковского типа — не из тех, что стремятся кучу трофеев наколотить. Потому и охотился он в удивительно красивых местах Подмосковья, в Рязанской и Калужской областях. Любил весной, когда оживает лес и поют птицы, поохотиться на родине Есенина. Подъезжали к опушке, выходили из машины, собирали ружья и в приподнятом настроении минут десять-пятнадцать добирались лесом до места охоты. Стечкин только в лес войдет, сразу тарзаньим криком огласит окрестность: «О-го-го! О-го!» — как бы изливая свой восторг и накопленное желание охоты.
Стоял он как-то на тяге с Соколовым, и вдруг выскочил прямо на них зайчишка и сел напротив, от страха сдвинуться не может. Запросто снять его можно!
— Нет, мы его оставим жить, — сказал Стечкин, — мы же только вальдшнепа пришли стрелять.
В последние годы он ездил отдыхать в Узкое, в санаторий Академии наук. Поехал весной, а в середине апреля тягу объявляют. Но в Узком академик Стечкин под строгим надзором врачей — ни шагу из санатория.
— Голубчик, — звонит он в Москву Соколову, — возьмите мое ружье, одежду, приезжайте ко мне пораньше, я выйду как будто погулять, а вы потихоньку подъезжайте к церкви, я к вам в машину, и поехали!
Так и сделали. Операция удалась. Соколов приехал еще с одним товарищем, и втроем укатили на тягу, километров за 70 от Москвы. Пробыли целый день, подстрелили вальдшнепа, назад часов в одиннадцать вечера возвращались. А такой густой туман упал на дорогу — в трех шагах как в молоке. Соколов за рулем, его приятель идет впереди машины — прокладывает путь. Стечкин высовывается из окна:
— Голубчик, неужели вы там что-нибудь видите?
С большим трудом во втором часу ночи добрались до Узкого. Академику, конечно, влетело по первое число, но через день он снова звонил Соколову:
— Знаете, друг мой, приезжайте...
Обычно Стечкин сам садился за руль, а в машине Соколова, нахохлившись, прислушивался к мотору:
— У вас что-то стучит, голубчик!
Знаток поршневых двигателей, он никому не разрешал трогать свою машину и не доверял ее никому — все делал сам.
Любил, когда с ним советовались по машине:
— Борис Сергеевич, двигатель после запуска стоит греть?
— Друг мой, если хотите сохранить машину, обязательно грейте! — Любил, чтоб наука технике служила.
Как-то Борис Сергеевич раздобыл разрешение поохотиться на Московском море, в Завидовском хозяйстве. Огромное водохранилище, Иваньковская ГЭС, запруда — места дивные. Прежде был помещичий дом — приспособили под охотничью станцию. Берега заросли камышом, а середина довольно чистая. Охотников сажают в лодки в два-три ночи и везут в открытое море. Там на якорях стоят стальные бочки высотой метра в полтора и чуть поменьше диаметром. Они искусно окружены камышами. Охотники влезают в бочки, а метрах в тридцати по воде плавают резиновые чучела птиц и главная подсадная утка. На рассвете начинают летать настоящие утки, подсадная крякает, они подлетают и даже садятся рядом. Можно стрелять по сидящим, но хороший охотник бьет влет. Подъезжает егерь, собирает трофеи, и так продолжается часов до десяти утра.
«И вот Бориса Сергеевича привезли в два ночи, выделили ему хорошую бочку, — рассказывает К. К. Соколов. — Середина октября, хоть тепло одеты, но холодно, руки мерзнут, пальцы сводит, темень хоть глаз коли. Но уток на рассвете настреляли».
Часов в восемь утра подъехал к Соколову егерь:
— Ну как?
— Замерз как черт. Вы поезжайте к Борису Сергеевичу, посмотрите, как он там.
До стечкинской бочки метров пятьсот. Егерь к нему и быстро назад возвращается к Соколову:
— Дед ваш еще посидит. «Пусть, — говорит, — Соколов сначала уезжает».
И в десять утра то же самое повторилось — не хочет уезжать, и все. Холодина, а он уже шесть уток подстрелил и вошел в охотничий азарт.
Стрелял по-прежнему хорошо, но видеть стал хуже. В правом глазу осталось десять процентов зрения. Стечкин придумал для своего ружья специально изогнутую ложу, чтобы целиться левым глазом. Очки надевал редко — когда писал или к доске близко подходил, — они уже мало помогали. Врачи определили: катаракта. «Мне глаз нужен для охоты!» — сказал Стечкин и лег на операцию. Потерять зрение для него означало куда больше, чем проститься с охотой.
Операция была довольно сложной, с большим кровоизлиянием, да и больному было уже за семьдесят. Лечение осложнилось еще тем, что он раньше времени снял с глаза повязку. Почесал и нечаянно содрал. Обошлось, к счастью...
А в 1961 году ему сделали первую операцию. Стечкин и тогда был спокоен, ложась в больницу. «Через несколько дней поговорим», — сказав он сотрудникам. Из больницы написал письмо на работу о решении одной задачи...
Через год он снова оказался в больнице — спазмы мозговых сосудов. Врачи решительно запретили ему работать и ругали детей, что не следят за ним.
— Пока я жив, я буду работать, — ответил Стечкин. — Вот академик Павлов даже перед смертью просил, чтоб его не беспокоили: «Я занят. Я умираю». А я сам знаю, что мне нужно делать. Не смогу работать, то и жить не смогу... Не лечите меня от старости — молодым я уже не буду, а свой организм знаю и поддерживаю для работы.
... В очередной раз отмучившись у врачей, он продолжал трудиться. И, конечно, ездил на охоту. «Ирока! Очень прошу!! — пишет он дочери. — Когда приедешь в Москву, узнай время открытия охоты в Москве и Ярославской области, для чего надо позвонить Хакимову Загит Салах (телефоны).
Можно также позвонить Конст. Конст. Соколову (телефоны) .
Если охота открывается 10 или 11 августа, то необходимо заказать мне в Абрамцеве, дом 36, авто у диспетчера на 8-е или 9-е на 11 утра... Б. Стечкин».
На охоте с ним не раз бывали А. Н. Пономарев с сыном Борисом, который тоже учился у Стечкина в академии имени Жуковского, доктор технических наук В. А. Лурье из ВЗПИ, профессор Скубачевский, Главный маршал артиллерии H. Н. Воронов... У всех, кто охотился со Стечкиным, надолго высвечены в памяти эти дни.
«Мы с ним охотились несколько лет, с 1948 по 1955 год, — вспоминает Г. С. Скубачевский. — Ездили во Владимирскую область на вальдшнепов, токующих тетеревов — под Москвой не разрешалось, а там можно. Поехали впервые на моем «Москвиче-401», и в первый час езды я никак не могу понять, чего от меня хочет Борис Сергеевич: все время меня немножко поправляет, корректирует. Потом я сообразил, что он просто относится с недоверием к моему шоферскому искусству, поэтому я и спросил его:
— Борис Сергеевич, а вы знаете, с какого года я вожу машину? С 1924-го!
— А, ну тогда езжайте!»
Охота там была обильной — привозили по пять зайцев и начинали думать, кому их раздать. Охотились по всем правилам, с собакой. Зайца убьют, чтоб не таскать, повесят на ветку, назад возвращаются — заберут.
Ездили и в заповедники, принадлежащие военно-охотничьему хозяйству — знакомый егерь доставал платные путевки. «В Калининской области охота была — будь здоров! — продолжает Г. С. Скубачевский. — Я однажды 27 уток настрелял! Охотничий азарт. По озеру Неро плавали на лодке глубокой осенью, холодно, Борис Сергеевич совсем замерз в своей кацавейке...»
«Ну, конечно, эго совершенно незабываемо, — вторит С. К. Туманский. — Вечером приезжаем в какую-нибудь избу с хозяйкой, она нам картошки наварит, садимся... И начинаются рассказы. В нем столько юмора было!» Сергей Константинович показывает две склеенные рядом фотографии. На одной он сам с ружьем, внизу надпись «Охотник», на другой — миловидная женщина, «Хозяйка из охотдома». Рядом нарисованы утка, цветочек и пропеллер: «С. К. Туманскому на память об охоте в Виноградово. Москва, 30.5.1950. Издано в одном экземпляре. — Далее следует четверостишие:
Нацелить в утку очень просто,
Но надо выстрелить на ять.
Гораздо б легче раз так во сто
С хозяйской дочкой флиртовать».
«Откуда б, вы думали, я это получил? — улыбается Сергей Константинович. — Из рук собственной жены! Она мне говорит: «Теперь я понимаю, как вы там со Стечкиным охотитесь!» Он незаметно сфотографировал. Юмор у него был тонкий — ведь он интеллигентным человеком был, чутко понимал детали воспитания. Жена моя в таком восторге от него была, что, когда он в Узком отдыхал — он любил этот санаторий, — всегда просила меня: «Поедем к Борису Сергеевичу!» Но и он настолько галантен был в отношении женщин, что покорял их прямо, знаете, сразу».
5 августа 1961 года ему исполнилось семьдесят. В тот же день был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР:
«За выдающиеся заслуги в деле развития гидроаэромеханики и теплотехники и в связи с семидесятилетием со дня рождения присвоить академику Стечкину Борису Сергеевичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе».
Указ был опубликован в газетах и «Вестнике Академии наук СССР» № 9 за 1961 год с портретом Стечкина — в рубашке на «молнии», пиджаке, со значком МВТУ на груди. Экземпляр этого выпуска хранится у С. Б. Стечкина с отцовской надписью: «Сергею Борисовичу Стечкину на память и в назидание». Такой же экземпляр бережно хранит И. Л. Варшавский: «Т. Варшавскому И. Л. На память с благодарностью и искренним желанием и Вам того же. Ваш Б. Стечкин».
Был издан отдельный специальный выпуск «Известий Академии наук СССР», посвященный жизни и деятельности Стечкина.
Наступил один из самых торжественных дней его жизни. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев в Кремле вручил Борису Сергеевичу Стечкину орден Ленина и Золотую Звезду Героя.
— Служу Советскому Союзу! — сказал, принимая награду, академик Стечкин.
— А вы разве военный? — удивился Л. И. Брежнев.
— Нет, но я считаю, что всю свою жизнь служу Советскому Союзу, — ответил Стечкин.
Весть в высокой награде ученого с восторгом восприняли все, кто знал его, учился у него или работал с ним. Сколько было поздравлений!
«... И пожелать Вам, главному двигателисту Советского Союза, — писали ученики, — сохранить Ваш беспокойный характер, ясный и живой ум русского человека, Вашу простоту».
«Дорогому Борису Сергеевичу в память о совместной работе по созданию первого реактивного пассажирского самолета. Горячо и очень крепко обнимаю. А. Туполев».
«Находясь на охоте в Калининской области, я случайно прочел Указ Президиума Верховного Совета о присвоении Вам заслуженной награды», — кто-то из знакомых охотников...
Друзья и ученики собрались в Абрамцеве. Приехали с семьями Архангельский, Люлька, Туманский...
Туполев привез какой-то рыжий цветочек с пятнышком:
— Это тебе из собственного сада!
Дубинский подарил красивую ручку — Стечкин очень любил письменные принадлежности, весь вечер не расставался с этой ручкой и все посматривал, не взял ли кто. Он вообще никому не давал свою самописку — настоящий «паркер».
Мария Федоровна Курчевская приехала в Абрамцево на своей машине, по дороге попала в аварию: наскочил грузовик, — но она на автомобиле без тормозов продолжала маршрут и доехала!
— Ну и храбра! — восхищался Стечкин.
— Я бы ни за что не поехал дальше! — сказал Туполев.
— А какие конфеты привезла! — Стечкин открыл коробку с заливными орехами. — Неужели сама смастерила?
Она их как фабричные сделала, в бумажки завернула — Стечкин так и не поверил, что они самодельные.
От Королева приехали сотрудники. Сергей Павлович сам рвался в Абрамцево, но не смог. Он попросил своих товарищей передать Стечкину подарки — прекрасно выполненные модели спутников и космических кораблей.
Сотрудники бывшего микулинского КБ, много лет проработавшие со Стечкиным, долго спорили, что бы такое подарить, и обратились за советом к Александру Алексеевичу Добрынину. Тот сказал, что у него есть фотография, которой Борис Сергеевич очень обрадуется. В 1930 году, когда Стечкин работал в ЦАГИ, его заместитель по винтомоторному отделу Николай Иванович Ворогушин привез из Германии фотоаппарат «лейку» — редкость по тем временам. Первые дни Ворогушин ходил по лабораториям и всех «щелкал». И однажды снял Стечкина с Чаплыгиным. Молодой ученый сидит у окна — характерная поза, жест — и что-то доказывает Чаплыгину. На пленке было два кадра: на одном Чаплыгин и рука Стечкина, на другом, наоборот, Стечкин и рука Чаплыгина. Из двух кадров получился интересный снимок, который и подарили Стечкину. Как радовался Борис Сергеевич! Ведь он был одним из самых любимых учеников и ближайших соратников Сергея Алексеевича, первого среди наших ученых Героя Социалистического Труда...
Чудесный был день в Абрамцеве! Кто-то подарил Стечкину большой блокнот, в котором в этот день писали все, что хотели.
«Дорогой Борис Сергеевич, мы, младшее поколение, восхищаемся вашим талантом и от всей души приветствуем и поздравляем вас с самой высокой наградой. Стараемся равняться на вас. А. Мандрыко и другие».
«Люблю тебя. А. Архангельский».
«Помни, друг, своих друзей. Туполев. 6 авг. 1961 г.».
«Работники советского двигателестроения горячо поздравляют Бориса Сергеевича Стечкина и желают ему доброго здоровья и долгих лет жизни. Чаромский».
А кто-то написал просто: «61–19=42 года дружбы».
«По просьбе генерального конструктора А. Н. Туполева, А. А. Архангельского и других, — вспоминает С. К. Туманский, — от их имени поэт А. Безыменский составил стихотворение-приветствие:
Простой, сердечный, не речистый,
Вы нас пленили навсегда
Своей натурою ершистой,
Своей душой, кристально чистой,
Величьем Вашего труда».
Оно было зачитано на официальном вечере в Академии наук. Много писем принесли прямо на вечер, и Стечкин, глядя на конверт, сразу по почерку определял автора. Всех помнил, хоть и говорил: «В последнее время я все забываю. Вот один генерал прислал из Ленинграда поздравление — где он у меня учился, никак не могу вспомнить».
Конечно, за долгую жизнь многих своих учеников Стечкин просто не знал, а потому и не мог вспомнить. Но светлость ума оставалась необыкновенная — можно только поражаться, как он в преклонном возрасте решал в уме сложнейшие задачи. До самой смерти у него была ясная голова...
Его отношение к новым вопросам... Стечкин хорошо поработал и в области атомной энергии. Теперь-то понятно, что плазменные, ионные двигатели имеют будущее. Но в конце пятидесятых годов далеко не все даже слыхали эти названия.
Стечкин собрал сотрудников:
— Когда-то мы разрабатывали теорию поршневых моторов, сейчас занялись турбореактивными двигателями, теперь я призываю вас заняться созданием электроракетных двигателей для космических летательных аппаратов — это будет основным направлением нашей работы. Плазменные, ионные и электрические двигатели в космосе обеспечат скорость истечения газов в десятки раз большую, чем обычно применяемое термическое топливо.
Эти работы были принципиально новыми, требовали знания ракетной техники, многих разделов физики, кроме тех классических, известных инженерам, — электродинамики, магнитодинамики, термодинамики, — нужно было создать новую установку для исследований, целую экспериментальную базу с десятками стендов. Потребуется не один год и много средств. Но в 1962 году Институт двигателей упразднили. Коллектив из 1700 человек, на создание и воспитание которого Борис Сергеевич отдал около десяти лет, был в течение месяца распределен в разные ведомства.
Конечно, ему было бы трудно управлять новой организацией, решать все финансовые и административные дела, ему прежде всего хотелось заниматься новой техникой.
Если в вопросах науки Стечкина трудно было столкнуть с занимаемой позиции, то в административных делах его можно было уговорить. К тому же то один начальник «давит», то другой, то бесконечные телефонные звонки. Интересно, как в прежние времена руководили без телефонов? Сколько курьеров требовалось!
Стечкину нужен был директор, верней начальник.
Во главе стал Д. Д. Севрук.
Севрук пришел к Стечкину с большой группой своих сотрудников. Борис Сергеевич стал научным руководителем.
Тематика работ сузилась, научные силы были распылены по многим КБ, да и сами сотрудники уходили. Конструкторское бюро не научно-исследовательский институт, и порядки в организации стали другие. Газодинамическая лаборатория была фактически расформирована. Стечкину оставили небольшую группу сотрудников для исследования турбин. Такое положение дел пе удовлетворяло ученого, и 31 января 1963 года он ушел из организации, на которую затратил столько сил и времени, еще тогда стремясь к тому, что поставлено задачей в последние годы,— к созданию комплексных научно-исследовательских организаций. Стечкинцы уходили группами и целыми лабораториями. Вместе со Стечкиным ушел и Микулин.
... Несколько лет подряд бывшие сотрудники Института двигателей собирались в Москве у своего бывшего директора. Однажды, расчувствовавшись, он сказал:
— Товарищи, я, конечно, понимаю, что воспитать такой коллектив очень сложно, другой мне уже не создать — жизнь моя заканчивается. Это очень печально, но ничего иного я сделать не мог.
В 1968 году Бориса Сергеевича пригласили на вечер в академию имени Жуковского. Сначала все сидели чинно, а потом стали постепенно сдвигать столы вокруг Стечкина, подсаживаться к нему. Чаромский, Казанджан, Нечаев, Федоров — много учеников...
Кто-то произнес тост:
— За патриарха нашей авиации Бориса Сергеевича Стечкина!
Все встали и зааплодировали. 77-летний академик сидел со слуховым аппаратом, который его очень смущал. Ученый вспоминал былые времена, говорил, какие хорошие и талантливые люди получились из его учеников...
И поныне каждый год в память о Борисе Сергеевиче Стечкине бывшие сотрудники Института двигателей, работая в разных городах, собираются как единый коллектив в Москве.
В 1963 году Стечкин стал работать старшим научным сотрудником в одной из лабораторий Института механики Академии наук. Ушел и Соколов. Борис Сергеевич очень любил Костю Соколова, сына главного механика ЦАГИ. В Институте двигателей было такое положение, что от каждого отдела для контакта со Стечкиным был выделен один человек. Директор привыкал к нему и через него осуществлял связь с отделом. От газодинамической лаборатории таким человеком был Соколов, и десять лет они встречались почти ежедневно. Константин Константинович запросто попадал в кабинет директора, даже секретаря не нужно было предупреждать. Впрочем, такая привилегия была в институте не только для Соколова. Все, кто приходил или приезжал издалека к Стечкину, нередко люди, которых он видел впервые, имели к нему свободный доступ.
В Институте механики помещения не хватало, а Стечкину хотелось перевезти туда аэродинамическую трубу. Помочь ему не смогли, и он ушел в автодорожный институт на Ленинградский проспект.
Перевез он свое любимое кресло, выделили ему там комнату, и с несколькими сотрудниками, перешедшими из его института, он стал создавать в МАДИ проблемную лабораторию транспортных двигателей. Еще в конце сороковых годов академик Чудаков заказал в ГДР оборудование для своей лаборатории. Оно поступало несколько лет, и размещать его стало негде. Заместитель Стечкина по Институту двигателей Анатолий Павлович Хмельницкий нашел тогда помещение в автодорожном институте. И Стечкин повел здесь работы по бензиновым моторам. Задачей стало совершенствование тепловых и газодинамических процессов, другими словами, изучение вопросов, связанных с горением, тепло- и газообменом, наполнением двигателей. Всю жизнь его интересовали методы повышения КПД мотора. Он написал последовательно целый цикл работ на эту тему и постоянно возвращался к ним, улучшая. В общем виде он определил, как влияет процесс сгорания на КПД, но хотел свести эту зависимость к минимальному числу факторов.
Здесь же он занялся настройкой выхлопных систем. Его усовершенствование внедрили на заводе имени Ленинского комсомола и отметили премией Министерства высшего образования.
По выхлопным системам он прочитал в МАДИ несколько лекций. Слух о первой лекции, на которой присутствовала кафедра, прошел по Москве, и уже на второй яблоку негде было упасть. Приехали профессора из МГУ, МВТУ, НАМИ... Знали, что у Стечкина все будет самобытно, оригинально, даже если он сделает всего лишь короткое сообщение.
Со своим сотрудником К. А. Морозовым он ездил к Виктору Николаевичу Полякову, будущему директору автомобильного завода в Тольятти. Разговор шел об исследованиях и развитии фиатовского двигателя.
После смерти Бориса Сергеевича вышла книга «Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. Под редакцией академика Б. С. Стечкина». Авторы — К. А. Морозов, Б. Я. Черняк, Н. И. Синельников. Она писалась по его идеям, использовались его теоретические разработки, он сам много сидел над рукописью и все-таки сказал:
— Друзья мои, я не вижу здесь оснований для моего авторства. И понимаете, если здесь будет стоять моя фамилия, то книга будет моя, а не ваша. Редактором — пожалуйста!
И вычеркнул все ссылки на него. После его смерти авторы восстановили их. Это была последняя работа под его редакцией.
Все чаще он «недомогал.
Не терпевший ни в чем подобострастия, он мучительно переживал, что трудно стало самому подниматься на второй этаж, надевать пальто... Однако его физическое состояние не сказывалось на работоспособности. Он был профессором автодорожного института и руководил аспирантурой. Первоклассная лаборатория МАДИ с полным основанием могла бы сейчас носить имя своего инициатора и создателя....
Ему хотелось шире развернуть работы, он подыскивал помещение, чтобы организовать нечто подобное тому, что было прежде. Газовая промышленность пошла ему навстречу, предложив площадку для строительства в Люблине. Но создать новый НИИ оказалось делом нереальным, ибо продолжалась тенденция передачи академических институтов производству.
Стечкин продолжал быть членом Ученого совета Московского автодорожного института, научным консультантом и членом научно-технического совета Лаборатории нейтрализации и проблем энергетики (ЛАНЭ).
Прожив большую жизнь, он увидел свою страну, идущую во главе социального и технического прогресса.
Как совсем недавно космические полеты казались выходящей за пределы разума фантастикой!
Стечкин отмечал своеобразность работ Циолковского, но говорил, что он не был инженером и реально создать или конструктивно что-то предложить не мог. А о реализации его идей тогда не могло быть и речи, и техника еще не дошла до воплощения его идей. Но, конечно, он был предтечей великих космических дел, опережая и время и технику.
«Говоря о перспективах газотурбостроения, — пишет Стечкин, — я хочу подойти к этому вопросу с позиций единения науки и техники. В наше время без науки не проживешь, что отчетливо видно, во-первых, на примере быстрого и победного развития турбореактивных двигателей в авиации и особенно, во-вторых, на примере завоевания нами космоса, когда единение науки и техники дало поразительные результаты, удивляющие весь мир...»
Еще в 1948–1949 годах инженер И. Л. Варшавский готовил кандидатскую диссертацию «Работа ракетных двигателей на новых топливах» — имелись в виду керосино-водные растворы и аммиак. В то время все ракетные двигатели работали на водном растворе спирта, и для запуска средней ракеты нужно было переработать 50 тонн картошки. Варшавский предложил другую систему и отрабатывал двигатели на новых растворах. Научным руководителем у него был Е. А. Чудаков, экспертом — Б. С. Стечкин. Приезжали, интересуясь работой, С. П. Королев и В. П. Глушко.
Отношения между Б. С. Стечкиным и С. П. Королевым были очень дружеские, полные взаимного уважения и любви. Это факт исторический. И факт прекрасный потому, что оба они выдающиеся люди, каждый в своей области неповторим, оба достойны друг друга.
Стечкин с большой нежностью относился к Сергею Павловичу и всегда подчеркивал:
— К Королеву надо идти только в крайнем случае. Он человек очень занятой, и не нужно отвлекать его мелкими вопросами.
И хотя сам мог в любое время прийти к Королеву, лишний раз не звонил ему, щадя время Сергея Павловича и понимая его роль в развитии отечественной и мировой техники.
— Ученых у нас много, — говорил Стечкин, — а Королев один.
— Это были отношения двух талантливых русских людей, которые знали цену друг другу, — говорит И. Л. Варшавский.
Когда Стечкин лечился в санатории Узкое, Королев, услышав о его болезни, все бросил и приехал:
— Борис Сергеевич, никаких дел у меня к вам нет, я просто захотел вас проведать.
И Стечкин очень обрадовался приезду Королева. Они были настоящими друзьями. И беседы их касались не только научных вопросов. Так, в Узком они говорили об охоте, отдыхе, вспоминали эпизоды прежней жизни, годы, проведенные в Казани. Взаимное почитание и уважение у них всегда было на самом высоком уровне. Если когда-нибудь кто-то займется описанием взаимоотношений двух крупнейших ученых, то дружба и любовь друг к другу Стечкина и Королева — благодатная почва для будущих исследователей.
В юбилей Королева Стечкин заказал его портрет на дереве и преподнес Сергею Павловичу. Борис Сергеевич долго искал художника хорошего, уговаривал его сделать портрет по фотографии.
Приняв подарок, Королев сказал:
— Борис Сергеевич, давайте сделаем точно такой же и ваш портрет и поставим их рядом.
Как-то М. Г. Дубинский приехал к Сергею Павловичу. Встреча была назначена на 18 часов, но, зная крайнюю занятость Сергея Павловича, Дубинский со своим заместителем приехали пораньше, без двадцати шесть. Рядом с секретариатом была еще маленькая комнатка, где дожидался один человек. Секретарь ему говорит: «Вам было назначено на пять сорок пять?» Дубинский посмотрел на часы — пять сорок пять. Этот товарищ вошел. Без двух минут шесть вызвали Дубинского. Он поздоровался. Заговорили о Стечкине, о его теоретических делах, и Королев стал рассказывать, чем он обязан Борису Сергеевичу.
Стол у него был большой. Сергей Павлович достал из ящика стола баночку туши, тряпочку, протер внимательно перо, открыл тушь, попробовал на какой-то бумажке, как пишет, расписался на документах, после этого очень внимательно вытер ручку тряпочкой, спрятал в стол, закрыл. И все это сделал быстро, педантично и очень отточенно.
Точно так же подписывал бумаги Стечкин, так же обращался с пером, точно так же, если напишет «Иванову», обязательно аккуратно подчеркнет... Тот же самый стиль. Даже на перо Королев точно так же смотрел, как Стечкин, когда писал.
Тут Сергей Павлович вызвал секретаря:
— Кто должен быть у меня и во сколько?
Выслушав ответ, сказал:
— Извинитесь, скажите, что я задержусь на десять минут.
Точно так же, когда не хватало времени, поступал Стечкин.
... Стечкин опять занят новым делом.
Королев несколько раз звонил Стечкину:
— Борис Сергеевич, в любой день и час, когда вы захотите, двери для вас у меня открыты — на любую должность, какая вам понравится! И кто нужен — берите с собой!
С 1963 года и до конца своих дней Стечкин работал научным руководителем отдела и консультантом по перспективным космическим двигателям в конструкторском бюро С. П. Королева.
Очень пожилым человеком он сменил профиль работы — взялся за новое для себя дело.
Кончился рабочий день, Борис Сергеевич едет домой отдыхать — все-таки под восемьдесят и прибаливал иногда. Но он не умел ни болеть, ни отдыхать, то есть, может, и умел, но по-своему. Стечкинские боления и отдых для других были неприемлемы. Бьется он с сотрудниками над решением задачи часов до семи. Садится в машину, берет сколько может с собой народу. По дороге продолжает начатый на работе разговор:
— Эта проблема должна быть разрешена. Думайте непрерывно!
На следующий день, приехав на работу к восьми утра, он спрашивал сотрудников:
— Ну что придумали?
— Борис Сергеевич, мы же с вами в девять вечера расстались.
— А что делали ночью?
— Ночью спали.
— Ну, это безобразие. Вы должны были постоянно думать об этом. — Достает из кармана тетрадку: — А я вот ночью придумал такой контур методики расчета... Хоть это вы мне сегодня должны были положить на стол. А вы, видите ли, спали...
Не умел он и болеть. Звонит из дому по телефону:
— Немедленно, друзья мои, приезжайте ко мне. Тем, что вы ничего за это время не сделали, вы меня куда больше беспокоите, чем болезнь.
И вызывал сотрудников. А сам болел серьезно. В больницу его кладут — так он и там добьется разрешения приглашать к себе работников. Сидят у постели и докладывают. Когда он уставал, кто-то просто брал на себя обязанность сказать: «Братцы, поимейте совесть...»
Приходили по девять человек, сидели часами, и выгоняли их, когда нужно было делать процедуры. Врачи удивлялись: «И как вы все сюда проникли?» Просачивались постепенно...
Поболеет — и снова в строю, на работе или дома за письменным столом.
В начале 1966 года не стало Королева. Стечкин тяжело переживал эту смерть.
Хоронили Сергея Павловича на Красной площади. Потом были поминки. Пришли видные партийные и государственные деятели, ученые, космонавты, друзья, сослуживцы... Конечно, был и Стечкин.
«Борис Сергеевич сделал много нового в области прямоточных двигателей, особенно в области жидкостных магнитогидродинамических двигателей (МГД). Он очень увлекался ими в последние годы, и у него замечательные были идеи. Ведь плазменные, ионные двигатели, водородные циклы — это целое направление в технике. Стечкин был ученым, как сейчас модно говорить, многоплановым. И это не только электроракетные двигатели, МГД, газовые циклы... Он умел улавливать в других чувство нового, и вы бы видели, с каким удовольствием с ним работала молодежь! Всех трудно перечислить, но целое его направление у нас осталось... Стечкин был отец этого дела.
Многие вещи, описанные учеными, были раньше сделаны ем, Стечкиным. Он прошел сквозь трудные годы жизни и сумел воспитать целое поколение ученых. Надо, чтоб у каждого были ученики, а у него они замечательные. Сначала книжку о нем написать, а потом фильм сделать по ней. «Все остается людям» — это о нем сказано!» — говорит один из талантливейших учеников и сотрудников Стечкина.
... Да, «все остается людям» — это о нем, о таких, как оп. Вместе с академиками Андроновым и Чудаковым Стечкин был одним из прототипов главного героя, и надо заметить, что в кинофильме «Все остается людям» академик Дронов в исполнении великого Черкасова во многом похож на Стечкина...
Всю жизнь он старался при помощи техники облегчить существование людей на земле. В последние годы мечтал о том времени, когда в будущем обществе, на апогее технического и духовного развития решится проблема человека и общества, думал, как люди станут жить и работать сообща, когда у каждого в кармане будет лежать такая маленькая коробочка с энергией для всех целей...
Стечкин считал, что в двадцатом столетии человечество должно решить три «проблемы века»: 1) раскрыть природу магнетизма; 2) определить, что такое земное притяжение; 3) раскрыть сущность живой клетки и синтезировать ее — отсюда и решение проблемы рака. «Первые две задачи не вызывают сомнений у ученых, — говорил он, — ас третьей придется повозиться».
Он не высказывался категорически против возможности существования иноземных цивилизаций, более того, говорил, что такой визит на Землю должен произойти, даже подсчеты делал и называл примерный срок, когда ближайшая к нам цивилизация даст знать о себе.
Стечкин уделял большое внимание защите воздушного бассейна, охране природы. Он считал это одним из важнейших участков своей личной работы, принимал участие во всех симпозиумах, выступал с докладами на проводимых в нашей стране всесоюзных и международных конференциях по защите воздушного бассейна, был членом научного совета по этому вопросу. Статья Стечкина «Дыхание автомобиля» — основополагающая, с широким взглядом в будущее. Она была опубликована 18 октября 1968 года в «Правде».
«Сегодня невозможно представить себе человечество без автомобиля, — пишет Стечкин. — Средства индивидуального и общественного транспорта облегчили жизнь людей, расширили ее горизонты и возможности. Но велик и вред, который приносит автотранспорт своим смрадным «дыханием». В воздухе крупнейших городов мира от 50 до 90 процентов общего количества вредных веществ составляют выхлопные газы автомобилей. Возникла ситуация, когда «человек должен бороться против автомобиля — за автомобиль...».
Стечкин предлагал выхлопные газы отрегулированного двигателя пропускать через нейтрализатор — особое устройство, устанавливаемое на автомобиле, где вредные компоненты либо дожигаются, либо поглощаются.
Он критикует конкретные министерства, которые медлят с внедрением эффективных присадок к топливу, уменьшающих выброс сажи, предлагает воспользоваться громадными ресурсами имеющегося у нас природного газа, который представляет собой полноценный заменитель бензина, и тогда будет легче перейти на работу двигателя с очень бедными смесями, не содержащими в отработанных газах окислов азота.
Это очень важно, подчеркивает Стечкин, ибо еще не созданы нейтрализаторы, уничтожающие окислы азота.
«Конечно, самый радикальный способ борьбы за чистоту воздуха на наших улицах — замена двигателя внутреннего сгорания электрохимическими генераторами тока (топливными элементами), которые преобразуют химическую энергию непосредственно в электрическую и питают электроэнергией тяговый электродвигатель... Возможно также использование аккумуляторов электроэнергии, которые заряжаются от городской сети, а затем при езде питают электродвигатель...»
В связи с проблемой электромобиля Стечкин заинтересовался двигателем Стирлинга. Изобретенный еще в начале прошлого века, этот мотор в наши дни получил вторую жизнь. Стечкин придумал несколько своих вариантов «стирлингов». Один из них он и хотел установить в сочетании с аккумуляторами в гибридной автомобильной установке.
«Я был председателем научного совета по проблеме защиты воздушного бассейна от загрязнения вредными веществами, — говорит И. Л. Варшавский, — и помню, как Борис Сергеевич мне прямо заявлял:
— По этой проблеме в любой час дня и ночи я всегда к вашим услугам».
И он действительно не щадил ни здоровья, ни времени для защиты природы, хотя это были даже не столько технические, сколько организационные вопросы. И его выступление в «Правде» было не просто журналистской статьей. К нему обращались за советом сотрудники Центральной научно-исследовательской и опытно-конструкторской лаборатории нейтрализации и проблем энергетики автомобилей и тракторов (ЛАНЭ). С ними он обсуждал возможность постройки высоких заводских труб (700–1000 метров) из надувных оболочек, наполненных легким газом гелием. Такая труба могла бы в сотни раз снизить токсичность газов.
Возникали теоретические споры. В одном из писем в ЛАНЭ от 25 августа 1968 года Стечкин предлагает обсудить, можно ли токсичность всех ядовитых газов подводить к одному эквиваленту, скажем, к окиси углерода СО, как предлагали сотрудники этой лаборатории.
«Все яды имеют различные отношения их смертной дозы к безвредной, — пишет Стечкин. — Заметим, что в наших рассуждениях пока еще не фигурирует элемент времени, в течение которого дышат отравленным воздухом. Это еще больше усложняет вопрос определения эквивалентного количества СО».
«Я часто с ним встречался на общих собраниях академии, — говорит академик М. М. Дубинин, — а незадолго до смерти он пришел ко мне на работу. У него был один сотрудник, который занимался проблемой обезвреживания выхлопных газов автомобиля, с ним он приехал. А до этого он бывал на сессиях научного совета по адсорбентам, который я возглавляю, — мы занимаемся изучением, получением и применением разного рода поглотителей. Но на принципе адсорбции широкую автомобильную проблему решить нельзя. Почему? Вы можете поставить в глушитель поглотитель небольшого объема, но он обладает конечной способностью поглощения, которая к тому же с повышением температуры падает, а в глушителях температура высокая. Задача эта сейчас решается, но на принципе катализа: на пористых телах находятся каталитически активные вещества, которые полностью обеспечивают окисление, ускоряют процессы сгорания веществ в отработанных газах. Катализаторы работают хорошо, но только те, которые содержат благородные металлы — платину, палладий, и получается, что их стоимость составляет 1/20—1/10 стоимости автомобиля. Дороговато, к тому же время от времени их надо менять... На эту тему мы и беседовали с Борисом Сергеевичем. Пили черный кофе, Стечкин пил кофе совершенно без сахара. Вспомнилось: когда-то решали задачу защиты от хлора, применяемого немцами в первую мировую войну, — пробовала в качестве поглотителей и спитой кофе, и чай.
Борис Сергеевич очень серьезно подходил к этим вопросам».
У него был такой аналитический ум, который все мог понять — не только в технике, но и в тех делах, с которыми он прежде не соприкасался никогда. Путем логического рассуждения Стечкин мог все объяснить. Во всех беседах, чего бы они ни касались, он всегда рассматривал вопрос с точки зрения пользы для государства. Даже если он высказывал мысли, не согласные с существующей общей точкой зрения, то он не соглашался с тем, что могло принести вред государству, и часто был прав. Его отношение было патриотично ко всей нашей жизни.
На спичечных коробках написано: «Берегите лес», а на спички уходят миллионы кубометров древесины. Большего кощунства не придумаешь! Он очень переживал безжалостное отношение к природе.
Знакомые старались лишний раз не трогать эту его струнку, да он сам расспрашивал.
— Как народ живет, как природа? — интересовался он у Соколова, вернувшегося с охоты из Архангельской области.
— Большие лесные пространства, Борис Сергеевич, сведены, и ничего не посажено. Лес сплавляют молевым способом, и на дне рек лежат миллионы кубометров древесины.
— Друг мой, вы мне об этом больше, пожалуйста, не говорите. Я этого переживать не могу.
... В последний раз он ездил на охоту осенью 1968 года, за несколько месяцев до смерти.
В последний свой год он вставал, как и прежде, в семь утра, брился. Просыпались домашние — семья дочери Ирины. В восемь он завтракал и уезжал на работу. Ездил каждый день — редко выходной выпадал. В четыре часа возвращался домой, обедал и ложился спать.
В семь-восемь вечера вставал и садился работать — тихо, до двух ночи сидел у письменного стола. Дочь приносила ему стакан простокваши, кусочек хлеба и сыр.
Его кабинет в квартире на Ленинском проспекте выходил окном в Выставочный переулок. Посреди стоял большой дубовый старинный стол под красным сукном, рядом двухэтажный столик, заваленный бумагами, старинное кожаное кресло — на нем тоже полно бумаг. Вдоль стен книжные шкафы и стеллаж. Знакомая железная кровать, над ней лосиные рога — подарок друзей. На стене у окна — портрет Ирины Николаевны.
На столе лампа с зеленым стеклянным абажуром и серым мраморным голубем на подставке, деревянная шкатулка с памятными значками ЦАГИ, ЦИАМа, МВТУ, МАИ, здесь же портрет сестры, фотография: Борис, Яков и Шура в детстве. Железные прессы для бумаг — специально сделали друзья. Фаянсовый волк. Ему дарили статуэтки — целая коллекция собралась.
«За все время, сколько я помню, — говорил Игорь Яковлевич Стечкин, — из мебели у Бориса Сергеевича только одна вещь появилась — стеллаж во всю стену, и то остался от бывшего хозяина квартиры, академика Обручева. Все старая, наследственная мебель, та же, что и в Кривоникольском: шкафы, буфеты, столы, кожаные стулья с высокими спинками».
Здесь же стоит шкаф с ящичками для фотопленок и снимков, сделанный по чертежам Стечкина, в них и сейчас лежат его канцелярские принадлежности: готовальня, подвижное лекало, несколько логарифмических линеек, ручки, карандаши «Hartmuth».
— Что тебе привезти? — спрашивала отца перед поездкой в Чехословакию Ирина Борисовна.
— Хороших карандашей привези!
Любил писать карандашом в блокноте.
Иногда человек к старости черствеет — Стечкин стал мягче. Если раньше он не очень быстро сходился с людьми, держался обособленно, в последние два года несколько изменился. И к внукам стал нежнее. Отдыхая, любил читать детские книжки, приключения: Фенимора Купера, Вальтера Скотта, Джека Лондона, как-то попросил, чтобы ему купили Сенкевича. Иногда читал что-нибудь вслух, как прежде детям:
У приказных ворот
Собирался народ...
Очень любил Стечкин стихи Алексея Константиновича Толстого, очень любил!
Он в общем-то нечасто допускал в кабинет внуков, чтоб они не заполонили все. А им, конечно, там было страх как интересно, и они осторожно, по одному, пробирались к деду.
Послушаем их сейчас — это молодые люди, нашедшие свое место в жизни.
Володя Стечкин, сын Игоря Яковлевича:
«Дядя Боря — мы называли его дядей — всегда был так погружен в работу, настолько окружен оболочкой собственной огромной мысли, что лезть сквозь нее было просто неудобно. Не хотелось мешать ему, отрывать от дела, хотя он и никогда не показывал, что ты здесь лишний, беседовал, отвечал на вопросы, но чувствовалось, что не надо ему мешать».
Младший брат Володи Слава:
«Поражало то, что у дяди Бори всего два костюма — один он носил каждый день, на другом были его золотая звездочка и лауреатские медали. Запомнилась его видавшая виды кепка 62-го размера».
Катя, дочь Евгении Яковлевны Хвостовой:
«Проснулась на даче среди ночи, а он Сергею Борисовичу рассказывает что-то сугубо научное, но слушать было интересно, хотя я и ничего не понимала. Он говорил не спеша, так, что даже что-то становилось понятным. Некоторые ученые свои специфические слова вставляют и в бытовую речь — у него такого почти не было. Помню, что он рассказывал о Галактике, о планетах, о созвездиях, как там все происходит, — все очень просто и по-человечески понятно рассказывал».
Советские космические аппараты устремились к другим планетам, облетели Луну, сфотографировав ее обратную сторону. 3 февраля 1966 года наша автоматическая станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луне.
«Луна нужна людям», — говорил Борис Сергеевич. В Стечкине жила удивительно счастливая черта: всю жизнь он стремился заниматься новым и неизведанным. Увлекся реактивной техникой, когда ее и в помине не было. Создал прекрасную кафедру в Военно-воздушной академии, воспитал коллектив, наладил работу и ушел.
В МАИ создал кафедру. В МАДИ, уже в преклонном возрасте, — проблемную лабораторию. Всюду, где он работал, он начинал новое направление и уходил, чтобы приняться за другую проблему. Продолжал заниматься и реактивным движением, которое его навеки прославило, и поршневыми двигателями, и многими другими нужными людям вещами.
Заметки о технике будущего... Статья об эффективности вихревой трубки. Он написал ее в больнице. Очень мудрая статья. Речь в ней идет о вихревой трубке, изобретенной французским металлургом Ж. Ранком в 1931 году. В этой трубке сжатый воздух, закручиваясь, разделяется на два потока, выходящие в разные стороны: в одну — горячий, в другую — холодный. Об этом изобретении долго никто не знал, пока в 1946 году в США не была опубликована статья о подобных работах в фашистской Германии. Но еще до опубликования этой статьи в Советском Союзе учениками Стечкина М. Г. Дубинским, С. 3. Копелевым и А. О. Мацуком на этом же принципе были изобретены различные вихревые аппараты, в том числе эжекторы, о которых говорилось в нашей книге. После этих работ Дубинский и стал заниматься холодильными машинами нового типа. Стечкин придавал большое значение процессам охлаждения и связанной с ними технике, предрекал им будущее — и для космических целей, и для медицины: мечта об охлаждении организма человека на длительный срок теоретически реальна. Если ее осуществить, сколько можно спасти безнадежно больных!
— Но если мы сейчас займемся этими машинами, — сказал Стечкин Дубинскому, — мы оставим страну без штанов. А все-таки сообщите мне завтра в больницу, какой там у вас КПД получился? — просит он Дубинского. — В этом что-то есть...
Интересы его по-прежнему широки.
— Вот прочитал сборник молодого поэта — впервые это имя слышу. Мне трудно судить о его достоинствах, но не жалею, что прочитал книжку.
... В санатории Узкое ему нравилось. Условия хорошие, можно и работать и отдыхать, принимать людей. Стечкин говорил, что оп не скучает там, так же как и вообще он нигде никогда не скучал. В Узком у него было полно книг, и он с утра до ночи работал.
И текущая политика, и взаимоотношения людей, и вопросы литературы — все это по-прежнему интересовало его.
«Беседы с ним в Узком, — вспоминает И. Л. Варшавский, — были очень интересны, так как он ко всем вопросам подходил оригинально, нестандартно, не так, как обычно к ним подходят. Трудно сказать об этом в двух словах, но его высказывания были важны, поучительны и затрагивали все вопросы нашей жизни. Если обобщить все наши многочисленные беседы, нужно отметить его порядочность — не было в его словах ни желчи, ни опорочивания людей. Я часто вечерами приходил к нему и домой, мы беседовали до ночи».
Уже при жизни он стал легендарным. Каждый, кто знал его, обязательно расскажет что-то необыкновенное о нем — то ли про мотоциклетные гонки и аэросанные пробеги, то ли о его изобретениях и участиях в дискуссиях... Ходила легенда о защищавшемся докторанте, у которого Стечкин был оппонентом, положительно оценившим работу. Но, выступая на защите, он в пять минут вывел формулу, и она оказалась в десятки раз ценнее всей диссертации. Такое отношение к нему как к ученому, который за несколько минут может сделать больше, чем другие за годы, очень характерно.
Его теоретический вклад еще долго будет определять развитие техники. Его теория ВРД стала основополагающей на многие десятилетия, а может, и на века, ибо каждый период и каждый год приносят новое применение принципов Стечкина, и не только в авиации. Это суда и автомобили, подводное движение, газовые турбины, новые вентиляторы и компрессоры, безмашинные преобразователи энергии для космоса — трудно найти область, где бы из года в год не применялись его теоретические работы. Поэтому мы вправе сказать, что труды Стечкина только начинают завоевывать технику и им предстоит огромное будущее.
Конечно, сами формулы не летают, у них нет серебристых крыльев; мысли, которые Стечкин щедро, как природа, раздавал тем, чьими именами по праву гордится наш народ, есть только мысли, их нельзя погладить рукой по дюралевой обшивке. Стечкин никогда не был на таких ролях, когда о людях пишут.
Несколько лет назад в нашей столице состоялся всемирный съезд по истории техники, и один из выступавших ученых выразил удивление, что в докладе о развитии реактивных двигателей не упомянуты работы основоположника теории — Бориса Стечкина. «О боге не говорят», — ответили из зала.
Сотни, тысячи страниц его неопубликованных трудов... На письменном столе осталась статья «Об определении энергии уединенной волны» — черным карандашом на двух страничках в клеточку — и непосланная заявка на изобретение. В шкафу обнаружены статьи: «Определение потерь при прямом скачке в цилиндрической трубе», «Повышение топливной экономичности автомобильных бензиновых двигателей» — странички из блокнота, «Высокотемпературная турбина «К» для космоса» — простым карандашом на пяти страницах, «Как улучшить тягу гидрореактивного двигателя при работе с водяным паром», «Характерные черты творчества А. А. Микулина». В школьных тетрадках — отзывы на диссертации, доклады, заметки. Авторские свидетельства...
В последние годы жизни Стечкин написал несколько работ по механике: «О смешении струй», «Винт в трубе», «Среднее квадратичное и среднее арифметическое». В этот же период, продолжая и развивая свои ранние работы, он закончил несколько стагей о поршневых двигателях. В них Стечкин рассматривает процесс выделения тепла, влияние скорости сгорания на КПД двигателя...
Он продолжал строго относиться к своим статьям, чеканил каждое слово, отдавал в печать только вполне завершенный труд и то, когда был полностью убежден в своей правоте. Так было и в молодости со статьей о теории ВРД, которая появилась в 1929 году, но созрела еще в 1921-м; так было со статьей для «Правды» «Дыхание автомобиля» — ее он неоднократно переделывал, проработал над ней больше двух месяцев.
Всю жизнь он придавал большое значение роли инженера. В январе 1969 года, отвечая на анкету «Литературной газеты», он пишет: «Инженеров становится все больше и больше — и абсолютно и относительно к числу рабочих. С другой стороны, инженер все ближе и ближе сходится с рабочим, и последнему все яснее и виднее делается роль инженера и его личность. Диплом уже не помогает приобретать авторитет, нужны знания и умение. Личность инженера стала обычной, понятной и близкой.
Вот почему число инженеров с высоким авторитетом относительно уменьшается.
Я думаю, что узкий специалист — это необходимо. Это может быть и хорошо и плохо в зависимости от того, как мы будем готовить нашего инженера.
Инженер должен не только знать свою специальность, но и, что очень важно, быть способным следить за прогрессом этой специальности и воспринимать его...
Особенно важно знание математики. К сожалению, обучение в высшей технической школе не дает достаточных сведений по математике и по формальной логике, и этот пробел инженеру очень трудно восполнить в течение его практической деятельности...
Инженер должен быть интеллигентен, то есть должен быть образован, умственно развит, подготовлен к познанию и освоению научно-теоретических вопросов: он должен быть культурен».
Стечкин разделял понятия «техническая интеллигентность» и «интеллигентность» и порой мог сказать о ком-то: «Грамотен, но настоящей интеллигентности не хватает».
Рукописное наследие его огромно. Пройдет еще не год, а может, и не один десяток лет, прежде чем можно будет ознакомиться и по достоинству оценить все его труды. «Много неразобранных материалов осталось, — говорит Ирина Борисовна Стечкина. — А писем очень мало. Папа не любил их писать. Вот одна из записок, характерная для него. — Ирина Борисовна достает из шкафа аккуратно сложенный листочек со старательным стечкинским почерком: «Ирока! Захвати с собой, пожалуйста, мой объектив: 1/f = 3,5, фокусное расстояние 35 мм, в круглом маленьком футляре». В записке дается чертеж шкафа с обозначениями и рисунок объектива.
Ирина Борисовна ухаживала за ним, вела дом. Она часто бывала на научных конференциях по газовым турбинам, где председательствовал отец. А он, сощурясь, глядел в зал и, если не находил дочь, передавал кому-нибудь из знакомых записку: «А где Ирока?»
В конце 1968 года он заболел. Началось с гриппа, потом воспаление легких, больница. Не хотел ложиться.
Дочь уговорила и осталась сиделкой возле него. Его привезли на каталке, а она внизу ждет пропуска. Прибегает медсестра: «Идите скорей, Борис Сергеевич шумит!» Ирина побежала наверх, он в шапке лежит, одетый: «Я ничего не буду делать, пока не увижу дочь!»
В Москве свирепствовал грипп, и в больнице был карантин, никого не пускали, лишь для его семьи делали исключение. Стечкин был в тяжелом состоянии. Хотели ему внутривенное вливание сделать, он наотрез отказался, не понял, решил, что ему собираются капельницу ставить — медленное, в течение нескольких часов вливание крови. Подумал, не выдержит... С помощью Ирины Борисовны уговорили его сделать укол. Дни и ночи дежурили дочери у постели отца. Он был без сознания, а как только пришел в себя, сразу спросил у Веры Борисовны: «Как дети? Как Коля?» Николай Корнеевич тоже болел в это время.
Через четыре дня ему чуть полегчало, и он уже шутил с сестрами, для каждой нашел добрые слова, одну прозвал «сестричка — два уколика» — весь был исколот. Быстро наладил контакт с медициной и, как всегда, допытывался, какое лекарство для чего предназначено. Ослаб он очень, однако через месяц ему стало лучше. Ирина Борисовна ушла из больницы, но продолжала бывать ежедневно. Этот месяц она провела рядом с отцом, только на часок прибегала домой детей проведать.
Стечкин начал работать, писать. Снова приезжали к нему люди, снова беседы, воспоминания, споры, снова в изящной форме он разделывал своих противников, но так, что и крыть нечем. «Почти три месяца врачи возле себя держали! Пора и честь знать — март на дворе, на охоту надо собираться», — говорил он приехавшему проведать К. К. Соколову. Договорились вместе отправиться на тягу. Он встал на ноги, и в конце марта его выписали из больницы.
«Тяжелое бремя больницы, — говорит И. Б. Стечкина, — для меня в какой-то мере было и светлым, потому что даже тогда я смотрела на него и чувствовала: «Вот так надо жить, вот таким надо быть человеку!» У него была врожденная деликатность — не ущемлять чужих интересов.
Он никогда ничего не требовал».
После больницы он два дня пробыл дома и поехал на поправку в санаторий Узкое.
Позвонила Мария Федоровна Курчевская:
— Борис Сергеевич, как вы себя чувствуете? Приеду навестить.
— Сейчас не надо — я скоро вернусь домой и сразу же к тебе заеду.
— Ушел Ветчинкин, ушел Юрьев, теперь моя очередь, — как-то сказал он приехавшим навестить его друзьям. — Очень не хочется умирать. Все естественно: каждый человек должен умереть.
Лучше бы здесь и закончить книгу — без последней даты. Но она настала, эта дата, 2 апреля 1969 года.
Стечкин пробыл в Узком неделю. Он ждал весны. Проснулся, открыл глаза и с кровати долго смотрел на подоконник, залитый солнцем, — там что-то блестело. Никак не мог вспомнить, что там лежит. Как в детстве: проснешься и смотришь: что там у окна новое и непонятно загадочное? Приглядишься — оказывается, простая банка в лучах изменила свои очертания и переливается всей радугой. Солнце открылось, но утренний апрельский подмосковный морозец как бы стремится доказать, что у зимы еще не все потеряно. А солнечный зайчик, такой же, как в прошлом веке, как совсем недавно в детстве, — у людей с отличной памятью все для других далекое было вчера, — солнечный зайчик теплым желтым прощальным лепестком греет подоконник.
Стечкин встал с постели, движения утренние, нерасчетливые, зацепился за край стола, умылся, оделся, сел работать...
Ирина Борисовна собиралась приехать к нему под вечер. Ей позвонили перед обедом:
— Борису Сергеевичу плохо, вызвали «неотложку» из академической поликлиники!
— Сажусь в такси, пусть без меня не едут! — Она прибыла в Узкое почти одновременно с машиной из поликлиники. Вошла к отцу — он собирался. С трудом ходил по комнате, а донести его до машины было некому. Сам спустился со второго этажа, лег в машину, попросил валидол — видно, ему совсем плохо стало.
— Теперь поехали потихоньку, — сказал и больше ничего не говорил.
Машина тронулась, выехали на шоссе. Дочь сидела рядом, держала отца за руку чуть выше запястья с выцветшими контурами татуировки — сердце и буква Б внутри — пожизненное наследие юности. Он вздохнул сильно-сильно... Машину остановили на дороге, медики попытались сделать укол...
Не стало человека, который работал над машинами, значительную часть жизни прожил среди них и умер в машине. Сердце разорвалось.
Он работал, что называется, до последнего дыхания. Перед тем как в последний раз в жизни сесть в автомобиль, он обдумывал исследование одной важной проблемы. Сохранилась рукопись. Ученые потом смотрели и не верили, что это он сам написал, когда оставались считанные минуты.
«У нас было совещание, — вспоминает К. К. Соколов. — С испуганным видом входит секретарша, что-то шепчет Дубинскому. Он встает, долго не может говорить, потом тихо: «Умер Борис Сергеевич...» Мы остолбенели. У нас к нему накопилось столько вопросов и вдруг — на! Причем не в больнице, а в санатории, когда опасность, казалось, миновала...»
... Когда умирает знаменитый человек и уже известно о его смерти, все-таки жадно ждешь газету, как будто в ней будет опровержение. 4 апреля 1969 года в «Правде" появился некролог, который подписали видные руководящие работники и славные деятели отечественной науки и техники. Выразили свои соболезнования Академия наук СССР, Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике, Министерство авиационной промышленности, Министерство высшего и среднего специального образования СССР, Министерство автомобильной промышленности, отделение физико-технических проблем энергетики АН СССР, отделение механики и процессов управления АН СССР, Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Жуковского, Московское высшее техническое училище имени Баумана, Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, Московский автодорожный институт, Комиссия по газовым турбинам...
Гроб привезли домой, на Ленинский проспект, а на следующий день установили в Харитоньевском переулке в старинном здании Института машиноведения, в большом зале, где Борис Сергеевич проводил конференции по газовым турбинам.
Народу поначалу вроде было немного, но постепенно зал наполнялся. А люди все шли. Все, кто имел хоть какое-то отношение к двигателям, к термодинамике и к авиации вообще...
... Милиция перекрыла Харитоньевский переулок — столько народу в этом месте, пожалуй, еще никогда не собиралось.
Огромная вереница машин с людьми и венками поехала по Садовому кольцу к Шаболовке — не кратчайшим путем, а так, чтобы подольше побыть на московских улицах, столь знакомых Стечкину. В последний раз проехал он, а вернее, то, что прежде хранило в себе его энергию, разум и душу, мимо своего дома на Калужской. Машины свернули к крематорию.
Наверное, самое тяжелое в прощании — секунды, когда гроб навсегда закрывают крышкой. В последний раз мелькнула чудесная стечкинская шевелюра, и его навеки успокоенное тело медленно поплыло вниз, и волнистые створки сомкнулись над ним, как озерная рябь.
Оркестр играл Гимн Советского Союза — последняя торжественная и величественная почесть Ученому-Патриоту.
У него были светло-карие глаза...
Да будет светить вступающим в науку прекрасное русское имя: Стечкин.
Остаются дома, деревья. Люди случайно рождаются и закономерно умирают. Исчезают кладбища, появляются новые. У стен московского Новодевичьего монастыря есть семейный склеп Шиловых и Стечкиных, скромная могила в старой части кладбища, обелиск из розового камня с надписью «Академик Борис Сергеевич Стечкин. 1891–1969». Все сделано, как он сам просил, даже где надпись выбить, задолго до смерти указал.
«Люди умирают, песни остаются».
После него осталась высокая, нескончаемая песня моторов.
В июле 1958 года я готовился к поступлению в Московский авиационный институт. По коридору института шел высокий седой человек в голубой тенниске с воротничком поверх пиджака. Тогда я только начинал знакомиться с Москвой, можно сказать, впервые видел жителей столицы, и для меня этот высокий человек в тот миг почему-то стал символом москвича. Рядом кто-то сказал: «Стечкин». Мне это имя тогда ни о чем не говорило...
«Доброе имя должно быть у каждого человека. Лично я видел это доброе имя в славе своего отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие», — писал А. В. Суворов. Доброе имя оставил и герой нашей книги. Такие люди озаряют нашу жизнь.
Русский советский ученый Борис Сергеевич Стечкин воистину был замечательным человеком, и как еще раз не поразиться щедрости нашей Отчизны, рождающей таких, как он.
Стечкин — необъятная личность, и тот, кто станет заниматься историей нашей авиации и космонавтики, наверняка отыщет немало нового и интересного об этом человеке.
Время работает на него. На его 80-летии ученые предлагали присвоить имя Стечкина одной из московских улиц, учредить на моторном факультете Московского авиационного института Стечкинскую стипендию. На Всесоюзном совещании двигателистов сцену украшал огромный портрет Стечкина, и с трибуны было рассказано об ученом. В 1975 году по советскому заказу во Франции построили большой теплоход «Академик Стечкин». Он приписан к Черноморскому пароходству и совершает из Одессы дальние рейсы.
Достойно представлен ученый в Научно-мемориальном музее профессора H. Е. Жуковского. Там стоит его скульптурный портрет, есть фотографии, документы, образцы вымпелов, доставленных советскими автоматическими станциями на Луну и Венеру.
Мне посчастливилось встретиться с десятками, сотнями людей, близко знавших ученого. Я сердечно признателен родственникам, друзьям, соратникам и ученикам Б. С. Стечкина, работникам различных авиационных предприятий, институтов и других учреждений, летчикам и космонавтам, сотрудникам Научно-мемориального музея профессора H. Е. Жуковского, предоставившим документы и материалы, относящиеся к жизни и многогранной деятельности ученого.
Не имея возможности даже просто перечислить тех, кто письменно или устно откликнулся и помог, искренне благодарю сказавших свое слово о Большом Человеке.
1891, 5 августа — родился в селе Труфанове Тульской губернии.
1908 — окончил кадетский корпус в городе Орле и поступил в МВТУ.
1915–1917 — работа в лаборатории H. Н. Лебеденко.
1915–1918 — работа в расчетно-испытательном бюро и на курсах авиации при МВТУ.
1918 — женился на И. Н. Шиловой.
1918–1930 — начальник винтомоторного отдела ЦАГИ.
1921 — утвержден в звании профессора.
1918–1968 — преподавательская работа в МВТУ, Ломоносовском институте, МАИ, ВВА имени H. Е. Жуковского, МАДИ.
1930–1933 — работа в ОКБ.
1933–1936 — начальник научно-исследовательского отдела завода.
1935–1937 — заместитель начальника ЦИАМа по научно-технической части.
1937–1943 — работа в КБ.
1943–1955 — заместитель главного конструктора авиационного завода.
1946 — избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
1953 — избран действительным членом Академии наук СССР.
1954–1962 — заведующий лабораторией двигателей АН СССР, а затем директор Института двигателей.
1949–1968 — работа в Комиссии по газовым турбинам.
1961 — присвоено звание Героя Социалистического Труда.
1963–1969 — научный руководитель отдела в КБ С. П. Королева.
1969, 2 апреля — кончина Б. С. Стечкина.
Ленин В. И. К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике. Поли. собр. соч., т. 4, с. 1–34.
Арлазоров М. Жуковский. М., 1959.
Бек А. Жизнь Бережкова. М., 1958.
«Боевая колесница Н. Лебеденко и А. Микулина». — «Техника — молодежи», 1973, № 6.
Варшавский И. Л., Малов Р. В. Как обезвредить отработанные газы автомобиля (послесловие академика Б. С. Стечкина). М., 1968.
Глушко В. П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР. М., 1973.
Гумилевский Л. Чаплыгин. М., «Молодая гвардия», 1969.
«Дворянские роды», часть II, Спб., 1890.
«Дело Промышленной партии». — «Правда», 1930, ноябрь — декабрь.
Дубинский Г. Воздушные и газовые турбохолодильные машины. М., 1968.
«Жизнь большого человека» (Воспоминания о Л. В. Курчевском). — «Изобретатель и рационализатор» № 6. М., 1966.
Жуковский H. Е. Вихревая теория гребного винта. М., 1914.
Жуковский H. Е. Динамика аэропланов в элементарном изложении. М., 1913.
Жуковский H. Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах. М., 1899.
Жуковский H. Е. Теоретические основы воздухоплавания. М., 1911.
Журналы «Русский вестник, 1875, № 9–10; «Молва», «Новое время», ноябрь, 1879.
Журнал «Гражданская авиация», 1971, № 12, статья о Б. С. Стечкине.
«Известия АН СССР». ОТН. «Энергетика и автоматика» № 4 М., 1961.
«Из истории авиации и космонавтики». Вып. № 3. М., 1965.
«Из рукописного собрания Одесской городской публичной библиотеки. Письма И. С. Тургенева к Л. Н. и Л. Я. Стечькиным». Одесса, 1903.
«История воздухоплавания и авиации в СССР» (под редакцией Попова В. А.). М., 1944.
Кербер Л. Л. Ту — человек и самолет. М., 1973.
Морозов К. А., Черняк Б. Я., Синельников Н. И. Особенность рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей (под редакцией академика Б. С. Стечкина). М., 1971.
Новиков В. История одного посвящения. Тула. — Газета «Коммунар», 1968, 20 октября.
«Правда», 1969, 4 апреля.
Романов А. Конструктор космических кораблей. М., 1971.
«Русские ведомости», 1914–1917.
Соломин С. Разрушенные терема. Спб., 1913.
Стечькин Н. Я., И. С. Тургенев и «Московские ведомости». М., 1880.
Стечькин Н. Я. КР. Спб., 1904.
Стечькин Н. Я. Максим Горький. Спб., 1904.
Стечькин Н. Я. Из воспоминаний об И. С. Тургеневе. Спб., 1903.
Строев Н. (Стечькин Н. Я.). Исторический момент. 2-й крестьянский съезд. Спб., 1906.
Стечькина Л. Я. Первая гроза. — «Русский вестник», 1875, № 7–8.
Стечькина Л. Я. Варенька Ульмина. — «Вестник Европы», 1879, № 11–12.
Стечкин Б. С. Теория воздушного реактивного двигателя. «Техника воздушного флота». М., 1929.
Стечкин Б. С. Конспект лекций по теории авиационных турбокомпрессоров (изд-во ВВА имени Жуковского), 1944.
Стечкин Б. С. Теория воздушно-реактивных двигателей. — «Вестник воздушного флота», 1947, № 3–5.
Стечкин Б. С., Казанджан П. К., Алексеев А. П., Говоров A. H., Нечаев Ю. H., Федоров Р. М. Теория реактивных двигателей. М., 1953–1954.
Стечкин Б. С. Газотурбинные установки. М., 1956.
Стечкин Б. С. Дыхание автомобиля. — «Правда», 1968, 18 октября.
Стечкин Б. С. О прямоточных воздушно-реактивных двигателях для летательных аппаратов. — «Авиация и космонавтика», 1965.
Стечкин Б. С., Генкин К. И., Золотаревский В. С., Скородинский И. В. Индикаторная диаграмма тепловыделения и рабочий цикл быстроходного поршневого двигателя. М., 1960.
Туманский С. К. Теоретик, педагог, конструктор. — «Авиация и космонавтика», 1975, № 3.
Ушакова H. Н. Николай Александрович Шилов. М., 1966.
Чаплыгин С. А. Собрание сочинений. М. — Л., Гостехиздат, 1948–1949.
Чаромский А. Д. Первые шаги советского авиационного моторостроения. — В сб. «Были индустриальные». М., 1970.
Яковлев А. С. Цель жизни. М., 1972.